
Бесплатный фрагмент - Вторник. №27, июнь 2021
ОТДЕЛ ПРОЗЫ
Юрий ПОКЛАД

Рудиментарная способность
Раньше я умел летать. Летать было для меня вполне естественно, и я не удивлялся этому умению. Ходить или летать — большой разницы для меня не было. Мне казалось странным, почему другие люди не летают, ведь это просто и очень приятно. Я предполагал, хотя я не был в этом уверен, что они всё же тайком летают, но не признаются по различным причинам. Меня с самого раннего детства пугало моё отличие от других людей, я понимал, что это ненормально и может вызвать подозрения. Любое отличие вызывает подозрения, а если отличия создают какие-то преимущества их обладателю — зависть. Я никому не говорил о своём умении, особенно родителям, они были строги ко мне, боясь избаловать лишней любовью, а уж за такое, с их точки зрения, озорство, могли серьёзно наказать.
Летал я обычно ранним утром, в детском парке, который был рядом с нашим домом, это доставляло мне огромное удовольствие, но летать старался не слишком высоко, не более полутора метров над землёй, чтобы не привлечь внимания случайных прохожих. Я мог бы летать и гораздо выше, но пока что не решался. Однажды я не заметил сторожа парка — пожилого человека со строгим лицом и осанкой отставного военного, который делал утренний обход парка. Сторож дождался, пока я приземлюсь, подошёл и крепко взял меня за локоть. Я испугался, понимая свою вину, решил, что сторож отведёт меня в милицию за нарушение общественного порядка. Но он оказался добросердечным человеком и ограничился внушением. Укоризненно глядя мне в глаза, он сказал:
— Как тебе не стыдно? Больше никогда так не делай! Обещаешь?
Я пообещал, что больше не буду, но обманул этого достойного человека, потому что со своим желанием летать я ничего не мог поделать. В полётах я не видел ничего постыдного, мне казалось, что я никому ими не мешаю. Это было заблуждение, которое в моей дальнейшей жизни едва не сыграло роковую роль. Но разве можно с уверенностью утверждать, чтó именно играет в нашей жизни роковую роль? Вся наша жизнь скроена из нереализованных иллюзий и реализованных опасений. Казалось бы, жизненный опыт должен со временем научить чему-то, но надежды оказываются ложными — то ли учитель плох, то ли ученик бездарен. До тех пор, пока я умел летать, никакие надежды не казались мне потерянными, всё самое лучшее ещё могло случиться, и этот факт меня успокаивал, хоть я и подозревал, что это успокоение — путь к самообману.
Мне было отлично известно, что летать человек не может, это не свойственная ему способность, в школьные годы я много читал об этом, затребовав соответствующую литературу в читальном зале городской библиотеки.
Летал я легко, безо всякого напряжения, главное было ощутить лёгкость в теле и едва ощутимый холодок предчувствия в животе. Начинала слегка кружиться голова, приходили на ум смешные, вовсе не обязательные для столь серьёзного момента, мысли, и я уже не замечал, как тело теряло вес, и я отрывался от земли.
Я не злоупотреблял своим умением, летал, лишь когда желание становилось непреодолимым. Среди одноклассников ходили обо мне смутные, нехорошего свойства, слухи, несколько раз меня прижимали к стене в школьном туалете, пахнущем хлоркой и фекалиями, и требовали открыть секрет. В чём он состоял, одноклассники не догадывались, «брали на понт» в надежде, что я сам сознаюсь, но я не сознавался. Впрочем, они всё равно не поверили бы, если б узнали. Однажды они меня даже на всякий случай побили, чтобы я чересчур не зазнавался.
Я привык к тому, что умею летать, мне не приходило в голову этим гордиться, ведь не станет же гордиться человек, к примеру, тем, что он высокого роста, разве что от большой глупости. Учась в школе, я не имел близких приятелей, поэтому поделиться с кем-нибудь в порыве откровенности способностью своего организма случая так и не представилось, и я был рад этому. Люди завистливы, легко предположить, что мой товарищ, однажды посмотрев, как легко мне даётся полёт и какое удовольствие я от него получаю, попросил бы научить его летать. Но это было невозможно, я не знал, каким образом возникает вдруг тот щекочущий холодок, потом — потеря веса, как поднимаюсь я в воздух. Все мои оправдания были бы восприняты с подозрением, переходящим в ненависть, мой товарищ решил бы, что я нарочно темню, чтобы сохранить тайну. Хорошо если б он просто обиделся и раздружился со мной, но ведь он, наверняка, в отместку, рассказал бы о моей способности одноклассникам, прибавив что-то от себя, и чем всё это могло закончиться, предположить трудно.
Пристрастие к полётам не влияло на мою хорошую учёбу, после окончания школы я легко поступил в институт. В институте я ещё больше замкнулся в себе, и никаких догадок о моём секрете у сокурсников за пять лет не возникло. Но я становился взрослым, и уклоняться от жизненных соблазнов становилось всё труднее. Я знакомился с девушками, попробовал алкоголь — это действовало расслабляюще, я чувствовал, что опасность близка и ничего не мог с этим поделать, моя способность вступала в конфликт с моим дальнейшим существованием, но я привык к ней и не рассматривал способов избавления. Но я чувствовал потребность стать таким как все, не иметь тайны, которая становилась всё тягостней, навязчивей, мешающей нормально жить. Хотя, кто знает, что значит нормально жить?
Я старательно овладевал знаниями, из меня получился хороший программист. После окончания института меня пригласили в частную компанию, где хозяином был Пётр Иванович — человек лет пятидесяти, казавшийся мне крайне пожилым. Он действительно выглядел немолодо: лысоватый, грузный, чем-то похожий на утомлённого бесконечными проблемами задумчивого бегемота. Деньги, которые я получал, казались мне огромными, родители радовались: в середине девяностых трудно было найти хорошо оплачиваемую работу, тем более столь молодому человеку, как я. Отец стал разговаривать со мной как с равным, я был полон предчувствием больших перспектив. Пётр Иванович относился ко мне отечески и надежды эти поддерживал.
Потом произошло то, чего я давно опасался, что рано или поздно должно было случиться.
В нашей фирме поддерживались традиции по сплочению коллектива: раз в неделю после работы организовывались застолья. Братания затягивались до полуночи, Пётр Иванович эти мероприятия приветствовал. Благодаря застольям, у меня появился друг Игорь — любитель джаза и душевных разговоров. Я не заметил, как этот человек вполз ко мне в доверие. Петру Ивановичу, как опытному руководителю, хотелось видеть коллектив изнутри, он имел сотрудников, доносивших ему о настроениях и секретах подчинённых.
Я никогда не раскрылся бы перед Игорем, если б не алкоголь. Однажды мы порядком перебрали и неспешным шагом двигались от офиса по ночной улице — нам было по пути. Тёплый летний вечер, приятно-расслабленное состояние после коньяка. Игорь ни о чём не расспрашивал, он ждал, затаившись, когда я расскажу сам, и дождался. Трудно оправдать мою наивность.
Пётр Иванович проявил терпение, к себе в кабинет пригласил меня лишь дней через пять, лицо его выглядело озабоченным.
— Дима, — сказал Пётр Иванович, — мне стало известно, что вы больны.
— Вы ошибаетесь, — воскликнул я очень искренне, ещё не понимая, о чём идёт речь, — я абсолютно здоров, у меня первый разряд по плаванию.
Но следующая фраза убила меня наповал:
— Здоровые люди не летают.
Я был так ошеломлён, что не в силах был ничего ответить.
— Ведь вы летаете, это правда? Давно это у вас?
— С детства, — с трудом выдавил я, понимая, что пропал.
— Дима, не впадайте в панику, — продолжил Пётр Иванович, — несчастье с кем угодно может случиться, надо взять себя в руки, обследоваться, сейчас медицина шагнула вперёд, вас вылечат. Поставьте себя на моё место, — голос Петра Ивановича окреп, стал убедительней, — я не исключаю, что это инфекционное заболевание, мне совершенно ни к чему, чтобы мои сотрудники летали. Это ненормально.
Он заметно разволновался.
— В фирму вложены большие деньги, мои личные деньги. Я должен быть уверен в людях. Разного рода полёты недопустимы, вы должны понять меня.
Из всей этой длинной речи было ясно одно: я теряю работу. Выгодную, хорошо оплачиваемую; работу, которую я люблю.
Пётр Иванович попытался успокоить меня.
— Не расстраивайтесь, я готов помочь. Вот, — он вынул из ящика стола визитную карточку, — обратитесь, это опытный врач, кандидат наук, можете сослаться на меня. Придётся заплатить, это уж как водится, но вариант надёжный, я гарантирую. Доктор предложит медикаментозное лечение, если будет необходимо — хирургическое вмешательство. Доверьтесь ему, это серьёзный специалист. Как только вылечитесь, сразу же возвращайтесь, я придержу для вас место.
По инерции я всё ещё глядел на Петра Ивановича с надеждой, не в силах поверить, что это конец. Пётр Иванович, чувствуя это, занервничал:
— Ну обратитесь, в конце концов, в цирк, там, насколько я понимаю, такие специалисты востребованы. Я, правда, давно не был в цирке, но точно помню, что там люди летают, это их профессия. Вами могут заинтересоваться.
— Но мне нравится работать программистом, — убитым голосом проговорил я.
Петр Иванович пожал плечами, давая понять: «Искренне сочувствую, но помочь не в силах».
Я вышел из кабинета.
Складывая из стола в рюкзак вещи, покосился на Игоря, сидевшего за соседним столом. Он сделал вид, что занят разговором по телефону.
Игорь подорвал во мне доверие к людям, у меня появилось резко критическое отношение к ним, я стал подозревать в них в первую очередь плохое, и, кстати, редко ошибался. Я долго тянул с визитом к врачу, причин было много. Дело не в деньгах, деньги пока что были. Дело в том, что я сомневался в надёжности этого визита. Врачи полагают себя обиженными: они сохраняют людям самое главное — здоровье, но получают при этом недостойно малые, по их мнению, деньги. По этой причине вынуждены заниматься примитивным шантажом, он оправдан. Нагло врать больному не обязательно, и даже опасно, поскольку он перед визитом много чего начитался в интернете по поводу своей болезни, нужно «навести тень на плетень», обозначить сомнения и тревогу, посочувствовать состоянию, искренне сомневаясь при этом в благоприятных перспективах течения болезни. Тогда готовность помочь прозвучит убедительно, словно врач предлагает помощь исключительно из человеколюбия и любви к своей профессии.
Я человек мнительный, я мучился сомнениями два месяца и всё же пошёл к врачу.
Он сразу же внушил мне доверие. Он производил впечатление умного эрудированного человека, подозревать в нём проходимца и вымогателя было бы странно. Когда у человека умные глаза, я перед ним теряюсь, подозревая себя в тотальном невежестве. Звали доктора Владислав Васильевич. Как только я назвал себя, он слегка прищурился под стёклами очков, и сказал:
— От Петра Ивановича? Я помню. Он мне звонил.
Эти слова немного меня успокоили, значит, Пётр Иванович не забывает обо мне, рассчитывает на моё возвращение.
— Летаете?
— Бывает.
— Это вас каким-то образом беспокоит?
— Нет, как раз наоборот, мне это приятно.
— Так зачем же этот визит ко мне?
— Пётр Иванович не хочет, чтобы его сотрудники летали.
— Что ж, его можно понять. Вы намерены лечиться?
— Придётся. Откуда взялась эта моя особенность? Как, по-вашему? Это опасно?
— У меня есть соображение, правда, идущее вразрез с официальной наукой. Когда-то давно, на заре эволюции, абсолютно все люди умели летать, ходить по земле считалось неэффективным. Но потом эволюция взяла своё, основные животные, которыми питались древние люди, стали жить на земле, а не летать в воздухе. Пришлось и людям сделать то же самое. Но у отдельных экземпляров вроде вас эта рудиментарная особенность сохранилась.
— Но отчего именно мне так не повезло?
— Так будем лечиться или нет? — спросил Владислав Васильевич, больше не углубляясь в историю.
— У меня нет другого выхода.
Начались мои скитания по кабинетам. Меня исследовали, как подопытную жабу, деньги быстро кончились, я попросил у родителей, туманно объяснив необходимость.
— По бабам надо меньше бегать, тогда и лечиться не надо будет, — сурово сказал отец, но денег дал.
Ни таблетки, ни уколы, ни процедуры не помогли — мне всё равно хотелось летать, даже ещё сильнее, чем прежде. Получалось, что деньги потрачены впустую, я был в отчаянии. К Владиславу Васильевичу я больше не обращался, я был уверен, что он знал о бесполезности лечения моей рудиментарной особенности и просто туманил мне мозги оригинальными теориями эволюции человека. Проситься на работу к Петру Ивановичу было также бессмысленно, если б я решил соврать и заявил об успешном излечении, этот проницательный человек без труда вывел меня на чистую воду и мне было бы стыдно.
Жизнь приобрела совершенно мрачный оттенок: здоровенный парень, уже мужик, сидел на шее у пожилых родителей, получавших скромные пенсии. Если вы помните, в девяностых годах пенсионеры были достойны зависти, потому что это была единственная категория граждан, имевших стабильный доход. С голоду я пропасть не мог, но от этого было не легче. Ранним утром я уходил в детский парк и с отвращением, переходящим в тупое отчаяние, летал: что мне ещё оставалось?
Убрав гордость в задний карман, я пошёл в цирк. Поднялся на второй этаж к директору, понимал, что совершаю глупость, но что мне оставалось?
Директор цирка — худощавый человек средних лет, с пышными, совершенно чуждыми его длинному унылому лицу, бакенбардами, взглянул на меня безо всякого интереса.
— Что хотел?
— Работать.
— Что умеешь?
— Летать.
— Не нужно, своих девать некуда. Нечем платить. Плохо стал ходить народ в цирк, понимаешь? А цены на билеты я снижать не могу, они и так низкие.
— Но вы не поняли, я не летающий гимнаст. Я просто летаю.
— Как это «просто»? — вяло поинтересовался директор.
— Ну, без ничего: раз, и полетел.
— Правда?
— Правда.
Директор задумался, потом безнадёжно махнул рукой:
— Никто не поверит. Понимаешь, сейчас такое время: никто никому не верит. Просто удивить человека — недостаточно, надо сделать что-нибудь полезное ему лично.
— Например?
— Ну, бутылку водки перед ним материализовать, или гамбургер какой-нибудь. А от твоих полётов ему будет ни жарко ни холодно: посмотрит, зевнёт и отвернётся.
— Я не сумею материализовывать бутылку водки.
— Может, клоуном попробуешь?
— Нет.
— Вот видишь! Что мне с тобой делать?
И я осознал беспочвенность своих притязаний. Подойдя к двери, почувствовал знакомый холодок в животе, мои ноги приподнялись над полом примерно на метр, я открыл дверь и мягко выплыл, не теряя высоты, в коридор. Директор воспринял этот неожиданный манёвр безо всякого интереса.
А теперь я расскажу, как утратил свою рудиментарную способность. Всё оказалось очень просто, судьбе, или кому-то свыше, захотелось пошутить надо мной.
Спасение принесла женщина. Вот как это было. Мне давно уже никто не звонил по мобильному телефону, я отвык и не сразу услышал звонок. Звонила девушка Надя, секретарша Петра Ивановича. Я сначала обрадовался: вдруг на Петра Ивановича нашло прозрение и он решил меня вернуть? Но, как выяснилось, дело Нади носило характер личный и пустяковый. Беглой скороговоркой она призналась, что питает ко мне чрезвычайно тёплые чувства и хочет помочь. Такое вот, понимаете ли, завуалированное предложение любви. Только этого мне не хватало.
Как выяснилось, Надя ничего не знала о моей рудиментарной особенности. Сволочизма Игоря не хватило, чтобы растрепать о моём секрете всему коллективу. Это несколько меняло дело, хотя и не коренным образом. Мы с Надей договорились встретиться.
Я настроился на встречу со слабым, тайно влюблённым в меня, созданием. В офисе на эту серую мышь я обращал мало внимания, имелись экземпляры эффектнее. Я повёл себя самоуверенно и грубо, и это мне немедленно аукнулось. Я решил рассказать о своей рудиментарной особенности, ошеломить Надю, дальше действовать по обстоятельствам. Ошеломлённая женщина — лёгкая добыча мужчины. Но в ответ на моё признание Надя взглянула на меня безо всякого удивления, и спросила:
— Ну и что?
Создалось впечатление, что ей уже человек десять признавались, что умеют летать. Я растерялся.
— Ненавижу хвастунов, а лгунов тем более, — сказала она. — Ты набиваешь себе цену, чтобы поскорее переспать со мной. Я пришла, чтобы помочь, а ты с первых же минут нагло лжёшь.
Я так и не узнал, каким образом она собиралась помочь мне, это стало не важным, а потом забылось. Я не нашёл ничего лучшего, чем возразить:
— Но я не лгу.
— Так ты умеешь летать? Отлично. Ну, полетай, продемонстрируй!
Она мне не верила. Ни на грамм. Я растерялся, и эта растерянность оказалась роковой. Я засуетился, попытался оторваться от земли, но ничего не получалось. Для того чтобы взлететь, необходима уверенность, её не было. Заветного холодка в животе не появлялось. Я понял, что летать по заказу невозможно.
— Сейчас не могу, — признался я, — не выходит. В следующий раз, ладно?
— Все понятно, — вынесла Надя безжалостное заключение, — у тебя полёты случаются только по великим праздникам. Что ж, дождёмся Нового года.
Мы дождались Нового года и в январе поженились. Я потерял способность летать, все мои попытки оказывались безуспешными. Я признался Петру Ивановичу, что выздоровел. Он поверил, может быть, не мне, а Наде, но на работу меня вернул.
Жизнь наладилась, у нас родился сын, я мог чувствовать себя спокойным, но иногда, как правило ночью, Надя тихо спрашивала меня:
— А ты, правда, умел летать?
Врать не хотелось, это выглядело бы странным. О чём жалеть? И я отвечал:
— Раньше умел.
— Тебе не жаль, что больше не умеешь?
На этот вопрос я никогда не отвечаю, поворачиваюсь лицом к стене и говорю, что хочу спать. Дело в том, что я продолжаю летать — только во сне. Во сне можно летать безнаказанно и безответственно. Просыпаясь среди ночи, чувствую знакомый холодок в животе, и мне кажется, что всё в моей жизни осталось по-прежнему.
Михаил МОРГУЛИС

Черепаха пришла умирать
Рассказ
Бетси сошла с ума. Ей стало казаться, что она худощавый мужчина с усами, который пробуется на роль бандита в кино под названием «Черепаха пришла умирать». Всё это происходило в парке, и гуляющие уставились на чернокожую женщину, которая стала совершать поразительные вещи: взмахивала зонтиком, как ножом, вонзала его в кусты, отпрыгивала в сторону и пряталась за скамейкой, потом скрывалась за деревом и имитировала зонтиком пальбу из винтовки.
А всё началось утром этого дня. В кустах возле дома Бетси жила земноводная черепаха. Среднего размера, сантиметров сорок в длину. Людей она не боялась и, вползая на лужайку, застывала греясь на солнышке. Потом подходила ближе к крыльцу и ожидала, пока Бетси вынесет ей капустные листья, кусочки яблок и моркови. Потом опять, замерев, лежала неподвижно минут пятнадцать, как будто внимательно прислушиваясь к себе. А после снова уползала в кусты. Она жила возле дома Бетси года два, и это немного скрашивало жизнь, потому что как раз два года назад у Бетси умер муж. Бетси назвала черепаху Матильдой, ей нравилось это непонятное заграничное имя. У черепахи были близорукие глаза, и она рассматривала ими руки Бетси, кормящей её. К тому же имя Матильда напоминало Бетси о тех далёких заморских странах, которые она видела по телевизору и где никогда не бывала.
Матильда уже брала еду из её рук, и Бетси иногда плакала, радуясь доверчивости неуклюжего животного. И догадывалась, что Матильда многое знает о людях, и хорошего и плохого, но не может и не хочет говорить об этом. «Ну и правильно, — раздумывала Бетси, — кому всё это нужно?! Размеренная медленность жизни и мир вокруг для неё дороже».
А вот сегодня утром Бетси вышла на крыльцо и увидела, что под инжирным деревом лежит мёртвая Матильда. Лежит в необычной позе: панцирем на траве, всеми лапками кверху. И видно, что она целая, не рысь её убила, не еноты разодрали, а сама умерла. Бетси приблизилась к ней и потрогала белое брюшко Матильды. Может, змея укусила — во Флориде они есть, — но следа укуса не видно. Смотрела Бетси на черепаху, долго смотрела, и стала черепаха ей подмигивать, шептать что-то, то, что раньше не говорила. Испугалась Бетси, поднялась с травы и села на скамейку возле входа в дом. И ясно увиделось ей, что Матильда унесла с собой и её. Подумала Бетси, что закончилась ещё одна часть её жизни. Был муж Пабло и ни с того ни с сего умер, а теперь ни с того ни с сего умерла Матильда. И теперь никого не осталось. И в этот момент что-то кувыркнулось в голове у Бетси и внутри стали бить молоточки. Били звонко и громко. Зажала руками голову Бетси и просидела так час. А потом поднялась, вошла в дом, взяла зонтик и направилась в парк.
Вот там как раз случилось то, о чём мы рассказали вначале. Там она показалась себе усатым мужчиной, пробующим себя на роль в ковбойском фильме. Затем она вошла в искусственное озеро парка и стала зонтиком стрелять по несуществующим аллигаторам и крокодилам, приговаривая:
— Я мщу людоедам за съеденную ими мою жену Бетси!
Вызвали полицию и скорую помощь. Увезли бедную Бетси. Она уже спросить не может, поэтому я вас спрашиваю: для чего она жила, для чего родилась, для чего старалась любить покойного мужа Пабло? И вот ещё, почему она сошла с ума? Неужто причиной сумасшествия была смерть черепахи Матильды?
Да вот что ещё. Когда её вталкивали в машину, ей показалось, что она входит в большую реку с изумрудной водой, из которой выпрыгивают серебряные рыбки, а по ту сторону реки стелется равнина, полная цветов, и цветы в основном белые, очень белые. И там стоит и ожидает её Пабло, которого она в жизни не любила, но в той долине будет очень сильно любить. А далеко за Пабло, на самом дальнем краю долины, виден Голос, Голос этот в виде высокого столбика аж до облаков, и слышно, как он говорит: «Придите…» И стало хорошо и спокойно на душе у Бетси, и отодвинулось от неё то серое и грязное, которое её окружало раньше и в котором она жила.
Теодор ГАЛЬПЕРИН
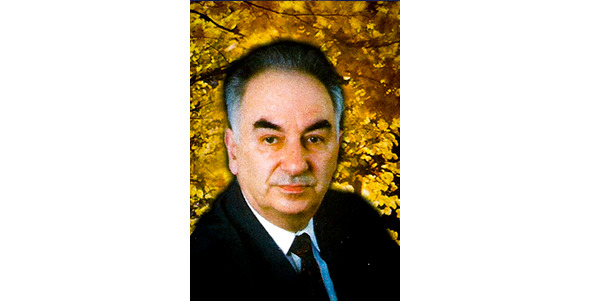
Илья и Марк
Рассказ
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой…
Они были как два больших древа одной яблони, когда корень общий и здоровый, а дальше — одно дерево вырастает сильным и плодоносящим, а другое постепенно сохнет, сгорбливается и, в конце концов, трещит и ломается.
А общий корень в том, что оба они, молодые, ушли на фронт, храбро сражались, оба выжили, но вернулись инвалидами. Эти двое — Илья Семёнович и Марк Давидович. Илья — родной брат мамы, а Марк — двоюродный.
Мы из Киева. Мама в двадцать лет выскочила замуж за ленинградца, старше её на десять лет, уже авторитетного специалиста в оборонной области. Мы стали ленинградцами за три года до начала войны. В августе сорок первого в Новосибирске образовали филиал предприятия, где работал отец, его назначили главным инженером, и мы всей небольшой семейной флотилией отправились на Восток. Блокада случилась после нас.
Киев бомбили в первый же день войны — 22 июня, в августе началась мобилизация.
Илья к этому времени уже стал инженером, ему двадцать восемь лет, женат гражданским браком на украинке Полине, женщине яркой, рыжеволосой, с акварелью веснушек на лице. Они жили в комнате Полины в том же доме, где в небольшой квартире обитали раньше и мы — мама, бабушка и я.
Марк, ему всего двадцать, закончил два курса педагогического института, готовился стать преподавателем математики.
Илья и Марк пришли в райвоенкомат вместе, но направили их в разные рода войск. Илью определили в морскую пехоту, в десантные части. Ещё до войны он прошёл подготовку морских пехотных стрелков на сборах в Балаклаве, проявил способности снайпера, и ему было сразу присвоено звание старшины.
Десантники высаживались с катеров в укреплённых вражеских районах, под непрерывным огнём. Многие погибали, но, словно закрывая собой огромную амбразуру противника, открывали своим подвигом, пусть на короткое время, путь идущим следом частям Красной Армии.
Марка направили на ускоренный курс Харьковского танкового училища, потом — в полк легендарных Т-34, уже младшим лейтенантом. Стал лучшим в полку наводчиком орудия.
Я познакомился осознанно с моими дядьями уже после войны. Называл их сначала по имени и отчеству, потом часто по имени, никогда не используя слово «дядя».
Илья был среднего роста, достаточно спортивный, но хрупкой тонкой конституции, шатен, скромной внешности. Марк, напротив, был крупным мужчиной, кудрявым блондином с голубыми глазами, сильным физически, даже имел спортивный разряд по боксу.
Илья уже в декабре 1942 года участвовал в Керченско-Феодосийской операции, целью которой была задержка продвижения немцев к Севастополю. Но успех был временный, хотя и временные успехи изматывали врага и заставляли его понять — победным маршем, как это было в Европе, по России не пройти.
Десантник Илья при этом первом десанте получил первое ранение и повышение в звании. Ранение было вылечиваемым — после двух месяцев в госпитале и кратковременных офицерских курсов Илья стал младшим лейтенантом, вернулся в десантные части, участвовал в подготовке и проведении Керченско-Эльтигенской операции в ноябре 1943-го.
Илья Cемёнович был сдержан в рассказах о войне, и я с трудом, по обрывкам наших уже послевоенных бесед, конструирую детали его последнего боя.
В этом десанте Илья был назначен командиром роты. Вброд — в ноябрьской холодной воде под прикрытием ночи — удалось высадиться на скалистый берег, но немцы обнаружили десант и повели шквальный, истребляющий огонь. Рота залегла, огонь не прекращался. Наша артиллерия не оказывала ожидаемой поддержки. Илья поднялся во весь рост, с автоматом и гранатой, с призывом «Вперёд!..», успел только бросить гранату — и упал, сражённый ответным огнём. Но рота рванула через расщелину скалы, не видимую немцами, и удалось закрепиться на берегу, обезопасив высадку подошедших частей нашей армии. Подобрали раненого и контуженого Илью уже санитарки другой части.
Был представлен командующим к «Золотой Звезде», но наградили орденом Красной Звезды. Известие о награждении получил уже в госпитале. Илья — серьёзно контужен, левая рука — перебита. Лечение — долгое, по разным госпиталям, последнее — в Военно-морской медицинской академии в Ленинграде. После очередной пересылки в другой госпиталь след его затерялся.
В 1943 году бабушка получила ответ на запрос в Москву о нахождении сына — маленькое письмецо на тонком полупрозрачном клочке бумаги. Оно до сих пор у меня в памяти — на машинке, под уже износившуюся копирку, было отстукано: «Ваш сын Илья Семёнович Левин считается без вести пропавшим». Бабушка сжала губы и тихо заплакала.
* * *
В этом же сорок третьем, жарким летом, Марк участвовал в Курской битве на уже усовершенствованном танке Т-34, с большой башней, экипаж — пять человек, в башне — командир, заряжающий и наводчик орудия, в глубине располагались механик-водитель и стрелок-радист.
Марк был симпатягой, санитарки из медсанчасти, приписанной к танковому полку, смотрели на него весьма внимательно (в период небольших учений и подготовки — было время и на это). И только одна, красавица — полненькая Аня Пономаренко, обвораживающим взглядом смотрела на него как будто равнодушно. И когда Марк подкатывал к ней, охлаждающе говорила: «Марк, сейчас война — не время для воздыханий».
И вот — Курская битва, самое грандиозное танковое сражение Отечественной войны. Марк — наводчик орудия. Умело маневрируя, точной наводкой, порой нарушая приказы командира полка, не совсем точно представляющего ближнюю обстановку, экипажу удаётся вывести из строя девять танков противника. Танк отмечен врагом, танк под прицелом. Попадает вражеский снаряд, орудийное дуло искорёжено, башню заклинило. Марк, как самый сильный, пытается открыть люк. И вот оказывается, вслед за танком, прикрываясь его бронёй, бежала Анна. Она бесстрашно вскакивает на танк и снаружи пытается открыть люк. Люк открыт, Марк достаёт ещё не отошедших от сильного удара командира Юрку Петрова и заряжающего Лёвку Коптева. Анна уже спрыгнула с танка и встречает их на раскалённой земле. Но танк ещё под вражеским прицелом — попадает второй снаряд. Снова закрылась крышка люка. Осколки снаряда сбивают Марка с ног, он, ещё удерживаясь за корпус, падает на землю. Кровь хлещет — кажется, из левой ноги. Танк вспыхивает и горит. Непроницаемый дым. Механик-водитель и стрелок погибают в огне, их спасти не удаётся. Анна кричит:
— Скорей тащите его в воронку!
Втроём они переносят Марка в воронку от снаряда… Анна снова:
— Бегите в санитарный автобус за носилками, осторожней, по обочине оврага, я останусь с ним!
Марк то терял сознание, то снова возвращался к действительности. Анна определяет — множество осколков в левой ноге, надрезает брюки, освобождая ногу, и начинает перевязку.
— Марк, лежи тихо, пока наши танки прорвутся!
Марк, придя в себя, обнимает Аню, тихо молвит: «Спасибо» и снова теряет сознание. Дальше ничего не помнит. Но навсегда запомнила Анна — подоспели с носилками Петров и Коптев и ещё одна санитарка. Бой временно затих. Добежали до санитарной машины. Подъехать было невозможно — вся земля изрыта воронками от снарядов.
Полевой госпиталь. Операция. Хирург, одессит, добыл из левой ноги одиннадцать осколков, два осталось навсегда, связки перебиты, ноге предстояло навсегда остаться в прямом несгибаемом состоянии. Но ещё предстояло долгое лечение в госпитале, чтобы не ходить на костылях, а хотя бы с палкой.
Анна с танковой частью уходила на Запад. На прощание поцеловала Марка в щёку.
— Пиши мне, Марик! Может быть, и найдёмся после Победы!
Она с трудом сдерживала рыдания. Прорвалось, только когда вышла из палаты.
На прощание хирург-остряк, сказал с очевидным одесско-еврейским акцентом:
— Ну, Мара, твоё еврейское счастье: главный наш орган не задет, ещё сможешь-таки, уверен, девочек таки будешь иметь».
* * *
Илья после долгих пересылок из госпиталя в госпиталь и конечной остановки в Военно-морской академии так и остался при сильной контузии, у левой руки работало только плечо, локоть и кисть почти не управлялись и беспомощно повисли. В Ленинграде он и комиссовался. В сорок четвёртом, после освобождения Киева, рванул в родной город. Он всё же называл Полину женой, но она не подавала о себе никаких вестей. Направился по знакомому адресу.
Крещатик был сильно разрушен. На одной стороне снесены бомбёжками все дома, на другой — осталось одиннадцать. Руины, руины — груды расколотых кирпичей, мусор и пыль. Но наш дом, на примыкающей к Крещатику улице, остался невредим. Полины не было дома. Соседка Лида, которую он знал и до войны, каким-то странным голосом, то ли ехидным, то ли сочувствующим, сразу сообщила:
— Поля жила с немцем, вроде культурный такой. Меня называл всё «фрау, фрау». Посидите подождите.
При этом взгляд её, как и до войны при встрече с ним, был заискивающе-обещающим.
Илья, ошарашенный сообщением, всё же подумал: «Может быть, врёт?» — и присел на общей кухне. Вскоре пришла Полина — звон ключей, скрип отворяемой двери в комнату. Илья зашёл следом. Полина обернулась. Её лицо стало бордовым, а веснушки ещё более рыжими и выпуклыми — казалось, сейчас напрягутся и выпрыгнут на волю. Она долго молчала. Он спросил:
— Это правда?
— Да, Илья, родной. Я думала, что наши уже никогда не вернутся, а ты погиб… Но наши вернулись, а ты — живой!
Она бросилась к нему, старалась обнять, но он отстранил её.
— Если бы с нашим, я бы простил. С врагом — никогда! Это измена не только мне, но и Родине!
Он ощутил головокружение, нехватку воздуха, но превозмог — и быстро ушёл.
Это было самое страшное ранение в его жизни. И рана эта никогда не зажила. Дальше жизнь оказалась освещённой почти трагическим светом…
* * *
Судьба Марка сложилась счастливо. Он и по своему характеру был большой оптимист и весельчак. Смог ходить с палкой в правой руке, быстро, подскакивая на левой ноге, негнущейся, с двумя невынутыми осколками. Остальные осколки, одиннадцать штук, хирург-одессит подарил ему на память. Это был для него самый дорогой сувенир.
Марк, из госпиталя и далее, каждые три дня писал Анне о своей любви, просил беречь себя и не прыгать на танки (хотя внутренне сознавал, что это для неё невозможно), и главное — предлагал руку и сердце.
Аня долго не получала эти письма, её перебросили в другой танковый корпус, который участвовал в освобождении Праги. Она снова бежала за танком, её контузило, но раны, слава богу, не было. Смогла на своих ногах, пошатываясь, дойти до полевого госпиталя. Одолели сильные головные боли, врачи продержали в госпитале два месяца, больше воевать ей не пришлось.
В госпитале её и настигла пачка писем Марка. Аня снова разрыдалась, счастливо, по-детски, ей шёл всего двадцать первый год! Она тут же потребовала выписки из госпиталя, казалось, что головные боли прошли. Отправила в Киев телеграмму: «Марик, еду к тебе». Анна Пономаренко была родом из Керчи, отец и мама были врачами, по возрасту они не подлежали призыву, но примкнули к партизанскому отряду, воевавшему в Крыму. Спасая раненных в очередной дерзкой операции, погибли. Аня осталась в Киеве навсегда.
Марку представлялось, что красавица Аня — украинка, на войне ведь не спрашивали национальность, умирать за советскую Родину имели право все. В дальнейшем выяснилось, что отец Ани — украинец, а мама — еврейка. От этого красивого сочетания и явилась на свет божий Анна-Анечка-Анюта.
Марк поступил на вечерний факультет того же педагогического института. Надо было работать, кормить семью. Работал заведующим артелью, изготавливающей пластмассовые изделия — пудренички, расчёски и т. д. Закончил институт. Работал учителем математики в школе, причём был одним из лучших в Киеве, имел много учеников для внеклассной подготовки. Хорошо зарабатывал. В отличие от Ильи, которого до войны порой называли «умелые ручки», Марк не обладал способностью к ручному мастерству, говорил:
— Надо уметь заработать и заплатить.
Энергичная Анна дома отсиживаться не могла, окончила медицинское училище, работала в больнице — выхаживала больных после реанимации. Быстрая реакция, которую она приобрела санитаркой на фронтовых танковых дорогах, сразу прославила её как лучшую реанимационную сестру. Врачи старались привлечь Анну к своим больным.
Дальше про Марка и Анну всё понятно. Они были счастливы.
* * *
Теперь возвратимся к тому моменту, когда Илья выбежал с головокружением от стресса и контузии из нашего дома после встречи с Полиной. И дальше — такое случается только в сказках со счастливым концом, но это так на самом деле и было — навстречу ему шёл улыбающийся Марк, он шёл к своим родителям, вернувшимся из эвакуации сразу после освобождения Киева.
Илья был ещё в невменяемом состоянии и, только когда Марк вплотную приблизился, пришёл в себя, узнал брата. Герои обнялись. (Я забыл сказать, что танковый экипаж Марка за действия в Курской битве был представлен к наградам: к званию Героя Советского Союза, «Золотой Звезде» — командир Юра Петров и направляющий орудия Марк Грудман, но Героя дали только командиру, остальных членов экипажа, в том числе и погибших, наградили орденами Красной Звезды.)
И вот герои встретились, обнялись. Марк закричал:
— Илья, тебя же ищут мама, Софья… Ты — живой!
Оказалось, что Илья тоже безрезультатно пытался нас найти. С Марком у нас была связь, он сообщил маме — Илья нашёлся!
Бабушка часто вспоминала о без вести пропавшем сыне, старалась сдерживаться, не плакать. Когда мама сообщила ей, что Илья не пропал, нашёлся, бабушка вскрикнула и упала в обморок. Её отпаивали.
После полного снятия Блокады весной сорок четвёртого предприятие отца вернули в Ленинград. Дом наш оказался разрушенным, и отцу выделили пока отдельную комнату в двенадцать квадратных метров. Вчетвером мы расположились в этой тесной комнате.
Я впервые увидел Илью. Он пришёл к нам ещё в форме морского десантника, в широченных флотских брюках, в кителе без погон, с небольшой планкой наград. Поверх одет бушлат, который он снимал, откинув назад и сбрасывая почти на пол, но успевая подхватить здоровой рукой. Обтёр флотские ботинки о коврик, извиняясь: «Мне трудно шнуровать».
Опускаю подробности первой встречи — объятья, поцелуи… Общались на коммунальной кухне (в квартире жил ещё один ветеран с матерью). В качестве стульев — распиленное бревно с прибитыми на срезы-подпопники дощечками. Отец достал всегда бывший наготове разведённый спирт, естественно с работы, но Илья категорически не употреблял алкоголя — снова могло случиться головокружение. Он безостановочно курил, выплёскивая дым в открытую на кухне форточку. Таким я его и запомнил — с постоянной папироской в зубах.
Уходя, он только так мог надеть бушлат — предварительно держа его перед собой, подкладкой наружу, вставлял руки в рукава, потом взмахивал руками вверх так, чтобы бушлат оказался за спиной, воротом к шее.
Илья работал инженером на одном из предприятий, разрабатывающих измерительные приборы, был умный, знающий инженер. До войны он всегда что-то мастерил, но и теперь старался что-то гнуть и паять, помогая левой рукой.
Как-то я был в его небольшой комнате, которую он снимал на Васильевском острове, там на одном столе разместились и невымытые после еды тарелки, и какие-то приборы, паяльник, радиодетали… Он прилёг отдохнуть на кровать старого образца — с никелированными решётками спинок, прямо в своих флотских брюках и тельнике, продев ноги в ботинках сквозь решётку.
Вскоре, казалось, судьба повернулась к Илье солнечной стороной.
У меня родился брат. Он спал в корыте, поставленном на табуретку. Отец начал на работе энергичные хлопоты по расширению жилплощади. Отец был одним из ведущих специалистов института и член партии. Через райком удалось принять решение о предоставлении семье резервной площади. И тут наши соседи, ветеран с мамой, решили уехать в деревню, в дом матери. Комната освободилась. Там разместились я и бабушка.
Наша комната превратилась в гостиничный номер. Из Новосибирска постоянно кто-то приезжал и останавливался у нас, спал на раскладушке, размещённой под обеденным столом. Так посетила нас Вера Барашева, дочка маминой новосибирской сослуживицы и подруги. Вера окончила педагогический институт и приехала посмотреть на Ленинград. У нас она и познакомилась с Ильёй. Высокая, стройная, с приятным взглядом, но на лице от перенесённой в детстве скарлатины повредился лицевой нерв, и осталась некоторая искривлённость губ и левой щеки. Они сошлись, хотя Илья был старше почти на пятнадцать лет и пониже ростом, но выбора у Веры не было — после войны свободных мужиков, передвигающихся на своих ногах, было крайне мало.
Вера наладила совместную жизнь, комната Ильи Семёновича стала опрятной. Он больше не ложился на кровать в брюках. Купили ему какой-то костюм, пальто… Но получить свою площадь не было возможности. И они решили уехать в Новосибирск, жить с родителями Веры в трёхкомнатной квартире. Здесь-то и кроется их ошибка.
Родился у них сын Саша. Но в этом общежитии жизнь не ладилась. Илья нормально работал, его ценили, он был незлобивым, но всё же контуженным, неразговорчивым, уходящим в себя. Не мог существенно помогать в хозяйстве из-за неработавшей руки. И постоянно курил. Начался разлад.
Вера неоднократно звонила маме в Ленинград, обсуждала сложившуюся обстановку.
Я помню, в одном из разговоров, мама кричала в телефон: «Вера, но как мужчина он приятен в постели?» Я не слышал ответа. И правдив ли был этот ответ? Супружеским парам порой самим трудно разобраться в своих отношениях. Можем ли мы судить о них со стороны?
Они развелись. Илья Семёнович уехал в Новокузнецк, его сразу с удовольствием приняли на работу в институт, где его знали как хорошего специалиста по измерительной технике, выделили комнату.
Вера отказала Илье от встреч с сыном, записала его на свою фамилию — Барашев. Узнал ли когда-нибудь Александр Барашев, кто его отец?
Илья Семёнович долго не прожил в Новокузнецке — он себя прокурил: рак лёгких в те времена был абсолютно неизлечим.
Вера сообщила нам в Ленинград, мама полетела на похороны, но не успела, погода была нелётная. На столе, где громоздилось несколько непонятных маме приборов, осталась записка от Веры: «Я взяла только тестер». Ниже был приписан телефон предприятия, где работал Илья.
Сослуживец отвёл маму на могилу. На маленьком холмике сибирской земли стояла красная фанерная пирамидка с красной звездой в вышине. Сослуживец сказал:
— Героический был человек! А в наше время — скромный, знающий, невредный, но постоянно курил.
Мама предложила конверт с деньгами:
— Может быть, со временем устроите что-то посолиднее?
Сослуживец отказался от денег:
— Не волнуйтесь! Всё соорудим предприятием. Мы своих героев любим.
На прощанье дал номер своего личного телефона.
Мама взяла только небольшой альбом с фотографиями.
Так несчастливо сложилась судьба морского десантника Ильи Семёновича в послевоенное время. Никогда я не видел его улыбающимся, тем более смеющимся. Нет, он не был угрюм, но как-то безразлично-непроницаемым, и всё курил, курил…
* * *
Марк по своей послевоенной счастливой судьбе был полной противоположностью Илье. Его судьба озарилась нежным светом Анны. Марк любил говорить: «Аня — украшение нашего дома». Аня ему отвечала: «Марик — ты моё счастье». Родилась дочка Таня.
Большой, сильный, энергичный, Марк всегда приходил на помощь ближнему, на лице его при встречах обозначалась широкая добрая улыбка. Но Марк не всегда улыбался. Я видел его разгневанным — вызвала директор школы и начала пропесочивать:
— Ставите двойки по математике сыну секретаря нашего райкома.
— Но он же дурак и лодырь! А отец вашего секретаря… сотрудничал с петлюровцами!
Директрисе стало плохо, схватилась за валидол.
— Тише! Я очень прошу вас!
Марк хлопнул дверью. Уволился из школы.
В учительском сообществе о его непримиримости было известно — кто уважал, кто побаивался. Но он был лучшим учителем, к нему тянулись ученики. Репетиторствовал. В округе его все знали, знали и дальше — прибывали на репетиторство даже из других районов Киева.
Любил, как он выражался, поговорить с народом. Когда он с палкой, подпрыгивая на одной ноге, подходил к очереди за пивом, народ тут же предлагал:
— Да берите без очереди, Марк Давидович.
Но Марк всегда отказывался. Любил посудачить с ветеранами, родителям учеников тут же, минуя родительское собрание, наказывал, что делать с их ленивыми или неспособными и питомцами.
После войны я часто с бабушкой приезжал в Киев. В городе только две школы были украинскими, в остальных преподавание велось на русском, уроки украинского языка включались в программу. Да и народ киевский говорил в основном на русском. На предприятиях, куда мне уже взрослым и обученным приходилось направляться в командировки, тоже слышался только русский. То же — в учебных институтах. Только в Киевском университете на филологическом украинском отделении царил украинский, и процветало, как мне говорили, логово петлюровских идей.
Руководство Украины отличалось и черносотенством. «Над Бабьим Яром памятников нет…» — написал Евгений Евтушенко. За что и получил громкий втык от газеты «Правда». Конечно, генеральная линия указывалась в столице, но Украина отличалась особым энтузиазмом. В Киеве практически невозможно было поступить евреям в институт, особенно девочкам. Уезжали поступать в небольшие города России.
Марк был коммунистом, да и не мог не быть им в офицерском звании. Добился приёма у секретаря горкома, явился при наградах. Секретарь, оказалось, фронтовик, комиссар артиллерийского батальона, доверительно тихо сказал:
— Марк Давидович, я понимаю всю эту несправедливость, это безобразие, но изменить что-либо не в моих силах. Меня снимут и пришлют молодого карьериста — будет святее Папы Римского. Дочка пусть отучится в России. Рекомендую Калугу. Приедет — помогу устроиться на работу.
Таня переняла от отца и фамилию, и математические способности и уехала в Калугу, поступила учиться на преподавателя математики. Анна Пономаренко после свадьбы наградила себя фамилией мужа, но обратного хода делать не желала.
Теперь она поняла — какое счастье обрела страна во время войны. Никто в народе не задумывался — какой национальности тот, кто с ним или с ней рядом в землянке, в одной роте, танке, на аэродроме, в санитарных частях… Только после перелома в войне в Кремле стали подсчитывать и рассчитывать — кого сколько и кого как награждать. Но Победу завоевали всем народом, и всем народом её праздновали. И только теперь Аня остро так ощутила — какое счастье для страны утратилось. Утратилось, может быть, с той речи вождя в мае сорок пятого, когда был произнесён тост за здоровье в первую очередь русского народа, потому что именно русский народ — наиболее выдающаяся нация в стране — и внёс наибольший вклад в Победу… своим «терпением и доверием к правительству»?! Эта речь ещё тогда болью отозвалась в душе Анны — но ведь её отец украинец, мама еврейка, они воевали как добровольцы, оба погибли. Теперь, вспоминая тех, кто воевал с ней рядом, погибал за Родину — украинцев, евреев, татар… она утрачивала былую любовь к вождю, сломавшему надёжный щит счастья национального равенства в стране.
Анна говорила об этом ещё во времена Дела врачей, из которых все прошли через войну, и, конечно, не верила. Да и все здравомыслящие принимали это с ужасом — страна катилась в пропасть после такой многострадальной Победы. И теперь новый подлый виток… не такой смертельный, но много продолжительнее. Несогласных фактически принуждали к эмиграции.
Марк продолжал учительствовать, посещать тусовки «за пивом», но редели ряды старых знакомых, они стали, так же уважительно, но, ощущая новый порыв черносотенного ветра, как-то понимающе-виновато смотреть на него. Минуло двадцать лет после Победы, народилось новое поколение, в очереди появились молодые бравые хлопцы…
Мы сидим с Марком на кухне, тянем потихоньку водочку. Он вспоминает своих друзей-танкистов, погибших и выживших. Юру Петрова и Льва Коптева, которых он успел «достать» из танка, они выжили, бывает, приезжают повидаться… Воспоминаниями о боях, о друзьях он спасается от новой чёрной волны. И всегда опорой — не проходящая с годами счастливая любовь с Аней!
Да, тянем потихоньку водочку. Марк возбуждённо философствует:
— Понимаешь, мои уроки математики нужны для жизни — хотя бы деньги считать, сколько есть, сколько не хватает. А история учит тому, что она ничему не учит. К чему привели изгнания евреев? Средневековая Испания — утратила экономическую мощь, довоенная Германия — потеряла мировое первенство в физике, Америка первой создала атомную бомбу благодаря эмигрантам… «Одна голова хорошо, а две лучше». Так говорят. Но если отрывают одну голову, то страдают обе. А это, мне кажется, впервые сказал я, Марк Грудман. Может быть, когда-нибудь этот закон обведут в рамочку и вывесят в учебных аудиториях и административных кабинетах. И, может быть, прекратятся столь частые солнечные затмения мозга.
Конечно, я, уже инженер-физик, специалист по авионике, прекрасно видел, как «унесённые ветром» политической близорукости рассеиваются по миру, как вымывается почва в моих областях. Но старался успокоить фронтовика:
— Умных людей в стране много — всё понимают, всё образуется, Марк Давидович.
Но вернёмся к Марку — весёлому, остроумному, порой, насмешливому. Мама рассказывала: когда мне было два года, я уже очень любил слушать песни по радио, особенно популярную тогда «Три танкиста», и, сидя на коврике, раскачивался торжественно в такт музыке: «Три танкиста, три весёлых друга, экипаж машины боевой…» При этом от возбуждения иногда торжественно писал в штанишки. Марк, когда бывал у нас и наблюдал за этим процессом, звал маму:
— Софа, смотри, опять керосин качает.
Он ещё не знал, что вскоре станет танкистом и будет часто и вдохновенно распевать этот гимн танковых войск.
Я принимал и его порой довольно скабрёзные шуточки: «Эта дама — лови момент!» И пояснял:
— У неё халатик на кнопочках.
Анна тут же отзывалась из кухни:
— Марик, как тебе не стыдно, он же из Ленинграда, там же, наверное, такого и не услышишь.
Марк:
— Почему? Мода везде одинакова!
А песню «Три танкиста» после войны Марк и Анна пели вместе, дуэтом, пели с друзьями за праздничным столом, когда отмечали очередной день рождения, и всегда — в День Победы.
Аня ушла на небо первой. Их долгая счастливая семейная песня оборвалась… Уходя, Аня успела только поцеловать руку любимого. За одну ночь её Марик стал седым.
С тех пор я встречался с тем же обаятельным, уже порой грустным и всё же счастливым Марком Давидовичем.
Когда земная жизнь Марка закончилась, и он ушёл, чтобы навсегда соединиться с Аней, я прилетел из Петербурга проститься. Была тёплая яркая киевская весна. Проститься пришли многие — прилетел друг всей жизни, командир танка Юра Петров, коллеги по учительскому цеху, люди из тусовок в очереди за пивом… и многие ученики со всей страны, уже достигшие больших высот в точных науках, которым Марк Давидович щедро передавал свои знания и частицу своего сердца.
Его хоронили на еврейском кладбище, там, где покоились родители, рядом с вечной любовью Аней. Лицо Марка было умиротворённо — это был лик счастливого человека. Поминали русской водкой.
Бывая в Киеве, я с Таней приходил на кладбище поклониться Марку и Ане. На могиле Марка Таня установила красную мраморную стелу, на ней — в светлой окантовке сверкала пятиконечная звезда.
* * *
Так под красными звёздами в далёких друг от друга частях необъятной России покоятся два ветерана, два героя Страны Советов.
Великая Отечественная! Чем дальше она, тем ярче для меня её священный вдохновенный свет, духовный взлёт советских людей на войне и в тылу.
Для Ильи его высший духовный взлёт остался там — на войне, при высадках морских десантов. Не сложилось в личной жизни, не нашлось женской души, способной понять, полюбить. Да, контуженного, израненного, но отважного моряка, умелого инженера.
Чувствую с годами какую-то неясную вину перед ним — может быть, побольше участия, тёплых слов…
Марк был мне старшим другом, с ним чаще виделся, больше беседовал. Он был в постоянном взлёте — на войне и после. В мирной жизни порой тоже надо было быть мужественным и непримиримым. Этому я учился у Марка. И его оптимизму, улыбке, доброте…
Простимся с героями этого небольшого рассказа, вместившего две большие жизни Героев Великой войны. Не каждому даровала судьба полноту счастья, но мы помним о них и полны благодарности за их подвиг и чувстве счастья — трудного, трагического, но благородного счастья в борьбе за свободу Отечества.
Прощайте, родные Илья и Марк. Земной вам поклон и Вечная память!
Татьяна МЕДИЕВСКАЯ

Семейное древо
Предания, вымыслы, факты
Степан
I
Давным-давно в Архангельской губернии в деревне Куренная на берегу озера Себентий в просторной деревянной избе жил-поживал крестьянин вдовец с дочкой. Павел не русский, а коми-зырянин, как все в округе: блондин, среднего роста, коренастый. Хозяйство имел крепкое: лошади, коровы, козы, куры, гуси, пахотная земля, на лето нанимал одного или двух работников. Он заядлый рыбак. Однажды поймал большую щуку с кольцом Петровских времён. Павел старовер — крестится двумя перстами. В избе на чистой половине на полках много старинных икон и старообрядческих книг в поморском стиле: деревянные переплёты обтянуты телячьей кожей, бархатом, сукном с тиснением золотым или серебряным орнаментом и украшены металлическими застёжками. Долгими лютыми зимами Павел читал вслух дочери «Житие» протопопа Аввакума, «Поморские ответы» на триста восемьдесят два вопроса старообрядцев-поповцев. Он часто повторял слова из старообрядческого духовного стиха об Иоанне Крестителе: «Сослал Господь Бог три дара: / Уж как первый дар — крест и молитву, / Второй дар — любовь и милостыню, / Третий дар — ночное моленье, / Четвёртую заповедь — питательную книгу».
К шестнадцати годам дочь Павла Юлия выросла в настоящую северную красавицу-зырянку: высока, стройна, румяна, белолица, а глаза как два бездонных голубых озера. Однажды в деревню для открытия врачебного пункта приехал молодой русский врач Афанасий Епов. На Троицу по дороге в церковь он приметил величавую красну девицу с толстой пшеничной косой в красном сарафане, зелёной рубахе, на плечах расписной платок с кистями. Афанасий заговорил с ней и влюбился. Сыграли они свадьбу и зажили в доме Павла.
В 1895 году родился мой дед Степан, наречённый в честь святого Стефана Пермского. Юлия родила ещё мальчика и двух девочек. Счастливо жила семья в течение двенадцати лет, пока во врачебный пункт в помощь доктору не прислали молодую, свободных взглядов, фельдшерицу. Она отбила у Юлии мужа. Отец Степана с фельдшерицей уехал из деревни, бросив жену с четырьмя детьми. Юлия наивно полагала, что без колдовства тут не обошлось. Хотя все в деревне считали, что бесстыдная девка соблазнила их доктора.
II
Степанка рос смышлёным, любознательным, любил читать, благо от отца осталось много книг и журналов: «Нива», «Русский врач», «Журнал для всех». Степанка с братом и сёстрами помогал матери и деду вести большое хозяйство, ходил в лес за морошкой, скакал на любимом коне по прозвищу Рыжка, проказничал с мальчишками. Его дружок Васька Крюк малевал краской на дверях, гоготал и приговаривал: «Тяп-ляп, и китайская местность».
К четырнадцати годам Степан отлично окончил приходское училище и решил продолжить учёбу. Как ни тяжело было Юлии Павловне остаться без рабочих рук сына, она поддержала его решение. Когда мать пришла к попу просить отпустить сына учиться, тот сказал: «Если все из деревень уедут учиться, то кто землю пахать будет?» — но пожалел брошенную мужем женщину, принял от неё дары и дал разрешение на отъезд сына. Летом на рассвете 1909 года друзья Степан Епов и Васька Крюк с котомками покинули деревню и пешком босиком (сапоги несли за спиной) отправились за четыреста вёрст поступать в учительскую семинарию — почти как Михайло Ломоносов.
«В 7-ой день Декабря 1871 года Государь Император Александр II высочайше утвердить соизволил мнение Государственного Совета Российской Империи об учреждении в городе Тотьма Вологодской губернии Семинарии для приготовления учителей в начальные народные училища». Право поступать имели юноши, окончившие уездное училище и двухклассное сельское училище, не только из духовного сословия, но и из сельского. Друзья держали вступительные экзамены: письменные — по русскому языку (диктант и сочинение) и по арифметике (две задачи); устные — по Закону Божиему, церковнославянскому и русскому языку, арифметике, геометрии, русской истории, русской географии и пению.
III
Степана приняли, а друга — нет, и тот отправился обратно в деревню. Степан учился четыре года. Он получал ежегодную стипендию 85 рублей, которые почти всю посылал матери в деревню. Почти все преподаватели семинарии были образованными людьми. Наиболее известны из них: член-корреспондент Николаевской главной физической обсерватории Н. И. Альбов, член Русского географического общества; ботаник Н. В. Ильинский, участник съезда русских физиков и химиков в 1911 году в Санкт-Петербурге. Участник Всероссийского съезда художников 1911 года В. Д. Шеин обучал семинаристов художественным искусствам. По окончании курса выпускники распределялись педагогическим советом в школы, где должны были прослужить не менее четырёх лет. Учительская семинария обеспечивала педагогическими кадрами Тотемский уезд, Вологодскую губернию и Санкт-Петербургский учебный округ.
По окончании семинарии в 1913 году Степан в 18 лет получил звание народного учителя и отправился по распределению в Яренск Вологодской губернии — живописный городок: прямые улицы, дома купцов, священников, мещан обиты тёсом и покрашены белой краской, много храмов, разбиты скверы. Степану выдали учительский мундир и определили оклад в 36 рублей золотом в месяц. Квартира со столом (пироги с сёмгой) стоила 6 рублей. С первой получки Степан сшил у портного модный костюм и сорочки, купил туфли, шляпу, и ещё конфет шоколадных и яблок. В деревне Степан не видел ни конфет, ни яблок. В Яренске он чувствовал себя настоящим франтом. После работы ходил в синематограф, на танцы, ухаживал за барышнями. Степану нравилось их смешить, для чего он выдумывал разные шутки-прибаутки. Он оставлял себе деньги на квартиру и конфеты, а остальные посылал матери. После окончания обязательной службы в народном училище Степан задумал поступить в Петровскую сельскохозяйственную академию в Москве. У него появилась мечта сажать яблоневые сады.
Русский север всегда считался местом ссылки политических. Много их проживало в Яренске. Васька Крюк увлёкся революционными идеями и угодил в тюрьму. В 1914 году по союзническому договору Россия вступила в Первую мировую войну. Народные учителя освобождались от призыва.
Февральскую революцию поначалу многие приняли с воодушевлением. Когда в июне 1917 года Степан приехал в Москву поступать в Петровскую академию, он внезапно угодил в рекрутский набор. Новобранцев расквартировали в Кремле. Перед отправкой на фронт их выстроили на плацу. Военный министр Керенский (короткая стрижка, полувоенный френч) произнёс пламенную речь про войну до победы. Он подошёл к Степану, взялся за пуговицу его шинели и прокричал: «Я обещаю, что даже пуговица ваша не пропадёт!» Степан смекнул, что пора спасаться. Он пожаловался на боль в груди, а на медкомиссии заявил, что у него горб, но не сзади, а спереди — в младенчестве упал с полатей. Рентген это подтвердил.
С белым билетом Степан возвратился в Яренск и устроился на работу в редакцию местной газеты. Город захватывали то красные, то белые банды, и все грабили. Продукты исчезли. Никто не мог понять, что происходит.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.