

I. Месса Трёх Королей
В избе учителя пана Подгайского было тепло и уютно. За окнами, на которых трескучий мороз нарисовал диковинные цветы, зеленел свежий мох, украшенный красной рябиной и алыми бумажными розочками. В центре между окнами вился снизу по белой стене до самого зеркала тёмно-зелёный буйный плющ, а поодаль слева от двери висел Рождественский вертеп, который учитель только сегодня ранним утром обновил. Вертеп украшала золотая звезда с длинным шлейфом до самого пола, поросшего мхом, указывая путь к яслям, навстречу к бумажным, ярко раскрашенным волхвам-королям в пёстрых одеждах, несущих нарисованные драгоценные дары. Белый король, жертвующий золото, стоял у самых яслей, в аккурат рядом с «чернобородым», а за ним — вся его свиста с белой лошадью, горбатым верблюдом и слоном в яркой попоне с карманами, стянутой золочёным ремешком.
То было в Сочельник 1799 года от Рождества Христова.
Местный учитель был ещё и органистом, и регентом, а сына, с которым тот мог бы соорудить вертеп, у него не было. Но каждый год по старому обычаю он ставил этот вертеп, который когда-то сам смастерил ещё мальчишкой и который был ему очень дорог.
Регентом он был достойным. Его затылок украшала косичка, а одевался учитель в камзол, хотя при этом небрежно повязывал белый красиво расшитый галстук на шею. Сегодня за него это сделала умелой рукой его «половинка», несмотря на обилие у той своей работы. Вот и от её трудов благо. Подгайский был неплохо сложен: крепкий, плотный, круглолицый, курносый и веснушчатый с задорным взглядом. Его сдержанной супруге доставалось гораздо больше, потому что приходилось постоянно воодушевлять мужа.
— Едут! Едут! — пропел по нотам регент.
— Подожди! Ещё и танцы будут, — пробурчала его супруга.
И муж послушно умолк и затаив дыхание, напряжённо смотрел вверх, заложив руки в карманы своего бархатного сюртука, полы которого почтенно прикрывали ноги до самых икр. Недолго потеребив в недрах карманов шершавую табакерку и переминаясь с ноги на ногу, не жалея покрасневшего горла, вполголоса пробасил:
— Едут! Уже…
— Ах, Тобиаш, помял все свои воланчики! Прямо как дитя малое…
— Да, не видишь, что…
— Да иди уже! Вот же крест! — и со вздохом выпрямилась.
— Если бы ты, жёнушка, понимала! Не могу дождаться, — повернулся он к дверям, где слева на стене висели часы, сохранившие коричневый окрас гирь благодаря резным болванчикам, надетым на их концы.
— Что сегодня будет! — продолжал регент, — Даже Йозефек допущен к мессе: «Едут! Уже едут!»
— Да ведь не всё ещё доиграли и допели!
— Бетушка, а коли сегодня пан декан не заглянет да от пирога откажется! А ведь мне сегодня у престола играть, — и его губы расплылись в блаженной улыбке, ведомой ему одному и излучающей покой.
— Да туда разве что козла не пускают!
— Что сразу козла? Я — на органе, соло на трубе да Йозефек тенором
В дверь постучали.
Учитель умолк. Раньше, чем его супруга бросила: «Открыто!», оба смогли заметить, как через открытую дверь в избу проскочил молодой человек, высокий и стройный.
Морозный воздух наполнил сени светлицы, в которой было всё убрано, вычищено и так аккуратно расставлено, что от надраенного щёткой пола чуть не валил пар. Учитель с женой удивлённо смотрели на незнакомца. Голубой камзол его был изрядно выношен, слишком лёгкий для сильного мороза, что правил на улице, и вряд ли смог уберечь от него молодца, даже до упора застёгнутым на латунные пуговицы. На ногах незнакомца были чулки и башмаки, покрытые снегом.
Но голова незнакомца! Прекрасная, благородная, и такая поникшая!
Спутанные кудри падали на лоб, а лицо так неопрятно! Молодую, едва пробивающуюся бородку мороз украсил своей «проседью».
Вошедший был сильно возбуждён, что можно было заметить по его благородной осанке и живому взгляду.
Стоял сокрушённо, будто что-то выпрашивая, при этом выпрямившись и погрузившись в себя. Потом заговорил — какой приятный голос и какая живая речь!
Заговорил, разворачиваясь и жестикулируя, поведал о своих злоключениях. О том, что, возвращаясь от пруссаков, он остановился в корчме на самой границе его обыскали и чуть не отняли скрипку. И, расстегнув камзол он вытащил из-за подкладки скрипку в кожаном футляре. Потом рассказал, что по дороге в Прагу попал к мастеру Пигнателли де Бельмонтти, графа Ачеренца, но дальше проехать ему не позволили средства. Потому и осмелился предложить эту скрипку пану учителю на бедность, потому что ему даже заплатить нечем. Продавать её он не посмеет, потому как привязался к ней, а добравшись до Праги, тут же обещает расплатиться с хозяевами.
Подгайский дивился на молодого незнакомца, казавшегося таким подвижным и открытым. Молча взял скрипку, внимательно осмотрел с видом знатока, и лицо его прояснилось. Взглянул на жену, и та сразу всё поняла.
— Хорошая скрипка, — похвалил регент, настраивая и касаясь смычком струн, и та издала серебристый звук.
Взгляд учителя излучал радость от созерцания инструмента. Но пани Подгайска не дала ему забыться.
— Кто Вы и откуда? Почему мы должны Вам верить? — и подумав, прибавила, — Сыграйте нам, чтобы мы поняли…
Молодой человек улыбнулся и взял скрипку в руки, неоднократно коснулся струн.
Извинившись за суетливость, он заиграл. С вольного торжественного вступления он перешёл на мягкое, чуть подрагивающее от боли адажио; потом музыкальная идея прояснилась, будто пронзая мрак ярким лучом, и закончил лёгким менуэтом.
— Браво, браво! — восторженно вскрикнул регент, — Браво! Вы — прекрасный музыкант! Какой звук, какой вступление! Проходите, садитесь! Жёнушка, согрей нам чего-нибудь подкрепиться.
Подгайская также была под впечатлением. И она поняла, каким чудесным музыкантом оказался чужестранец, это и ей по душе пришлось. И она быстро ушла на кухню.
С самого начала игры чужестранца, дверь тихонько отворилась, приоткрыв дальнюю комнату, а в щели показалось юное личико.
Чужестранец улыбнулся и нисколько не смущаясь, поклонился, как и полагается всем порядочным кавалерам, но юная девушка за дверью покраснев, тут же исчезла.
— Моя дочь, тоже довольно неплохо поёт, но присаживайтесь и поведайте, что за несчастье постигло Вас и кто Вы…
И учитель взялся за кофейник. А чужестранец набросился на еду.
Подгайского очень порадовал аппетит молодого человека, и ему в голову пришла мысль, что было бы неплохо, если бы этот молодой музыкант сыграл сегодня на хорах. Подумав, что соло на скрипке было бы неплохим дополнением к праздничной мессе помаленьку вступая к голосу стоящего в углу клавира, на котором были аккуратно разложены пачки партитур.
Пани учительница не терпела беспорядка, особенно в музыкальных предметах.
Наевшись и напившись, парень устремил свой взор в то место, где заприметил ранее девичью головку.
Но дверь больше не отворялась. Чужестранцу было что рассказать и показать, что он и делал прилежно и внимательно, и даже острая на язычок Подгайска, у которой в голове мелькала тьма вопросов, тут же все их перезабыла. Но тут дверь отворилась, и вошедший очень удивил регента. Посыльный мальчишка сообщал, что подручный регента Йозефек сегодня не сможет петь на хорах.
Праведный Иов — прямо как гром с ясного неба!
Подгайский оцепенел. И тут в разговор вступила его жена:
— Почему не может? Что с ним?
— Ну да, если поручусь, так сразу и придёт — я ж ему шут гороховый!
— Так отчего не может? — не унималась Подгайская, — Почему не может? Может! Просто как иначе! Прямо так, соло? Как на прошлой мессе? Это же позор!
— Сегодня утром упал перед домом. Поскользнулся. Ногу, наверное, вывихнул, а может и сломал. Так отекла, что ступить не может. Сейчас у него фельдшер.
— Вот напасть! Как же теперь моя месса?! — вне себя сокрушался регент.
— Так ведь и он пострадал…
— А ты можешь спеть соло? — в раздражении выпалил учитель.
— Я — нет, может, кто другой?
— А кто?..
— Ну что во всём городе больше певцов нету? А Йедличек или Суханек…
— Певцов — певцов!.. Много они напоют!..
— Ну пошлите хоть за кем-то, всё лучше, чем ничего.
Подгайский, не прислушиваясь к живым советам, наконец прислушался к мальчику и послал за Суханеком. Потом, заложив руки за спину, ходил по избе, сокрушаясь об испорченной мессе трёх королей, которая сегодня должна была всем прийтись по душе и иметь успех. А как он на неё уповал, сколько над ней трудился! Вот досада! Вот незадача! Треклятый Йозефек! Что он наделал? Отчего этот молокосос не жалел себя? Да разве во всём приходе разыщешь тенора, вроде него?
Пришёл почтенный хозяин пекарни Суханек в пекарском фартуке.
Горожане расселись, и хозяин с готовностью сыграл в воскресенье на скрипке и что-то спел. Многословная учительница всячески выгораживала своего мужа, как и положено, приложила все усилия, уговаривая его спеть. Суханек отговаривался, что не готов, что может всё испортить, но учительница не принимало отговорок, но когда Подгайский его приободрил, что время ещё есть, что успеют подготовиться, и тот наконец согласился.
Достали партитуры, подобрали тональность, и Суханек начал. Тенорок у него был слабый, бесцветный, без единой высокой изюминки, а это сейчас было просто необходимо.
— Уже едут! — троекратно откликнулось на голос Суханека в заоблачной выси.
Регент был в отчаянии. Соло испорчено. Пан декан сразу заметит, не говоря уже о народе, обернувшемся к алтарю. Краснея от напряжения, проводил он по скрипке, отбивая такт рукой и ногой, прикидывая, помогал своим басом, но всё же в душе понимал, что никто, кроме Йозефека эту партию не споёт.
Соло проиграли и пропели уже не раз и не два, как на третий Суханек снова всё загубил. Подгайский так вышел из себя, что чуть не выронил из рук смычок. Скрипка смолкла, и Суханек, желая взять высокую ноту, не допел, сжав рот. Как вдруг донеслось из-за его полных плеч прекрасным, сочным тенором:
— Уж едут! Уж едут! — и дальше всё соло.
Все затихли, как в костёле, набожно прислушиваясь к молодому чужеземцу, поющему посреди избы соло трёх королей.
— Вы — моё спасение! Вы же запросто можете петь на хорах, ни за что Вас не отпущу!
Тут в открытой двери соседней комнаты показалась юная головка, пока чужеземец заканчивал пение, девушка не успела спрятаться.
Настало время отправляться в костёл. Чужестранец с большой охотой согласился петь, что только подтверждало весь его скорбный рассказ о злоключениях в пограничной корчме. Супруга учителя тут же сообразив, увела его в комнату, откуда тот через мгновение вышел переодетый и укутанный в пальто пана учителя.
— Побриться только времени нет, — улыбнулся он.
Вошедшие мальчики-певцы повесили скрипки рядком над роялем, и сами встали в ряд.
После чего регент собрал партитуры и надел шубу, а чужестранец мимоходом обмолвился словцом с его дочерью, стоявшей неподалёку от рояля, заслушавшись его пением, которое явно пришлось ей по сердцу, потому что на губах девушки играла улыбка.
Ушли. Учитель с дочкой покропили вокруг святой водой, только принесённой с последней службы, а жена учителя всем пожелала большого счастья.
Всю дорогу Подгайский сиял и блистал красноречием. Наконец-то он узнал, что молодого музыканта зовут Бендой. Ревностного регента распирало от радости и гордости, когда тот узнал, что Бенда родом из славной семьи, хотя и попавшей в трудное положение.
Шеренга, окружившая молодого Бенду, в изумлении молчала. Подгайский же, поглощённый созерцанием своего гостя, что даже забыл о своей дочери Марженке, представшей перед всеми в новом прекрасном наряде к Рождеству. А ведь юной незамужней девице не полагалось являться перед мужчинами, среди которых был и холостой чужестранец.
Но ведь девушка была совсем зелёным стручком, свежей ягодкой.
Прекрасно уложенные тёмно-каштановые локоны прикрывала лишь кокетливо сдвинутая на левое ушко шляпка, отороченная мехом; с макушки этой шляпки, богато вышитой золотом, свисала шёлковая вуаль. Девушка была в тёмно-синем плаще с широким лифом, отороченным светлым мехом и обшитой красной складкой сзади. Из-под длинной по щиколотки юбки, спереди украшенной цветным фартучком, виднелись маленькие ножки в тёплых белых чулках и чёрных туфельках на высоком каблучке. Руки согревала большая муфта.
В светлице Подгайского всё стихло. Жена учителя после утренней службы, приступила к своим делам у очага, взявшись за черпак. Сегодня предстояло много хлопот. В гости ждут двоих учителей из других городов, которые будут помогать на хорах, да ещё этот неведомый певец, так ей шёпотом в сторонке напомнил муж. И она варила, жарила, накладывала, — в горшках всё бурлило, а в печке пыхтело. Светлица наполнилась приятными ароматами. На улицах и площадях прихода было тихо. Разве что то тут, то там какая-нибудь горничная или ключница мелькала между домами.
В Сочельник всё стихло, и лишь в костёле на центральной площади ещё затемно зазвенели литавры, загудели трубы. Под громкое вступление священник проследовал к алтарю. Наконец вступили органы, заиграв торжественно и радостно.
Регент играл как никогда. Чувствовал, какая сегодня месса, преимущественно из-за посланного музыканта. Ведь родственник Франтишка Бенды! Всё в мире перед этим меркло. Вон он, на возвышении, справа от рояля, а слева о него хор и музыканты. Прямо как генерал перед битвой. Лицо его приняло серьёзный вид, даже строгий, а горящий взор просветлял весь облик. Потом кивнул головой — раз, два, три! — и скрипки заиграли в унисон.
Парни уже играли это, когда репетировали у Подгайского, набравшись опыта, горожане и соседи, преимущественно любители, среди них между прочим Суханек. Справа от отца стояла Марженка, отчитывая такт ручкой в муфте, временами поглядывая на хоры.
Костёл был полон народу. В алтаре на скамье напротив сидели бургомистр и два члена городского магистрата напротив, неподалёку от скамьи старейшин восседала неприступная дочь бургомистра Каченька и прочие дочери самых важных и знатных горожан. Возле Марженки стояли два юных альтиста, за ними — главный бас, пан секретарь поместья, а за ним — второй бас, пан лекарь. Нового тенора видно не было. Всё шло своим чередом, чинно и гармонично — и расположение, и пение, Марженка с юношей пела дуэт, сначала без сопровождения, а когда закончили, уже вступили скрипка и орган.

Потом скрипка смолкла, и только торжественный голос органа раздавался под сводом костёла, потом одновременно стихли и орган, и хор и вступили фанфары — сразу три трубы. Едва они уловили первую тональность, заданную учителем, тот настороженно прислушался, приподняв голову, как будто этим мог уберечь своего спасителя. И тут… тут… в глубине хоры отозвался, как совсем недавно голос: «Уже едут! Едут!», будто ожили и явились три короля, и трубачи выступили на шаг вперёд, провозглашая героическую песнь глашатаев, громко ответило ей с другой стороны зазвучавшее соло, всё ближе и яснее прекрасным голосом Бенды:
— Уже едут! Едут!
И будто посетили святые короли, вступили глашатаи Кликар, Хабр и Лангр, почти свесившись с хор, заглушили тоскливые звуки фанфар, и зазвенело на весь костёл всё мощнее и ярче, да так, что стоящие рядом чуть не оглохли. Но за некоторое неудобство от услышанных звуков было им наградой: они услышали вблизи сочный и мощный тенор молодого чужестранца, распевающего отчётливо и ярко:
— Едут! Едут! Едут!
Регент потонул в блаженстве. Заметил, сколько народу обернулась на этот голос, почти все. Может и подзабыл что, да ведь и прежние порядки за рамки выходили, но в нужный момент он сел за клавесин, приглушённо сопровождая Бенду, стоявшего возле Марженки молчаливой свитой трёх королей и запел:
Хвала тебе Царю Царей,
От трёх неверных королей,
Преклоним головы в коронах
Перед Венцом Твоим и Троном!
Тебе навек верны!
Именно так и решил Подгайский. Народ уже не только головы свернул — люди просто повернулись к хору. Все взоры устремились на регента, отступившего и осматривавшегося в алтаре пана патера Карлика.
Потом Бенда запел с хором, в котором пели и пан секретарь и пан лекарь.
Превосходно! Ошеломительно!
Снова зазвучали скрипки и другие инструменты, вступление напева декана звенело и кружилось, всё шло как по маслу. И Марженка вошла в нужный образ. Перед тем как взять высокую ноту, голос её обрёл такую силу, что звучал как никогда чисто и звонко.
Бледное личико девушки при этом зарделось. С великим восхищением любовался юной певицей молодой тенор, всё живее солируя вслед за её соло, открывая всё новые возможности голоса. Голубоватые волны курящегося ладана овеивали ароматом весь костёл.
— Ite, messa est! — прозвучало наконец, и великий перезвон подтвердил окончание мессы и наступление полудня.
Народ начал выходить из костёла, и все только и говорили, что о сегодняшней мессе.
Хвалили музыку, хвалили Марженку, но больше всего пение нового тенора. Лицо Подгайского пылало, и едва тот смог оторваться от органа, тут же принялся жать руку Бенды.
А прочие певцы, покидая хор, расхваливали сегодняшнее пение Марженки: «Просто прекрасно!»
Марженка никому ничего не отвечала, просто потому что каждый раз не знала, что и сказать. С полным триумфом уводил регент своих гостей домой, улыбаясь каждый раз, когда народ разглядывал нового певца. А в его школе был накрыт стол.
II. В «вертепе»

Минуло воскресенье, и уже понедельник приближался к вечеру.
Отгремел вечерний перезвон и ещё отдавало в зимних сумерках тоскливым заупокойным «о бедных душах». Потом и перезвон умолк, и в приходе всё стихло. С тёмного неба посыпал снег, подгоняемый быстрым ветром. Закат зарумянил окна. Тут и там между домами вспыхивал свет, на улицах постепенно вспыхнули фонари, и тьма отступала. В низеньком домике на улице, ведущей к Находу, зажглись сразу несколько окошек — то был трактир, который тут называли «вертепом».
В трактирной избе над столом неподалёку от больших тёмных камней стоя горела подвесная лампа, слабо освещая всё вокруг. На стене весело несколько пальто с двойными воланообразными воротниками, всё больше тёмные, а над ними на треноге шляпы и выдровки — шапки из шкурок выдры.
Хозяйничал в вертепе Яролимек и по праву старшего уселся вместе с гостями, а его дочь разносила пиво в кувшинах из оловянного камня и смолистых жбанах. За столом «по соседству» сидели Суханек, Брахачек, кожаных дел мастер Брихта и городской писарь. Пришёл и член городского магистрата, ратман Земан, который всегда подписывался как Земанн.
Так рассаживались каждый вечер. Напивались в вертепе изрядно, беседовали рассудительно, при этом умели и слушать, так миг за мигом и убивали нудный поток зимних вечеров. За окнами сыпал снег, временами завывал ветер, а в вертепе горел очаг, да крепкое пиво казалось нектаром.
Сегодня соседи рассуждали о том, какая жуткая метель разыгралась с самого утра, вспоминая что сулят приметы в это время года. Ратман Земан поделился случаем, распространившимся в новостях, да и возбудившем опасения. Слышал, что когда-то в Праге снегом чуть весь свет не завалило.
— Да ладно? — выспрашивали соседи так, будто рассказчик узнал эту историю от кого-то лично.
— Вот так. Мело, мело, да и замело. У нас-то снегу, стаявшему есть куда стекать — в реки ручьями, а там такие возвышенности, как в Штирии, что ближе к Австрии, там, где снег с гор не сходит. Превращается в лёд и с каждым годом подступает к горам, всё тяжелее и тяжелее, так и совсем всё снести можно…
— Да как же так?
— Запросто может разрушить, — догадался Брахачек.
— Иначе куда денется…
— Да ведь…
— Эх, тоже мне новость! — опомнился первым Яролимек, — Будто о конце света ничего нового и не придумать!
— Точно! Все под Богом ходим.
— Но всё же… Ммм… И навалило же снегу…
— Навалило, — откликнулся писарь, но тут его будто озарило, заставив вдохновенно заговорить, — А как же Святое Писание? Вспомните, что там про Конец Света сказано?
И тут все согласились, охотно закивали — так спор и разрешился.
Кукушка в часах прокуковала семь раз, и тут Яролимек посмотрел на доселе пустующий стул. Пробило семь, а пан учитель… Странно. Обычно без четверти семь уже являлся регент, держа фонарь в левой руке, а трость с кисточкой в правой. Но вот уже и семь пробило, а он так и не пришёл.
— Значит, не придёт.
— Почему?
— В общем, остался без пальто, а тут такая метель, — лукаво усмехнулся Яролимек.
— Значит, правда?
— Да всем и так ясно, — подтвердил Земан и поведал всем о том, как к Подгайскому попал молодой чужестранец, тот самый, что пел в праздник на хорах. Все признали, что пение было превосходным, да и сам парень — каким голосом и талантом одарён!
А как милостиво и участливо благоволил ему регент, даже свежее бельё подарил. После обедни у него ещё долго играли и пели, учитель даже соседей не навестил в тот вечер, так был занят своим гостем. А хозяйка предоставила ему для ночлега лучшую комнату, застелив постель прогретым одеялом.
А что такого, это же потомок самого Бенды!
В ту ночь все слышали, как регент снова играл мессу трёх королей с новым соло на скрипке — всем на удивленье да с таким адажио сам мастер Франтишек Бенда расплакался бы от зависти. Но утром гость не проснулся — разбудить его пытались и даже когда мессу отзвонили, дверь комнаты так и не отворилась и никто не отозвался. Потом все заметили, что окно в комнате открыто, и соловушка упорхнул, а с ним и пальто пана учителя, и меховая шапка, и бельё и ещё что-то. Хозяйка обо всём этом не распространялась. Однако в доме учителя поднялись шум и суета. Подгайска почём свет ругала мужа, что доверяет всем из-за своей страсти к музыке. А его самого больше всего расстраивало не украденное добро, а то, что такой музыкант и певец оказался вором, опозорив в своём лице всех музыкантов.
А прекрасная скрипка Бенды!
Жена учителя голосила на всю округу, да и комиссия приличная собралась, но чем они могла помочь? От Бенды и след простыл. Едва явившись, почтенная комиссия, так за окном и скрылась. Задачка кто и откуда была неразрешимой. Метель за ночь намела сугробы, уничтожив все следы.
И вот теперь в вертепе все задумались, поглядывая на пустой стул по соседству, размышляя о произошедшем, а в уголке за камнем сидела дочь Яролимека, шкодливо выведывая у маменьки, что дочь учителя Марженка по уши влюбилась в певца, доставившего её семье столько хлопот.
Пока бабы исподволь сплетничали, пустующий стул Подгайского отодвинули, так ничего и не решив. Местный писарь вытащил из-под полы книжечку, по которой читал два вечера подряд. Когда принёс её впервые, рассказал о ней, что это «ни просто мимолётная история, но печатная проповедь, да ещё такая прекрасная, что её стоит прочесть каждому, особенно в нынешнее лихое время».
Та книжка обстоятельно рассказывала о французских путях свободы, и писарь, надев костяные очки, держа на вытянутой руке перед собой книжку, принялся читать вторую главу, которая доказывала, что христианское мировоззрение виновно во всём, что только возможно, и что потрачено, чтобы та часть французской свободы, которая уже существовала, теперь была разрушена. Все набожно прислушались. «Если бы наступило благоденствие и существовала ненависть против наказания лихорадки свободы, а также праведного исправления подобной несправедливости, можно было бы в каждом зажечь огонь подобной веры! Неужели вы не хотите и не способны захватить для себя хоть капельку свободы, чтобы ваша родина и вся чешская земля закрепилась за вами?.. Вас же беспокоят, права всего народа да и ваши собственные. Бейте каждого, кто ограничивает вашу свободу и ваше право.
— Вот и до нас дошло! — глубоко вздохнул Земан.
— Ну да, ясно.
— Слава Богу. Только разок.
— А может и скрыто где.
И минуты не прошло, как дверь в трактир отворилась, и на пороге показался новый гость. Это был мужчина среднего роста, укутанный в тёмно-синее пальто.
За столом «по соседству» удивились.
Все погрузились в свои думы.
С волками жить — по-волчьи выть.
А гость снял пальто, повесил его на стену и встал посреди избы, разглядывая посетителей.
Он был в тёмно-коричневом камзоле до колена, в чёрных штанах и в башмаках, набитых свежим снегом. По одёжке вроде и похож на соседей, но с гребнем в волосах и совсем без косички. Волосы ниспадали ему на брови, покрывая лоб кудрями. Почти потускневшее лицо изборождённое морщинами делали строгим орлиный нос и широкая седая борода. Густые брови подняты, под ними слева горел глубоко впавший серый глаз. Правый глаз был слеп.
Незнакомец не сел за соседний стол, а пристроился в одиночестве в углу.
Не осталось у Яролимека даже пустующего стула учителя и ничего другого, что собравшиеся могли бы предложить гостю. Да и говорить о нём не решались — местные говорили лишь о местных. Тот сам поведал, что был знатным паном, неженатым по имени Валентин Кохан, но все в округе прозвали его «слепым молодцем».
И тут Яролимек позволил ему занять пустующий стул учителя.
III. «Слепой молодец»

Валентин Кохан оговорился, что уже устал от чтения, и его тонкие губы при этом скривились в улыбку.
Писарь подметил, что прочёл верно.
— Жаль, раньше не пришёл, поздно услышал, что сегодня узнал, уже самый конец. Но вижу и в этих словах много правды.
— Вот так «слепой молодец»!
— Да, и своей правдой безбожные французские мятежники уже успели недобрых дел натворить.
— Так ведь и добрых тоже. Вот кто и получил, так по заслугам. А ведь прочим и помогли, как и нам свободу дали.
— Хммм… Да какая там свобода! — возразил писарь, — Коли столько народу полегло за неё…
— Так ведь и оковы пали, и дышать вольнее стало, чтобы все равны стали перед Господом Богом, — выругался «слепой молодец».
— Но Вы не берётесь утверждать, как и прочие, принявшие тот бунт. Однако припомните, началось*то у нас вроде как со свободы, а вышло что: пустая возня, суета и недоразумение, — твердил Земан.
— Прямо как дети неразумные. А как же тысячи местных жителей, сбитых с толку, получившие лишь суету и недоразумение от такой свободы.
— Хммм… И не говорите, против Воли Божьей и святой веры и так много попущено — дай только волю всяким еретикам.
На те слова Брахачек под столом тихонько постучал Суханка, и все устремили свои взоры на Кохана, ожидая, как он отреагирует на подобные уловки и намёки на подозрения в «тайном масонстве» и безбожии.
— Был приказ императора Йозефа, а он не очень-то разобрался в ситуации.
Все смолкли. Они-то ждали чего-то другого против веры, еретического, а тот прикрылся приказом!
— А также поручено, — снова парировал писарь, — Чтобы в костёлах или на улицах майские ветви не выносили при процессе изнесения божественного тела.
— Жаль, но видно император по молодости в тех процессиях ошибся. Решил, чтобы при них иноверцы вели себя пристойно и снимали шляпы.
— А к чему такая свобода ведёт? К неравенству! Тогда каждая девчонка, коли допустить, сможет безнаказанно, и как почтенная роженица, спустя шесть недель после родов хранящая себя жена будут в костёле на равных правах. И уже нет разницы между порядочной женщиной и распутницей.
— В том и суть свободы, выбрать грех или распутство. Это раньше всех держали в ежовых рукавицах, и невесты были верными, а нынче…
— Господь Милостив, Сам рассудит, — парировал Кохан, — А император, как издал указ, чтобы в костёлах не было разделения между порядочной и распутницей, так сразу и вышло, что сельский народ от 12 до 18 лет проявил усердие в посещении христианских служб, и все были приучены к добродетельной жизни.
Ратман с писарем заодно были готовы к наступлению. Этот «слепой молодец» знал все приказы чуть ли не наизусть как заправский судья.
— Хммм… Всем вам по душе, — снова начал Земан, но слегка смягчая беседу, — Не говорю, что прямо все читали императора Йозефа. Он и бедным немало хорошего сделал. Да и неплохо, что в школах стали изучать немецкий. Сейчас без него никуда. Разве на одном чешском далеко уедешь? Разве что до замка в поместье.
Пока он это говорил, «молодец» допил своё и тут же со звонким стуком поставил жбан на стол
— Нет, — возразил он, — Это как раз была его ошибка, — как отрезал и умолк.
Все удивлённо затихли.
— Ой, Вы просто потрясли всех! Поначалу так всем по душе пришлись. А теперь как сказали…
— А ведь всё же похвалы заслуживает, — вставил Земан в речь писаря, — Но разве мы и своего языка не достойны? Немецкий, конечно, хорош, коротко и метко обо всём ведает, у нас столько слов не будет.
— Так лучше не говорить, — возразил Кохан, — Позор тому кулику, что своё болото не хвалит; зачем доделывать то, что не доделали чужаки — прививать себе и своим детям чужой язык, отрекаясь от родного?
И «слепой молодец» с укором взглянул своим единственным глазом сначала на ратмана, потом на писаря и, пожелав всем доброй ночи, быстро вышел из трактира.
— Странный! — нарушил молчание Браханек.
— Чудак! — важно заключил ратман Земан.
— А ведь вся его речь выстрадана.
— Таких масонов ещё поискать.
— Вправду полагаете, что Кохан — масон?
— А вы подумайте над его словами. Кто вершил революцию во Франции? Масоны. А кто с минуту о пролитой крови горевал? Кохан.
— Ох, это же о душах!
— А может тем душам на том свете даже лучше! Масоны всегда за всех платят и всем дают необходимое, вот и посмотрите на Кохана!
— У него же наследства нет, — осторожно защитил его Брахачек.
— Наследовал, что смог с родовых капиталов.
— У этих масонов всё от нечистого.
— Точно, от нечистой силы подати. Протянешь палец, так за руку вцепятся да за собой утянут.
— И что, так и не отпустят?
— Пустят, коли жизнь отдашь. Будто какая-то неведомая рука с лаской подталкивает либо самому отравиться, либо найдут потом тебя ничком на одре. Будто уснувшим, только с посиневшими губами, а у сердца с каплей крови, будто булавкой укололся.
— Как?
— Убивают булавкой. Это высшая кара у масонов, совершается в громадном зале, где вообще все масонские молитвы проходят. Если изменит кто-то из низших масонов, так кто-то из высших отомстит, но никто не узнает, может сам антихрист орудует вот так булавочкой по сердцу приговорённого единым мигом хоть за сто миль за море падёт не готовым в землю, не готовым к вечности.
Все слушали, затаив дыхание, слышно было лишь как ветер воет за окнами.
— Неужели Кохан из таких? — недоумевал Брыхта.
— Ну, масонской ереси в речах хватает, — кивнул Земан.
— А как же та книга?
— Кто постарше, высматривает и скупает всё, что связано с чешской стариной.
— Не верится, что его в то общество могли забрать, — размышлял Брыхта, — Сдыхал, туда всё больше знатных берут — баронов, графов, князей…
— Для них свято, — вставил писарь, — Мне как-то один добрый сосед поведал, что и наши хозяева, вроде местного герцога, тоже в масонах, и мне это странным показалось.
Брахачек с Брыхтой в ужасе переглянулись и трактир «Вертеп» наполнился смехом.
— Но ведь правда же! Известно, что масоны революцию делали, а эти господа сами в себя могут ножом ударить!
— Теперь всё на свете перевернулось, всё, что нельзя, позволено, — заключил писарь.
— Единственное, чем хороши масоны, тем, что помогают беднякам.
— Тогда и герцог тоже масоном может быть.
— Просто не все знают, почему он помогает, а он из чистого милосердия, потому, как и сам познал и голод, и нужду, ещё мальчишкой, когда с отцом в Сибирь был выслан. И между нами, отец его не так уж и невиновен был. Когда он служил в России, владел там собственностью, угнетал народ, даже до бунтов доходило, и всё в тех заснеженных краях.
— Сына тоже хотели туда отправить.
— Хотели, но пастыри по-другому решили, и верхи согласились. Покойный управляющий не шибко умён был, но тогда чуть не обжёгся, когда дела шумные пошли. Селяне тогда очень обсуждали всё это.
— Зато карманы не пострадали.
— Но ведь не масон! — эхом прокатился смех из трактира вдаль.
А между тем кукушка в часах прокуковала десять. Засиделись сегодня соседи. Обычно в девять-полдесятого начинали расходится. Развернувшись к своим жилищам, желали доброй ночи.
Снег всё шёл. Улицы освещали недавно вспыхнувшие фонари. Но резко каждый в своём направлении, ещё отзывались последние пожелания «доброй ночи» и при свете соседи скрывались по своим домам и углам.
Брахачек жил неподалёку. Поднявшись по улице быстрым шагом, свернул к улочке, ведущей к замку. Всюду уже было темно, только в одном из домов горело окно. Алый отсвет от окна падал на дерево за окном. Оно было завалено снегом. Хотя порядочный горожанин уже давно сидел бы дома, но любопытство оказалось сильнее. И что этой одноглазой сове не спится?
Приблизившись к дереву, Брахачек заглянул в окно. У стола прямо рядом с очагом сидел в чёрном кресле Валентин Кохан, оперев голову на правую руку, он читал какую-то старинную книгу. Подняв голову, посмотрел перед собой в глубоком раздумье. Брахачек увидел морщинистое, озарённое светом жёлтое строгое лицо, единственный глаз на котором горел углём как из ямы в тени густых бровей.
И Брахачку вспомнился рассказ о масонах, про их главного магистра, нож, булавку и чёрную каплю крови из сердца, и он тут же отошёл от окна.
IV. Патриоты
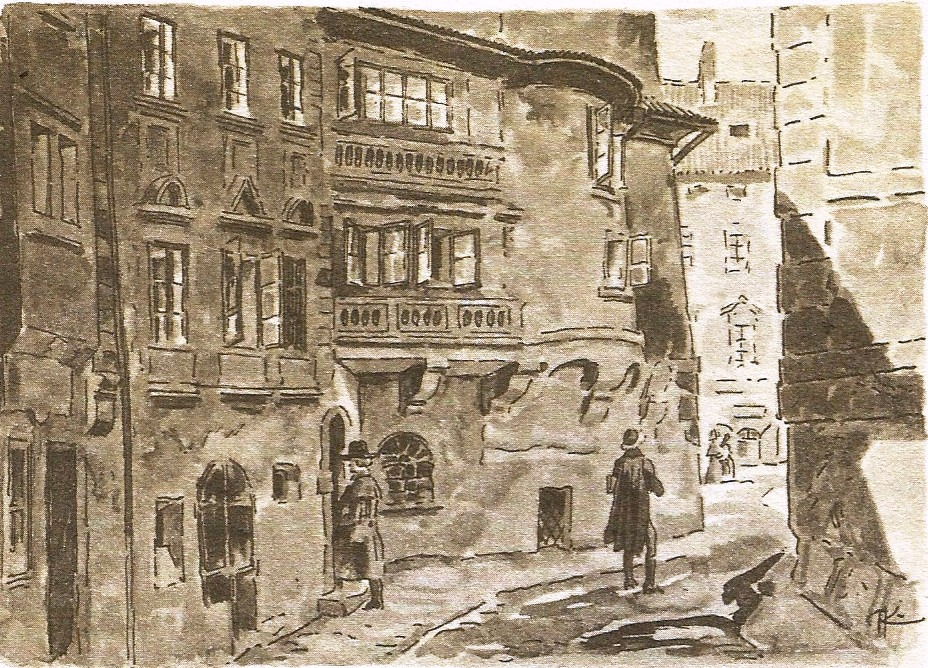
Узкая Семинарская улица в Старом Месте ограничивалась в те времена тёмным трёхэтажным домом. Весьма старинным, внешне мрачным и безлюдным. В его подъезде и на узкой еле проходимой лестнице царил сумрак, постепенно рассеивающийся от пламени красного фонарика перед Распятием, висевшим в нише перед входом. В другой части было несколько небольших квартир. В одной из них в низенькой бедной комнатушке сидел Антонин Гласивец, молодой человек приятной наружности. Единственным богатством в этом жилище был шкаф полный книг, преимущественно французских, немецких и чешских.
Одно окно было открыто. Но видно из него было немного: мрачный путь Климентинской улочки до Собора Климента да днём кусочек голубого неба. Но и эта полоска неба сегодня была так ясно освещена, что хватило бы на каждое душное жилище.
То было в мае. Тёплый ясный денёк творил свои чудеса. Улица оживлённо шумела, грохот колёс, уличные беседы и повседневная суета эхом отдавались в жилище. Воскресный день пошёл за полдень.
Антонин Гласивец не замечал ничего этого. Беды последнее время так подавили его, что тот никуда не выходил. Он был воспитателем у высокопоставленного пана в поместье. Но появились заботы и поважнее шустрого мальчишки воспитанника. Забыв про обязанности, Гласивец вернулся в Прагу, собрав свои пожитки и сбережения.
Свою матушку он застал тяжёло больной. Отца не было. Молодой человек погрузился в заботы, потратив все свои средства на лекарства и лечение любимой родительницы, ухаживая за ней дни и ночи напролёт. Но бедная страдалица и так долго терпела, так что дни её были сочтены, и конец неумолимо приближался. Благословил своего Антонина, она скончалась.
Первое время после похорон матери Гласивец был весьма подавлен. Печаль чугунной гирей давила сердце, так что белый свет не был мил. Но со временем он выбился из тяжких дум. Случилось нечто солнечным лучом пробившее оковы его духа.
Никого из родни у него больше не осталось, но появилось существо, занявшее все его помыслы, и это придало ему сил как свежий серебристый родник и зелёная трава путнику в пустыне.
Существо явилось после бури и шторма. Два года назад возвращался он в воскресенье после полудня из Градчан. Бывал там частенько, а уж по воскресеньям обязательно. Высокий город невероятно поднимал дух. Заря прошлого очаровывала, потому Гласивца так и манило туда. Проходил по разнообразным тихим подворьям королевского града, вставал на задворках храма святого Вита у гроба чешских королей.
Он был одним из тех патриотов, каких мало осталось. Он пылал любовью к своему родному языку, нынче загнанному и униженному. Он любил свою родину со всем пылом своей юной души. Изучал чешскую историю с самого детства, знал своих предков и все их заслуги. Гроза настигла его когда тот был на Малой Стране и перешёл Карлов Мост, тут и разразился сильный ливень. С тёмных туч громыхало, сверкало и лило проливным дождём. Все разворачивались и разбегались в поисках укрытия под крышами или в подъездах. Перебежав через мост, Антонин заскочил в ближайший дом, где кто-то уже успел укрыться. В проёме под крышей он обнаружил девушку с благородной осанкой и бледным лицом. Когда тучи через мгновение рассеялись и выглянуло солнце, у молодого человека будто и на душе светлее стало.
В тот миг, как Гласивец разглядел ту девушку в блеске солнечного луча, позабыл про всех Бретиславов, Карлов, гуситов и Йиржиков.
С волнением обратившись к девушке он совсем не использовал ставший обиходным немецкий язык. А барышня, хотя по одежде видно была из благородной семьи, ничуть не усмехнувшись, спокойно ответила по-чешски.
Когда же дождь перестал, Бабой Ягой из сказки явилась старая пани, в спешке укрывшаяся от дождя в соседнем доме, и позвав девушку по имени, увела её прочь. Обе ушли через мост.
Он пошёл за девушкой и познакомился с ней. Та уже несколько недель ходила до того дома, в котором он жил, он даже мельком замечал её. Встречались, столкнувшись с ней несколько раз в другом месте, и то в сумраке коридора её дома. Там в первой квартире жила вдова пани Вогнарова, наставница рукоделия. Когда-то та была доброй знакомой покойной матери Гласивца, но не более, хотя временами матушка к той пани заходила. Однажды вскоре после той встречи в дождь на Иезуитской улице, Антонин, сбившись с пути, не застав матушку дома, а нужно было срочно с ней поговорить, пошёл к пани Вогнаровой, и в окошке её дома узрел склонённую над белым полотном девушку своих грёз.
Тогда-то и познакомились они поближе. Ожидая на Карловом мосту, он не смел идти дальше из-за Элишкиной тётушки, а теперь расспросил, когда та начала учиться шить.
Это был возвышенно духовный роман, наполненный таким очарованием и счастьем, что заставил Гласивца совсем забыть про Градчаны.
Но жизнь брала своё.
Матушка Гласивца была бедной, а несчастья с годами множились. Всё, заработанное, она отдавала сыну, работала до последнего, чтобы тот мог учиться. Потом занемогла. Бедствия загнали её до того, что та уже не могла работать. Пришла пора сыну содержать мать. Он брался за всё подряд.
Устроился воспитателем в поместье. А когда вернулся, потерял мать, и Элишки уже след простыл. Как ему объяснила пани Вогнарова, они с тётушкой уехали в поместье к друзьям. Однажды в мае получил письмо, в котором Элишка сообщала, что вчера вернулась в Прагу, что дядюшка, старый холостяк пригласил к себе в город Наход. Элишка вынуждена ехать с тётушкой, так у неё никого больше не осталось.
И дальше писала, что из-за тётушки они не смогут видеться. Остальное на словах передала пани Вогнарова, что та ещё напишет позже сама.
Долго в тот полдень сидел Гласивец над тем письмом, подперев ладонью щёку. Через минуту, как прочёл, уставился на листок с готическим почерком.
«Элишка уезжает, — крутилось в голове, — Когда они ещё увидятся? Где? Сможет ли она выйти за него или достанется другому?»
Послышалось, как подъехала карета. Вскочив, он бросился к окну и увидел, что перед домом в самом деле стоит большая карета. Он разглядел пани, что вышла из неё. Это была тётя Элишки. Значит и она тут! Его одолело беспокойство.
Гласивец надел своё лучшее пальто, рассеянно натянул шляпу и выскочил из дома, не заперев дверь. Но на лестнице остановился. «Куда спешишь? — сам себя остановил он, — Чего ты ждёшь?»
К пани Вогнаровой попрощаться с Элишкой. Но тётя! Разве она позволит ему подойти к Элишке? Сам не понимая зачем, стал спускаться по лестнице, и оказался перед квартирой пани Вогнаровой, куда и решил войти. Но в этот миг отворилась дверь, и к нему навстречу выбежала Элишка. Она забыла в карете какой-то свёрток и направлялась за ним.
И тут же оказалась в объятиях Гласивца. Расстроенный, он порывисто начал объяснять, что хотел сделать. Но не договорил.
— Нет, пожалуйста, не надо! — тихо, но упорно твердила Элишка, — Тётя может заметить… Вы даже не подозреваете.. О, как мне дорог этот миг счастья! Я чувствовала, что мы свидимся, но если бы могли поговорить… — и тут же в страхе добавила, — Ах, я совсем забыла про тот свёрток!

Гласивец хотел побежать за ней, но вовремя остановился, потому что Элишка напомнила, что его может заметить кучер. Так что он не посмел проводить Элишку. Опасался.
И быстрые шаги девушки мгновенно смолкли за лестницей. Гласивец остался один в полумраке. Забыл даже про двери пани Вогнаровой. Смотрел вдаль тёмного лестничного пролёта и ждал. Ранее терпением он не отличался, но теперь жил лишь Элишкой. Спешил ей навстречу. Сверху на неё падал свет, на её гибкий стан в цветном платье, на белую шею и на её личико, обращённое к нему с улыбкой.
На последней ступеньке он остановился. Элишка, будучи совсем рядом, протянула Гласивцу руку. Взгляд девушки, обращённый к нему, был полон слёз. Подойдя к ней, он, забыл обо всём принялся целовать её лоб, лицо, гладить её волосы, что-то бессвязно и порывисто шептать ей. Вырвавшись, та снова заторопилась к двери комнаты.
— Ещё минутку! — страстно взмолился он.
По взгляду он понял, что ей очень хотелось остаться, но всё же придётся уйти:
— Тётя, — шепнула она, — Я напишу!
— Только поскорее! Не забывай!
— Не забуду! С Богом!
И с крылась за дверью. Как только дверь открылась, из жилища послышались женский голоса. Потом всё стихло. Гласивец опять один остался в сумраке коридора как в дурмане, а сердце его гулко билось. Он был счастлив, что любимая верна ему, но мысли о разлуке с ней томили его, ведь та уезжала надолго, может даже навсегда.
***
В Смечках в Новом Месте в Праге стоял невысокий дом — гостиница «У короны». В этом доме собиралось много народу, разного возраста, преданных патриотов. Иногда местные, в основном говорящие по-немецки, и к этому названию здешние собрание добавляло «У чешской короны». В чёрной избе немного говорили по-чешски, здесь были установлены наказания государственного уровня за небрежное отношение к родному языку, даже за применение иностранных слов, которые уже довольно прочно вошли в чешский язык. На столе лежала «Крамеровсккая K.k. патриотическая газета» и карта Европы.
Общество здесь собиралось сознательное, и каждая чешская книга, каждое верно произнесённые чешское слово вызывало восторг, не говоря уже, что каждое чешское действо в театре просто было праздником.
Состоял в этом обществе и Вавржинец Аморт, учитель в Соборе св. Штепана, это он первым ввёл в школы предметы «шелкопрядов», за что получил награду золотыми монетами от императора Йозефа, и он бесплатно дни напролёт учил чешскому языку всех желающих. Был там ещё горожанин Йиржик, актёр Свобода. Ему студенты Калоус и Писецкий теперь рассказывали о чешской пьесе в театре «У Гиберна», где посмотрели «Побег от сыновней любви»».
— Сдаётся мне, что опера «Музыканты» превосходна. На этой неделе даём.
— О, да, опера — вершина, но в ней мы на последнем месте. Оригинальных пьес в театрах совсем мало, но опер…
— Платите денежки, пан Йиржик, — весело отозвался Калоус, — Патриотичнее назвать её музыкальным спектаклем!
Все засмеялись. Расплата не миновала. Пан Йиржик достал свой кошелёк и, выкладывая обществу штраф, приговаривал:
— Правильно, на гауптвахту меня!
И тут новый ликующий возглас.
— Да что я ещё такого сказал?
— Гауптвахта, гауптвахта!
— Но это же в шутку, военное.
— Всё равно не наше!
Так что, хотел не хотел, а снова выложил денежки.
— А я вот думаю, у нас столько замечательный музыкантов, и не один их них не сложил… музыкальный спектакль.
— Мало сознательных, да и те у чужаков на хлеб зарабатывают. Да и где он чешский театр? Мы — народ подневольный, откуда меценатам взяться, — пояснял Аморт.
— Да уж, — кивнул Свобода, — Без поддержки свободной работы нет. Жаль, что местный герцог Куронский не разделяет наши взгляды. А он бы смог нам помочь, так как большой любитель музыки и вообще всего прекрасного. Мог бы поставить в своём поместье патриотичный музыкальный спектакль. Представьте себе, он сам набирает труппу певцов. На прошлой неделе мой коллега…
Договорить не удалось. Беспощадный и строгий блюститель чистоты чешского языка Калоус оштрафовал певца за слово «коллега», которое также являлось пришлым. Возник небольшой спор. Свобода высказался, что слово не является немецким, и происхождение его неизвестно. И вовремя, потому что все придумывали новые слова. Общество «В чешской короне» считало себя филологическим, а потому начали дискутировать, чем лучше заменить слово «коллега», и далее сочли что Калоус поторопился с «придумыванием», так как все вспомнили про слово «сослуживец», на том и порешили, и Свободе тоже пришлось расплачиваться:
— Так вот. Мой сослуживец Голуб, — продолжал он, но тут же снова смолк, подбирая чешский аналог слова «ангажирован», — Был нанят этим герцогом на один из балов в Находе, тут недалеко.
— Вот бы его наставить на чешский путь! — решил Аморт.
— Он же чужеземец, переселенец из России, и всё же к нам ближе, нежели кто из наших, — заметил Писецкий.
— Так и есть. Видели, сколько золота он выдал на то, чтобы показать наших Пельцову и Диабачеву?
— Да, видел, — подтвердил Аморт, — Меня недавно приглашал к себе пан Пельце. И тот меня очень порадовал. Слыхал, что его неоднократно приглашали в поместье герцога.
— Да, этот Куронский как белая ворона.
— А представьте, если бы он сам построил театр, а ведь может, и вполне солидный, дал бы нам назначение, да мы бы несколько раз в неделю, и вечерами, а не в полдень, ставили бы разные спектакли на чешском — вот было бы здорово!
Старый Аморт кивал, а Свобода задумался, оперившись щекой на ладонь.
— А то всё скитаемся из угла в угол в своём родном доме, отстраняют нас даже за невинные чешские пьесы, потому что чешский не просто…. Вроде как…
— Тсс! — мягко одёрнул шустрого Калоуса серьёзный Аморт, приложив палец к губам, — Хорошо, если нас не слышали. Конечно не страшно, но лучше сохранить идею нашей.
— С Вами бы не согласился наш Камиль, пан учитель, — Он бы рассказал больше с оговоркой на древность и старые правила.
— Ах, наш Камиль! Ещё не явился, а мы уже о нём заговорили. Давно с ним не виделся, — проговорил Аморт, задумчиво, — Наверное, сейчас в поместье?
— Да нет же! До сих пор без места.
— Он в Праге, — заметил Писецкий, — Прошлый раз видел, как он со своими воспитанниками и паном советником шёл по Каменному Мосту на Малу Страну. На той стороне и встретились. Совсем, бедняга усталым выглядел.
— А похвал так и не дождался.
— И никуда не звали, слишком дома засиделся.
— Пльцлу было приятно с ним встретиться, всё же земляки. Да и какой похвалы от старого брюзги дождётся.
Что до отца Зеленема, каплана собора св. Штепана, говорили, что поставил у дверей молодого стройного красавца.
— Ах, Камиль, наш Демулен! Наши поздравления! — и Калоус с Писецким устремились навстречу молодому человеку пожать руку.
— К нам гость!
— Добро пожаловать! — и все устремились навстречу Антонину Гласивцу, сердечно пожимая ему руку.
«Камиль Демулен» так патриоты из общества «У чешской короны» прозвали Антонина Гласивца за его взгляды, устремления и способность к риторскому искусству. Тот уселся за стол.
— А мы уж думали, совсем от нас отдалился, предал нашу «чешскую корону, — укорил Калоус.
— Не мог прийти. Но я же наверстаю упущенное. Что новенького?
— Немного. Неуман издал «Сердечное обращение чеха ко всем дорогим патриотам», — я пока сегодня в «экспедиции» узнал про «Оду покорения реки Суворовым».
— Продаётся у Крамероуса в «Королевской лавке». Сам купил в Жидовском квартале.
— А я там так и не нашёл.
— Как же так? — все с удивлением посмотрели на Гласивца.
— В Праге никто ничего обо мне не знает. Моя работа никакого успеха не принесла, едва хватает, чтобы прокормиться и выжить. Никто особо не берёт. Разве что обучил французскому некоторых мальчиков и девочек. Вот подумываю, не пристроиться ли в какое-нибудь поместье управляющим?
Все по смотрели на него ещё более удивлённо.
— Управляющим в поместье? Погонщиком с хлыстом? — вскрикнул Калоус.
— Ты ещё не знаешь, как горек панский хлеб… В такой хомут попасть можно! — напомнил Писецкий.
— И всё же при здравом рассуждении полагаю, что вполне можно заработать. Да и была ни была! Ох, да вы же все из Пражан, и вообще горожан и знатных торговцев. Бедности не знали. Не были наполнены ваши сердца ожесточением, злобой и обидой, как у меня поначалу. Каждый из нас обещал помогать своей родине по мере своих сил. Вы учите или будете учить, и патриоты думают, что я другой путь избрал. А где чешский народ? Во дворцах? Там одни иностранцы. Там стукачи, отступники и пьяницы. А чешский народ живёт в простых мазанках и хатках. И это настоящие сокровища, только ещё не найденные и не обработанные. Если мы отвернёмся от простого народа, весь наш труд насмарку. Кто в больших тисках от законов империи, как не они, высшие слои так не страдают. И если мы хотим овладеть ремнём этой плети, но плетью против неволи, то надо спокойно браться за дело, и да поможет нам Бог! Всё же недаром работать буду.
— Прекрасно! Отлично! Вот он наш Камиль! Наш Демулен! — громко вскрикнули все, подняв свои кружки за здоровье Гласивца.
Но не слышали они из-за стука передвигаемых стульев и радостных возгласов, как отозвался в соседней избе голос толстой хозяйки, кого-то учтиво принимающей. В святая святых «Чешской короны» вошёл невысокий, плотный человек в чёрной одежде и заговорил проникновенно:
— Что уставились? Кого чаяли увидеть? Обегал всё Старо Место и Малу Страну, зря стучал во все двери и расспрашивал, но каждый вяло из-под палки выползал, а потом возвращался продолжать свой пир и веселье!
Обернувшись на голос, все обнаружили нового гостя и громко приветствовали его.
— Что уставились! Что за веселье? Господь Вас благословил! Я с радостной вестью. А ты, Каченька, — обратился он к ключнице, — Принеси мне кружку хорошего пива, что тот пан снова выписал из столицы.
Каченька радостно приняла заказ, но нередко, когда этот славный пан, патер Зелены, добрый да смиренный, ради увеселения общества позволял себе вольности, что же, видно доброе говорил, только та не понимала о чём, потому что гость говорил по-чешски. А девица совсем не разбиралась в старочешских книгах и преданиях, и не отличила бы Даниэля от Велеслава, но старалась относиться с уважением и почтением к этому патриоту — каплану собора св. Штепана.
— Ну же, досточтимый пан, что за новость?
— Новость? Собственно, в чём не знаю, знаю, что радостная! — таинственно улыбнулся тот.
— Ну так что же? — недоумевали все.
— А что уставились! Вот новокрещённый, — кивнул он в сторону Гласивца, — Он вам и расскажет, что завтра в полдвенадцатого по Пражским курантам у Каролина ждите меня на лекции профессора по чешской литературе Мартина Колижишка Пельцла, а так ничего особенного, да и радостного тоже.
— А высокочтимый пан ничего не упустил?
— Мои уста сомкнуты обещанием. Скоро сами всё узнаете. Ну наконец-то наша сладкая Каченька принесла нам горького!

V. Герцогиня
В Находе сильно удивились.
В один и тот же миг прибежали запылённой дорогой двое посыльных в красных куртках, а за ними в тихий городок двигалась карета, запряжённая прекрасной шестёркой лошадей. За этой втрое запряжённой каретой ехало много других, пассажирских и грузовых, и все они битком забитые направлялись к замку.
Радушные хозяева, сразу видно.
Горожане не жаловались, даже радовались той бьющей ключом жизни всего герцогского имения до самого замка хозяина, что правил этим городом, у которого всем жилось радостно и в достатке. Так годами и проживали тут хозяева, даже не выезжали ни на воды, ни в гости к другим дворянам. Напрочь отсутствовала у Петра, герцога Куронского и Заганьского привычка скупиться на деньги. Приехав в 1795 году из России, Куронский получил пятьдесят тысяч дукатов, ежегодно принимая доход в восемьдесят тысяч рублей, а приданое жены составляло четыреста тысяч. Надо заметить, что его поместье было самым знатным в округе, и он полностью содержал всех придворных и кавалерию.
Комнаты для герцога и его супруги, а также их дочерей и всех придворных подготовили довольно быстро, нижний этаж и внутренний двор занимала прислуга и певцы, а на конюшне было полным-полно прекрасных чистокровных лошадей для разных карет и повозок.
Шёл третий день, как Петр Куронский вернулся в родной замок.
Его супруга, Анна Каролина Дорота, урожденная графиня фон Медем, намеревалась расположить в спальне своё великолепное ложе с не менее великолепными занавесками. Было около одиннадцати дня. Подкрепившись перед кофе чашкой шоколада она переоделась в утреннее платье, пока две служанки застилали постель. Потом уселась перед зеркалом на изящном резном столике, прикрытого как колыбелька муслиновой вуалью слегка напоминавшим алтарь. На столике было полно всяких украшений, склянок, помад, благовоний, накладных мушек, румян и белил, ленточек, бантиков, иголок и булавок.
Анна Каролина была третьей женой пана Куронского и намного моложе него. К своим сорока годам у неё уже были четыре дочери, трое уже взрослых. Она всё ещё оставалась хороша собой и держалась кокетливо, мечтая всегда быть красивой и желанной. Потому и когда выглядела неважно, закрывалась и сказывалась больной. Она была высокой и стройной, слегка пышноватой. На лице её ещё с девичьих лет читались строгость и надменность. Теперь. облачившись в утреннее платье, она сидела за туалетным столиком. В это время принесли на вышитой подушке её любимого белого пуделя, которого она, погладив несколько раз, позволила положить возле себя. Одна из горничных убирала её волосы, другая принесла платье — все ждали указаний на сегодня.
Герцогиня, казалось, сегодня не была в добром расположении духа. Холодно отвергла принесённое платье, не сказав горничной не единого доброго слова.
Также отвергла и принесённый чепец, потому что огорчилась тем, что в этом старом замке не дают представлений и нет отдельной туалетной комнаты.
Платье на сегодня она выбрала себе сама. Белый пудель заворчал и залаял. В комнату вошли три девушки, свежие барышни, прекрасного роста, — её дочери, которых она в этт час всегда принимала у себя. Старшая из них Катержина Бедржише восемнадцати лет, которую все домашние звали Китти, вторая Мария Паулина и самая младшая барышня шестнадцати лет Йоганна. Они были в светлых голубых платьях, искуссно вышитых и красиво облегающих стройные фигуры. Юные головки покрывали изящные шляпки с драгоценными перьями.
Едва они кротко и застенчиво вступили они в комнату, их тут же смерил строгий и внимательный взгляд матери.
— Китти, не сутулься! И не держи так руки! Йоганна, спокойнее, что тебя так удивляет? А ты, Мари, следи за собой. Так вульгарно выглядишь. Зачем столько красного?
Так она приветствовала каждую из дочерей, подходившую поцеловать ей руку.
— Сегодня день выезда. Поедете со мной.
Йоганна восприняла эту новость радостнее всех:
— Ах, мы проедем в тот прекрасный лес, и на луг и очень быстро!
— Значит, наряды уместны? — спросила Катержина.
— Вполне.
— Мама, как там хорошо поют, — продолжала Йоганна. Эта юная головка очевидно была склонна ко всему музыкальному.
— Вот как?
— Пан Арнольди замечательно обучает, и сам хорошо поёт, просто заслушаться можно, — отвечала Мария.
— Что ж, поедем. Китти, ты выучила танцевальные уроки? Как только приедем ко двору, будешь там всем представлена. Хорошо подготовилась?
— Пан Арнольди — прекрасный танцор, — живо ответила Йоганка.
— Танцы не такие как у Гарделя но не забывайте про поклоны.
— Учим, — кивнула Катержина.
— Нужно заниматься. Это важные движения, требующие усердия. Чтобы не подпирать стену, как та пани из Пюисьё, когда меня представляли в Париже. Щекотливый момент. Можно на всю жизнь зарекомендовать себя либо смешной, либо несчастной. Итак, упражнялись?
— Да.
— Может, и королева милостиво позволит тебе к ней подойти. Теперь шагай обратно, удаляйся. И следи, чтобы не задеть шлейф, надо стараться пройти между поклонами, стараясь не наступить на шлейф. Это нелегко. Упражнений потребуется много. Старайся.
— Стараюсь постоянно.
— Скажите, а если шлейф резко убрать, чтобы никто не заметил, и тогда…
Квтержина стояла перед матушкой, а та сидела как королева на троне, готовая передать бразды правления. Сделав глубокий поклон, приподняла шлейф, сделав при этом шаг над и… тут герцогиня громко рассмеялась, а за ней и Йоганка.
— Ну, точно, как та пани Пюисьё! «Смотрите, какие пани Пюисьё выделывала номера!» — шептали вокруг, вот и у тебя также. Давай ещё раз!
И герцогиня вновь и вновь давала указания, как дочерям правильно себя вести. Йоганна и Мария поглядывали на двери. Катержина послушно исполняла матушкины указания.
— Уже лучше. Но лишние упражнения не помещают, — и герцогиня успокоилась, что её инструкции так исправно выполняют, — Ну что смеётесь, чудачки! Как же без этого обойтись.
И матушка герцогиня кивнула дочерям, которые стали ступать заметно увереннее, чем прежде.
В холле эхом отдавался преждевременный радостный смех Йоганки, скакавшей как козочка. Но опомнившись, она умолкла и покраснела. Прямо перед ней стоял молодой парень, незадолго до них прошедший в холл. Заметив барышень, он уступил им дорогу и галантно поклонился. Барышни ушли.
Молодой человек, дождавшись своего представления герцогине, вошёл в её комнату и низко ей поклонился. Он представлялся галантно, как и положено, хотя и очень робко и неуверенно. Замыкался как человек, приехавший в высшее общество или город хорошо осведомлённым и со своими убеждениями. Взгляд пани из высшего общества надолго задержался на стройном прекрасно сложенном юноше, выказывая явное расположение.
— С чем пожаловали Арнольди? — спросила она по-французски. А с её лица вмиг слетела вся ледяная холодность.
— Пришёл просить о милостивом назначении для себя.
Та засмеялась.
— Намереваетесь принять участие в пьесах и представлениях. Что за новость?
— Позволил себе узнать, что репетиции идут неплохо. Все стремятся найти себе достойнейших меценатов.
— А хор?
— В хоре Вашей Милости лучшие певцы и певицы из города.
— Соответствующие требованиям мастеров? Чехия очень сильна своей музыкой. Ничто не сравниться с этой музыкой, а в пение нам бы кое-чему поучиться, но это уже на усмотрение Вашей Милости.
— Как находите наши края? Вам нравиться здесь?
— На первый взгляд вполне приятно, надеюсь здесь мне будет спокойно и радостно, надеюсь и к радости тех, кому собираюсь послужить.
— Какой у вас репертуар?
— Сначала «Дон Жуан», потом «Деревенский прорицатель»
— Прекрасный выбор для сельской местности.
— Если Ваша милость соизволит, я и далее буду руководить этим. Надеюсь здесь в тиши поместья поставить многое, только лучше обойтись без овец в пасторалях; нет живым овцам не место на сцене.
— Овец? О чём Вы? Даже смешно!
— Так пани из Мариньи устроила.
— О, расскажите!
— Пани из Мариньи стремилась к оригинальности и именно оригинальностью хотела удивить своих гостей. Она собрала у себя в замке почтенное общество. В центре большого зала, украшенного зеркалами от паркета до потолка, разместили сцену с декорациями сельской местности. И вот началась пастораль. За пастушкой бежало стадо украшенных лентами белых овечек. Главный барашек, особо обученный, добрый и кроткий был удивлён. Музыка, множество гостей, притом почётных, это всё было в диковинку, через миг он метнулся то туда, то сюда и тут же соскочил со сцены прямо на зрителей, а за ним и всё стадо. Их задерживали и разгоняли, но это ещё больше перепугало и без того напуганный скот. Носились из стороны в сторону, искали места, собирались в кучу, подбегали к зеркалам, пугая господ и дам и в конце концов, собравшись на лестнице, принялись громко блеять. И зал переполнился разбитыми зеркалами, осколками и ворохом бальных костюмов.
Герцогиня рассмеялась, едва услышав эту историю от Арнольди. Потом просто хохотала.
— Вот так история! С кем, говорите, она произошла?
— С пани из Мариньи.
— Полагаю, в таком случае в сельских сценах лучше совсем обойтись без живых овец.
— А Вы как решили?
— Пока ничего особенного, Ваша милость, но надеюсь устроить великолепные сельские забавы.
— Попробуйте, мне нравятся подобные пьесы.
Арнольди низко поклонился.
— Заходите завтра, поведать как идут дела, — и она протянула ему свою руку.
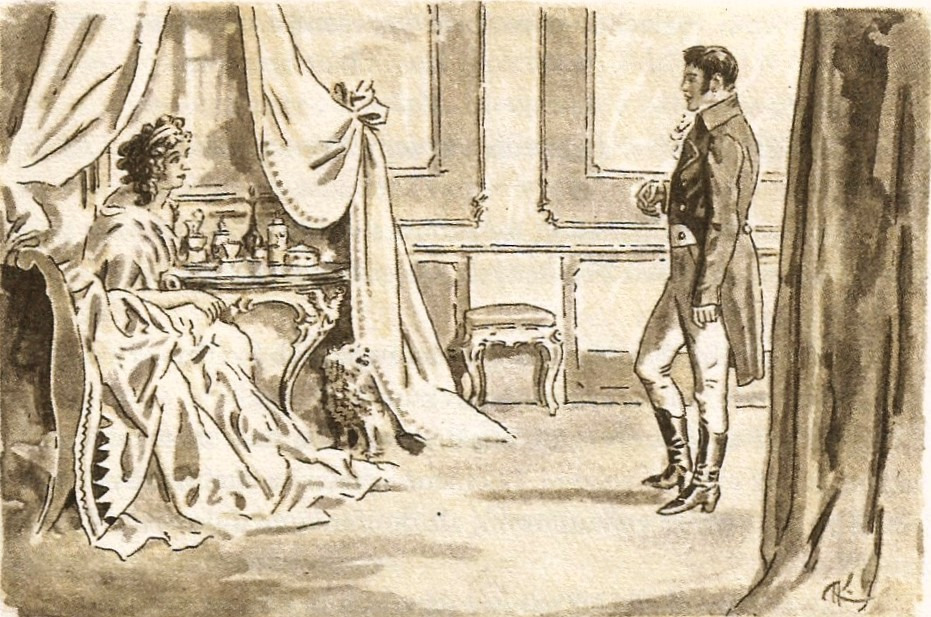
Этот жест взволновал и удивил Арнольда. И он учтиво склонился к этой белой полной правой руке и поцеловал её. Ему впервые оказывали такую честь.
А герцогиня, отвернувшись, задумалась. Мысленно унеслась в дубраву, и слышала там прекрасный мужской голос, поющий дивную песню, и из чащи на поляну вышел молодой пастушок. Белая сорочка подпоясана красным, полные ноги обтянуты чулками. Из-под украшенной лентами шляпы выбивали густые тёмные локоны, а глаза на нежном личике искрились — и прекрасным пастушком был Арнольди.
Очнувшись, она приняла свой прежний вид.
На улице уже с нетерпением била копытцем прекрасная белая лошадь, помахивая длинной гривой, заплетённой в косички.
Герцогиня уже собиралась выходить, когда управляющий её хозяйством Врана, он уже дважды просил под окном. Та холодно дозволила войти, и управляющий, пожилой, высокий, суховатый пан вошёл.
Он сегодня облачился в лучшее, на груди медали за былые офицерские заслуги, а узкие рукава подчёркивали белоснежные манжеты. Лицо горело преданностью. Едва он произнёс несколько уважительных слов, как герцогиня его остановила:
— Благодарю Вас. Недавно поступили сюда?
— Восемь месяцев назад, Ваша милость.
— Я слышала о каких-то волнениям в этой местности. Год назад прямо сельская революция вспыхнула.
— Так и есть, Ваша Милость. Коварный народ. Тюрьмы никогда не пустовали.
— Следите за всеми строже.
Управляющий, низко поклонился и вышел.
В холле он столкнулся с группой горожан, пришедших с прошением к герцогине.
Их она тоже приняла. И лицо её из гордого стало строгим и холодным.
Бургомистр Земан и трое других горожан застенчиво стояли перед строгой герцогиней. Но когда через миг вышли, направились к воротам, и теперь, выдохнув, остановились. Горожане переглянулись, бургомистр вытер лоб голубым платком. Лицо его всё ещё пылало. Остальные оглянулись.
А герцогиня уже восседала на своей белой кобыле, за ней следом на прекрасных лошадях ехали её дочери-барышни.
Горожане не смогли вымолвить ни слова от беспокойства.
— Как быстро она от нас отделалась, — заметил один из ратманов, — Так не терпелось выехать!
— Смотрите, смотрите, как принцесса Йоганка сидит на коне! Он так ей послушен, девушка прямо создана для гарцевания.
— Ей всё удаётся, кроме правления. Зато Катержина — вылитая мать.
— Вчера Йоганка спасла ребёнка ключницы и дала ей серебряную монету. Королева! — вскрикнул испуганно, — Ах! — и горожанин вздохнул.
— Как ловко коня сдержала в узде, смотрите, как славно, ей бы мальчишкой родиться.
— Герцог бы за это половину своего имения отдал.
Умолкнув, наблюдали он за герцогиней с двумя дочерьми в сопровождении двух слуг, уносящимися вдаль к другому подворью. Когда и его миновали, подъехали к замку, быстро свернули на дорогу, с которой слышалось по-чешски: «Ваша милость!» Дамы заметили плохо одетого человека, и ещё одного крестьянина, волочившегося за панским холопом. Холоп покорно приветствовал, крестьянин поплёлся дальше, но от взглядов высшего общества не скрылся и криком своим их не обеспокоил.

Лицо пани герцогини помрачнело, а её дочери были удивлены. Лишь Йоганка повернула коня, чтобы выслушать бедного крестьянина, но строгий взгляд матери остановил её:
— Народ коварен и склонен к притворству. Не стоит давать волю чувствам, — пояснила герцогиня дочерям по-французски.
И они выехали на длинную аллею. День был ясный. Высокие косматые липы по обеим сторонам дороги начинали цвести. Их пышные арки отливали золотом в солнечных лучах. Рысью обходили они на своих лошадях вправо и влево прелестную сельскую местность с изредка белеющими стволами деревьев. В выси сияла ясная синь, а вокруг них простирался тёплый светлый густой лес.
Строгость исчезла с лица герцогини, и Йоганка вмиг забыла про крестьянского холопа и переживала лишь о том, что нельзя было пустить коня в галоп. Они ехали, исчезая в обольстительном сумраке тенистых деревьев.
На аллее стихло.
А в это время по лестнице замка поднимались горожане, пришедшие в герцогство. Но далеко не дошли и остановились. Снизу их громко окликнул учитель пан Подгайский, догнав их, он еле перевёл дух,
— Солнышко и нас согрело, пане соседи! Слава Богу! — и вытерев лоб голубым платком, открыл табакерку и протянул её прочим, — Доброго здоровья! Хотели тогда Вас принять. Но уже битый час бегаю с этим вопросом. Жаль, наверху опасно и лестница в холл уже не ведёт.
— А куда же, пан учитель?
— И про меня вспомнили из-за музыки. В этом году поставим оперу. Недавно только оркестром дирижировал, и вот опять обо мне вспомнили. В этом году будет много всего нового. Ко мне прислали кого-то, говорят, итальянца, тоже прекрасного певца.
— Ах, это Арнольди, — заметил Земан, — Правда, говорят, что при всём этом, он ещё и бывший заключённый. Весьма ловкий паренёк.
— Всем этим весьма заинтересована пани герцогиня, а у неё полномочий больше, чем у герцога.
— Да, итальянец недурён собой, — усмехнулся Суханек.
— И это главное. А герцога пока не заметно. Ещё не прибыл.
— Маленько прихворнул. Но это ненадолго. Это как после простуды, опять будет свежим и бодрым. Все у нас ему добра желают.
— Только в этом году.
Соседи всё ещё стояли стеной. Теперь на них упал солнечный луч.
— Вот и солнышко меня благословляет. С Богом!
— Славно управили, — кивнули ему горожане, наблюдая как учитель поднимается по лестнице, прошёл за ворота и очутился у часовни замка.
Подгайский, спросил горничную, заставил одного из лакеев побегать, чтобы разузнать, где живёт Арнольди. Тот, не дослушав, указал рукой вперёд:
— Иди туда!
По лестнице спускался Арнольди, искусно облачённый, неся изящно украшенную книжку в красном переплёте. Он бросил мимолётный взгляд на учителя, хотел пройти, но тот заставил итальянского певца ему представиться. Арнольди отвечал по-чешски, но было заметно, что с трудом. Он говорил спокойно, запинаясь, будто подавленно:
— Я искал Вас, пан учитель. Хотел объявить, что скоро прибудет герцог, и хотел просить помощи в постановке опер.
— Вот же милость герцога!
— Но в хоре певцов недостаточно, где бы ещё взять. Вы должны знать…
— Приведу моего помощника, да и моя дочь неплохо поёт.
— Хорошо, ладно. Тогда сегодня в четвёртом часу. А лучше в четыре. До свидания, пан учитель!
Легонько поклонившись, он заторопился в сторону, где были покои дочерей герцога.
Подгайский ещё с миг проследил за Арнольди, пока не услышал городской звон и повернул к дому.
«Совсем мальчишка, а уже так держится! Видать, не из простых! Ну да, каждому своё! — размышлял учитель, — Столько всего знает, а ведь такой ещё зелёный… но… но…» — и он покрутил головой, будто о чём-то вспоминая, но никак не мог вспомнить, о чём. Заложив руки за спину, повесив голову и так в размышлениях и добрёл до дома, где его уже ждала драгоценная супруга с горячим супом к обеду.
В третьем подворье Арнольди встретил управляющего Врану. Врана не хотел его пускать, но Арнольди заставил. Управляющему это было в диковинку. Какой-то певец. Местный комедиант, а позволяет себе… Но с уважением отнёсся к итальянцу первым делом за оперы, к тому же, это очевидно, уже заслужил милость всемогущей герцогини. Потом пояснил свой утомлённый вид:
— Видите ли, пан управляющий, ещё не все меня знают. По-моему, мы виделись ещё в Праге…
Брови управляющего устремились ввысь, а лицо наморщилось сильнее.
— Думаете, встречались? Может, кто-то просто с кем-то похожим на меня? Может. Но что до Вас, «пан управляющий», у «Голубого зайца» во время «Реквиема», мог бы поклясться, что это быди именно Вы.
— Не понимаю, как…
— А как же та драка на Мёртвой улочке?
Брови управляющего снова поднялись, но тут же распрямились, потому что взгляд его явно приготовился улыбнуться. И он подал Арнольди руку.
— Ай-ай, вот же память у человека!
Кто-то похожий на меня такое вытворил! Ну что, итальянец, добро пожаловать в замок! Но и солнце на месте не стоит. Следуйте за мною! Обедать со всеми вместе в полдень будете, такова уж моя военная привычка!
Арнольди поблагодарил и уяснил для себя, что ранее с управляющим не виделся. Расстались добрыми друзьями.
Нахмурившись, он отправился в своё жилище. Временами его брови поднимались, а глаза горели. Покой его был всячески нарушен.
Но по здравом размышлении, он всё же успокоился и вышел на улицу, прошёлся до цветущих лип. Был тихий полдень. Солнце стояло высоко, как будто задержавшись над лесом. И даже ветерок не касался косматых лип, тень от них мягко ложилась на прогретую землю. И юный певец шёл дальше и дальше. О книге и не думал, наблюдая прекрасную цветущую деревенскую глушь. Размышлял о важных вещах, предполагал будущие дела. Счастье улыбнулось ему, и было бы грехом, если бы он упустил момент. С аллеи свернул в пролесок, в котором со время своего короткого пребывания в Находе облюбовал уютное местечко.
На краю лужайки, поросшей леском между двумя старыми берёзами был приятный прохладный тенёк. Усевшись под одной из них, он прислонил голову к её белому стволу. Книга и шляпа лежали на траве. Позади Арнольда простирался тёмный лес, от которого также тянуло приятной прохладой. Над лужайкой в ясном голубом небе белели облака. Прохладно и тихо. Арнольди залюбовался высью, когда над ним вольно колыхались ветви, длинные и тугие, как волосы юной красавицы, они что-то шептали ему тихонько, будто пели колыбельную всё тише и тише, как будто убаюкивая его.
Глаза его сами собой слиплись, и Арнольди уснул, погрузившись в дрёму.

Так незаметно и сладко уснул. Но там, справа, краем уха слышал, зашуршали стропила, чуть глянул — и снова глаза закрыл. Дыхание стало спокойным и ровным. Так и уснул.
В траве и цветах едва слышны были шаги. Поодаль от него стояла герцогиня. Изумление и умиление читались в её взгляде. Она засмотрелась на юного красавца. Прекрасное лицо, стройное тело, полное здоровой жизненной силы.
Прикоснувшись к своей груди, на которой алел свежесобранный букет маков, она взяла один из цветков, что выпал из её руки и уронила алой медалью прямо на белоснежную грудь юного красавца.
Она быстро ушла прочь. Арнольди открыл глаза. Присмотрелся вдаль, на ясную зелень и белые облака над крышами, засмотрелся как впервые, да, это всё герцогство!
Подобрав упавший красный мак, залюбовался на него, потом вложил его в книгу и усмехнулся.
Кажется, он был прав.
Дикий мак! Дикий алый цветок! Вспыхнула ли она или осталась дикой? Герцог — старик. А она ещё вполне себе, но всё же герцогиня. Он снова оперся головой на ствол и продолжал думать. У певца, комедианта есть тайный поклонник и поклонница… И ему представилось недурная будущность — встать во главе всего герцогского хозяйства — богатым могучим человеком.
Недалеко послышался зов. Свежий, звонкий голос. Он обернулся на него. На лужайку выбежала стройная девушка, подбирая подол платья наездницы.
— Китти! Мария! Я за ромашками! — крикнула, но никто не отозвался. И она побежала, волоча шлейф туда, где ярко белело, да так и остановилась. Принцесса Йоганка, едва набрав букет ромашек, заметила Арнольди. И без того румяное личико зарделось сильнее. Большие живые глаза засмотрелись на улыбающееся лицо уснувшего Арнольди.
Она быстро бросила на его грудь букет ромашек и дикой козочкой умчалась прочь к лесу направо.
Арнольди сразу пробудился и опять осмотрелся. Ещё был слышен шелест ветвей и голоса вдали. Герцогиня с принцессами уходили прочь. Он взял белые цветы и залюбовался на них.
Принцесса! Сама чиста как белый цветок!
И сердце его захлестнуло от нежности.
Это прекрасное дитя способно любить — вот первая мысль, что у него сразу возникла…
И тут же взгляд упал на дикий мак. Яркий, как пламя.
Спрятал книгу в карман, и хотя ничего не сделал, был спокоен. Когда шёл краем леса заметил далеко на аллее госпожу с дочерьми на лошадях, подъезжающих к замку. И пошёл тем же путём.
Сквозь порванный его сюртук просвечивал кроваво-красный мак, а в руке белел букет ромашек.
VI. Репетиция
В тот же день, когда солнце подошло к горам, Антонин Гласивец свернул тропинкой к берегу реки Упыведущей наверх к Находу. Доходящие до колен его пальто спереди распахивалось на ветру.
Небо было ясным, а воздух свежим и сладким от аромата мелколистого чабреца в буйных зарослях. Красный мак и скошенные колокольчики среди сжатой ржи, колыхались от ветра как волны.

Справа перед молодым путником открывалась череда белеющих хижин, за ними излучина реки, за которой волновалась нива, за ней — пролесок, за которым простиралась долина, обрамлённая снизу лесом, а сверху — цепью голубых гор.
Мысли Гласивца прояснялись.
Добрая надежда, которую он лелеял, заставила его сократить утомительный путь из Праги даже до этой глуши, он был окутан собственными пленительными помыслами. Ведь в конце концов они с Элишкой будут вместе!
Ранее из рассказов Вогнаровой он понял, что дядюшка Элишки служил управляющим в Находе. И едва услышав о месте в Находе, он не раздумывая согласился, лишь бы оказаться там, где Элишка с её дядюшкой. Жаль только перед отъездом из Праги он не дождался ответа на своё письмо.
Он и не надеялся так быстро увидеться с милой, и эта неуверенность всё росла. Но завтра он будет заниматься тем, на что уповал, завтра по воле случая у него будет место, о котором он давно мечтал и на которое возлагал упования. Завтра он вступит на путь спокойной, счастливой жизни, по которой вполне может пойти вместе с Элишкой.
Он с признательностью вспоминал профессора Пельцла. С тем своевременным назначением, когда патер Зелены многократно «У короны» приходил, у Каролина встречался. Он был очень был удивлён неожиданной новостью. Профессор поведал ему, что герцогу Куронскому и Заганьскому, хозяину имения в Находе до самого предгорья, о котором шла речь, требуется молодой человек, способный выполнять обязанности секретаря и управляющего. Ни один из кандидатов не мог хорошо владеть французским и немецким, а герцогу также требовался и говорящий по-чешски. Пельцл охотно помог герцогу, вспомнив про Гласивца, которого порекомендовал как достойного кандидата и стойкого патриота.
Патер Зелены благословил на труды. Пельцл изложил суть дел Антонину, принявшему благую весть всем благородством души. Место было отдалённым и таким прекрасным, что и слов не было. Его привлекало будущее, где требовались все его способности, даже если и придётся стать «погонщиком хозяйских подчинённых». А о самом герцоге он слышал много приятного, о его справедливости и милосердии, и конечно же радовался тому, что может быть поближе к Элишке.
Когда он с радостью согласился и сказал об этом Пельцу, не мог дождаться дня, когда предстанет перед герцогом.
Гласивец пребывал теперь в блаженной надежде и радости, довершённой ещё и письмом Элишки из деревни. Его удивило, что письмо было написано сразу по приезде в деревню, но очень долго шло к нему. Но в нём была новость от Элишки.
Её послание было переполнено сердечной искренностью.
Так, получив назначение от Пельцла и узнав, что герцог Куронский ранее задумал уехать в это своё имение, где в целом ничего не изменилось, разве что стоит оговорить положение на с Кладских границах.
Пельцл пояснил радостному Гласивцу, что тот может запросто направляться туда сам — не заблудится. Так и получилось.
Поблагодарив за честь, он отдал поручения высшему учёному совету, собравшемуся в тот вечер в «Чешской короне». там как раз собрались в тот вечер всего друзья патриоты.
На другой день Антонин съездил в Градчаны и, благословившись у пани Вогнаровой и на могиле своей матери, отправился из Праги в путь.
Край расцветал с приближением к нему. Солнышко припекало, а лесной ветерок прохлаждал. И Гласивец непроизвольно запел. А ведь ещё недавно чуть не отчаивался.
— Браво, браво! Только слов не понимаю, — послышалось из-за косматой липы, и навстречу вышел, оправляясь высокий, степенный, важный человек, из-под шляпы которого виднелась седая косичка. Лицо его раскраснелось, а живые глаза искрились радостью. Явно опытный по возрасту, но бодрый и свежий. Одет был просто и довольно старомодно.
Гласивец с улыбкой приветствовал его, приняв за сельского доктора.
— Красивый напев и хорошо поёте! Это ведь по-чешски?
— Народная песня к Вашим услугам.
— Да, простой народ достойно слагает! Заслушаться можно, будто в тени в жаркий день в холодную речку окунуться. Впервые в этих краях?
— Да, только что прибыл.
— А пение Ваше достойно похвалы! А главное, за историческую память. Смотрите, вон там хатки, видите?.. — и он указал на череду белеющих впереди хижин.
— Вижу.
— В Галузинедвадцать один год назад несколько дней гостил знаменитый мастер вальсов Фридрих Великий, когда вёл войска против императора Йозефа.
— Благодарю Вас! Да, великий был человек этот Фридрих Великий! — улыбнулся Гласивец, — Нынче тот дом и местность увековечены, ведь не понять местным жителям тех злоключений и слёз, но человек по истине великий…
— Смотрите, какой талант! — улыбнулся незнакомец, — Запросто мог и героические подвиги вершить и вальсы сочинять!
— Да, но весть восторг пропадает, как понимаешь, сколько бедствий народу принёс…
Незнакомец удивлённо улыбнулся:
— Однако для Крамольни достаточно в этакой деревенской глуши, прямо демократические речи! Редкий у нас гость, не иначе французским ветром занесло!
— Вы меня прямо за какого-то революционера принимаете! Полагаете, что народ…
— Народ, народ… — прервал речь Антонина незнакомец, — Что за модная фраза! Простите, но я не признаю понятие «народ», как таковое. Будучи лекарем из того города, никогда не имел там врагов. Я живу с народом, и потому меня очень огорчает поверхностное суждение о нём, будь то письменно или устно. Я — теоретик, — тут он резко взглянул на Гласивца, — Пишу о благе простого народа, ничего практически не зная, чем он жив. Есть прекрасная теория о правах простого народа, но реальный вклад в дело лучше декламации.
— Не возражаю, пан, но это не так занимает меня в первую очередь, стоит посмотреть хоть куда-нибудь. Не думаю, что наш народ, чешский народ…
Лицо незнакомца сначала нахмурилось, потом прояснилось:
— Наш народ? А что Вы для него делаете?
— Если Вы осведомлены его жизнью, то и проблемы знаете.
— Ладно, я всё же не из дворян и с народом дружу, — улыбнулся доктор, — И знаю, что здесь народу спокойнее.
— Скоро везде так будет.
— Здешнее дворянство — счастливое исключение.
— О, герцога Куронского всюду хвалят! Даже до Праги слухи дошли.
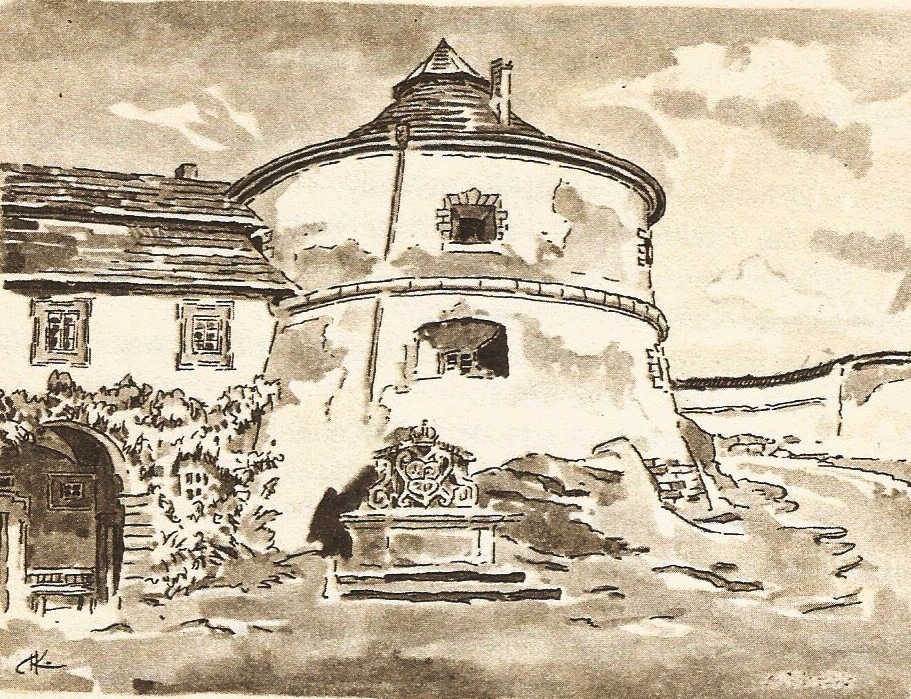
— А Вы из Праги пожаловали? Хозяева недавно оттуда вернулись. Вы познакомились с герцогом в Праге?
— Лично не знаком, меня рекомендовал его друг профессор Пельцл.
— Ах, Пельцл! Да, герцог благоволит учёным.
— И народу. Обедал сегодня в деревенской гостинице и разговорился с некоторыми местными жителями. Они своего пана любят и с теплом о нём отзываются, как о щедром хозяине, но жалеют…
— Ещё и жалеют?
— Да, что управляющий к нему не пускает, ссылаясь, что сам герцог так приказал. А ещё жалеют, что герцог не понимает по-чешски и общается только на немецком.
— В этом много правды, но не забывайте, что простой народ совсем не таков, каким видится.
Не успокоиться, пока всюду всё по-своему не сделает. Неуправляемый, коварный, а если и покорный, то притворно, с выгодой для себя…
— Баламутов всюду хватает, но в целом народ добродушен. И предоставлен сам себе, в целом угнетёт, а тут есть послабления, кое-что разрешено. И так было бы всюду, коли свободу бы дали.
— Полагаете?
— Народ вообще любит жаловаться и сожалеть о подневольном труде. Не будь этого, приободрился бы и радел о другом, а не о той глыбе, которую теперь…
— Полагаете, народ не озабочен ничем более высоким и не способен на большее?
— Не будь той глыбы, не сомневался бы ни минуты. Вот творит, например, прекрасно. А всё сразу не бывает. Если бы удалось преодолеть страхи этой толпы, тогда хозяевам бы удалось положить доброе начало без бунтов и революций.
— Ох, пан, этого скоро не обсудить. Мне свою службу назначили — и солнце к горам приклоняется. Вы же в Наход, да?
— Да, прямо в замок.
— К Мерзавцу из Курляндии? — насмешливо спросил доктор.
От удивления Гласивец не знал, что ответить. К чему это?
— Прошу прощения, к Бирону из Курляндии, — важно исправился он.
И старый балагур расхохотался:
— Ой, Вам не известна вся эта история? Тогда стоит Вам пояснить про ту хижину Фридриха. Когда герцог Бирон приобрёл здесь имение, первым приехал сам, придав всему какой только возможно великолепный вид. На украшенных ленточками лошадях съехались навстречу крестьяне со всего имения и завидев хозяина, звонко приветствовали: «Hoch Kujon von Kurland!»
Так управляющий велел, узнав про Бирона из Курляндии, а те перепутали со старым немецким словом, — им доктор опять громко захохотал.
— Хотел бы я в этот момент увидеть пана управляющего! — засмеялся Гласивец, — Смешная история! Но народ в целом не знает немецкого, так что случайное имя для него ничего не значило.
— Да и ни к чему ему немецкий знать, — усмехнулся доктор, — Герцог и сам от души посмеялся тогда. Надолго в замок?
— Надеюсь, что да.
— Найду Вас там. Сейчас нужно туда, — он указал на дом, — Там больной. Желаю успешной беседы!
Ответив вежливостью на вежливость, Гласивец зашагал дальше. Оглянувшись, он уже не видел пожилого доктора. Тот затерялся в толпе.
Гласивец долго ещё размышлял об этом пожилом человеке. Пока не дошёл до места своего назначения.
Остановился в удивленьи. Перед ним на небольшом расстоянии вырос большой замок в лучах розового заката. Тот гордо тянулся ввысь среди долины над разбегающимися по ней постройками, а в ясном небе отчётливо выделялась высокая округлая башня с галереей и куполом. Под строгой строгой замка в долине простирался город, который видел Антонин, настоящее цветущее горное поселение. Помедгуйская долина простиралась вдаль, а над ней вверх за макушками леса тянулись могучие вершины Кладских гор, теперь зардевшееся от заходящего солнца. Невольно сняв шляпу со вспотевшего лба, он оперся сложенными руками на трость, засмотревшись на замок и долину.
Здесь Элишка, здесь он может обрести свой дом, если всё сложиться, как задумал. Что ещё ждать?
***
Герцог Куронский любил театр, особенно комедии. Также он очень любил и музыку, как и герцогиня, которая в основном предпочитала оперу.
Замок в Находе построил герцог Петр вместе с воротами и удобным театром. Напротив сцены сияла прекрасная ложа, на которой блестел вырезанный герб герцога Куронского.
А справа и слева располагались две ложи поменьше, и та, что справа, была увешана богатыми занавесями — это была ложа герцогини. Не бывало лучших спектаклей, когда та появлялась рядом в ложе со своим супругом.
Она приходила сюда, не сказав никому, никем не замеченная, никого не побеспокоившая.
Изредка брала кого-то с собой. Временами она заходила на репетиции, наблюдая в щель между занавесками происходящее на сцене.
Сумрак царил в ложах, пустовал и зрительный зал. Но на сцене и в оркестре было оживлённо. Шум разнообразных голосов, репетирующих каждый свою партию, позвякивание скрипичных струн, настраиваемых музыкантами, на все лады звенящие басы и всюду девичий смех — всё сбивалось в запутанный клубок из созвучий. Во главе оркестра перед пюпитром стоял регент Подгайский. Сжимая в левой руке голубой платок, в правой перебирал между большим и указательным пальцами душистые чётки, к которым время от времени прикладывался. Временами вытягивал шею, поглядывая вверх на подмостки, где были выстроены певцы и певицы. В основном сыновья и дочери местных горожан, вызвавшиеся сами, тем более за их порыв герцог довольно щедро заплатил.
— Йозефек! — позвал Подгайский, — На пару слов!
Из хора вышел тенор и помощник пана учителя Йозеф Коржинек, как называл его Подгайский — Йозефек, да и вся семья величала «паном Йозефеком». Этот был тот самый парень, которого перед мессой трёх королей угораздило неудачно упасть и тем самым подвести своего учителя. Тот был худым и слабым, внешне отличался только острым носом. Но весь облик помощника учителя излучал смирение и милосердие.
А потому быстро выбежал на зов учителя и встал на ступенях подмостков, направляясь в уголок.
— Надо ещё Марженке напомнить, чтобы была повнимательнее.
Йозефек охотно кивнул и снова отбежал вверх.
Учитель зажал нос большим и указательным пальцами, забив его табаком. Его внимание привлёк капельмейстер герцога, с которым тот заговорил.
Йозефек в тени кулис чувствовал себя виноватым вплоть до поднятия занавеса, где собрался девичий хор. Марженка Подгайска стояла с двумя подружками в сторонке, у самых кулис. Предметом их разговора был первый тенор, девушки только и говорили о нём, как о лучшем актёре, и многие их них без конца твердили, что красивее парня за всю жизнь не видали.
Йозефек подошёл к девушкам и сказал важно:
— Панна Марженка, мне нужно Вам кое-что поведать.
— Слушаю Вас, пан Йозефек.
Девчата прыснули от смеха.
— Такого ещё не бывало! Вы только полюбуйтесь! Перед нами пан Йозефек, и этим всё сказано! Тут явно какой-то секрет.
Йозефек вспылил:
— Я с просьбой от её папеньки!
— Ну что, слышали? — улыбнулась Марженка и отступила за кулису, чтобы помощник шепнул ей наставления. И кивнула ему.
— Ничего не забыла.
Шум на сцене усилился, доски подмостков и ступеней заскрипели от обилия шагов.
Марженка тут же выбежала на сцену. Справа подошли две солистки и четыре певца, одним из которых был Арнольди.
Все взгляды, особенно девичьи были прикованы к юному красавцу, тот всех вежливо приветствовал. Помощник учителя заметил, как Марженка смотрит на этого незнакомца, и, конечно, заметил, как смотрели на него все остальные. И это его задело. Свет что ли на нём клином сошёлся? Так, едва заслышав о нём, сразу выскочила, прямо глаз отвести не может! Задетый этим, он отошёл к тенорам.
Капельдинер, постукивая палочкой, каждому указал на его место.
Музыканты закончили настраивать инструменты, певцы скрылись за кулисами. Группа Йозефека была слева, справа стояли певицы, и среди них Марженка, «И почему направо? Почему там поставил?» — размышлял сам с собой Йозефек. Он не слышал, о чём говорили другие, ничего вообще не замещая, уставился направо, где стояла Марженка, а за ней этот Итальянец! Тут заиграл оркестр, полилась музыка, запели солисты и хор.
Вдруг палочка капельдинера застучала, и все разом затихли. Значит, произошла ошибка, и испорченный фрагмент надо повторить и долго учить, чтобы всё шло «как по маслу» по замечаниям пана учителя.
Когда он сегодня собирался на репетицию, позвал Марженку и пояснил:
— Девочка, будь внимательнее на репетиции! Недавно беседовал с этим итальянцем, и его образ не выходит у меня из головы. Конечно, я могу и ошибаться, но уж очень он походит на того… Бенду… — процедил имя доктор.
Жена учителя услышала это.
— Да что вам до этого? Главное, на глаза не попадаться. У меня уже его облик из головы вылетел, как и сам соловушка. Марженка, я уже и сама неоднократно пыталась узнать, что было в том свёртке, оставшемся после него в комнате.
Дочь согласилась.
На репетиции потом играл Подгайский, вдохновенно и пламенно, даже румянец на лице заиграл. Увлёкшись игрой, забыл обо всём. На сцену почти не смотрел, но едва зазвучало большое соло тенора, тут его и осенило. Оглянулся — итальянец!
Да и дочка учителя забыла о своей роли. Едва запел милый голос Арнольди, внимательно рассмотрела его, насколько это возможно было издали, и обнаружив сходство в росте, но Бенда был тогда с бородкой, и всё опустело, такой как из хлопковой нити, странно, но когда снова запел, забыла обо всех предостережениях, увлекшись им как и все прочие.
Арнольди пел так непринуждённо и прекрасно! Временами он поглядывал направо, на малую ложу. Там было темно, шторы будто порваны, но как только он запел свою главную арию, одна из штор дрогнула, и в щели блеснуло что-то стеклянное.
Капельдинер не постучал ни разу, лишь спокойно кивал головой, переворачивая листы партитуры и отбивая такт. Второе действие закончилось. Арнольди вышел в соседнюю избу, где герцогский слуга подавал закуски.
— Стакан вина! — попросил певец. Но едва успел поднести напиток к устам, как заприметил лакея, которого Её Милость пани герцогиня послала за Арнольди, чтобы тот зашёл в её ложу. Он тут же оставил стакан, и поторопился исполнить волю хозяйки. Его шаг замедлил богатый ковёр. Зайдя, он низко поклонился и встал у входа.
В таинственном сумраке было мило и уютно. Герцогиня прилегла на диванчик.
— Подойдите ближе, — мягко и вкрадчиво заговорила она, — Хочу высказать Вам своё мнение. Вы прекрасно спели эту арию. Я в восхищении!
Певец это понял сразу, но не подавая виду, снова низко поклонился.
— Я там немного ошибся, но Ваша Милость так великодушны к моему пению, и я постараюсь оправдать доверие и довести пение до совершенства.
Герцогиня произнесла ещё несколько советов о постановке каким-то неясным голосом.
И протянула ему руку. Будто переполненный её благодушием и милостью, он опустился на колено и прильнул устами к её пухлым розовым пальчикам.
— Что я вижу — дикий цветок? — улыбнулась она, будто только сейчас этот цветок заметила.
— Это мой талисман, Ваша Милость…
— От какой-нибудь принцессы подмостков?
— О, нет, от лесной русалки.
— Вот загадка, — улыбнулась она, испытующе глядя на него.
— Для меня самого загадка, Ваша Милость!
— Таинственная история. Поведаете?
— Сегодня в полдень задержался в лесу в тени больших берёз. И мне пригрезилось, будто меня посетила какая-то неведомая прекрасная богиня. Очарованный её прелестями, я упал на колени, в томлении протянув руки. И тут проснулся. На моей груди алел дикий мак. Вот и вся тайна, Ваша Милость. Кто мне его положил на грудь? Но в память о той прекрасной богине я ношу его как талисман. Мне и в самом деле кажется, что…
— Он уже завял.
— И увядший останется моим талисманом.
— Верю в Вашу загадку. Бывает в лесу заглядишься, да и встретишь какую-нибудь русалку, — улыбалась герцогиня.
На сцене справа зазвенел колокольчик, оглашая, что, перерыв миновал. Арнольди был свободен.
Герцогиня откинулась на мягкую обивку. Шторы не открывала. Всё думал. Спал ли он или заметил?
Улыбалась. Будь что будет! Какой ловкий!.. И красивый!..
В задумчивости она ушла в свою комнату.
«Вспыхнула как алый мак, так и вспыхнула!» — думал наедине с собой Арнольди, проходя на сцену. Он был весел и спокоен.
Почти в семь репетиция закончилась. Певцы и музыканты расходились. В подворье задержались на минутку Подгайский с капельдинером.
— Позвольте спросить, пан капельдинер, этот Арнольди и вправду итальянец?
— Может статься, так петь и играть его валлах научил. А на что Вам всё это?
— Да так… Он ведь и по-чешски понимает…
— Да, и вполне сносно. Давно уже в Чехии.
— А где он был раньше?
— У герцога он уже месяца два. А до этого был членом патриотического общества в Праге.
На том и расстались.
Йозефек стоял, подпирая дверь, из которой выходили хористки.
Марженка последовала за отцом, и Йозефек примкнул к ним. Пройдя через ворота, они свободно вошли в город.
— Ну, Марженка, что ты думаешь об этом Арнольди? — шепнул учитель.
— Да, он действительно очень похож.
— Заметила, да?
— А ещё он такой милый! — и быстро добавила, — Так красиво поёт!
— Толку –то он малого пенёчка росток и пробился, если бы не пел тогда мессу трёх королей прекрасным голосом! Жаль, голос неведом.
— Так ведь Арнольди из Италии.
— Так и капельдинер сказал. Но сходство… И голос! Голос до сих пор в моих ушах звенит!
И регент замотал головой.
***
Квартира управляющего Враны состояла из трёх комнат. По коридору можно было пройти в его кабинет, из которого двери вели в две остальные комнаты, у который были и отдельные входы. Комнаты особо не запирались. Пан управляющий был старым холостяком и особо не церемонился.
— Изо всех его шкафов и прочей невиданной обстановки мне больше всего по душе обитый железом сундук, — говаривали холоп и слуга управляющего Хатьярек, который был сильно к нему привязан.
Однажды в полдень, когда Гласивец находился перед Крамольней, в замке справа проходила репетиция, управляющий сидел в своей комнате. Всё ещё угрюмый. Из его головы не выходили размышления об Арнольди, неприятно его удивившем. Вспомнил о случае, который тот уж позабыл. Вспомнил вроде без свидетелей. Чему Врана порадовался, и теперь хотел бы навсегда сохранить втайне.
Раньше он служил офицером. Теперь находился «в отставке», в Праге жил скромно как и положено «сотнику в отставке».
Поначалу всячески пробивался, и тяжкой нужды хлебнул сполна, если бы не кузина не подсбила. Пани Марта Шейбова была вдовой важного государственного чиновника, строгой и угрюмой, к тому же бездетной, потому и заботилась с малолетства об осиротевшей Элишке. Так своей и считала. Эту её волю пан Врана неохотно забыл. Да вот Арнольди случайно напомнил. Что надо этому актёру? Врана захаживал в Праге в ту корчму, где играли в азартные игры. Играл недурно ещё со времён военной службы: в бассет, дурака, немецкого дурака, тридцать на сорок, в кости, в банк, «под кучку». безик и т. д. и т. п., ему не понаслышке было знакомо, «нет таких строгих английских мер измерения ни для высших, ни для низших военных чинов, которые не знают карточных игр и не соизволят к ним прикасаться»…
И всё же «пан гетман», когда не хватало иных финансовых средств, не упускал возможности «подработать».
Так с Арнольди и столкнулся.
Но стараниями кузины наконец нашёл себе место управляющего у герцога Куронского в имении Заганьском, где и прослужил вот уже три года. Обязанности свои исполнял усердно, был строг,. И как только освободилась место старосты в Находе, получил его, опять же пользуясь поддержкой и протекцией. Так и стал паном.
Врана был строгим, «старым капралом», как его за глаза прозвал холоп Хатьярек.
Благодаря управлению Враны герцог получал с имения солидный головой доход, которым был очень удовлетворён…
В дверь постучали.
— Войдите, — пробурчал Врана, и в комнату вошёл его холоп и верный слуга Хатьярек. Узрев слугу, хозяин помрачнел, не только нахмурив брови, но ещё сильнее наморщившись.
— Чего стучишься? Я уже думал какой милостивый пан пожаловал! Стучишься прямо как важная персона, неужто не знаешь, что слугам и без стука можно?
Хатьярек стоял молча, вытянувшись как рядовой перед офицером.
— Что у тебя?
— Там Грюн, еврей, ждёт соизволения милостивого пана.
— Сегодня уже не успею принять, пусть приходят завтра после полудня.
Слуга вышел, а хозяин принялся что-то записывать.
Не прошло и четверти часа, как снова отворилась дверь и в неё вошёл Хатьярек. Вытянувшись по-армейски, ждал. Но пан, занятый делами, не обращал на него внимания.
— Покорнейше прошу…
Управляющий резко обернулся.
— Да что же ты… крадёшься как вор или бандит? Постучал бы что ли?
— Прошу прощения, но велено…
— Приказывал, чтобы приличия соблюдал при этом… Что у тебя?
— Тут какая-то нищая с детьми, Воборникова, которой сегодня отказали Её муж в холодной…
— Что просит?
— Всё жалуется и плачет, что милостивый пан…
— И не знаешь, что делать?
— Я её уже выпроваживал…
— Ну так выстави снова. Герцог у себя?
— Ещё не прибыл, милостивый пан.
— Ступай, и не беспокой меня, пока секретаря не будет, понял?
Управляющий, так и не присев, ходил по комнате.
В третьей комнате обитали женщины пана управляющего: его кузина Марта Шейбова и Элишка.
Когда Шейбова по его приглашению прибыла в Наход, чтобы по его просьбе вести домашнее хозяйство, удивила его тем, что взяла с собой Элишку. А та как изменилась! Из девчонки, которую он видел последний раз, выросла, как говориться, в невесту.
Пани Марте замок в Находе пришёлся по душе. Она бойко управлялась с домашним хозяйством, управляла и приказывала, наводила во всём порядок, и пан управляющий, слегка посопротивлявшись, быстро свыкся, даже странно было, когда понял, насколько стало удобнее. Но в чём пани Шейбова была сильнее всего, так это в том, что всё хозяйство было в её руках, будто она сама была управляющей.
Элишка была совсем иной.
И замок, и новое место, и новые люди — всё сразу так её впечатлило, что та никак не могла вписаться в новое общество. Ей оказывали почёт и склонялись в реверансе, что для неё было непривычно, даже издали приветствовали и кланялись.
Вся эта шумная жизнь замка смущала скромную девушку. Она часто скучала по своей уютной комнатке в Праге. Там она чувствовала свободу, грезила о своём, и там в довершении девичьих грёз встретилась с Антонином. В сладком забытьи стояла рядом с ним у шумного Карлова моста, пока не увёл её окрик тёти пани Вогнаровой…
Теперь Элишка с тётей сидели за столом перед открытым окном, на котором стояли горшки с пышными цветами.
Девушка усердно шила, а когда тётя что-то говорила ей, кивала головой.
Вдруг под окном во дворе послышался шум, крик и даже плач. Дамы отложили шитьё.
— Смотри, Элишка!..

Та быстро встала и подошла к окну, поглядывая в него сквозь цветы во двор. Там у дверей квартиры управляющего стояла деревенская женщина с тремя детьми. Хатьярек как Цербер сурово и строго прогонял её:
— Ну что тебе ещё? Я ведь уже говорил тебе, а ты всё никак не уймёшься… Смирись уже!..
Но когда женщина с плачем ринулась к дверям, сурово схватил её за плечо и оттолкнул, так что та пошатнулась на ступенях.
Но и на том холоп не успокоился, прогоняя женщину с детьми до самых ворот.
Элишка этого уже не видела. Заметив, как женщина пошатнулась на ступенях, как кричали и бежали за ней дети, отвернулась. Она не могла смотреть на строгость холопа. В смущении девушка отошла от окна.
— Что с тобой?
— Этот холоп слишком жестоко и бесчеловечно обращается с той нищенкой!..
— А может и не такая уж нищенка, — и пани тётя, встав, приоткрыла дверь, — Не уходит? — спросила она управляющего наедине, когда тот зашёл к ним, — Прошу Вас, — умоляла она брата, — Такой крик и плач по деревне, даже Элишка испугалась…
— А я ничего не слышал, — холодно ответил управляющий.
Бровь Враны дёрнулась, но вид его тут же прояснился, и тот с улыбкой успокоил Элишку:
— Не стоит, душенька, быть такой пугливой. Здесь частенько такие случаи бывают. Это жена некоего Воборника, ни на что не годного, — пояснял он уже пани Шейбовой, которого я сам велел наказать.
— А жена за него просить пришла, — подытожила просто и безразлично пани Марта.
— Да, так.
— Холоп не пустил её в дом. А она с Вами поговорить хотела, — проговорила Элишка.
— Это я ему приказал.
— А у неё бедняжки трое детей, — заметила Элишка.
— Не беспокойся о ней! Милое моё золотце, человеку у власти не стоит проявлять такую чуткость, — слащаво улыбнулся он.
Лицо пана дяди непроизвольно дрогнуло.
— А как же ей без мужа, этой нищенке? — снова начала она.
— Посмотрите на заступницу! Где не надо, молчит, а тут выступить решила! — грозно отрезала сухая пани Марта. Это прозвучало как приказ, чтобы её подопечная приёмная дочка смолкла.
— На завтра всё готово? — сменил тему управляющий.
— Дошиваем…
Уже поругалась на неё. Иная девушка бы от радости прыгала и сочла за великую честь, а наша Элишка с большей радостью бы дома осталась.
— Застенчивость. Пройдёт. Тебе бы, Элишка, всё в уголке хорониться.
— Кому бы ещё так повезло? С принцессами — с дочерьми герцога и вообще с высшим обществом!
— Первый приём, что герцог устраивает, обещает быть очень шумным! Сам ни разу на таких не бывал, такая честь.
— И бал будет? — спросила пани Марта.
— Они каждый год бывают, а нынешний обещает быть особенно пышным.
— Ну и что же ты, девушка, умолкла и не радуешься? Театр, бал — что ещё желать — в этом старом замке развлечений больше, чем в Праге!
— И кто ведает, что у неё на умишке? — улыбнулся пан управляющий, пытливо глядя на Элишку.
***
За воротами в тени деревьев стояла Воборникова с детьми.
Со слезами на глазах оглядывалась она на замок. Справа от ворот темнели здания над замковым ныне пустующим рвом.
Маленькое окошко во всём облике казалось нелюдимым. Там за домашней тёмной стеной сидел её муж, провинившийся лишь тем, что его небольшой надел дал совсем мало урожая, и ему нечем было выплатить контрибуцию, и что жена его занемогла. И остались у него на попечении трое малолетних детей и потому он так и не смог выплатить свой долг. А поскольку сам с повинной не явился, за ним явился холоп и отправил его в холодную. Жена, ещё до конца не окрепнув, отправилась в замок. Работать она не могла, да и дома ничего не осталось.
Как ни просила, как ни выпрашивала — к управляющему её не допустили и со двора прогнали.
В конец измотанная, уселась она на краю дороги под косматой липой, а подле неё — дети. Долго так просидела.
Да что ждать? К мужу не пустили, не дали ни увидится, ни словцом перемолвиться. И всё же., слышала, что в замок прибыл герцог, а ему даже сам управляющий подчиняется. Вот бы узнать, как к нему попасть… Слышала, что он весьма благородный пан и много дукатов бедным жертвует. С кем бы посоветоваться? Она осмотрелась по сторонам. Солнце заходило, озаряя заревом стволы деревьев. Вокруг никого. В замок уже поздно.
Вдруг видит — идёт какой-то пан, он вроде в замке служит. Встала, прошла несколько шагов и вскоре догнала его на пути.
— Милостивый пан! — начала она дрожащим от испуга голосом.
Гласивец остановился, в смятении разглядывая болезненное бледное лицо женщины, её впавший мутный взгляд жалобно и робко был обращён к нему. Он спросил о её нуждах. Услышав, как по-доброму и спокойно тот заговорил с ней, та как на духу ему всю свою беду и поведала, и попросила милостивого пана попросить за неё и пособить ей. Услышав жалобу на управляющего, тот стал расспрашивать о нём — многие подданные также на него жаловались. Подумав, Гласивец, сказал:
— Ступай домой, бедняжка, сегодня уже ничего не сделаем. Подойду завтра сам по Вашему делу и надеюсь сообщу Вам больше. А пока купите детям хлеба, — и он протянул ей серебряник.
Та было бросилась поцеловать ему руку, но он не допустил, потому что самому такое было в диковину. Зашагав к воротам, о он услышал за спиной благодарные мольбы. Неведомо как из-за деревьев выехали двое наездников. Путник встал у ворот.
Не успел ещё войти в замок, как перед ним открывалась блестящая возможность проявить себя.
Антонин принял это за добрый знак. Но ведь управляющий — дядюшка Элишки? Будь что будет! И вошёл в замок.

VII. Эпизод
Принцесса Йоганка сегодня была рассеяна.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
