
Бесплатный фрагмент - Сказка со счастливым началом
Непростые «если» одной сказки…
Сентиментальный роман часто путают с мелодрамой, ожидая жалостливой истории, где идеальные влюблённые красиво изображают чувства, а злодеи отвратительны от природы и не способны ни на что человеческое. А ведь классики жанра считали способность глубоко переживать и, главное, — сопереживать — самыми главными чертами, определяющими Человека. Что будет, если наделить всех героев способностью жить только своими чувствами, отдаваться им целиком: «уж любить — так любить, ненавидеть — так всей душой»?
Что, если героиня, рассудительная максималистка, которая старалась всегда всё делать правильно, становится вдруг — «пропащей»? Собирается замуж за «приличного человека», а оказывается в постели с бандитским наследником, ещё и возмутительно младше себя?
«Всё счастье, и всё горе, которые мне выделили в жизни…» — благодарно произносит сгорающая Снегурочка.
Что, если брак, заключённый на небесах, приносит одни только беды и проклятия близких, каждый из которых считает своим правом и долгом требовать — «отступись!» Стоит ли бороться с судьбой, и как не перепутать судьбу с чужой волей? Найдётся ли тот, кто скажет: «Ну, пошли жить дальше…», — когда твоя жизнь кажется тебе пепелищем?
В романе Галины Маркус «Сказка со счастливым началом» много непростых «если».
Это глубокий и честный разговор о настоящих мотивах наших поступков. Об ответственности за выбор, который мы делаем каждую минуту. Тем более, если это выбор «между порядком и хаосом, рассудком и сумасшествием, спокойствием и страхом, счастьем и пучиной бед».
И ещё эта удивительная книга — о самом главном родстве, которого одинаково жаждут богатые и бедные, счастливые и несчастные, все-все-все — о родстве душ. И о сказке, вера в которую это родство являет.
Какой же конец должен быть у «Сказки со счастливым началом»? Не спешите ответить…
Руководитель издательских программ продюсерской компании «Артбухта», редактор одноименного литературного интернет-журнала, прозаик
Екатерина Злобина.
***
…Читая книгу на пеньке
Зимующим звериным чадам,
Я оглянулась — по щеке
Ты проскользнул горячим взглядом.
И, в неизбежное маня
От лешачихиной опеки,
Коснулся тайного огня
Моей лесной библиотеки.
Я с полки зимний день брала.
Вставали белые просторы;
Играющие зеркала
И звери обживали норы.
Твой взгляд — последний мой костёр,
И перепрыгнуть мне придётся,
Чтоб стать как сто моих сестёр
И без опаски встретить солнце.
Я вдруг увидела: живу!
Не узнавала, замирая,
В дупле сидевшую сову —
Остаток детства — или рая?
Я выросла не по годам;
И, плача, спать пошли лисицы
Обратно по моим следам —
В те, позабытые страницы…
Поклонник женской красоты,
Не тяготись своей виною.
Подумай, суженый, что ты
Искуплен лучшею ценою.
Всё отдала я за листок
В той книге, где прикосновенье
Произошло за гранью строк —
И явью стало сновиденье.
…Весной предстану во плоти
Ручьём, звенящим и… бесследным:
Я на воздушные пути
Ступлю почти что незаметно;
Ты за окном увидишь свет:
То я прошла стопою смелой,
И леший мрак сошёл на нет…
…Ни шага вслед за мной не делай.
(Ольга Королева,
«Фантазия на тему Снегурочки»).
Нижеприведённый текст является литературным произведением. Все совпадения фамилий, имён, отчеств, ников и названий, так же, как и описываемых персонажей и событий, с реальными являются случайными.
Борис предупреждает…
— Что ты тут делаешь? — растерянно спросила Анька.
Присутствие старшей сестры на вечеринке в её планы, разумеется, не входило. Кроме досады и недовольства в Анькином голосе звучало смущение. Несколько месяцев назад она заявила, что имеет право делать всё, что ей вздумается. Но одно дело — сказать, другое — решиться. К свободе Анька ещё не привыкла, и в глазах её читалась опаска, как в детстве, когда она разбивала дорогую вазу или убегала гулять без спроса.
Прошло уже минут пять, как на дачный участок ввалилась шумная студенческая компания. Примерно столько понадобилось Соне, чтобы одеться, спуститься со второго этажа и обозначить своё присутствие. Окошко её выходило на лес, а то, что калитка не заперта на висячий замок, Анька, похоже, и не заметила.
Нотации, вопреки её опасением, Соня читать не собиралась, но и прыгать от радости тоже — час назад она устроилась на диване под тёплым светом ночника с книжкой в руках и собиралась провести тихую мирную ночь. Ни странные шорохи, ни тёмные, полные воспоминаний комнаты, ни чернота за окнами не пугали её так, как два десятка варваров, собирающихся осквернить своим присутствием их маленький старый домик.
Стоял спокойный осенний вечер — один из последних погожих вечеров в этом году. Завтра, в субботу, Соня мечтала в одиночестве побродить по опустевшим дорожкам посёлка, посидеть под любимой рябиной, тяжёлые гроздья которой предсказывали морозную зиму, и подумать — ещё раз хорошенько подумать. Вечером она сходила бы в старинную местную церковь с чудом сохранившейся колокольней, поставила бы свечки, помолилась за упокой души Мары и настроилась прожить, протерпеть, прокантоваться ещё неделю — до нового выходного. Последнее время почему-то казалось, что каждый следующий выходной должен принести какое-то облегчение или событие, которое выведет её из этого тягостного состояния.
В этот раз решение поехать на дачу пришло неожиданно. Накануне, в преддверии пятницы, Соня ясно представила себе новый день. Вечерние перепалки с сестрой у телевизора, телефонные переговоры с Женей: «Ты где?» — «Еду с работы». — «Позвони, когда приедешь». — «Я приехал. А ты что делаешь?» — «Ничего, а ты?» — всё, как обычно. Утром она прихватила сумку (зубная щётка, пачка чая, хлеб, сыр, и, конечно, Борис) и сразу после работы отправилась на вокзал.
Жене она позвонила прямо с платформы и только оттуда сообщила про поездку — чтобы не успел составить компанию. Сказала, что едет укрыть кусты перед заморозками и забрать из подпола яблоки. Женя уже поужинал и собирался лечь спать. Соня боялась, что он предложит помочь и рванёт в Малую Сторожевку, но Женя отмолчался — наверное, самому хотелось отдохнуть после тяжёлого дня. Он обещал заехать за ней в воскресенье и забрать — и Соню, и яблоки, и банки с вареньем. В этот раз заготовок сделали мало. После смерти Мары огородничество затухло — ни Соня, ни тем более Анька не горели желанием продолжать дело матери, мечтавшей досыта накормить семью витаминами.
Всё на даче напоминало о ней, и, казалось, Соня должна была чувствовать себя здесь печальной или подавленной. Но так мог подумать только тот, кто не знал Мару. На даче царил вечный беспорядок — сколько ни перекладывала она за свою жизнь вещи с одного места на другое, выглядели они так, словно их только что раскидал тайфун. Благодаря этому в комнатах оставалось ощущение наполненной событиями жизни, её безостановочного процесса.
Этот странный, недостроенный домик являлся как результатом, так и свидетелем не слишком удачных попыток матери жить как все, приземлиться на эту планету, притвориться, что разговариваешь на языке аборигенов, интересуешься их заботами — проведением газа, покраской забора, борьбой с сорняками. У Сони, правда, налаживать быт получалось ещё хуже. Они с Марой были родственными душами, хотя никогда по этим самым душам и не беседовали.
Разговаривать в их семье было принято громко. Очень громко. Честно сказать, в доме постоянно стоял крик. Вовсе не истерики или скандалы (ну, кроме разборок с Анькой), чаще — вполне мирное общение. А уж когда начинали спорить… Громче всех вопила, конечно же, Мара, ей вторила Анька, но иногда выходила из себя и Соня, особенно когда её сильно доставали и мешали читать.
Дача всегда была до предела наполнена этим общением. Вот и сегодня вечером, готовя себе чай, Соня разговаривала с матерью. Отбрасывая неизвестно как попавшую на кухонный стол тяпку, она произносила:
— Ну сколько можно! Тяпка! В земле! На чём у тебя лежит? На доске — для резки хлеба!
Ответ не заставлял себя ждать:
— Ой, что я слышу, ты даже знаешь, как это называется? — мать всегда заводилась с пол-оборота. — Тяпка в земле! Нет, вы послушайте её! Тоже мне, чистюля нашлась — положи всё, где оно было, оно мне там надо!
Да, только здесь, на даче, можно по-настоящему поговорить с Марой, здесь, а не в опустевшей городской квартире, где они с сестрой играют друг у друга на нервах. Они так и не разделили между собой домашнюю работу — прежде львиную долю дел мать выполняла сама. Правда, дела эти она никогда не доводила до конца, и они накапливались, росли, как снежный ком. Мара имела привычку заниматься всем одновременно, наверное, из желания навсегда, на всю жизнь вперёд, это количество дел избыть. Проходя мимо шкафа, она вытаскивала бельё для стирки, потом бежала на кухню, ставила на огонь кастрюлю, тут же возвращалась в комнату — вытереть пыль. По дороге вытаскивала пылесос, но, услышав, что вода на плите закипела, летела засыпать макароны.
К быту мать относилась подчёркнуто серьёзно и уважительно, как к материи, суть которой ей понять не дано. Наверное, так относится дворник к высшей математике. Мара даже покупала книги по домоводству, но осилить этот предмет ей так и не удалось, и все её попытки устроить в доме уют выглядели жалким подражательством. Она приобретала те же вещи, что и знакомые, прислушивалась к любому дурацкому совету и тратила последние деньги, заменяя платяной шкаф модной стенкой или «доставая» никому не нужную пароварку.
Вот только цветы… Они росли даже тогда, когда им не хватало ни света, ни тепла — на всех подоконниках дома, на тяжёлой глинистой почве участка. Соседи приносили Маре комнатные растения на излечение, и они оживали, как будто крики шумной семейки прибавляли им сил. После смерти матери все домашние цветы завяли одновременно. То ли ухаживали за ними теперь как-то не так, то ли не хватало удобрений, в которых Соня не разбиралась, но дорогие Маре растения сохранить не получилось. Возможно, думала Соня, мать просто позвала за собою своих любимцев. Здесь стало некому разговаривать с ними — грубовато и нежно одновременно. Кто ещё мог сказать, например, непривлекательной и скучной герани: «Ну, ты бесстыжая, чего отворачиваешься? Совесть замучила? Я же тебя предупреждала, не трогай ты этот кактус, чего ты к нему лапы тянешь?» Анька тогда исподтишка крутила пальцем у виска, впрочем, как и тогда, когда застигала Соню за разговором с Борисом.
Дерзкая, самолюбивая Анька, при всей любви к бунтам, Мару побаивалась, хотя и дулась на неё постоянно, пытаясь вырваться из-под опеки. Соню всегда удивляло, что сестра всерьёз принимает мамины угрозы, когда все вокруг знали им цену. Если бы не Анькина вера во власть матери, та была бы бессильна. Но девочка верила, и её восстания всегда заканчивались возвращением в прежние, порой уже слишком узкие рамки, периодом показательного послушания и подготовкой новой революции.
А сейчас… Сейчас сестра не столько осмелела, сколько растерялась, оставшись без бдительного, беспокойного внимания матери. Конечно, другие в её возрасте уже своих малышей заводят, но Анька взрослее не становилась. Наоборот, чем больше она примеряла теперь роль самостоятельной умной женщины, тем сильнее напоминала подростка — безбашенного и невесть на что способного.
Соня сознавала, что должна оправдать мамины надежды, что ответственна за сестру, но достаточно вялые попытки руководить ею проваливались одна за другой. Наверное, потому, что Соня не имела никакого желания этим заниматься — хватит, нанянчились, пусть теперь живёт, как хочет. Но… странное дело, это оказалось нужно самой Анюте. Она уже не могла без борьбы — получала адреналин не от свободы, а от факта непослушания, с пеной у рта требовала того, что Соня и не собиралась ей запрещать, а самое интересное, нарушая прежние запреты, в душе безоглядно в них верила и считала законом. И испытывала вину. Разреши ей сейчас всё на свете — и Анька впадёт в депрессию, не зная, как жить дальше. Она по своему отдавала дань памяти матери.
…Итак, вечер одиночества оказался испорчен. Разборки с сестрой в Сониных планах сегодня не значились, как и всякого рода общение с посторонними. Соня была одинокой всегда, и совсем от этого не страдала — привыкла. Любые попытки кого-либо войти в её жизнь вызывали у неё раздражение. Конечно, общаться с людьми приходилось, и иногда очень приятно общаться, но главным при этом становилось, чтобы человек не завис в её судьбе надолго, чтобы он, в конце концов, удалился, и Соня могла остаться одна — в своём мире. И пусть Анька сколько угодно крутит у виска пальцем, Соня привыкла и к этому.
Вот только недавно в её жизни появился Женя. Если до смерти матери Соня ещё не знала, как долго она сможет с этим мириться, то теперь, казалось, всё уже решено. Тем более что Женя действительно ей подходил — он присутствовал в её жизни по минимуму, был ненавязчив, умён, профессионально спокоен и терпим — а терпимость ему в общении с Соней могла пригодиться. А самое главное, он стал последней идеей фикс Мары, её требовательным завещанием Соне.
Всё-таки лучше бы Женя был сейчас здесь… Соня с тоской наблюдала, как полный воспоминаний дом при нападении гостей начинает прятаться, растворяться, становится неодушевлённым, чужим и бессмысленным. Она почувствовала огромное желание сбежать — подальше от мельтешащих, гомонящих, смеющихся девушек и парней.
Ни на кого, кроме Аньки, появление Сони впечатления не произвело. Она была старше сестры на восемь с половиной лет, но меньше ростом, худее, и при этом не обладала ни яркой внешностью, ни громким голосом. Изображать строгую хозяйку было бы бесполезно — никто не обращал на неё никакого внимания.
Ребята уже разводили во дворе костёр — Соня предвидела запах шашлыка, и её заранее затошнило. Девушки активно строгали ветчину, сыр, мыли помидоры, чистили картошку. А Анька всё ещё стояла возле сестры и злобным шёпотом, хотя никто её не упрекал, оправдывалась:
— Ты же знаешь… Вчера были «госы»! Мы что, не можем отметить? Я что, не могу позвать друзей?
Соня молчала, а сестра продолжала отвечать на незаданные вопросы:
— А говорить тебе не стала, потому что ты начала бы кричать… А мне уже не десять лет! Трубку я не брала, потому что оставила телефон дома. Не волнуйся, я бы тебе позвонила, не позже двенадцати, как всегда, и тебе не пришлось бы искать меня по больницам!
Вообще-то, у Сони сегодня было такое умиротворённое состояние, что она легко уговорила себя не звонить Аньке и не проверять, во сколько та вернулась домой. Так что неотвеченных вызовов на телефоне сестры не было, но скажи ей об этом — не поверила бы.
— И ты бы могла пригласить Женю в квартиру — я же всё понимаю, не маленькая, — Анюта уже сильно нервничала. — Я же не знала, что вы едете сюда! В конце концов, это и моя дача тоже!
— Твоя, — только и ответила Соня заспанным голосом. — И не тоже, а просто — твоя.
— Ну вот! Началось! Я так и знала! Мама всегда говорила, что мы с тобой…
— Ань… я хотела отдохнуть. Не будем сейчас, ладно?
К ним подбежала одна из девушек. Соня с жалостью уставилась на неё — она всегда сочувствовала людям, у которых нет врождённого вкуса. Ну как можно было навести такие дикие стрелки на нижних веках? Тональный крем под цвет загара, белая шея — крема, наверное, не хватило, чёрные колготки-сеточки на коротких, похожих на окорочка, ножках… Правда, сама девочка в своей привлекательности не сомневалась.
— Анька, чего стоишь, как неродная? Уксус есть? В холодильнике мы не нашли.
— Есть.
Соня подошла к диванчику, заглянула в затянутый паутиной угол между его подлокотником и стеной, извлекла бутылку с уксусом и протянула девушке.
— А посуда где? — не успокоилась та. — У нас только стаканчики пластиковые. А вилок с тарелками никто не взял!
— Там, — махнула Соня рукой в сторону старого буфета.
— Ну, Со-о-онь… — виновато канючила Анька. — Отдыхать можно по-разному. Ну, ты же понимаешь, у нас — музыка… Ну чего ты сразу спать? Только и делаешь, что спать и читать. Посиди с нами, праздник ведь — сестра институт окончила!
— Ого… Смелая ты девушка. Не боишься новых открытий?
Одним из таких открытий уже стал невысокий коренастый парень, который по-хозяйски лапал Анечку как раз в тот момент, когда Соня объявилась внизу. До этого она была уверена, что сестра встречается с бывшим одноклассником — долговязым длинноволосым программистом.
— Да не изображай ты из себя матрону! Забудь, что ты мамочка… Оставайся, правда!
Конечно, Сонино участие в вечеринке означало её одобрение. Но, с другой стороны, Анька шла на большую жертву — присутствие сестры портило ей всю малину. Чувство вины сыграло с девочкой злую шутку — считаться с Соней ей теперь было вовсе не обязательно.
Может, и впрямь, оставить Аньку в покое? Но… сидеть на втором этаже, раздражаясь на громкую музыку, вздрагивать от каждого взрыва смеха и дёргаться при мысли, что сейчас двадцать безотвязных молодых людей накачаются спиртным, оставят непогашенным костёр, а потом устроят оргию в комнате Мары…
— Хорошо. Я посижу. Но обслуживать вас не буду!
— Ха! Обслуживать! Сядешь и будешь сидеть, как барыня! — заявила сестра, в точности повторяя интонации матери.
В беседке и над крыльцом зажгли свет. Из сарая достали давно убранный на зиму стол, второй притащили с кухни. Девушки метали на столы разномастные, найденные в доме тарелки, гнутые алюминиевые вилки, купленные по дороге овощи и плохо промытую зелень. Ребята расставляли табуретки и двигали скамейки.
Наконец, кто-то объявил, что шашлык готов. Принесли дымящееся на шампурах мясо. Ещё пять минут суматохи в поисках недостающего стула, и все уселись. Соня пристроилась в уголке, готовая в любой момент ретироваться.
Ей было скучно. Юность, да и молодость, думала Соня, куда глупее детства. Она не изучает этот мир, как ребёнок, а считает себя умнее всех, она примитивна, цинична, ограничена и неестественна, а главное — помешанно, маньячески сексуальна. Если, конечно, ты — не белая ворона, как некоторые. Все разговоры, шутки, споры за столом — всё казалось посвящено единой теме. Все выпендривались друг перед другом, ревновали, подозревали, подкалывали и мерились возможностями. Один парень смешно пародировал преподавателя — и жадные взоры девушек устремлялись на него. Другой бренчал на гитаре — и одержал ещё более убедительную победу. Среди девочек царила конкуренция пожёстче — их, как это обычно бывает, оказалось больше. Дипломницы усаживались к мальчикам на колени, оголяя верхнюю часть попок в катастрофически заниженных джинсах, пританцовывали, потрясая недетскими бюстами…
А вот у бедной Анюты вечер оказался испорчен — приходилось постоянно оглядываться на сестру. На все попытки коренастого мальчика Лёши дотронуться до Анькиной груди или подержаться за другие места приходилось реагировать возмущёнными возгласами и сбрасывать его навязчивые руки. Парень уже начинал сердиться и уделять внимание той самой подружке с ножками-окорочками, что не прибавляло настроения Аньке.
Но забавнее всех казался другой мальчик. Похоже, он считался здесь не то авторитетом, не то душою компании, но большинство девушек старательно выкручивали задами именно ради него. Анька в этом не участвовала — у неё был хорошо развит инстинкт самосохранения. По счастью, сестрёнка влюблялась лишь в тех парней, которые были от неё без ума, и не тратила времени на глупцов, не способных её оценить. Чувство собственного достоинства появилось в ней буквально с первых дней жизни: она даже на горшок отказывалась ходить, если никто не стоял рядом, чтобы оценить результаты.
Так вот, парень этот не выделывался, как остальные. Точнее, выпендривался, но совершенно иначе. По мере того, как он накачивался спиртным, он всё ярче изображал из себя широкую натуру и человека, для которого возможно всё. Наобещал большинству сокурсниц потрясающее трудоустройство, сокурсникам намекнул — самых преданных тоже пристроит. Пару раз прозвучало многозначительное «отец». Одет мальчик был просто, в джинсы и тонкий джемперок под спортивной курткой, но всё на нём выглядело дорогим, чувствовался лоск. Внешностью природа его не обидела: рост значительно выше среднего, фигура тонкая, гибкая, но плечики подкачаны, скуластое лицо, неплохой профиль и чуть раскосые тёмные глаза. Правда, слишком коротко стриженные тёмно-русые волосы и чересчур упрямый подбородок, по мнению Сони, портили парня и делали менее интересным. Снобизм она презирала в любых проявлениях, ну а такой детский, основанный на денежных возможностях папы, казался ей просто комичным.
Один раз мальчик случайно посмотрел в её сторону и нарвался на ироничный взгляд. Ему хотелось производить впечатление на всех, даже на столбики у беседки. Наверное, он не понял, чем вызвана насмешка, или решил, что ему показалось, и посмотрел ещё раз, уже вызывающе. Потом ещё и ещё. Теперь парень выглядел насупленным и раздражённым. Он пыжился, всё больше бахвалился и становился всё забавнее.
Народ начал вылезать из-за стола. Музыку сделали громче и принялись дёргаться на пятачке между крыльцом и калиткой. Соня с тоскою думала, что посаженные весной мамины многолетние цветы обречены на вымирание. Их не столько вытопчут сейчас ногами, сколько убьёт эта музыка, вот этот голос и эти слова.
Мажорный мальчик, на которого она обратила внимание, бухнул в рюмку какого-то пойла, одним глотком проглотил его и подошёл к ней. «Сейчас будет разборка», — подумала Соня, почти с интересом разглядывая молокососа — тот уже несколько секунд пялился на неё, прежде чем заговорить.
— Тебя как зовут? — задал он, наконец, оригинальный вопрос.
— Не тебя, а Вас, — поправила Соня. — Софья Васильевна.
— Васильевна? — презрительно хмыкнул тот. — А я тогда — Дмитрий Антонович.
— Дико приятно, — заверила Соня.
— Пошли танцевать! — предложил Дмитрий Антонович.
— Не стоит.
— Ты кто — Анькина сестра?
— Вот именно.
— Тебе сколько лет?
За такие вопросы мужчину принято ставить на место, но разве это — мужчина?
— Тридцать два.
— Такая старая? Да ну, врёшь!
Наверное, в его устах это был всё-таки комплимент.
— Не-а.
— Всё равно — пошли.
— Дмитрий Антонович, отвали, а?
Он положил руку на спинку её стула, навис над ней, тяжело дыша перегаром, и принялся сверлить Соню взглядом. Гипноз не подействовал, но парень не привык отступать — схватил её за локоть, пытаясь поднять — и сам же себе мешал, ограничивая пространство.
«Ну, Анюта, сестрёнка, спасибо тебе… Отличный выходной!» — подумала Соня и дёрнулась, чтобы освободиться.
Анька, почуяв опасность, подбежала сама.
— Димон, ну чего тебе? Оставь Соньку в покое.
— Скажи ей. Я хочу с ней танцевать, — теперь он сжимал Соне запястье.
— Она не танцует, пусти её.
— Я её приглашаю! — он сделал ударение на слове «я».
— Дмитрий Антонович, тебе не с кем подрыгаться? — Соня выдернула руку.
— Я тебя хочу.
Соня не выдержала — парень окончательно её достал. Она упёрлась ему в грудь, резко отпихнула от себя, и встала, опрокинув стул. Дима с трудом удержался на ногах.
— Ань, я устала, пошла наверх. Если что натворите… ты меня знаешь!
— Сонь, ну ты чего? — Анька смотрела виновато.
— Пусти, наконец, — Соня в очередной раз оттолкнула навязчивого юнца, пытавшегося её удержать. — Не путайся под ногами, иди попляши лучше.
К такому обращению Димон не привык. Он дёрнулся, пошатнулся, но ничего не предпринял и остался стоять. Но взгляд у него стал как у волчонка, которому наступили на хвост — вот-вот укусит.
— Да, кстати, — приостановилась Соня. — Аня, вы где собираетесь спать? Ты куда такую кодлу уложишь? В мамину комнату я запрещаю, слышишь?
— Мы взяли спальники, ляжем на террасе.
— Что, все вместе, вповалку?
— Не бойся, здесь все приличные люди!
— Я заметила, — Соня перевела красноречивый взгляд на Диму. — На втором этаже — чтобы никого! Вся уборка — твоя. И ещё. Когда угомонитесь, сама поднимайся ко мне.
— Вот ещё! Я с ребятами!
— С кем именно — с Лёшей?
— Не твоё дело! — огрызнулась сестра.
Собственно, следить за её моральным обликом было уже поздно, но попробовать стоило.
— Ты меня слышала. И ещё. Завтра приедет Женя, чтоб до обеда вы рассосались.
— Какой ещё Женя? — вскинулся парень. — Это он или она?
— Это он.
— И кто он? Твой бой-френд?
— Мой муж, — сообщила Соня.
— Ага, муж, так я и поверил! Я с ним разберусь… ты знаешь, кто я? Да этот твой Женя — он потом на лекарства будет работать!
Крыша у Димы, видать, окончательно съехала.
— Димон, ну успокойся, а? — упрашивала Анька. — Этот Женя — майор госбезопасности. Ну, чего ты прилип, как банный лист?
К ним подошла высокая стройная девушка и приобняла Диму за плечи:
— Солнышко… пойдём к нам, мы тебя ждём.
Девочку эту Соня знала — Анькина подружка, Катя.
— Майор? Ха! Да он у меня ботинки будет чистить! Майор! — не унималось «солнышко».
— Кать, заберите мальчика, и больше ему не наливайте, — предупредила Соня.
— Что? Кто тебе тут мальчик?! Нет, ты чё сказала?! — выходил из себя тот.
Но она, уже не обращая на него внимания, повернулась и ушла наверх.
***
Соня прилегла на покрывало прямо в одежде, чтобы, в случае чего, побыстрее спуститься. Окна выходили на другую сторону, но она, конечно же, слышала, хотя и не так отчётливо, музыку и громкие голоса. Но потом решила плюнуть на всё — уж очень устала. Разделась, достала байковую, необъятную ночную сорочку Мары — мать была кряжистой, очень высокой, но не толстой, и с удовольствием нырнула в неё, а затем и в постель.
Марины вещи — старые резиновые сапоги, старательно, но неудачно связанный плед (один конец острый, другой — тупой), ночная рубашка — теперь стали для Сони проводниками тепла, ласковыми прикосновениями оттуда, почти телесным контактом с матерью… которого так не хватало при её жизни.
Любые проявления нежности обе считали чем-то постыдным, слишком интимным, недопустимым. Соня впервые поцеловала Мару только, когда та лежала в гробу. В холодную, чужую щеку — хотя полагалось в лоб.
Ласковой мать не была — не умела. Любовь свою проявляла смешно и тайно — на протяжении многих лет, думая, что Соня спит, подходила к её кровати и неуклюже гладила по голове — шершавой, совсем не женской рукой. Вот только честнее этого жеста Соня представить себе не могла. Теперь никто никогда так не сделает. Да и не нужно, от других — не нужно.
…Прислушиваясь к происходящему внизу, Соня снова взялась за книжку — всё-таки лучше пока не спать. Бориса она усадила рядом, на столике, повернув лицом к звёздному небу. Морда у него была, как всегда, приподнята и задумчива — ему нравилось смотреть на звёзды своими немигающими чёрными глазками-пуговицами. Сначала Соня дрожала от холода, но быстро согрелась под одеялом. Однако не успокоилась. Она несколько раз проходилась глазами по одной строчке, не понимая прочитанного.
Угомонилась, как и следовало ожидать, нескоро. Около половины третьего музыку, наконец, выключили и переместились в дом. Однако спать пошли не все, кто-то отправился гулять на улицу. Некоторое время из-за забора со стороны леса доносились женский смех и повизгивания, но вскоре голоса отдалились. Только внизу, на террасе, один из парней то ли пел, то ли подвывал, негромко аккомпанируя себе на гитаре. «Хорошо бы сходить проверить, что там творится», — подумала Соня, но глаза у неё уже слипались, да и монотонный голос «барда» убаюкивал. Она сама не заметила, как задремала, а потом провалилась в глубокий сон, такой, из которого не сразу выбираешься, а, проснувшись, не понимаешь, где ты, и который сегодня день и час.
Ей привиделось, что она приехала на дачу с Женей. Соня досадовала, что позвала его, хотя и не собиралась. Ей хотелось пообщаться с матерью, а при Жене это теряет смысл. Он — настоящий материалист, ему подавай ужин, завтрак, телевизор, и… то самое.
Нет, Женя сейчас ей не нужен… почему он навязывается, какой он стал приставучий, да откуда он взялся здесь, в конце-то концов? Да ещё такой страстный, непривычно жаркий… Пусть уходит. Или… нет… пусть продолжает, сегодня всё как-то совсем иначе. У Жени всегда такие продуманные, отмеренные ласки — опытного мужчины. А сейчас он торопится, задыхается, сдавливает её в своих объятьях, словно одержимый, как будто с нетерпением ждал этого — месяцы, годы, и вот, наконец…
Соня открывала в себе нечто новое, сладкое, мучительное. Вот оно как бывает… от этого, и правда, можно сойти с ума… Пусть сожмет её ещё сильнее… а как нежно он целует её… Соня вдруг ощутила неведомое прежде, болезненное, нестерпимое желание, требующее немедленного удовлетворения.
Она прильнула к Жене так крепко, как только могла, он впился ей в губы, и тут… Соня вывалилась из сна в реальность — резко, как будто её толкнули. Рядом с ней действительно лежал мужчина, и это был не Женя. Некто, навалившись всем телом и тяжело дыша, жадно ласкал её. Его рука пыталась добраться до своей цели, но запуталась в Мариной сорочке. Боже мой, на самом ли это деле? Какой-то бред, невообразимый бред!
Сознание ещё не включилось, но сработал рефлекс. Соня рванулась, выдернула из-под незнакомца руку, тот замер, невольно ослабив хватку, и Соне удалось сбросить его с себя. Освободившись, она с силой отпихнула его ногами, и он свалился на пол. Соня села и одним движением дотянулась до ночника.
Так… Всё ясно! Вот уж не стоило расслабляться!
Она даже не испугалась, ну разве совсем чуть-чуть. Теперь, когда Соня увидела насильника, она уже знала, что справится с ситуацией. Сцена была слишком идиотской, чтобы кричать или звать на помощь.
— А ну, кыш отсюда! — рявкнула она. — Совсем охренел?
— Что, милицию вызовешь? — криво усмехнулся преступник, подтягивая под себя ноги.
— Брысь, говорю! Давай, живо — пшёл вон!
Наверное, всё-таки стоило кого-то позвать, но Соне стало смешно. Дима сидел на полу в дурацкой позе, в одних трусах, дрожа — то ли от холода, то ли от страсти. Кажется, он потихоньку трезвел или не так сильно напился, по крайней мере, в его глазах не было осоловелости или безумия, скорее дерзкий ребяческий вызов, как у нашкодившего подростка. Он был значительно крупнее Сони, но воспринимать его как серьёзную угрозу почему-то не получалось — она чувствовала свою полную власть над сопляком, знала, что сейчас, когда она смотрит на него презрительно и насмешливо, он не посмеет к ней даже притронуться.
— А я не уйду! — нагло заявил парень, но решимости в его взгляде несколько поубавилось.
— Уйдёшь, — усмехнулась она. — А то мало не покажется.
— А что ты сделаешь? Думаешь, кто-то заступится? Все знают, кто я!
— Да и я тоже знаю, — спокойно сказала Соня. — Безмозглый и самовлюблённый мозгляк. Полный ноль без палочки. И без папочки.
Она встала, неторопливыми движениями накинула на себя летний халат и бросила в парня его собственные джинсы.
— Одевайся, герой.
— Ты… ты… Я тебе не мальчик, поняла?!
Удивительно, но из всех её сегодняшних эпитетов он обиделся только на «мальчика».
— Я что сказала? Надевай штаны.
В детском садике её всегда слушались. Послушался и Дима. Он поднялся на ноги и принялся натягивать джинсы. Соня невольно окинула взглядом его фигуру. Ей всегда было неловко рассматривать Женю, когда тот был обнажён — Соня обычно глядела в другую сторону, пока он раздевался.
— Что смотришь — нравлюсь? — вызывающе хмыкнул парень, поймав её взгляд.
— Не-а. Отвратное зрелище.
Сейчас она кривила душой — мальчик вызывал у неё странные эмоции. Глупее и не придумаешь — впервые в жизни её притягивает мужское тело, но подумать смешно, кому оно принадлежит? Наглому, тупому отморозку.
— Твой этот… Женя — скажешь, лучше? Слабак, небось, червяк книжный, знаю я таких… Да я бы его одной рукой… У меня разряд!
— Он мастер спорта по боксу и самбо.
— Значит, качок тупорылый? Да он у меня…
— Слыхали уже. Папа пришлёт амбалов, да? Сам-то в штаны наделаешь.
— Что?! Что ты сказала?!
— Всё, хорош! Давай, отчаливай. И завтра мне лучше не попадайся!
Она оглянулась в поисках его одежды — джемпера не было, наверное, оставил внизу. Кроссовок тоже. Парень стоял босиком. Соня решительно подошла к нему и подпихнула к выходу. Но Дима не двинулся, во взгляде его что-то переменилось. Соня подумала, что рано решила, что он протрезвел, и ей стало не по себе. Парень внезапно схватил её за руку, она попыталась вырваться, но он и сам тотчас же отпустил.
— Соня… Ты — Соня, да? Я… Прости, я не хотел так, без спросу. Я просто… очень тебя хотел…
— Так хотел или не хотел?
— Хотел… но…
— Убери грабли — немедленно!
Он, действительно, дотронулся до её шеи, но уже по-другому — нежно и нерешительно. Соня дёрнула плечом, и Димина ладонь сползла по её голой руке, легко коснувшись запястья. Он чуть сжал её пальцы, и от этого прикосновения Соню вновь пронзило острое желание. Она отшатнулась — собственная реакция напугала её куда больше безобразной постельной сцены. Теперь парень смотрел совсем странно — взволнованно, как будто даже ошарашено.
— Подожди, я понял… вот кретин…
— Иди вниз… как там тебя… Дима! — взмолилась она.
— Пожалуйста… пожалуйста, можно я…
— Нельзя!
— Нет… Можно… можно, я тебе позвоню?
— Вниз! — потребовала Соня и упёрлась ладонями ему в грудь, пытаясь отодвинуть его от себя.
Глаза у парня стали почти умоляющими, как у побитой собаки. Он упрямо мотал головой.
— Иди, проспись, Дима, всё будет хорошо, — начала уговаривать Соня. — Ну что там у вас, девочек, что ли, нет, что ты к тёткам лазаешь?
Она вспомнила сейчас совершенно не к месту, как мама решала, делать ли дверь на втором этаже. В купленном Марой домике лесенка наверх была, а комнаты, как таковой, нет — только гипсокартонная перегородка разделяла помещение на две части. «У нас ведь не будет посторонних», — махнула рукой мать, и про двери забыла.
— Ты — не тётка! — горячо заявил вдруг Дима. — Ты… очень красивая… Ты же… моя…
— Вот спасибо! — устало выдохнула Соня. — Сам спустишься? Или помочь?
— Маленькая моя… — с внезапным придыханием прошептал он, порывисто притянул её к себе, провёл рукой по волосам и поцеловал в висок. — Моя, слышишь, моя! Я знал же… будешь моя…
Он крепче прижал Соню и дохнул на неё перегаром. Ну, сколько можно терпеть этот абсурд? С кем это происходит? Неужели с ней? Словно в наказание за равнодушие к физиологии — мол, не хочешь по-хорошему? Тогда получи!
Но почему вдруг бред пьяного сосунка отозвался в сердце нежданной болью? Каким образом его прикосновение напомнило другое, тайное, неловкое… И почему её тело снова испытывает пронзительное наслаждение от его ласки? Ведь сейчас она уже не спит.
Хватит. Всё это случилось не с ней, а в каком-то тупом неуместном спектакле. Соня очнулась и оттолкнула его — не очень сильно, в опаске, что он попятится и свалится в открытый проём.
— Сколько тебе лет? — она решила расставить точки над «i», в первую очередь, для себя.
— Какая разница? — нахмурился он.
— Ну, ты же спрашивал. Сам же сказал, я — старая. Я на девять лет старше Аньки. Тебе — двадцать три?
— Двадцать четыре!
— Ну, и какая я тебе маленькая? Моему мужу почти сорок, он тебе в отцы годится. Ну, чего тебе надо, Дима? Нельзя столько пить, совсем ведь мозги пропьёшь.
— Думаешь, я пьян? Ни хрена! Я вообще не пью! Я… ты такая… Я таких не видел больше. Ты будешь со мной — всё равно, ясно? Я без тебя жить не смогу. Я сразу понял, ещё тогда!
— Когда это — тогда?
— Давно. Помнишь, ещё у подъезда, помнишь? Я тебя узнал, это ты…
— У какого подъезда? Что ты несёшь?
— Соня… Я только не знал, как тебя зовут. Тебя тогда не назвали. Я хочу тебя… Если ты не… Я умру, слышишь?
Она с изумлением смотрела на зарвавшегося мальчишку и пыталась разозлиться — вообще-то за подобные выходки полагалось серьёзное наказание. Надо, и правда, сказать завтра Жене — пусть поучит мерзавца… Но Дима как-то расклеился. Если он и был похож сейчас на преступника, то скорее на мелкого, схваченного за руку воришку. Его наглость и уверенность улетучились, как ни бывало. Его стоило даже пожалеть сейчас — таким несчастным он выглядел.
— Так. Ты не понял? Я замужем.
— И козла твоего — убью! — тут его глаза сверкнули нежданной яростью.
— А ну-ка, фильтруй базар! — Соня решила разговаривать на его языке. — Ты в моём доме, влез в мою комнату и напал. Вот возьму сейчас и устрою тебе, правда, свидание с папочкой в КПЗ. Считаю до трёх — или ты уходишь, или…
Парень набычился.
— Ладно… — процедил он. — Пока я уйду.
— Ну, наконец-то!
— Но я тебя отыщу, — в его голосе появилась угроза.
— Не стоит трудиться.
— Я сказал. Всё. Чао, до встречи, — Дима скривил губы в деланной усмешке.
Этакий развязный ковбой, небрежно обещающий покровительство бедной красотке в салуне.
— Скатертью дорожка, — едва сдерживая смех, напутствовала Соня.
Она уже совсем опомнилась и снова ощутила комизм ситуации. Юмор часто помогал ей в жизни — тогда, когда, казалось бы, впору рыдать. Вот и сейчас ей почему-то хотелось и захохотать, и расплакаться одновременно.
Парень развернулся и чуть было не упал, не найдя в темноте ступеньку, но вовремя схватился за перила. Однако спуститься с достоинством у него всё же не получилось — он почти скатился с лестницы. Внизу кто-то что-то сказал ему или позвал — видно, Диму уже искали.
Соня отошла от проёма. Она чувствовала себя выжатой. Глянула на часы — пять утра. Её знобило, наверное, от холода, от чего бы ещё? Она даже не нервничала. Всё это отвратительно, но бывали в жизни моменты и похуже. Она села на кровать, уставившись в окно. Над деревьями занимался рассвет — день обещал быть безоблачным. Ну, Анька завтра получит! Плохо, теперь в церковь придётся идти совсем в другом состоянии, а следовало настроиться на светлое, грустное, чистое. Завтра надо избавиться от этой гоп-компании, забыть о ночной сцене, а в воскресенье… В воскресенье приедет Женя. Ей не хотелось думать сейчас о Жене. Да и вообще ни о чём не хотелось думать.
Она взяла в руки Бориса, ожидая прочесть сарказм на его мордочке. На ней всегда отображалось то, что ожидала Соня — слишком долго они вместе, слишком хорошо понимают друг друга. Но лис смотрел печально, куда-то мимо неё.
— Эй! — тихо сказала Соня вслух. — Чего молчишь-то? Вот придурок на мою голову, да? Нет, ну скажи — анекдот! Кому рассказать…
— Он принесёт нам много бед, — ответил лис грустно.
— Да вот ещё! С какой стати?
Соня посадила лиса на место — мордой к пустому дверному проёму.
— Будешь меня охранять, — заявила она. — А то всё на свете проспал.
Поправила скомканную подушку, положила на неё голову, прикрылась одеялом и прикорнула.
***
Когда Соня открыла глаза, был уже полдень. Осеннее солнце заливало светом всю комнату, било в глаза. В доме стояла полная тишина. Соня пыталась понять, не приснилось ли ей всё, что случилось? Она с трудом вылезла из постели. Голова была тяжёлая и грозила порадовать к вечеру приступом мигрени. Пошатываясь, Соня спустилась вниз, ожидая увидеть следы ночного разгрома и заранее уговаривая себя принять всё, как есть.
Она в недоумении замерла на пороге кухни. Всё убрано, вымыто, блестит чистотой. Как будто, и правда, ночная компания осталась в дурном сне! Соня вышла на террасу и распахнула дверь на улицу: Анька, надрываясь и обливая себе ноги, тащила к крыльцу два полных ведра воды. Если учесть, что за много лет сестра не принесла в дом ни бидона, зрелище это чего-то стоило.
— Я тут посуду мыла, и вода кончилась, — бодрым, натужным голосом сообщила она.
— И где же остальные?
— Они уехали, как ты велела. Я их всех разогнала. Женя ведь приедет…
— А этот ваш…
— Димон? — быстро проговорила Анька. — Все уехали… Он вчера… мы его искали. Он, случайно, не…
Она замялась.
— Что — не? — Соня почему-то сразу решила ничего не рассказывать.
— Ну… Он пошёл гулять по дому, мы боялись, забредёт к тебе… побеспокоит.
— Не знаю, не видела. Я спала.
— А-а-а… — протянула сестра, но в глазах её появилось сомнение. — Он там лепил что-то… утром.
— Что именно?
— Ну, сказал, что решил… Чё-то такое нёс… не протрезвел, что ль, с утра. В общем, я ничего не поняла.
— Я тоже, — Соня отвернулась. — Хочешь сказать — скажи, а так…
— Ну, он вроде как… жениться на тебе собрался, — сконфуженно, словно говорит о чём-то неприличном, хмыкнула Анька. — Да ещё с таким пафосом всё! «Она будет моей женой!»
— Че-го?
— Ну, вот и мы тоже… решили, что он прикалывается, а он послал всех подальше. Сонь, там все заржали, а он разозлился так. Всё выяснял, кто тебе Женя. Катька даже всерьёз приняла, начала на тебя наезжать, мол, старая ведьма, чужих парней уводит… Можно подумать, она тебя не знает! Я ей сказала — соображай, про кого говоришь! Ты что себе позволяешь — про мою-то сестрёнку?
— Ну, хватит! — отрезала Соня. — Это уже не смешно. Катька твоя — дура. А Дима — осёл. Друзья у тебя — то, что надо.
— Дима?! — глаза у Аньки возмущённо сверкнули. — Да ты что! Помнишь, я же тебе про него рассказывала! По нему пол-института сохнет.
— Не помню. Ну, значит, у вас пол-института набитых дур. Если у него отец…
— А вот и нет! Дело не в отце. Нет, ну это, конечно, тоже… Но Димка — он очень умный. Он у нас — почти что гений!
— Не заметила.
— Да, технический гений! Он с закрытыми глазами может что-то там разобрать… или собрать. Он даже изобрёл… не помню, что. Может, какие программы… Я ничего в этом не понимаю.
— Стоп, а что он на экономическом факультете делает?
— Ничего. Это мы — на экономическом, а парни — технари. Ну, у нас своих-то нет. Вот мы их и позвали, диплом они уже защитили, а госы совпали…
— Ясно, — Соня с подозрением уставилась на сестру. — А ты к какой половине института относишься? К той, что без ума от этого мажорчика?
«Он принесёт нам много бед», — тревожно кольнуло её. А вдруг и правда, Анька свяжется с этим придурком?
— Вот ещё! — фыркнула сестра, глядя куда-то в сторону. — У меня Костик есть.
— Вчера мне показалось, его зовут Лёша.
— Тебе показалось! — огрызнулась Анюта. — В конце концов, что я — прикована к Костику, что ли? Мы же отдыхали.
— Ах, вот как это теперь называется.
— А ты… а ты правда… Правда — Димона не видела?
Соня сделала вид, что не слышит вопроса. Взяла кружку, зачерпнула несколько раз из ведра и наполнила чайник.
— Так, Аня. Я не поняла, ты что, решила остаться? — спросила она вместо ответа.
— Ну… Если честно, я поругалась с Катькой. Из-за тебя, между прочим. И этот… Лёша… мне не хотелось с ним, пусть не думает, что… Женя ведь завтра приедет, а обратно мы с ним — на машине, да?
— Нет, — отрезала Соня. — Я мечтала побыть одна, два дня, неужели так сложно — отстать от человека? Езжай сегодня домой и делай там всё, что вздумается! Я даже звонить не буду.
— Как это? — не поняла Анька.
Соня уже не сдерживала злости.
— Да так. Взрослая уже. Больше — никакого контроля. Накопилось, поди, желаний? Кто-то взрослеет, а ты деградируешь — дело хозяйское. Гуляй! Шляйся по ночным клубам, накачивайся наркотиками, кольцо нацепи на язык, на нос, куда пожелаешь… Приведи всех своих парней на постой. Костю, Лёшу, кого там ещё? Что-то их мало, размах не тот.
Глаза у сестры наполнялись слезами.
— Я так и знала… — прошептала она. — Так и знала… Никому я теперь не нужна. Я тебе — чужая. Папа так и сказал — вот мама умрёт, и она тебя бросит!
— Вот как? — Соня резко обернулась. — Ну, и что ещё сказал твой замечательный папа? Ну, говори, говори…
Анька прикусила губу.
— Не хочешь? — глаза у Сони превратились в узкие щёлки. — Ладно, скажу сама. Наслушалась, слава Богу. «Чужая кровь, она и есть чужая… Сколько волка не корми, всё на сторону смотрит… Она ещё вам покажет, Аньку на улицу выкинет…» Так, да?
— Сонь… Ну ты что… Что ты несёшь? — испугалась сестра.
— Я несу?! Это папочка твой несёт, когда выпьет. Думаешь, я не слышала?
— Сонечка… Ты мне самая-самая-самая родная… на всей земле! — Анька, обхватив её за плечи, зашлась в рыданьях.
— Да пусти, ненормальная, раздавишь… — выдохнула Соня, освобождаясь из крепкого захвата своей рослой младшей сестрёнки. — Ну, ладно, ладно… всё… хватит, говорю!
— Можно, я останусь? — совсем как в детстве, подняла заплаканные глаза Анюта.
— Оставайся… куда без тебя! Но чтобы больше я всех этих гениев-недоростков не видела. А ещё…
Она огляделась по сторонам.
— Вымой пол, натоптали вчера.
— Я мыла…
— Ладно…. Пойдёшь со мной вечером в церковь?
— Ага… — вытирая слёзы, счастливо улыбнулась прощённая Анька. — Я тогда ещё воды притащу. А ты там покушай пока, бутерброды вчера не все сожрали…
Борис выполняет обещания
Он был живой — она сразу это поняла. Если вы столько раз обманывались, заглядывая в глаза игрушкам — новым или потрёпанным… И не важно, что движения ему придавала рука тёти или дяди за цветастой ширмой — дело не в этом. Всё время, пока шёл спектакль, он смотрел на Соню — лукавыми, всё понимающими глазами.
Дети ровным строем послушно проследовали за воспитательницей из актового зала. Но Соня не могла уйти. Она должна была ещё раз, хоть на секундочку, увидеть его! Она умела быть незаметной, и, пока все строились, юркнула за цветастую тканевую ширму. Никогда Соня не совершала более решительного, важного поступка, коренным образом изменившего всю её жизнь.
Две женщины укладывали реквизит. Только что говорящие и поющие зайки, мишки и собачки онемели и превратились в обычную груду тряпья. Разумеется, все, кроме него. Соня знала — он только притворяется спящим.
— Как тебя зовут, маленькая? — ласково обратилась к ней одна из женщин — миловидная, с вьющимися волосами.
— Соня, — торопливо ответила она. — Здрасте, тётя.
Чтобы добиться своей цели, стоило соблюсти приличия. Общаться со взрослыми она умела — наверное, потому что сама считала себя вполне взрослым человеком.
— Соня? — другая, постарше, крупная, некрасивая, уставилась на неё большими чёрными, с поволокой, глазами. — Ир, мне кажется, она еврейка…
У женщины было грубо вырезанное лицо и нос с горбинкой.
— Что ты хотела, детка? — кудрявая наклонилась к Соне.
— Можно… его… достаньте… пожалуйста! — умоляюще протянула девочка.
Она очень боялась, что не успеет, что её здесь найдут.
— А-а, тебе кто-то из наших артистов понравился? Кого ты хочешь увидеть? — Ира распахнула закрытый уже было саквояж с куклами.
— Его! — Соня показала пальцем на Бориса. То есть тогда она ещё не знала, что это Борис.
Это была необычная кукла, не из тех, которые становятся тряпками, как только их снимают с руки. Лиса сшили очень талантливо — он был не простой «рукавичкой», а плотной, полноценной игрушкой, с четырьмя лапами, и мог даже сидеть. Для доморощенного разъездного театра, как рассуждала потом Соня, это стало удачной находкой.
— Значит, моего лучшего друга! — та, которая некрасивая, присела перед девочкой на корточки, упорно в неё вглядываясь. — А откуда ты знаешь, что это — он, а не она?
Роль у него действительно была тогда женская — Борис играл очередную лисичку.
— Глаза-то у меня на месте! — пожала плечами Соня.
Эту фразу любила повторять бабушка. Называть её надо было бабушкой, хотя Соня познакомилась с ней только, когда умерла мама.
— Нет, ты погляди?! — в восхищении воскликнула женщина.
— Может, тебе мишку достать? Смотри, какой он хороший! Хочешь, он тебя поцелует? — молодая тётя, приветливо глядя на девочку, уже шустро надевала на руку симпатичного, улыбчивого медвежонка.
— Нет, — нетерпеливо замотала головой Соня. — Его, того, пожалуйста!
— Нет, ты видишь, ты видишь?! — всплеснула руками старшая, назвавшая лиса своим другом. — Это — наша девочка! Ну какой ещё ребёнок так выберет, а? Ей нужна умная кукла! Талантливая кукла, а не твои поцелуйчики! На, держи, возьми его, он разрешает.
Дрожащими руками, словно ей протягивают некое чудо, девочка приняла лиса, почувствовала, какой он тяжёленький, какая у него мягкая, пушистая шёрстка. Потом, за многие годы, шёрстка у Бориса истёрлась, но это ощущение тепла и сказки Соня ощущала всегда, как только брала его в руки. А какие у него оказались глаза! Художник нашёл необычные пуговицы — зелёные с чёрной серединкой, словно настоящим зрачком.
Немного обиженная, Ира отвернулась. Её куклой, как поняла девочка, был именно мишка. А другая тетя всё никак не могла успокоиться.
— Ира, у меня нет сомнений! Посмотри ей на нос! Это наш нос!
— Сонечка, хочешь ириску? На вот, возьми… Мара, отстань, не пугай ребёнка. У неё самый обычный среднерусский нос, — Ира уже раздражалась.
— Для такой маленькой девочки? Обычный нос? Нет, ты на глаза посмотри! Да я такие глаза только у Аллочки Надельман видела! В них смотреть и смотреть! А грустные! А умные!
— Господи, Мара! Это детдом! Здесь у всех детей грустные глаза… Я, если честно, уже не могу здесь. Пойдём, дорогая, пожалуйста, а?
— А как твою маму зовут? — не унималась та.
— Какая мама?! — зашептала Ира и предупреждающе дёрнула её. — Забыла, где мы?
— Я знаю, как зовут маму, — Соня высокомерно поглядела на женщину. — Она умехрла. А папа нас бхросил давно. Мама — Алла, а папа — Вася. Я жила у бабушки, папиной мамы, а потом она заболела. Наверное, тоже умехрла. Она не пхриходит.
Всё это она оттарабанила на одной ноте, хорошо понимая: лучше отчитаться сразу, чем долго отвечать на вопросы, а то сейчас явится воспитательница, и ничего не успеешь. Маму Соня, вообще-то, почти не видела, даже забыла, как она выглядит, мама всё время где-то болела, и Соня жила в семье её подруги, в одной комнате с двумя взрослыми девочками. Добрая или злая была эта тётя, осталось неизвестным, потому что она постоянно работала, даже дома — стучала на печатной машинке. А девочки или тискали Соню, как куклу, или ссорились друг с другом. Про эту женщину запомнилось только то, что она — «никакая». Это слово она сама повторяла изо дня в день: «Сегодня я совсем никакая… Ужина нет, а я опять — никакая… вставать завтра в шесть, а я…» — и так с утра до ночи. Соня ходила в скучный, тоскливый детсад-пятидневку, в группу, где дети даже не умели ещё разговаривать. Соня разговаривать умела хорошо, только было не с кем.
А потом пришла бабушка, сказала, что она — папина мама. Но папа так никогда и не пришёл. Старуха забрала Соню и кормила её. В самом прямом смысле — именно кормила, постоянно кормила, только кормила… А ещё очень нудно, надоедливо причитала. Больше ничего из их быта и общения Соня не запомнила. Девочка сама находила себе развлечения в пропахшем пылью и старой одеждой пригородном доме. Отыскала какие-то книжки и пыталась различать буквы, которые показала ей соседская девочка-первоклассница. Соня уже тогда привыкла быть одной и полагала, что это нормально. Бабушкины ласки были ей неприятны, она с трудом их терпела и всячески избегала — очень уж та казалось чужой и какой-то… Тогда Соня не могла найти нужного слова. Теперь бы она сказала «деревенской, некультурной». Так что интернат стал для неё не местом заключения, а скорее глотком чего-то нового, интересного — здесь оказалось столько книжек, а ещё — мозаика, а ещё — занятия: лепка, рисование, аппликация. У Сони всё получалось лучше, чем у других, и её часто хвалили. Остальные дети мало её волновали, но когда они попробовали обидеть новенькую, получили резкий отпор: защищать себя Соня научилась ещё в посёлке — там педагогов много, одни только пацаны из местных чего стоили…
— Как ты говоришь — Алла? Нет, правда, твоя мама — Алла? Ира, послушай, как она говорит «хэ» вместо «рэ»!
— Все дети картавят!
— А фамилия твоя как? Фамилия? Надельман, может?
— Нет. Смихрнова.
— Вот видишь… — сказала молодая. — Послушай, ребёнка уже ищут, наверное.
— Так ведь русский папа! — шептала, поражённая, Мара. — Боже, Ира, я знаю её мать. Это моя Аллочка, она вышла замуж за русского. А потом развелась, и опять вышла замуж… Наверное, это как раз её дочь… Она достала меня из колодца, нет, ты подумай! Дочка моей Аллочки…
— Из какого ещё колодца?
— Мы играли в мяч, я оступилась и не заметила колодца, ну, который в земле. А она не убежала, она меня вытащила! Я могла там погибнуть… Я не могу, не могу так просто уйти от этой девочки. Мне надо всё узнать!
— И что — давно умерла твоя Аллочка? — очень тихо поинтересовалась Ира. — Можно ведь выяснить данные. Имя, конечно, редкое, но не обязательно же…
— Умерла? — переспросила Мара, явно думая о другом. — Да, ужасно, ужасно…
Она безотрывно смотрела на Соню, как Соня — на лиса.
— Смотри: у девочки крестик, — заметила Ирина. — Это не еврейский ребёнок. Откуда это у тебя, Сонечка?
— От мамы.
— Вот видишь!
— Да откуда же ей знать! — возразила Мара. — Ей всё — от мамы! Небось, бабка и окрестила, известное дело. Про такие вещи не говорят, в стране победившего социализма. Как ей вообще крест-то оставили, вот чудеса… На память, что ли?
— Не говорят, а ты орёшь! — Ира оглянулась на дверь. — Детка, Сонечка, мы ещё приедем, покажем другой спектакль, обязательно. И всех наших куколок привезём. Пойдём, я отведу тебя, ладно?
Но Соня не отвечала. Она смотрела на лиса, а тот на неё — задумчиво, изучающе.
— Как его зовут?
— Не знаю… — растерялась его хозяйка. — А ты бы как назвала?
— Бохрис.
— Почему Борис?
— Он сказал. Ты вехнёшься ещё, Бохрис?
Она прошептала это только ему — одними губами, но Мара услышала.
— Подожди… Сейчас он тебе ответит, — Мара потянулась к кукле.
— Не надо… — решительно отвела её руку Соня. — Он и так умеет, сам. Он уже сказал.
— Что, что сказал? — женщина почему-то жутко нервничала.
— Что хочет ко мне… Чтобы всегда со мной жить!
Борис и правда ей так сказал, она могла поклясться! Соня никогда в жизни (правда, пока её жизнь измерялась всего пятью, да и то неполными годами), не врала — ни себе, ни другим. Особенно по таким важным вопросам.
Тут, наконец, появилась воспитательница.
— Вот она где! А я считаю–пересчитываю, нет нашей Сони-тихони! Слава Богу, нашлась!
— Подождите… Скажите, у девочки есть кто-нибудь из родных?
— Круглая сирота. Она у нас недавно, месяцев восемь, с нового года.
Мара прислонила ладони к губам — то ли поражённая открытием, то ли что-то решая.
— Я знала её мать! — внезапно воскликнула она и добавила:
— Это точно. Абсолютно точно.
— Правда? Надо же!
— А что с отцом?
— По документам отца не было — внебрачный ребёнок.
— Да, да, это похоже… Аллочка — она второй раз, кажется, не расписывалась.
— А что же тогда за бабушка? — негромко поинтересовалась Ира.

— Да, была бабушка. Соня жила у старушки около года, та вроде признала, что её сына дочка. Только сына сама уже много лет не видала. Потом хворать начала, девочку к нам отдала — смотреть некому. Бабушки больше нет…
Воспитательница закончила фразу совсем тихо.
— Я бы могла? Мне надо поговорить с директором… — заявила Мара.
Разговор этот впечатался Соне в память, записался «на корочку». Иначе откуда бы она всё это знала? Мара не любила умильных воспоминаний о том дне и по-настоящему изводилась, если её хвалили за геройский поступок. Тётя Ира тоже предпочитала молчать.
Значит, Соня запомнила всё сама, но тогда она как будто не слушала. Всё это время она глядела только на Бориса — тоскливым, прощальным взглядом, зная, что никогда его больше не увидит и впервые в жизни (смерть матери была для неё просто словами, пустым звуком) по-настоящему, по взрослому страдала от боли потери. Почему, почему так получается? Она вдруг нашла себе друга, настоящего, на всю жизнь! И его скоро уберут в саквояж и унесут — к чужим, посторонним детям…
Воспитательница уже ласково, но настойчиво положила руку на плечо девочке, другой аккуратно отбирая у неё лиса — отдать хозяйке.
— Прощай, прощай, прощай… — повторяла про себя Соня, зная, что он услышит.
Но Борис, оказывается, прощаться не собирался.
— Спокойно, — сказал он. — Не надо паники. Я все устрою.
И Соня сразу ему поверила. И он… всё устроил.
Дальнейшего Соня видеть не могла, но из обрывков разговоров, незначительных фраз, которые дети так умело собирают и складывают в логические цепочки, к двенадцати годам она уже знала всю историю. Мара отправилась к директору, разведала, что мать Сони звали Аллой Леонидовной Смирновой. Её девичьей фамилии, разумеется, указано не было, только год рождения — он вроде бы совпадал. Да Мара и не помнила никаких подробностей о своей детской подруге, даже как звали её отца, чтобы сверить отчество. Но не стала искать следов прошлого. Ей оказалось достаточно имени, внешнего сходства и, главное, собственной интуиции — раз и навсегда. А уж убедить других в том, в чём она сама была абсолютно убеждена, Мара умела. На удивление всем, одинокая малообеспеченная кукловод добилась своего и удочерила ребёнка. Правда, ради этого ей пришлось пойти на одну серьёзную жертву. Но цепочка потянулась и привела к странным последствиям — видно, и правда, случайностей в жизни не бывает.
***
Соня не стала рассказывать Жене о ночном происшествии. Во-первых, как настоящий мужчина и, прямо сказать, собственник, тот сразу разбухнет, полезет в бутылку, и ещё неизвестно, чем всё закончится. Покалечит ещё мозгляка, а потом будет иметь проблемы с его папашей. Во-вторых… Потому что об этом вообще никому не стоило говорить. А стоило просто забыть.
Анька все выходные была очень услужлива, к тому же Женю она побаивалась, хотя и немного кокетничала с ним — он ей нравился и внушал доверие, совсем, как Маре. Сегодня Соне предстояло работать во вторую смену, с двенадцати, и это было хорошим продолжением воскресенья. Когда она уходила, сестра, не обременённая больше учёбой, ещё дрыхла. «Надо срочно искать Аньке работу, чтобы была при деле», — вздохнула про себя Соня. Её мучило сознание, что ничего из того, о чём просила мать, исполнить не получалось.
Вечерняя смена нравилась Соне больше. Не только потому, что можно нормально выспаться. Нет утренней беготни с завтраком, подсчётов, плановых занятий, обязательной прогулки. Дети уже сидят, обедают, радостно поворачивают головы в её сторону: «Софья Васильевна пришла! Софья Васильевна!» И даже зычное «Тихо всем! Ну-ка, смотрим в свои тарелки!» ревнивой и жёсткой сменщицы не могло испортить настроение. Надька скоро сбежит, оставив Соню укладывать детей и сочинять план на завтра. Ещё один цербер, нянька, уволилась неделю назад, и её обязанности по совместительству выполняли воспитатели.
Соня знала, ребята ждут не дождутся момента, когда Надежда Петровна, подхватив сумку с полными банками еды (кормить собственного глубоко любимого и глубоко запущенного сына), со словами «при такой зарплате ещё и не взять?» скроется за дверьми. Тогда можно будет расслабиться в кроватках, перестать изображать из себя стойких оловянных солдатиков с руками навытяжку поверх одеяла, привстать, хохотнуть, не пугаясь Сониных, никогда не приводимых в исполнение, угроз, но всё-таки замереть — не от страха уже, но от восхищения: Софья Васильевна будет читать, а то и выдумывать на ходу что-нибудь необыкновенно-сказочно-интересное.
После сна — полдник, такой уютный, домашний: дети только что вылезли из постели и ещё в пижамах расхватывают свежие булочки и стаканы с кефиром. Девочки выстраиваются в очередь — заплетать косички, густые или жидкие, чёрные, пепельно-светлые или медно-рыжие. Каждая хочет прижаться и получить свою толику любви от неизвестно за что боготворимой Софьи Васильевны. Они так быстро находят себе кумиров… Соня даже боялась этой незаслуженной, непонятной детской привязанности. Боялась оказаться недостойной, потерять её. Неужели это постоянное чувство вины, что тебя принимают не за того, любят по ошибке, ей тоже досталось от Мары?
Но откуда же они знают, что им не откажут в ответной любви? Не все они получают дома достаточно ласки, хотя и растут в обеспеченных семьях. Открытая уверенность многих людей, а не только детей, что они должны быть любимы, никогда не давалась Соне — с самого детства ей в голову не приходило на это рассчитывать. Наверное, умение принимать любовь, требовать её проявлений к себе — это дар, который кто-то умудряется сохранить с самых ранних, наивных лет.
Соня никогда не смотрела на детей снисходительно, с высоты своих лет и положения. Не потому, что считала уважение к ребёнку хорошим воспитательным приёмом. Она просто не чувствовала себя ни лучше, ни выше и хорошо помнила свои ощущения в этом возрасте. «Относиться к ребёнку, как к равному…» — говорили мудрые люди, при этом не забывая про слово «как». Да почему «как»? Они и есть равные — и по разуму, и по чувствам, только ещё не имеют столько знаний и опыта… и многие ещё не имеют греха. Это к ним надо относиться с почитанием, с такой же осторожностью, как к цветку. Банальное, но верное сравнение: не засушить, не залить, не научить дурному.
Ох, как же быстро они учатся от нас дурному — хватают на лету! Как легко к некоторым прилипает это дурное, становится родным, потому что и было своим, родным — от утробы матери. Как видны на них, словно пятна на солнце, следы, оставленные взрослыми — изнутри и снаружи. Но есть и такие, к которым долго, очень долго не прилипает — независимо ни от чего, ни от наследственности, ни от среды. Трогательные и самые хрупкие души — разве достойна какая-то Соня властвовать над ними? Надо только не разбить, огранить, поделиться. И заслужить их уважение — не силой своей власти, а силой своей души. Если хватит ещё этой силы…
И ведь всё они знают про взрослых, кто и что из себя представляет. Никогда не прильнут не к тому человеку, будь тот ласков, слащав и всеми карманами полон конфет, как ещё одна, пожилая, с тридцатилетним опытом воспитательница, подменяющая иногда в группе. Соня долго не могла понять, почему ей не нравится Людмила Алексеевна, и мучилась из-за этого совестью. С Надеждой — с той всё ясно, а с этой-то что? Дети её не боятся, но явно не любят, хотя она и разрешает им всё, никогда не повышает голос и постоянно гладит по головкам — в буквальном и переносном смысле.
А потом случилась одна история, после чего совесть у Сони умолкла. Вадик — очень домашний, ранимый мальчик, принёс из дома хомячка, и тот две недели благополучно загаживал клетку, не вызывая у Сони ничего, кроме брезгливости. Ну, не любила она этих мелких животных, копошащихся, щекочущих руку, когда пытаешься их удержать, чтобы выбросить из «жилища» коричневые, вонючие бумажки. Хомячок сдох — и жалко было больше не его, а Вадика. В его семье давно творилось неладное. Папа ушёл после того, как мама попала в аварию и пережила трепанацию черепа. Милая, утончённая женщина, обожающая своего сына, стала странноватой и порой агрессивной. Бабушка умерла, и мальчика в основном воспитывал неродной дед, отчим матери — сердобольный, интеллигентный, но тоже не слишком здоровый. И тут — на тебе ещё, настоящее недетское горе…
Соня пришла тогда во вторую смену и не сразу поняла, что случилось. Дети казались увлечены игрой — Людмила Алексеевна, как обычно, запаздывала с обедом. А Вадик сидел в углу, и спина его сотрясалась от беззвучных рыданий. Соня бросилась к нему, узнать, кто обидел.
— Ку-узя-я-я… — только и выговорил мальчик.
Соня перевела взгляд на клетку — она была пуста. Решив, что зверёк пропал, Соня принялась сочинять, что хомячок сбежал в поисках своих родственников.
— Не сбежал… — ещё больше зашёлся Вадик. — Людмила Алексеевна мне показа-ала…
Выяснилось, что воспитательница, придя утром, первым делом обнаружила мертвого питомца, и, вместо того, чтобы тайком унести его, демонстрировала приходящим в группу ребятам. Так что дети встретили опоздавшего Вадика громким криком: «А твой Кузя — сдох!»
— Ничего, пусть знают правду жизни! В жизни много горя! — гордо покачивая седой, мудрой головой изрекла Людмила Алексеевна на робкий Сонин упрёк.
Соня вспомнила, как однажды не могла найти Бориса и решила, что Вова, отчим, выбросил его на помойку. И другой раз, когда искала его… в тот ужасный день, в больнице. И подумала, что один из таких уроков можно было бы в жизни Вадика и пропустить — будут ещё учителя, не щадящие чужих сердец. А Людмила Алексеевна ещё долго после этого, усадив его на коленки, вспоминала, каким хорошим и милым был его белый Кузя, вызывая у мальчика, общими стараниями подзабывшего всю историю, новые приступы горя. Вот тогда-то Соня и заподозрила добрейшую женщину в скрытом садизме, тогда-то навсегда и испортила с ней отношения. Впрочем, таких садистов, скрытых или явных, среди людей, призванных детей любить, было не так уж мало… Процентов девяносто.
Сама Соня в своё время струсила и работать в детский дом, как планировала после окончания пединститута, не пошла. Пожалела себя, не захотела надрывать сердце. Но и в престижном, элитном садике, куда переманила её из обычной начальной школы заведующая, сердце, как оказалось, надрывалось не меньше. К слову сказать, садиком руководила та самая бывшая воспитательница, наблюдавшая первую встречу Сони, Мары и лиса, и сделавшая неплохую для их города карьеру. Они с Марой сохранили дружеские отношения — мать часто советовалась с Ниной Степановной по поводу ребёнка, особенно в первые годы. Себе Мара не доверяла, во всём искала непререкаемые авторитеты.
Садик открылся при лицее — лучшей школе в городе. Обучение в ней строилось на плавном переходе из подготовительной группы в первый класс. Просто так сюда на работу не брали — только по знакомству, так что заведующая оказала Соне хорошую протекцию. Ей сразу, к возмущению остальных педагогов, которым доверяли возрастных детей в зависимости от стажа и квалификации, досталась средняя группа. А значит, два следующих года Соня будет с ними и подготовит их к школе — это ведь так интересно! С такими ребятами уже можно говорить обо всём. И её собственные слова и мысли отзывались, преломлялись в них настолько быстро и неожиданно, что порой ставили в тупик саму воспитательницу.
Но и терять бдительности не стоило. Многие малыши только казались сознательными, а на самом деле могли вытворять такое! Оглянись, заболтайся — одна секунда, и вот уже кто-то ревёт, застряв в окошке деревянного домика, кто-то с пол-оборота заработал от соседа ложкой в лоб, кто-то решил, что ему пора домой и двинулся в сторону ворот. Пересчитывать, пересчитывать и ещё раз пересчитывать! Соня не забывала об этом никогда, и ещё и поэтому не любила трепаться с коллегами на прогулках. Её считали чудачкой и нелюдимкой, и Соню это устраивало: с дружбой и всеми вытекающими отсюда сплетнями и интригами никто не приставал.
Вечерняя прогулка имела одну сложность: за детьми приходили родители, надо было внимательно отслеживать, кто и кого забрал. А то многие взяли привычку махать своему чаду ещё от будки охранника и у воспитательницы не отмечаться. Дети убегали за её спиной, и Соня в ужасе пыталась понять — куда делся малыш. Пришлось потратить немало сил, чтобы внушить каждому — уйти он может только, когда отпустит она, даже если пришли любимая мама или бабушка. А уж никаким соседям, братьям-школьникам или чужим родителям Соня ребёнка не отдавала. В ней включался тот же инстинкт, что и у беспокойной Мары. «Лучше перебдеть, чем недобдеть», — говорила та и была права. Многие родители роптали и даже пару раз жаловались, но Нина Степановна, заведующая, свою протеже одобряла и терпеливо объясняла, что все меры безопасности придуманы только в интересах детей.
Кое-кто так и остался недовольным: какая-то воспитательница призывает их к порядку! С родителями здесь оказалось сложнее, чем в школе. Конечно, не все из них были высокомерные снобы, многие вели себя очень вежливо и приветливо. Но большинство относились к работникам садика со скрытым, еле сдерживаемым, а то и откровенным презрением — как к обслуживающему персоналу, горничной или водителю. Находились и такие, кто ревновал к Соне собственного ребёнка. Если бы она могла, то сказала бы, что лекарство от чрезмерной любви к чужим людям есть только одно — уделять достаточно внимания малышу. Но…
Вот и сейчас Соня выдержала недовольный взгляд бабушки, которую послушная внучка заставила подойти прямо к беседке, чтобы привлечь внимание воспитателя.
— Хотите сказать, вы меня не увидели? — возмутилась моложавая, одетая по последней моде дама. — Не заметили, как я подъехала? Или вам просто нравится людей гонять?
Женщина сама управляла автомобилем, маленькой праворульной иномаркой.
— Простите, не увидела. Я смотрю на детей, а не на ворота.
— Лучше бы вы на забор смотрели. Там маньяк кого-то выглядывает, вот украдёт ребёнка, а вы в тюрьму сядете!
— Какой ещё маньяк? — подняла брови Соня и невольно оглянулась.
От веранды до забора было далековато, чтобы что-нибудь разглядеть — темнело теперь рано. Но Соне показалось, что в тот же момент метнулась и скрылась за деревьями чья-то фигура.
«Вот это да… — подумала Соня, и сердце у неё тревожно заколотилось. — Наверное, какая-нибудь семейная история, папа с мамой ребёнка не поделили. Надо обязательно сказать Нине Степановне!»
Правда, сколько она ни всматривалась в этот вечер в тревожную чёрную улицу, никто на ней больше не появился.
— Как ты думаешь, что ещё за напасть? — спросила она вечером у Бориса, вспомнив об этой истории.
Неприятные предчувствия, ощущения тяжести и тоски в это время суток — после ужина, когда спать ложиться ещё рано, а Анька где-то шляется, теперь постоянно мучили Соню. А сейчас стало особенно не по себе. Она даже готова была позвать Женю. Впрочем, Женя сегодня на дежурстве.
— Напасть… пропасть… напал… пропал… — пропел, непонятно-темно глядя своими, давно уже просто чёрными глазами, лис.
— Ну, знаешь ли… Тоже мне, стихоплет! — возмутилась на явную издёвку Соня и отвернула его от себя, мордой к окну. — Нету сегодня звёзд, нету. Смотри сам.
***
Вообще-то, они редко спорили и почти всегда сходились во мнениях. Анька могла сколько угодно показывать ей на мозги — но только одно существо на земле знало и понимало про Соню всё.
К тому же, он всегда выполнял обещания. Правда, домой к ним лис переехал не сразу, но Соня очень часто его видела — на спектаклях и после них, в «гримёрках», как называли любое подсобное помещение, даже чулан, где порой приходилось готовиться к представлению, Мара и тётя Ира. Там, в этих гримёрках, обычно и происходили самые интересные разговоры с Борисом. Не перед спектаклем, нет: Соня понимала — артист должен собраться, морально настроиться; а после, когда он, довольный собой, становился расположенным к откровенности. Тогда-то он и сказал ей: «Наконец-то у меня появился собственный, личный ребёнок!»
— У тебя и так полно детей, — с притворной ревностью буркнула Соня. — Ты всегда говоришь в конце спектакля, как ты их всех любишь!
— Это работа, — не моргнув зелёным, с чёрным блестящим зрачком, глазом, признался лис.
Не хитрое у него было выражение «лица», но хитроумное — это точно.
— А вот я всегда говорю только то, что думаю! И никогда не вру! — гордо заявила девочка.
— Ну и дура, — хмыкнул Борис. — Как наша Мара — лепит всем, что ни попадя.
Он, наглец, повторял слова тёти Иры. Но Соня на него не сердилась, ему позволялось говорить правду в глаза, даже если Соня с его правдой и не соглашалась.
Борис был очень талантлив, сыграть мог кого угодно и часто заменял актеров на другие роли — кукол всегда не хватало, а вывозить одну и ту же сказку в одни и те же заведения, разумеется, не имело смысла. Как-то он даже сыграл кота, а однажды — щенка.
Директор небольшого кукольного театра, пытаясь повысить сборы, в своё время разработал этот разъездной вариант, разделил труппу и куклы по содержанию спектаклей и отправлял по два-три артиста на гастроли — в детские сады, школы, дома пионеров — и не только по городу, но и в окрестные посёлки. Он же, этот директор, и оказался тем самым талантливым мастером, когда-то произведшим на свет Бориса. Теперь уже глаза и руки у него стали не те. Дядя Лёша — так его звали, вёл заодно на полставки кружок мягкой игрушки во Дворце пионеров, а вдобавок был не молодым, но замечательным мужем очаровательной тёти Иры. Со временем они оба превратились в единственных, самых лучших и проверенных друзей семьи.
Полагая, что ребёнку будет интересно, Мара как-то привела Соню на кружок к дяде Лёше, но там с ней неожиданно случилась истерика. Девочка восприняла процесс рождения игрушек извращённо болезненно, словно стала свидетелем анатомического вскрытия. Она не хотела верить, что и внутри Бориса находится только вот эта серая вата или поролон. Соня разревелась, оплакивая недошитые игрушки. Даром дядя Лёша её успокаивал:
— Что ты, смотри, сейчас мы их все зашьём, и они будут здоровенькими и живыми!
— Каки-и-ими живы-ы-ыми… — надрывалась девочка. — Вы им сердце, сердце не положи-и-или… и мозгов у них нет, они думать не смогут!
У Бориса, она была совершенно убеждена, имелись и сердце, и мозги, и душа, да, да, кроме сердца и мозгов обязательно нужна душа, Соня это точно знала, только не понятно, откуда. Но у неё-то ведь есть что-то такое… что находится совсем не в голове и не в сердце, а где-то здесь, чуть повыше середины груди, где всегда болит, если грустно, обидно или стыдно…
Мара как-то решила постирать Бориса — тогда он уже жил у них и только у них, но Соня успела в последний момент спасти его из стиральной машины:
— Господи, Мара, он же там задохнётся!
С тех пор, щадя чувства «этого чудного ребёнка», мать допускала по отношению к любимцу только косметические процедуры и пылесос. С Соней она всегда считалась, к привязанности девочки к лису относилась серьёзно. Он ведь и для Мары давно стал не просто реквизитом или детской игрушкой, а личностью, соавтором, коллегой. Она же работала с ним, ей приходилось учитывать и его образ, и характер. Как поверит тебе сотня детских глаз, если ты не веришь сама?
Во время роли Мара оживала. Казалось странным, что такая женщина — крупная, резкая, иногда даже чопорная, необщительная с посторонними, может преображаться и разговаривать языком своих персонажей. Но у неё была душа настоящей актрисы, и во многих бытовых делах и событиях она себя проявляла — не показательной артистичностью, не игрой, а фантастической способностью воспринимать, как истину, совершенно вымышленные ситуации (причем вымышленные ею самой). Это и было тем самым вживанием в роль, полным погружением, только не искусственным, а растущим из глубины её странной души.
Вообще в матери жило много противоречий. В моментах, требующих выбора между собственным и чужим интересом, она становилась покладистой, уступчивой (если только речь не шла о ночных Анькиных прогулках) и многотерпеливой, никогда не настаивала на своих правах, не требовала чего-то для себя лично. Её ворчливость и домашний бытовой ор никто всерьёз не принимал — таков был стиль, а не суть их общения. А уж с людьми, которые казались ей лучше неё самой, то есть практически со всеми, Мара вела себя кротко и даже смиренно.
Зато не дай Бог кому-то из них — невзначай, между делом, просто для поддержания разговора, высказать мысль или идею, казавшиеся Маре вредными или неправильными. Куда только девались тогда её кротость и смирение! Люди с недоумением наблюдали вспышку возбуждённой ненависти к инакомыслию. Нет, мать не умела быть толерантной к чужому мнению. Но и в этих вспышках не присутствовало личной злобы к оппоненту — Мара ненавидела не собеседника, а то, что он говорил, саму «ересь», что означало в её устах как обычную глупость, так и нечто более серьёзное. Промолчать, с её точки зрения — это согласиться, согласиться — значит предать. Кого или что — она не знала. Убеждения ли, или то, что она называла «высшими силами». Бесконечные споры, которые устраивала мать, могли вымотать обе стороны.
И всё-таки лучше всего к её характеру подходило слово «без-обидный» — не в смысле неумения постоять, если надо, за близких людей или свои убеждения, а в его буквальном смысле: на деле Мара не обидела ни одного человека — за всю свою жизнь.
И только однажды Соня увидела в её глазах настоящий, страшный, тихий гнев и подумала — горе тому, кто заслуживает такое. И всю жизнь боялась такое заслужить. Но — нет… Не было. Слава Богу, не было. С первого до последнего дня Мара сохраняла к своей воспитаннице осторожное, трепетно-мистическое отношение — как к посланнице высших сил от Аллочки с просьбой об ответной услуге за спасение жизни тогда, в колодце… глубиной не больше полутора метров.
Вообще мистику и смысл Мара видела в таких вещах, на которые иные люди не обратили бы и внимания. Она придавала значение всяческой ерунде. Попадала ли в какую-нибудь переделку или просто не досчитывалась сдачи после покупок, выводы она делала твёрдые: это мне за то, а вот это — за это… На самом деле, подобный мистицизм мешал жить и принимать мир таким, как он есть, без выдуманных подтекстов.
Оказалось, это заразно. Соня тоже привыкла искать скрытые смыслы и разгадывать ситуации, словно ребусы.
Она разобрала постель, легла и принялась думать о Жене. Говорить об этом с Борисом сейчас не хотелось — Соня боялась услышать его мнение. Эти мысли мучили её уже третий день — даже воспоминания о Маре отошли на второй план. Для матери всё, что касалось брака с Женей, считалось давно решённым, и Соне тоже хотелось однозначности в этом вопросе, но…
Раньше отношения с Женей оставались где-то за кадром её основной, дневной жизни, словно некое дело, отложенное на потом — можно делать, а можно пока и забить. Смерть Мары вообще отодвинула всё это далеко-далеко. Свадьбу планировали по окончании траура — через полгода. За это время Соня успеет понять… Или не успеет. Соня могла думать о Жене и свадьбе только в связи с завещанием Мары, иные, собственные потребности, казались ей кощунственными, несущественными, с этим стоило повременить. Потом, позже (Женя подождёт) она попробует любовь на вкус, научится любить и увидит, хочет ли она этого или можно обойтись тем, что у неё есть.
Но сейчас… Знаки, знаки… Дачное происшествие не удавалось забыть. Это дурацкое нападение — определённо какой-то знак. Видимо, Соня слишком мало внимания уделяла этой стороне своей жизни, раз и навсегда решив, что не способна испытать настоящее удовольствие от отношений с мужчиной, что слишком отстранена от этой сферы бытия, и ей не дано понять, что такого находят люди в физической близости. Конечно, как всякий живой человек, Соня тосковала по теплу, а её тело испытывало определенные желания, которыми наделила его природа… но только, пока она не сталкивалась с кем-то конкретным. За все эти годы ни от кого из встреченных мужчин ей не хотелось ни ласки, ни упаси Боже, любовных утех. Поэтому она была готова терпеть отсутствие наслаждений, без которых иная женщина не обходится и недели, только бы не сближаться ни с кем из чужих, неприятных ей незнакомцев. Часто при общении с кем-то первая симпатия и интерес мгновенно проходили, как только она представляла, что этот человек пытается её поцеловать.
А вот Женя не был ей неприятен, иначе всё закончилось бы в первую встречу; скорее наоборот. Только поэтому она и смирилась, свыклась с мыслью о браке. Удивившись согласию собственного тела, физической приязни, Соня пошла тогда на эту Марину авантюру. Разумеется, уважение к жениху она тоже испытывала. Его умный, уверенный взгляд, спортивная фигура, чуть жёсткие, по-настоящему мужские повадки, вызвали у неё притяжение, которое подавало надежду вырасти в нечто большее. Но… так и не выросло — наверное, по её вине.
Теперь же, когда, пусть и под влиянием сна, и не с тем человеком, но — оказалось! — что и она… она тоже может… В общем, если это существует в ней, если даже желанно, то хотелось бы испытать с тем мужчиной, который предназначен стать её спутником. Значит, надо что-то изменить в их связи, сдвинуть, наконец, с ровного с места, сделать эту связь оправданной и настоящей со всех сторон.
Просто началось это как-то не так. Всё случилось в день похорон Мары — Соня тогда приняла это за знак, за волю покойной. Хотя, если оставаться честной, было попросту всё равно. В тот день Соня ничего не чувствовала — ни физически, ни душевно, она даже не плакала, словно всё выключилось в ней, заморозилось, чувства вырубились — наверное, чтобы не раздавить. Женя весь день находился рядом, полностью взял на себя организацию, оградил от любых забот, даже связанных с поминальным застольем. Наверное, зря — работа могла хоть немного отвлечь. А потом он, как ему, наверное, казалось, «утешил» невесту. Просто остался — в маминой, а ныне Сониной комнате, не стесняясь Аньки за тонкими стенами. Кажется, она даже стелила им постель и отыскала ему старые Володины тренировочные. Собственно, брак был делом уже предрешённым — так чего же стесняться? По крайней мере, сестра теперь не считает Соню ненормальной…
Она до сих пор не знала, понял ли жених, что он у неё первый, а просвещать не стала. Они никогда не говорили об этом. Возможно, Женя принял её поведение за отсутствие темперамента или сделал скидку на её горе. Но на другой день он приехал к ним, как к себе домой… Соня тогда испугалась. Она до сих пор не могла чётко вспомнить, что лепетала ему, что придумывала, и он не стал настаивать, видимо, найдя своё объяснение её поведению, потому что просто переночевал рядом с ней на диване, закинув ей на грудь свою тяжёлую мускулистую руку. Потом он ещё приходил, так редко, что отказывать было бы совсем неприлично, чаще в выходной. Восемь или девять раз за эти неизвестно как прошедшие несколько месяцев. Он сильно уставал на работе, и частенько сам предпочитал сомнительное постельное удовольствие отдыху у телевизора.
Но ведь пора же им начать понимать друг друга, общаться не только на общие темы! Дело, конечно, не только и не столько в физиологии. Странно как-то проводить вместе ночь, при этом оставаясь друг другу почти что чужими. Раньше отсутствие ясности между ними Соне совсем не мешало. Она считала себя человеком закрытым и не хотела «открывать» других. Но Женя оказался не просто молчуном, а — профессиональным молчуном. Она не знала о нём даже элементарных вещей — например, года его рождения или домашнего адреса. Ира утверждала, что её протеже владеет как минимум тремя квартирами, но Соня ни разу к нему не ходила и не видела, как он живёт. Их отношения замерли на одной точке. Женя не гнал лошадей — он словно боялся что-то нарушить в этом хрупком, непонятном равновесии. А может, его всё устраивало. Будь Соня в ином состоянии, она задалась бы вопросами, вывела жениха на откровенные разговоры. Но до этого момента Соне ничего не было надо, ничего не интересно. Мара хотела, чтобы она вышла замуж — ну и хорошо, Соня и сама понимала, что пора. Ненормально? Пожалуй. Но вполне в их семейном духе.
Конечно, многое зависело от него. Наверное, если бы Женя захотел, Соня смогла бы получать удовольствие от «процесса». Тут её впервые кольнуло — а чего хочет от неё Женя? О чем он думал всё это время, наталкиваясь на её прострацию? Может, ему всё равно? Или он просто чувствует, что её душа занята чем-то совсем другим, летая между землёй и небом, пытаясь понять, где же та тонкая грань между жизнью и небытием?
В небытие Соня, конечно, не верила и точно знала, что Мара есть, живая, такая же, как всегда, только в другом месте, конечно же, в лучшем. Небытие наступало здесь, на земле, для того, кто не мог больше дотронуться до ушедшего, услышать его, заглянуть в глаза, и вот эта невозможность вызывала полное неприятие и непонимание.
Соня прикрыла веки. Она невольно прислушивалась. А вдруг случится чудо, и сейчас раздастся такое привычное шарканье ног в домашних тапочках — чем тише старается идти Мара, тем хуже у неё получается: то запнётся о порожек, то налетит на стул. Надо только представить… Вот она подходит к дивану, несколько секунд вглядывается — спит ли Соня, неловко пододвигается… Сейчас, ещё через одно мгновенье Соня почувствует шероховатую ладонь на своей голове, услышит вдох — после осторожно задержанного дыхания…
Полная тишина. Только часы отсчитывают секунды — сбивчиво и без ритма… давно пора поменять батарейку — показывают, что им вздумается. То торопятся, то отстают, то вообще замирают. Но даже если они пойдут вспять, никогда больше Соне не ощутить ладони на своей голове, не услышать тяжёлой походки. И при чём тут этот нетрезвый настырный мальчик — босиком, на лестнице… мысли уже путаются… никто не придёт… ничего не приснится… но кто-то проводит рукой по её волосам… просто это уже сон… пусть будет сон…
***
С утра Соню «обрадовали»: Надька, сменщица, в очередной раз взяла больничный. Сделать это ей ничего не стоило, в поликлинике работала её мать — не менее жёсткая и ещё более грубая женщина. По совместительству она выращивала несколько коз в сарае на задворках дома, выгуливала их вокруг детского сада в разное время дня, в зависимости от расписания в поликлинике. Когда часы работы у матери с дочерью совпадали, Надька выносила из садика еду в заранее приготовленных банках. Глядя на эту семейку, Соня всегда удивлялась, почему обе женщины выбрали себе такие профессии, в которых надо любить людей. И в медицине, и в педагогике — платят сущие гроши. Как же вы здесь оказались-то, с вашим патологическим неумением чувствовать чужую боль?
Никто не хотел работать с Надькой в одной группе, только Соня не нашла повода отказаться. Нина Степановна сама жаловалась ей на эту сотрудницу, но сделать ничего не могла — Надька имела хороший блат, с которым не могла поспорить даже заведующая.
В общем, денёк выдался непростым, Соня даже не возражала бы, если бы вернулась няня. С завтраком запоздали, и, когда Соня домыла посуду, на занятия осталось совсем мало времени. Дневное гуляние тоже не заладилось — Вика упала в лужу, промочила колготки и испачкала дорогое пальто, причём в качестве виновницы указала на Настю. Надежда Петровна в словах своей любимицы вряд ли бы усомнилась, и, конечно, имела на то основания. Плохо только то, что сваливать на Настю все грехи подряд дети начали именно с Надькиной подачи. Соня не отрицала — девочка плохо управляема, но частенько замечала, что потерпевшие обвиняют её не без злобного умысла.
В итоге Вика расплакалась — дома её ругали за испорченную одежду. Настя разревелась тоже, громко, горько и оскорблённо — своей вины она не признала. Свидетелей, кроме Викиных подпевал, сперва не нашлось; но потом поднял голову Вадик и сказал очень тихо, что Настя играла в беседке. Ему Соня верила больше.
— Толкаться — нельзя, — сказала она. — Если Настя толкнула, то она меня очень расстроила. Но тот, кто говорит про другого неправду — это не просто ябеда. Это очень плохой человек, называется — клеветник. И за это я буду серьёзно наказывать. Надеюсь, никто из вас так никогда не делает!
Вика надулась и отошла, но истерику прекратила — похоже, Соня попала в точку. В любом случае, хотя бы не наябедничает матери — ещё не хватало очередного конфликта. По той же причине одежду следовало срочно привести в приличный вид.
Вернувшись с прогулки, Соня помогла детям раздеться, выдала Вике запасные колготки и тотчас же побежала за обедом. Очень страшно идти вниз за супом, оставляя детей одних, и особенно потом возвращаться на кухню за вторым. Потом — снова посуда: гречка отмывалась от тарелок плохо, раковина тотчас же засорилась. Так что Соня вспомнила про испачканные и мокрые вещи, только отправляя детей спать.
На её счастье, наверх поднялась Танечка — воспитательница второй младшей группы. Малыши Танечку обожали. Соне казалось невероятно сложным возиться с такими несознательными детьми, но двадцатилетняя Татьяна Викторовна делала это виртуозно; вот что значит — природный дар. Девушка была такой чудесной, что даже суровая пожилая няня в её группе расплывалась в умильной улыбке, наблюдая, как Танечка терпеливо и ласково проводит занятия, играет с малышами в подвижные игры или показывает бумажный театр — «Репку» или «Теремок». Девочка откровенно тянулась к Соне, но та всегда с осторожностью относилась к предложениям дружбы и Танечку пока держала на расстоянии.
Добрейшая девушка, узнав о проблеме, тотчас пришла на помощь, отпросилась у собственной сменщицы и уселась в спальне — читать детям книгу, пока Соня чистила пальто и бегала в гладильную. Когда ребята, наконец, уснули, они с Танечкой немного поболтали. Утром Соня сообщила заведующей о неизвестном, торчащем возле забора, и Нина Степановна провела для сотрудников краткий, но жёсткий инструктаж. Веранды двух групп — Сони и Тани — имели общую стенку, и теперь они гадали, у чьих родителей возникли семейные проблемы, чей папа мог караулить своего малыша.
Вечером все вместе вышли на прогулку, но обе сначала были заняты раздачей детей. Только когда во второй младшей остался один Артурчик, Танечка подхватила его и перебралась на соседнюю веранду.
И тут заявилась Анька. Увидев её, Соня уже по походке, набыченному лбу, размашистому шагу поняла — сестра настроилась на борьбу, идет чего-либо требовать — может, денег на поход в ночной клуб, а может, новые джинсы. Главное — не предмет, а процесс. Анька вызывающе глянула на Танечку, и девушка сразу же отошла — у них была взаимная неприязнь.
— Тихоня, тоже мне! — скосила ревнивый взгляд Анька. — Небось, идеал твоей сестрёнки, да?
— Ага, — спокойно кивнула Соня.
— Да она просто притворщица, хитрая, без мыла в ж… влезет! Тоже мне, очаровашка!
Соня беспокойно оглянулась — не слышит ли Танечка. На улице уже совсем стемнело, и Соня задержала взгляд на заборе. То ли кусты, то ли впрямь кто-то стоит… Далеко от веранды, не видно. Зато территория садика в свете фонарей — как на ладони. Соне стало тревожно.
— Ну, так что… Чего ты пришла? — нетерпеливо спросила она.
У неё осталось двое ребят — Вадик и Настя. Обоих она держала за руки, старательно разводя в разные стороны. Вадик имел привычку попадать в истории, находить неприятности на ровном месте. Настя обладала способностью эти самые неприятности на ровном месте создавать. Долго так с ними не продержаться, этих детей следовало развлекать.
— Тебя захотелось встретить, а что, нельзя?
— Подозрительная забота. Давай, выкладывай, что случилось.
— Ничего… Я… я в Москву уезжаю! — выпалила вдруг Анька.
— Что-о?
— Соня, Соня, пойми! Здесь мне ловить нечего! Экономисты здесь не нужны! Ну не в детский же сад ваш работать идти!
— Тебя и не возьмут.
— Ну и слава Богу! Пусть ваши Танечки попы тут подтирают… А я хочу делать карьеру, ясно? Я специалист, с высшим образованием. А у нас в городе…
— Ага, зато в Москве тебя ждут с распростёртыми объятьями! Там же таких специалистов — ни одного! Подожди, Вадик, сейчас я буду рассказывать дальше… Насть, зачем ты его ногой?
— У нас экономистом не устроиться. А в Москве — столько предприятий…
— Угу. И на каждом экономистов — как собак нерезаных. И на что там жильё снимать?
— А здесь даже мужиков нормальных нет! — продолжала выкладывать аргументы та. — Ну что такое Костик? Три компьютера на двух фирмах. Что он заработает на семью? Тебе-то везёт, у тебя Женька есть — но такие наперечёт, все разобраны.
— Ну-ка, стоп! Ты что — мужиков в Москве ловить собралась? Ну ты и дура, Анька! Влипнешь там, как, как… Вадик, не поднимай это с земли, брось скорее!
Соня занервничала. Мать ни за что не пустила бы Аньку в Москву, даже разговора бы такого не потерпела. Но как убедить упрямицу? Ведь она права — найти здесь работу попросту нереально. Вот только в Москве она натворит таких дел!
— Нет, подожди, я же не идиотка, — Анька старательно изображала серьёзность и деловитость. — Мы всё продумали с Линкой. Её родители отпускают! Снимем квартиру на двоих — уже дешевле. На первое время деньги есть — поделим с тобой мамину сберкнижку. Не бойся, в проститутки меня не заманят, паспорт никому не отдам, и вообще, Москва — это не большой притон, а просто большой город.
— Нет! — твёрдо сказала Соня. — Даже слышать ничего не хочу. Да ты и не искала работу ещё, всё ждешь, пока тебе на блюдечке с каёмочкой… Закинь объявление, поговори со знакомыми. Вот… вот хотя бы этот ваш… Дима. Всех обещал пристроить.
Надо было серьёзно напугать Соню, чтобы она упомянула про Диму и согласилась на его протекцию. Анька открыла было рот, потом закрыла, кинула на сестру непонятный взгляд и поджала губы. Соня повернулась в сторону забора — ей снова почудилось там движение. Ну, когда же придут за Настей? Тогда можно будет взять Вадика, пойти навстречу дедушке или завести мальчика домой; они давно это практиковали, если дед неважно себя чувствовал.
— Ну, так что — Дима-то? — нетерпеливо переспросила Соня.
— Дима… Дима как раз предлагал… в субботу… — нерешительно начала Анька. — Секретарём в офисе у его папы. Ты можешь себе представить, как трудно туда попасть? Ну, не у самого, конечно, а в отделе маркетинга. Там бы мне сразу такой оклад положили!
Соня очнулась — этот вариант дурно попахивал, надо срочно давать задний ход.
— Секретаршей? Нет, Ань, не стоит… Аня, не надо, слышишь? Мы найдём тебе нормальную работу, подожди немножко. А то ещё потребует за это… чего-нибудь. Сама понимаешь…
— Потребует? — неожиданно горько и как-то совсем по-взрослому усмехнулась Анька. — Да если б потребовал…
Глаза у неё на минуту потухли, и до Сони сразу дошло, что хотела сказать сестра. Господи, неужели всё-таки вляпалась? Вот беда! Но почему тогда отказалась от места?
— Он у меня за это совсем другого потребовал… Сказать, чего? — на унылом лице девушки появилась странная гримаса.
— Скажи.
— А ничего! — Анька отвернулась.
В таких случаях добиваться от неё ответа было бесполезно — захочет, расскажет сама.
— Ой, простите, что припозднилась! — запыхавшаяся мама подбежала к веранде. — Как Настенька себя вела?
— Всё хорошо, — успокоила Соня, решив не расстраивать и без того задёрганную женщину.
— Ну, слава Богу! — обрадовалась та.
— Скажите, вы там у забора никого не заметили? Вон с той стороны, только не оглядывайтесь.
— Да, был мужчина какой-то, я думала, ждёт кого… А что?
— Да ничего, не волнуйтесь, мы разберёмся.
— Ну, тогда спасибо, мы побежали?
— Конечно… Осторожнее там смотрите.
Соня крепче сжала руку Вадика.
— Софья Васильевна, а мы пойдём к дедуле? — робко спросил мальчик.
— Да, да, милый, сейчас пойдём…
— А кто там? — обернулась Анька. — Ты чего задёргалась?
— Да стоит кто-то второй день. Может, Вадика папаша выглядывает, — тихо шепнула Соня.
— Да вряд ли… Он же их сам бросил! Наверно, за тем малышом Танькиным. А вдруг просто — кинднепинг, а? Детки-то из богатеньких.
— Не смотри туда, — ещё больше заволновалась Соня и позвала:
— Таня! Татьяна Викторовна…
Девушка тут же подошла к ним.
— Давай, я возьму Артурчика. А ты сходи потихоньку к Нине Степановне, пусть охрану пришлёт. Там опять кто-то — видишь?
— Не-ет… — близоруко сощурилась Танечка. — Ладно, я сейчас сбегаю.
— Только ты побыстрее! А мы пойдём пока в группу, от греха подальше. Дедушка, я думаю, догадается, где мы. Ань, давай, и ты тоже с нами.
***
По дороге в группу Анька продолжала развивать свою тему.
— Тебе же всё равно, тебе только легче — меньше головняка! Ты ведь только потому дёргаешься, что тебе мать наказала!
— То есть самой мне безразлично, что с тобой будет, это ты хочешь сказать?
Соня торопливо раздевала детей — чтоб не вспотели.
— Ну, нет, конечно, — сразу дала отступного сестра. — Но вы обе с ней… одинаковые, эгоистки! Только о своём спокойствии и печётесь.
Не относиться с почтительностью к умершей стало новым фирменным брендом Аньки — она позволяла себе критиковать мать и посмертно, считая это очень революционным.
— Вот кто бы говорил об эгоизме! — покачала головой Соня. — Приходить за полночь, зная, что мать рыдает, не спит, по улице ходит… Была бы она эгоисткой, плюнула бы на тебя и отдыхала!
— Да просто один эгоизм оказался сильнее другого! Эгоизм — это когда человек думает только о том, что нужно ему. Как ему спокойней!
Вообще-то, никого менее эгоистичного, более чуткого к потребностям других, чем Мара, Соня в своей жизни не знала. Но сейчас Анька была, если честно, права — Мара сильно перегибала палку. Единственным принципом воспитания дочери стало никогда и никуда не отпускать её от себя. Пусть хамит, включает музыку, приводит компании — но только чтобы всегда рядом, дома, вот здесь, на виду… Демоном, делавшим из доброй, уступчивой Мары властную угнетательницу, был страх, дикий страх. Она маниакально тряслась над своим поздним-препоздним ребёнком. Правда, и времена были другие, не то что, когда росла Соня. Нет, за Соню она тоже переживала, волновалась за её здоровье, к примеру, однако во всех делах и поступках Соня пользовалась у матери безграничным доверием. А главное — Соня, в отличие от сестры, хранилась «высшими силами»…
Зато стоило бедной Анюте в детстве уйти гулять с подружками, как через пять минут Мара начинала выглядывать в окно, через десять — её трясло мелкой дрожью, через полчаса — она пила успокоительное.
Соня мать не оправдывала, но понимала. Характер у Аньки был непростой, отвернёшься — жди неприятностей. Падение с яблони и с крыши сарая, укус дворовой собаки, удар на катке клюшкой по голове — такой силы, что лоб пришлось зашивать, драки с соседскими детьми, а позже — побеги на дискотеки, хулиганы-ухажёры в двенадцать лет — это только некоторые вехи в Анькином послужном списке.
В итоге мать настолько повернулась на теме Анькиной безопасности, что, если бы та не бунтовала, жизнь её стала бы невыносимой. А в последнее время Анька совсем не жалела мать, не брала мобильный, специально не говорила, куда идёт, и даже пропадала несколько раз на всю ночь. Зато потом посыпала голову пеплом, послушно не выходила неделю из дома и, как маленькая, выпрашивала прощения…
Соня подошла к огромному окну — прямо напротив того самого забора, и принялась всматриваться в темноту, загородив себе часть стекла рукой, чтобы что-нибудь разглядеть.
— Хорошо, а обо мне ты подумала? Что я здесь буду делать одна? — рассеяно спросила она.
— Вот-вот, ну точно, как мать! Удар ниже пояса. У тебя Женька есть, родишь ему малыша, про меня и вовсе забудешь.
Соня не нашлась, что ответить. Семейное будущее с Женей представить пока не получалось.
— Или ты передумала? — с внезапным подозрением поинтересовалась сестра.
Тут одновременно появились дедушка Вадика, родители Артура и Танечка — возбуждённая, странно раскрасневшаяся и явно имеющая, что сказать. Вспотевшая мама Артурчика справедливо возмущалась, что ей пришлось искать ребёнка по всему детскому саду. Его папа был, без сомнений, родным — такой же кругленький, подвижный и черноглазый. Наконец, с родителями разобрались, детей снова одели и увели.
Танечка к тому времени вся извелась от нетерпения.
— Ну, что там, рассказывай скорее! — повернулась к ней Соня.
— Ой, ну, в общем, охранники его застали врасплох, он на окна загляделся. Там… там прикол такой… даже не знаю, что и думать… Я его видела — молодой парень, до чего симпатичный! Спокойно прошёл к заведующей, убегать не стал. Правда, от наших бугаев убежишь… Посмотрел так на меня, усмехнулся. Побыл минут пять у Нины Степановны, и она его отпустила… А потом вдруг зовёт меня…
— Кто — парень?
— Нет… — ещё больше порозовела Таня. — Он ушёл, пока я группу закрывала. Нина Степановна позвала, поймала меня в коридоре. Говорит, знает этого парня. Он, оказывается, не ребёнка высматривал, а… ну, короче, кого-то из воспитательниц ждал. Вроде как ему девушка понравилась, представляете? Кажется, на нашей веранде… раз около нас стоял…
Тут лицо Танечки полностью залилось краской, так что не осталось никаких сомнений, про какую именно девушку идёт речь.
— Нина Степановна его выспрашивать не стала… только меня позвала… зачем-то… И, странная такая, целую лекцию прочла. Мол, будь аккуратна, я не могу сказать тебе, кто он, он хороший мальчик, но лучше с ним не связывайся, хотя, конечно, может, тебе повезёт… Так я ничего и не поняла…
— Чудной ухажёр какой-то, — усмехнулась Соня. — Больно стеснительный, не проще было подойти, познакомиться? И что, так и ушёл?
Она с облегчением выдохнула — детям ничего не угрожает.
— Не знаю… ой, а вдруг он снаружи стоит и ждёт? И как же мне теперь…
Анька всё это время подозрительно молчала. Соня перевела на неё взгляд и удивлённо подняла брови — сестра стояла, прикрыв рот руками, глаза у неё стали ещё круглее обычного.
— Ты чего?
— Я… я, кажется, знаю, кто этот парень… — прошептала она.
Внезапная догадка поразила Соню. Нет, не может быть! Не может, чтобы этот абсурд имел продолжение. В любом случае, нельзя дать Аньке проговориться.
— Пошли домой, — резко сказала она, одними глазами приказав сестре замолчать.
Та только потрясённо кивнула.
— Ой, можно, я с вами выйду? Я боюсь… — залепетала Танечка.
Соня выключила свет, заперла группу, и все трое вышли на улицу. Ну, попадись сейчас этот придурок! Если это, конечно, он…
Но ни за воротами, ни возле забора никого не оказалось.
Борис умоляет
Соня молча разлила чай по чашкам. Сестры весь вечер молчали, и никто не знал, как начать разговор. Наконец, Анька не выдержала.
— Он сразу твой телефон потребовал или наш адрес. И вчера утром звонил мне. Я ему ничего не дала, даже не говорила, что ты в садике работаешь! Только про Женьку, что ты почти замужем.
— Откуда же он узнал — так быстро?
— Понятия не имею!
— А мне почему не рассказала?
Анька замялась и промолчала.
— Вот ведь… зараза какая! — разозлилась Соня, заметила, как вскинулась сестра, и поспешно добавила:
— Это я не про тебя, дурочка… Нет, пора ему вправить мозги, тебе не кажется? Ну, чего ему надо?! Какой-то самолюбивый болван. Ань, а может, он маньяк? Я его уже боюсь, честно.
— Так он всё-таки был у тебя, наверху, да? — исподлобья посмотрела Анька.
— Да был, был! Приставал, я его прогнала.
— Вот я так и знала! Так и знала… — сквозь зубы прошипела сестра и неожиданно взвилась:
— Нет, ну что он в тебе нашёл?! Ну что, скажи, что, я не понимаю! Ты же старая для него! У тебя — и глаза небольшие… и губы тонкие… Катька — и то красивее! А ты…
— Ань, что с тобой, Аня?! — Соня замерла с чашкой в руках. — С ума, что ль, сошла? Ань, ты ревнуешь ко мне этого недоростка?
Она поставила чашку и, подойдя к Аньке, прижала её к себе.
— Зайка, маленькая моя, ну забудь ты об этом уроде — он ведь ничего из себя не представляет, — Соня ласково и жалостливо гладила сестру по голове. — Костя — такой хороший парень, да и этот… Лёша — тоже… ничего. Ну, нельзя же поддаваться стадному чувству, ты же всегда избегала таких вот самовлюблённых красавчиков! Неужели ты будешь из-за него страдать, да ещё мы станем ссориться — из-за кого? Да я быстренько поставлю его на место, пусть только попробует подойти… Пусть валит к своим Катькам! Да и вообще, может, он, и правда, на Танечку глаз положил, с чего ты взяла про меня, он и забыл давно…
— Сонь… Мне так плохо, Сонь… Я сама не знаю, как это получилось… я так старалась на него внимания не обращать, не думать про него… К Катьке ревновала… Думала, на дачу съездим, может, он на меня иначе посмотрит. Вот и съездили! Нет, ну почему, почему тогда ты, а не я?!
— Да ты лучше этой своей крашеной Катьки в сто раз! У неё глаза глупые и бесцветные. Ты посмотри на себя, ты такая высокая, статная, волосы густые, такой красивый оттенок — медный, а глаза! Кожа белая, вся в отца, нос — идеальный! Если у человека вкуса нет, то и на фиг он нужен, Ань?!
— Сонька, прости меня, ты тоже… красивая… — виновато подняв на неё чуть выпуклые, чёрные, как у Мары, глаза, соврала Анька. — Просто ты намного старше, и не в его вкусе, и… не понимаю…
— Да просто засвербило ему что-то, и понимать нечего. Отказали ему, ясно? А никто не отказывал. Это же обычная мужская психология.
— И ты пошлёшь его, да?
— Спрашиваешь! — возмутилась Соня.
— А я бы… я бы — не смогла…
Анька всхлипнула и, закрыв лицо, убежала к себе в комнату. Соня медленно села на табуретку, придвинулась к столу и подперла голову рукой. Она сама не понимала, что сейчас испытывает. Да нет, с Димой всё ясно, надо будет отшить его как можно грубее, и Анечка успокоится. Но если его закозлило… Интересно, почему он, с его-то нахрапом, второй день торчит под забором? Неужели не может решиться? И почему эта мысль так прочно засела в его голове? Тогда выпивши был, это понятно, но потом-то…
Соня разделяла недоумение сестры. Нет, конечно, она иногда нравилась мужчинам, но не с первого взгляда, а если у кого и возникал интерес, то быстро пропадал, как только человек натыкался на её холодность. Жене она, конечно, приятна, но ведь она и вела себя с ним не так, как с другими, впервые в жизни не оттолкнула и сама на себя удивилась. К тому же у Жени были свои причины с ней познакомиться. Но что могло зацепить такого, как Дима? Самолюбие самолюбием, ну, а мало ли кто ему откажет — он что, так и будет под окнами торчать всякий раз? Да и с чего вообще всё началось?
Соня попыталась восстановить подробности того вечера на даче, которые всё это время старалась стереть из памяти. Кажется, ничего из её поведения не могло вызвать Димин интерес. Под рукой было около дюжины сверстниц, а он попёрся к ней наверх. Значит, заинтересовать его могло как раз то, что она старше других. Возможно, он хотел почувствовать свою значимость — за её счет. Но ведь он не сразу поверил в её возраст, а приставать начал ещё до этого. Чем же она его привлекла?
Ладно, не важно. Нельзя столько думать о нём. Главное, чтобы всё закончилось, и Анька об этом забыла. С ней и так нелегко, а потеряешь совсем контакт — что тогда делать? Не потому ли она и в Москву-то намылилась? Можно представить, что возомнил о себе этот парень, если все теряют из-за него голову! Ну да, внешне он привлекателен, что-то такое в нём есть, что-то притягивает…
Стоп. Ещё не хватало уподобиться этим нимфеткам! Завтра же она с этим покончит. Только надо поступить мудрее. Не хамить и не унижать — это его только больше заводит. А просто поговорить при свете дня, вежливо, спокойно, даже занудливо и скучно, как взрослый человек с юнцом. Тогда ему самому станет неинтересно, и он поймёт, какая между ними пропасть.
Приняв решение, Соня отправилась к себе. Как обычно, по вечерам, усадила на колени Бориса, задумчиво и немного нервно погладила его потёртую шкурку. Получается, он не соврал — Дима, действительно, не исчез и приносит всё новые неприятности. Только бы Нина Степановна не догадалась, к кому он приходил. А бедная Танечка? Она же просто искрилась от счастья! Ох, как это всё отвратительно выглядит… И Жене тоже нельзя рассказать. Хотя, возможно, ещё и придётся, смотря как повернётся дело. Она опомнилась: кстати, а почему Женя не позвонил сегодня — он ведь не на дежурстве?
— Сейчас позвонит, — усмехнулся Борис, решив, что вопрос адресован ему.
Соня несколько секунд глядела на него с недоумением. А потом раздался звонок. В дверь.
***
Анька выползла в коридор, лицо у неё было заплаканным. Увидела Женю, поздоровалась и снова скрылась у себя. А через пятнадцать минут вышла, сообщила, что идёт гулять с Костиком, и была такова.
Соня позвала Женю ужинать. Тот с удовольствием согласился, и она быстро накрыла на стол.
Женя даже ел как-то приятно, по-мужски, по-военному, строго отмеренными порциями, с аппетитом, думая о чём-то своём, но не забывая благодарить и хвалить приготовленное. Правда, в конце ужина поднял на неё глаза и произнёс с недоумением:
— А что ты так на меня смотришь?
Соня, действительно, задумалась и не успела отвести от него изучающий взгляд.
— Что-то случилось? — проницательно спросил Женя.
— Всё в порядке, — соврала она.
Он прищурился, но ничего не сказал. Они пошли в комнату и уселись перед телевизором. Соня заволновалась, лихорадочно соображая, как ей быть, чтобы… Женя наверняка очень устал, у него полно собственных забот и проблем. Но ведь эти заботы должны теперь стать их общими.
— Расскажи мне про свою работу, — внезапно попросила она.
— Про работу? — пожал плечами он. — Про работу не могу, детка, прости, ты же знаешь.
— Ну, я же не про это. А просто — какие там люди, какие у тебя с ними отношения…
— Разные люди, Сонь. Всякие встречаются.
— Устал, наверное, да?
— Немножко… но… я соскучился… — и он притянул её к себе, решив, что пора.
У Сони задрожали коленки от ожидания и беспокойства. Она очень хотела почувствовать что-то такое… и со страхом ждала — сможет, не сможет? Женя уже раздевал её — опытными, отработанными движениями. Нет, это слишком быстро, ей надо понять…
— Подожди… — попросила она. — Или… можно?
Женя был приятно удивлен — Соня сама принялась расстёгивать ему рубашку, потом взялась за брюки… Она разглядывала его, в первый раз так откровенно, решив, что нельзя стесняться, стеснение всё испортит. У него была прекрасная, мощная, очень крепкая фигура. И мышцы, и бедра… Не то, что у этого сопляка! Тьфу ты, к чему вообще эти сравнения? Таким мужчиной, как Женя, можно только гордиться. И она будет гордиться.
Но что делать дальше, она не знала. Процесс как-то остановился. Видимо, Женя ждал от неё чего-то определённого, но, поняв, что продолжения не последует, спокойно начал сам. Аккуратно переместил её на диван, методично, можно сказать, профессионально, как он делал всё в своей жизни, отработал прелюдию и, невзирая на отсутствие какой-либо реакции, приступил к основному процессу.
На сердце упала тяжесть — Соня уже поняла, что ничего не получится. Тело, едва начав испытывать притяжение, снова отказывалось чего-то желать. Всё шло от головы — это она создавала препятствие, мешала, переключала внимание. Соня пыталась вызвать у себя тот самый приступ чувственности, ей хотелось, чтобы Женя разбудил в ней те же ощущения, что родились у неё под напором злосчастного Димы. Ей очень нравился Женя, она хотела, старалась, но… Чего-то не произошло, чего-то не доставало.
Раньше она думала, что им с Женей не хватает родства тел, рождённого душевной близостью — спустя несколько месяцев знакомства они всё ещё оставались чужими. Но какая душевная близость могла возникнуть у неё с каким-то паршивым Димой, которого она видела первый раз в жизни?
Как вообще случается у людей переход к физическому желанию? Должен он быть резким, неожиданным, вопреки всякой логике, или всё происходит постепенно, вырастая из глубокого чувства? Может, у всех по-разному? А что же у них с Женей? Откуда взялась эта обыденность, словно они женаты лет двадцать и привычно выполняют супружеский долг?
И почему это совсем не заботит его, почему он молчит, почему не возмутится? Он же всё видит — не может не видеть!
— Женя, подожди, — резко произнесла она.
Сегодня или никогда, но она должна пробить эту стену молчания. Соня уставилась на него. Возможно, она сейчас всё погубит. Но если она ничего не сделает… Тогда то, что не успело родиться, можно считать уже умершим.
— Что, детка?
— Подожди. — Соня высвободилась и села. — Нам надо узнать друг друга, лучше, иначе… по-другому, понимаешь?
— Конечно, — спокойно согласился Женя, послушно останавливаясь. — Давай по-другому. Ты как хочешь? Так?
Он перевернулся на спину и потянул её на себя. Но она перекатилась через него и встала, потянув за собой простыню.
— Нет. Ты не понял. Давай сначала поговорим.
— Давай, — чуть удивлённо, но всё так же спокойно ответил он.
— Сколько тебе лет?
— Ты разве не знаешь?
— Нет. Ты не говорил.
— Тридцать восемь. А что?
— От чего умерла твоя мама? Как это было, когда?
— Почему ты спрашиваешь? — чуть приподнял брови он.
Она несла бред, но Женя сохранял железное спокойствие. Соня почувствовала к нему настоящее уважение, а себя ощутила полной дурой. Ну и пусть, дура так дура.
— Это очень важно. Почему ты мне про неё не рассказывал?
— Наверное, не было повода. А ещё что ты хочешь узнать?
— Ещё? — она выискивала тему из числа запрещённых, даже не заметив, что он так и не ответил. — Ещё про твою жену… Я ничего не знаю про твою жену.
— Сонь… Не порть мне вечер, пожалуйста, детка.
— Ты мне не доверяешь? Не хочешь пускать в свою жизнь, держишь на расстоянии, да?
— Глупости, — он качнул головой. — Я всё тебе расскажу, но не сейчас же?
— А я хочу поговорить с тобой, прямо сейчас.
— О'кей. Тогда давай лучше про тебя, это куда приятней.
— И ты будешь честным со мной?
— Разумеется.
— Хорошо. Тогда скажи… ты меня любишь?
Вопрос был идиотским. Ещё несколько дней назад она всё прекрасно понимала и принимала ситуацию такой, как есть. Но если Соня решалась и вылезала из своей раковины, она уже не могла оставаться в рамках приличий, ей требовалось добраться до сути, любой ценой. Она даже готова была сейчас на полный разрыв.
Женя приподнялся на локте, внимательно изучая её. Забавно, что он так долго не отвечает, словно его застигли врасплох. Правду сказать боится, а соврать не готов.
— Люблю, — наконец, произнёс он.
— Это тебя на работе научили? Всегда говорить то, что положено, а не то, что думаешь.
— А почему ты считаешь, что я так не думаю? — снова прищурился Женя. — И что же я думаю, по-твоему?
— Ты думаешь — глупая женщина, чушь городит, какая может быть любовь — с бухты-барахты, нас ведь познакомили в целях брака. Она не красавица, но меня устраивает, всё-таки вторая жена, один раз обжёгся, а эта — сразу видно, не убежит. Надо наладить быт, родить детей. А если… если приспичит, заведу интрижку на стороне.
— Я вот это должен сказать? — вместо обиды в глазах у Жени заплясали лукавые искорки, но она видела — профи есть профи, он напряжённо размышляет, что бы всё это значило.
— Да.
— Но я думаю совсем не так, — усмехнулся он, встал, не прикрываясь, как был, обнажённый, подошёл к ней и дотронулся до плеча, словно успокаивая истеричку. — Я думаю, какая ты милая, тонкая, умная, хрупкая девушка, как хорошо, что нас познакомили, нам будет очень хорошо вместе…
— Тогда почему ты никогда этого не говорил?
Упрёк был нечестным — Соня сама никогда ни о чём таком с ним не говорила, более того — делала всё, чтобы не допустить подобных бесед.
— Мне казалось, между нами всё ясно.
— С чего бы вдруг?
— Да ты ведь как ёжик — сама выставила иголки, а теперь просишь погладить? — проницательно заметил он. — Ты пойми, я ведь не любитель разводить лирику, мне казалось, ты тоже ценишь не слова, а отношение. Но если тебе это надо… Я постараюсь.
— Не в этом дело. Когда есть отношения, слова не нужны. Но я не знаю твоего отношения, я его не чувствую…
— Не чувствуешь? — помрачнел Женя. — Жаль… По-моему, я делаю всё, чтобы ты поняла…
— Да, да, — нетерпеливо отмахнулась Соня, — ты делаешь всё, что надо… Но вот тебе — тебе самому… Тебе хорошо со мной?
Это был почти научный интерес, без всяких эмоций с её стороны. Ей надо было не обидеться или обрадоваться, а — понять.
— Вполне.
Это «вполне» покоробило её, лучше бы он сказал «плохо», чем это «вполне». Впрочем, что он может сказать, видя её холодность? Разве только обидеть. Но зачем, зачем тогда терпит? Почему притворяется, что всё в порядке?
— А ты… считаешь меня красивой? — продолжала эксперимент Соня.
— Я считаю тебя интересной. И ты мне очень нравишься.
— Спасибо… — с облегчением выдохнула Соня.
— За что? Это правда, а не комплимент.
— Я знаю! Не за это. А что не соврал.
В лице его что-то изменилось. Из-под маски выдержанного мужчины, не обращающего внимания на женские капризы, мелькнуло и пропало странное выражение — то ли тревога, то ли неуверенность. Казалось, он хотел что-то сказать, но сдержался. Соня молчала, внимательно вглядываясь в него, но взгляд у него снова стал лукавым, а тон шутливым.
— Значит, у меня есть шанс? Что ты мне поверишь? — он прижал её к себе, явно считая вопрос решённым и намереваясь продолжить прерванное.
Но Соня едва заметным движением отодвинулась. Тогда на его гладком, обычно неподвижном лбу появилась чуть заметная морщинка.
— А… — он помедлил, — тебе со мной… как?
— Пока никак… — выпалила Соня и осеклась, увидев его оскорблённый взгляд.
— Нет, я не про это, — тут же поправилась она, откровенно кивнув на диван. — Тут не твоя вина. Просто между нами ничего не происходит. Мы как были чужими, так и остались.
— Это неправда, — Женя снова привлек её. — К тебе трудно пробиться, да и некогда мне было, работа такая… Но я уверен, мы станем ближе. Просто у тебя случилось горе. Ты отойдёшь, и всё будет иначе. Я ведь всё понимаю, почему ты как замороженная… Кончится траур, поженимся, съездим в Египет. Только ты и я… И моя Снегурочка сразу растает, да?
Соня почувствовала угрызение совести. Оказывается, он просто щадит её чувства, не желает мучить упрёками, хотя сам мог бы обвинить в равнодушии, причем справедливо. Ведь это она, она первая отгородилась от него, спряталась за своё горе, демонстрирует, что ни в ком не нуждается. Она виновато ткнулась ему в плечо. Женя тут же прижал её и стал ласково, утешающе гладить по спине. Какой он всё-таки хороший… Всё понимает. Не поддается на её провокации.
Он уже целовал её — вкрадчиво, очень сладко.
— Ты просто говори мне, что хочешь и как — ладно? — прошептал он ей на ухо. — Я ведь боялся тебя кантовать, пока ты… Ты сама, ладно? Если тебе чего хочется, скажи — не стесняйся, о'кей?
«Откуда я могу знать, что хочу?» — подумала Соня. Разговор принёс и облегченье, и раздражение одновременно. Женя не против сближения, это она сама виновата в их отчуждённости. Теперь, когда оба хотят всё изменить, у них обязательно получится. Правда, Соня осталась уверенной, что он о чём-то умалчивает, и это нечто, касающееся её самой. Но в этом нет ничего странного. Он просто интроверт, а разве она — другая? Разве она пустила его в свою душу, разоткровенничалась? Это не бывает вот так — с полуслова, это ещё надо заслужить, тут главное, что их стремленье — взаимно.
Да и вообще — разве могут люди всё понимать и принимать друг в друге? Каждый человек одинок во вселенной. Соня обречённо подалась к нему, стараясь, если не испытать, то хотя бы продемонстрировать ответную нежность. Как ни странно, это оказалось совсем не трудно — Соня действительно была сейчас ему благодарна и с удивлением поняла, что и её тело оказалось готово благодарить.
Женя потянул её обратно на диван. Что-то переменилось — причем в них обоих. Сломав стену молчания, Соня могла теперь, повинуясь искреннему порыву, идти Жене навстречу. Он тоже стал действовать иначе — не столь механически, как вначале. Он двигался медленно, продуманно, словно намеренно останавливая себя, подбираясь к чему-то тайному, хрупкому, нащупывая, пробуя её реакцию. И вдруг перестал сдерживаться, стал резок, необуздан, впервые на Сониной памяти потеряв над собой контроль. Он даже сделал ей больно, придавив руку, и не заметил этого. И Соня почувствовала — кажется, вот оно, наконец-то, то самое, чего она так ждала! Голова отключилась сама, и Соня, не осознавая, что делает, отвечала ему на каждое движение.
Поняв, что происходит, Женя ещё больше завёлся, уже не сдерживая эмоций, казалось, он находится на самом пределе. Соня больше ни о чём не думала — только её тело желало, рвалось, билось в унисон с другим, сильнее, быстрее… нестерпимее… и вдруг, в единый момент, неожиданно, завершило своё желание. Её словно выбросило ввысь, она на секунду отключилась, выпала из пространства в иное измерение, замерла, умерла на вдохе и… снова вернулась на землю, ощущая полную тишину в мире и наслаждение от пустоты внутри себя.
На такое она и не надеялась — вот так, сразу. Она была настолько потрясена, что даже не поняла, как среагировал Женя — после кульминации он несколько секунд не шевелился, всё ещё сжимая Соню в объятьях и уткнувшись лицом в подушку. Потом быстро встал, почему-то не поцеловал, как обычно, и, ничего не сказав, даже не взглянув, ушёл в ванную. Его долго не было, но Соня об этом не думала. Она прислушивалась к себе. Что между ними произошло? Наверное, она его всё-таки любит, раз смогла — так… по-настоящему. Или это необязательно — любовь? Как это понять? Получила ли она то, что хотела?
«Да, всё было замечательно», — ответила она себе. Она испытала то, чего так ждала, с той самой ночи на даче, полный спектр желаний, физическое удовольствие, моральное удовлетворение. И будет теперь испытывать это регулярно. Оказывается, люди правы: это действительно придаёт жизни новые краски. Сильные краски. Ненадолго, но придаёт, обещая повториться — ещё и ещё. Барьера больше нет. Женя — идеальный любовник, мечта любой женщины. Наверняка этот парень, Дима, не идёт с ним ни в какое сравнение.
Ну вот, опять! Какой ещё Дима? Снова — та же картинка перед глазами… пьяный мальчишка на полу, в трусах, дрожит от холода… Что-то ёкнуло, оборвалось у неё в душе. И уже от страха — что это было? — сжалось сердце. Нет, чепуха! Бред воображения. Завтра она увидит его в реальности, припомнит, какой он противный и наглый, забудет дурные сны и испытает только злость и презрение.
Вернулся Женя — спокойный, довольный, как будто такой же, как и всегда. Заразительно зевнул — ещё бы, весь день работал, а на часах — половина второго. Он словно и не удивился её открытиям — для него всё было само собой разумеющимся. Наверное, вспомнил, что забыл поблагодарить, особенно нежно поцеловал и произнёс ласково:
— Я же тебе говорил… Теперь у нас всё будет хорошо, да, детка?
Он лёг поверх одеяла, раскинулся — жарко, и сразу закрыл глаза. Соня в свою очередь ушла в душ, потом посидела на кухне, выпила чашечку кофе. Вернулась, легла рядом, тоже на спину, и уставилась в темноту, продолжая перемалывать в голове происшедшее. Сегодня они с Женей, несомненно, стали намного ближе. И физически, и душевно. Просто преодолели целую пропасть. Дальше будет ещё лучше, он прав.
Соня пыталась убедить себя в том, что теперь-то она счастлива. Но что-то едва уловимое уплывало сквозь пальцы, так и не попавшись в руки. Она тревожно вглядывалась в чёрный квадрат потолка, пытаясь понять, в чём дело. Если что-то опять не в порядке, то только с ней. Женя заботится о ней, доставляет такую радость, а она… Она только принимает, только берёт, только требует. Она повернула голову и посмотрела на него. Что значит любить? Хочет ли она поцеловать его, пожалеть, хочет, чтобы он навсегда остался рядом? Ответ так и не пришёл. Женя по-прежнему ей очень приятен, как он там выразился — «вполне». И она по-прежнему знает, что может быть и одна, и не будет страдать у окна в ожидании, как Мара, или плакать, вот как сейчас Анька. Или — будет? Как узнать это заранее?
Говорят, есть люди, которым попросту не дано любить. Атрофированы гены, отвечающие за это чувство. Нет, лучше сказать, имеют иммунитет к этой напасти. Неужели Соня как раз из таких? Анька сегодня назвала её эгоисткой и была права. Она и раньше всегда говорила: «Кроме твоего облезлого лиса, тебе никто не нужен!» Быть с кем-то, любить кого-то — значит жить для него. Сможет ли она это и… хочет ли? Ведь без этого их связь станет хромать на одну ногу. Или, если Женя тоже не любит, инвалид их совсем безногий? Странно, но Соню больше не интересовало, как он к ней относится, даром допрашивала его только что. Ей хотелось разобраться только в себе. Вот если бы она любила, её волновала бы взаимность, мало того — Соня сразу бы всё поняла. Так же, как Анька понимает, что Дима её не любит. Как понимала Мара про Вову…
Да, Мара. Она умела любить. И Анька умеет. И даже Вова — любит же он сейчас, как дурак, свою гениальную художницу с её манией величия! Неужели Соня ущербнее Вовы? Неужели она не сможет отдать себя другому человеку? Не потому отдать, что так надо — так она, видимо, сможет, если постараться. А — испытать то самое, мучительное, болезненное, никогда не удовлетворённое до конца… То, что, придётся признаться, так и не получается пока испытывать к Жене.
Что входит в формулу любви? Душевная близость, физическое притяжение — всё это главные составляющие, без них ничего не получится, но и эти слагаемые не являются, как говорят математики, единственными и достаточными. Должно быть что-то ещё — на каком-то другом, иррациональном уровне.
Ну почему, почему, думая об этом, она вновь и вновь вспоминает тёмную тень за бетонным забором? Загадочное чужое желание, тёмная, скрытая сила, смертельная жажда обладания — всё это по-прежнему оставалось ей непонятным, непознанным, недоступным.
Но ведь Соня не виновата, что она такая. Если её и должна мучить совесть, то только в связи с её верой, что настоящий брак должен быть освящён в таинстве венчания. Увы, так уж вышло… не всё в жизни поддаётся программированию, не всё получается так, как правильно. Но и потом у неё почему-то не нашлось ни времени, ни сил объяснить Жене про свои убеждения… хотя эта вина до сих пор камнем лежит у неё на душе. А сейчас — нет и желания. Она видит, как далека от него эта тема, поэтому и не спешит ничего ему навязывать, хотя — чем дальше в лес, тем больше дров. Но ведь они всё равно скоро поженятся, теперь это не подлежит никакому сомнению. Или… подлежит? В какой момент оказалось, что всё решено? Она ведь ничего ещё не решала… и не решила.
Как это — не решила? Соня легла на живот и заворочалась, пытаясь устроиться на подушке. Теперь уже по-любому надо, никуда не денешься. Что сделано, то сделано. Или — можно ещё передумать? Нарушить все правила, пусть будет её виной… Ведь должна же она всё-таки любить… если, конечно, сумеет.
— Не спишь? — сонно проворчал Женя, повернулся на бок и обхватил её одной рукой.
Да нет, что за глупости она тут навыдумывала! Ей даже стало плохо от мысли, что надо что-то ещё решать, когда всё уже определено. Никого лучшего в её жизни не случится, всё будет у них хорошо, надо немедленно забыть все эти выдумки, вспомнить Мару, её завещание. Это всё дурацкая привычка к одиночеству, к отгороженному мирку, к своему кокону. Женя — как раз единственный, кого можно туда пустить без угрозы разрушения. Он не натопчет и займёт ровно столько места, сколько она позволит. Если вообще захочет входить.
И для её веры и убеждений Женя тоже оставит пространство, а большего ей от него и не надо. Кстати, насчет религии он высказался при ней единственный раз — когда впервые пришёл в гости. Окинул взглядом Сонин уголок, обернулся к книжной полке — там рядком стояли книги Александра Меня. Достал одну, пролистал и сказал: «Удивительный фенотип… Еврей, исповедующий христианство. Странный случай, да?» Сказал без ехидства, без какого-либо подтекста, просто мысли вслух. Но Соня сразу же внутренне сжалась и произнесла резко: «Да, очень странный. Взять хотя бы апостола Петра, или Павла… Евреи, исповедующие христианство. Все до сих пор удивляются». Женя только глянул на неё, как обычно, спокойно и приветливо — он никогда не поддавался на её повышенный тон, не заводился в ответ на высказывания, с которыми не соглашался. Поставил книжку на место и перевёл разговор.
…Нет, всё-таки Соня виновна, и дело не только в вере. В сегодняшнем удовольствии было что-то нечестное — по отношению к Жене. То, что происходило между ними раньше, когда она ничего не чувствовала и не желала, а только уступала его потребностям, казалось теперь более оправданным, чем удовольствие ради удовольствия, ублажение своего тела с помощью чужого, полёт вместе с мужчиной, которого ещё не любишь, какой-то обман, кража, бездушное действо сродни чревоугодию.
Но ведь Жене сегодня было лучше, чем когда-либо… кажется. Она даже не придала значения, что он чем-то расстроен. Близкий человек захотел бы понять и спросить. А ей… ей не хочется. Желание выспрашивать прошло, как ни бывало.
Соня приподняла голову, чтобы увидеть на столике Бориса — сегодня она не успела посадить его лицом к окну. Тот жалостливо склонил морду — хотя бы не осуждает…
— Ну, и чего мне, по-твоему, не хватает? Любовь — это ведь не обязательно сходить с ума, правда? — беззвучно спросила его Соня (он умел слышать и так).
— Ну и чего же тебе не хватает, дурочка? — грустно повторил Борис.
Дурацкая привычка — притворяться, что не понимает, отвечать вопросом на вопрос.
— Наверное… страсти? Я не испытываю к нему страстного чувства… но любовь ведь бывает разная, правда?
Лис покачал головой.
— Страсти? Нет, не страсти… Страха. Ты не боишься потерять Женю, можешь быть с ним, а можешь и без него.
— Да, могу. Но с ним ведь лучше… Я же признаю, что лучше! Раньше я вообще ни с кем не могла, а с ним… И вообще, может, я никогда не смогу любить, так что ж теперь? — затараторила, если так можно выразиться, когда говоришь мысленно, Соня. — Или… я не знаю… не знаю! Что же теперь делать, что же?.. Нельзя же его обманывать!
— Не психуй, — твёрдо сказал Борис, — пойми: это хорошо, а не плохо. Можно сказать, тебе повезло. Вспомни Мару, как она страдала. Этот смертный страх, эта страшная болезнь — кому они нужны? Чудненько ты без всего этого обойдешься! Многие, многие обходятся. Не надо, не надо… не зови, не накликай… ну, пожалуйста…
Соня даже испугалась его молящего взгляда. Борис чаще отшучивался или спорил, но никогда так не умолял. Она резко повернулась на бок. Женя крепким, надёжным захватом обнял её, полностью вписав в свою позу, прижал к себе. Ты прав, Борис. Всё и так в порядке. Не надо накликать беду, не надо, не надо…
***
Утром они с Женей собирались на работу вместе. Анька, разумеется, ещё спала — она заявилась домой далеко за полночь — впрочем, как и обычно в последнее время. Соня услышала, как хлопнула дверь, и лишь тогда позволила себе заснуть. А сейчас она только заглянула к сестре в комнату и постояла с минуту, вглядываясь в её такое наивное, совсем детское во сне лицо, словно проверяла на глаз температуру у больного ребёнка — полегчало, не полегчало, и можно ли спокойно уйти.
Разговор с Женей с утра не заладился. То ли каждый думал о своём, то ли оба испытывали неловкость от того, что произошло. Странное дело — до этого целый месяц выхолощенной любви не вызывал между ними никакого смущения. Соня твёрдо решила вчера, что всё у них идёт так, как надо. Что станет теперь вести себя с ним так, как положено с любимым мужчиной: ласково, по-женски мягко, тепло и искренне. И вот — уже снова готова спрятаться в свою раковину. Незаметно поглядывая на Женю, на его спину, плечи, движения рук, Соня вспоминала эту ночь. Она и хотела бы повторения, и… Как это часто бывает после чего-то слишком яркого и долгожданного, испытывала противоестественное желание запомнить, ощутить в полной мере и… не повторять. Вернуться в будни и не жить каждый день на острие ножа — даже если это острие удовольствия.
В подъезде, в темноте грязной клетушки, Женя почему-то остановился, и Соня вновь почувствовала исходящее от него напряжение или тревогу.
— Сегодня я на смене, — сказал он.
Когда он дежурил допоздна, то частенько ночевал на службе.
— Останешься на работе?
Одной из традиций их отношений стало постоянное перезванивание с вопросами, кто во сколько пришёл домой или когда заканчивает работу — словно это псевдобеспокойство заменяло совместное проживание.
— Не знаю.
Он помолчал. И вдруг произнёс полувопросительно:
— Я приду?
Сердце у неё заколотилось чаще. Она сама не понимала, чего хочет. Жене явно понравилась сегодняшняя ночь, он собирается продолжить в том же духе. И это правильно, так и должно быть. А разве она не желает того же?
— Конечно. Я буду ждать, — торопливо произнесла Соня.
И всё-таки на какую-то долю секунды опоздала, поняла, что дала маху, показав ему, что сомневается.
— Тогда до вечера, — коротко сказал он, наклонился и коснулся губами её губ.
И в этом жесте ей померещилось ожидание или вопрос. Встречное движение, Соня чувствовала, вызвало бы страстный поцелуй. Но она снова растерялась, не сориентировалась, и он отпустил её, вышел из подъезда, махнул на прощанье рукой и скрылся в утренней темноте.
***
Соня не знала, в курсе ли кто в детском саду про вчерашнее происшествие. Она избегала всяческих разговоров и очень надеялась, что Танечку вечером на прогулке не встретит — та работала в первую смену.
С утра они ни разу не столкнулись — гулять вторая младшая группа не вышла, было прохладно и сыро. Зато, к ужасу Сони, Танечка заявилась к ней в тихий час: возбуждённая, вся на иголках, она объявила, что поменялась сменами с Людмилой Алексеевной. Соня сделала вид, что занята, и Танечка, поторчав немного, убежала вниз.
К концу дня Соня молилась только о том, чтобы её детей забрали раньше, чем Танечкиных, иначе девушка наверняка её дождётся — она несколько раз повторила, что боится выходить одна и не знает, как быть, если неизвестный ухажер вновь объявится.
Казалось, высшие силы сегодня были за Соню. Вадика утром не привели — его оставляли дома из-за каждого чиха, а Настю мама взяла сразу же после полдника. На прогулку Соня второй раз не пошла, благо полил мелкий, но противный, холодный дождь, и всех детей забрали прямо из группы. Так что без пятнадцати шесть она, почти крадучись, прошла по первому этажу и вышла не через боковую, а через центральную дверь, чтобы не встретить Танечку. Раскрыла зонтик и, перешагивая через лужи, ёжась, двинулась к воротам, в надежде, что Димы сегодня не будет.
Но он был здесь.
Стоял почти у самой калитки, без зонта, без головного убора, даже не в куртке, а в тонком плащике. Соня невольно оглянулась на будку охранника — тот прятался от дождя, и, наверное, ничего не видел. Она пыталась вспомнить вчерашний настрой, призывала на помощь мысли о ночи с Женей, искала колкие слова, но…
Головой Соня всё понимала, однако сделать с собой ничего не могла — тело не слушалось. Сердце ухнуло куда-то вниз, ноги отказывались идти дальше, а руки затряслись от волнения. Проклиная свою реакцию, Соня заставила себя двинуться вперёд, уставившись под ноги — якобы, чтобы не наступить в лужу.
Парень сделал неловкий шаг ей навстречу, но она прибавила темп — теперь её подгонял необъяснимый страх. Дима не успел пересечь ей дорогу, как, видимо, собирался, а подошёл, догоняя, сбоку.
— Привет…
Голос его прозвучал глухо — и вызывающе, и почти вопросительно.
Она сделала вид, что не слышит, и не остановилась. Он невольно пошёл рядом. Оба молчали, и это казалось так глупо, так странно. Куда девались его развязность, нахальный тон, напыщенность, гонор? Наглость наверняка была свойственна Диме по жизни, а не только, когда он пьян. Но сейчас он не мог произнести даже слова.
Они вошли в тёмный, неосвещённый проулок, и Соня выдохнула про себя с облегчением: здесь никто из знакомых не увидит.
— Ты меня узнала? — выдавил он, наконец.
И попался. Соня замедлила шаг и глянула на него, словно только заметила.
— Кажется, ты из Анькиной группы? Лёша, да? — она старалась говорить недоумевающе-рассеянным голосом. — Ой, нет, вроде — Дима?
— Я… Я говорил, что найду тебя… вот и…
Парень совсем потерялся — эта неуклюжая фраза явно была заготовкой, но не подходила ни к содержанию, ни к тону разговора. Правда, и Соня ожидала от него другого и не знала, как себя вести. У неё не находилось повода произносить едкие реплики или нравоучительные фразы. Даже послать — не пошлёшь, вроде как он и не пристаёт, и не наглеет, и не делает непристойных предложений. И вообще, он весь вымок, так и хочется поднять зонтик над его головой, хотя она и выше Сониной сантиметров на двадцать.
— Извини, я спешу, — сказала она и сама поморщилась — всё шло не так. — Танечка ещё на работе, ты ведь её ждёшь?
— Танечка? — удивился Дима и вдруг усмехнулся: — А, эта детка с оленьими глазками?
Он сразу же напомнил ей прежнего самоуверенного юнца.
— Угу. Такая же детка, как ты.
— Я ждал тебя. И ты это знаешь… — голос его стал, наконец, решительным. — Нам надо поговорить.
Они уже подошли к переезду, на котором ярко горел фонарь. Сбылись Сонины опасения: семафор только что переключился на красный, и они встали на самом видном месте, возле закрытого шлагбаума. Вдали уже показались огни электрички, послышался длинный гудок.
Дима повернулся и торопливо, но как-то смущённо схватился за Сонин зонтик, чуть повыше её замёрзшей руки.
— Я оставил за почтой джип. Давай поедем куда-нибудь. В ресторан или в клуб.
— Мне некогда, я спешу, — повторила она свою дурацкую фразу.
Да что же это такое… Почему у неё не получается просто отшить его — быстро и метко?
Поезд, громыхая, летел мимо — не электричка, а товарняк, с бесконечными вагонами — круглыми или полыми, разноцветными, как детские формочки; и казалось, конца и края ему не будет.
Рука Димы сползла по рукоятке зонта, накрыв Сонину руку.
— Ты совсем ледяная, — сказал он и слегка сжал ей пальцы.
Несмотря на то, что он сильно промок, ладонь у него оказалась горячей. Кисть его руки, тонкая и сильная одновременно, полностью охватила зажатый кулачок Сони. В ту же секунду она очнулась, выдернула зонт и отчеканила, перекрикивая грохот колёс:
— Так. Давай — раз и навсегда. Никуда я с тобой не поеду. Мне нужно домой. Разговаривать нам не о чём. И не смей больше приходить — не хватало мне проблем на работе!
Она впервые за всё время подняла на него глаза. Лучше бы она этого не делала. Это был и тот Дима, какого она себе рисовала, готовясь к разговору, и совсем, совсем другой…

Нервный, взволнованный, он хмурился, глядя на неё исподлобья. У него были тёмные, глубокие и живые глаза человека, который привык напряжённо думать. Сейчас они казались полными страдания и затаённой надежды. Никогда раньше Соня не видела у мужчин таких глаз. Она привыкла к непроницаемому, уверенному взгляду Жени. Дима смотрел откровенно, полностью раскрываясь перед ней, и одновременно без всякого спроса проникая к ней в душу.
— Я отвезу тебя! Пожалуйста, всего пару слов. Пару слов, прошу тебя…
Она скорее догадалась по его губам, чем услышала. Поезд, наконец, проехал, и шлагбаум медленно пополз вверх. Соня поспешно отвела взгляд: она не понимала, как это может быть: тот парень — тогда, на даче, с его нахрапом и пьяным хамством, и этот интеллигентный, рефлексирующий мужчина с умоляющим лицом… Да, мужчина. Она и хотела, и не могла сейчас воспринимать его Анькиным ровесником.
Да нет, это просто темнота и её дурацкие сны — не бывает подобных метаморфоз. Надо взять себя в руки, не сходить с ума.
— Мне тут три минуты ходьбы. И дома ждёт муж. Пропусти… Пропусти немедленно!
Он действительно загородил ей дорогу — теперь у него был вид человека обречённого и готового на всё.
— Он тебе не муж, — жёстко произнёс парень. — И никогда им не будет. Я всё про него узнал. Первая жена от него сбежала — знаешь, к кому?
— Ты как старая бабка! — разозлилась Соня. — Все сплетни собрал?
— Ты его не любишь.
— Люблю. Дима, умоляю — не устраивай мне… Ну, зачем, на кой тебе это надо? Ну что ты, как идиот, торчишь у забора, людей пугаешь? У тебя есть Катя, у тебя есть… всё у тебя есть. Курам на смех — я старше тебя на восемь лет, я живу другой жизнью, ты ничего про меня не знаешь. А я — вообще — ничего — не хочу — про тебя — знать! Оставь ты меня в покое!
Это было ужасно… Устроить такую истерику, вместо того, чтобы спокойно, доброжелательно отшить зарвавшегося сосунка! Это был проигрыш, настоящий проигрыш. Ледяной взгляд, равнодушный голос — вот что заставило бы его отступить. Но теперь, Соня видела, он не уйдёт. Она попыталась оттолкнуть его — но сейчас он не был пьян и крепко стоял на ногах, мало того, схватил её за руку, удерживая.
На той стороне переезда показались две женщины. Соня дёрнулась и уронила зонтик — он упал и покатился по насыпи. Дима невольно перевел туда взгляд и наклонился в попытке его подхватить. Воспользовавшись моментом, Соня рванула вперёд, буквально перебежала через рельсы, и полушагом-полубегом, чтобы не привлекать внимания, рванула в сторону дома — благо что рядом.
Дождь затекал ей за воротник, но Соня шла теперь быстро и ровно, не оглядываясь. Она задыхалась от дикого сердцебиения, но старалась не обращать на это внимания и не снижать скорости. Дима нагнал её на углу, с нераскрытым зонтом в руках. Но не подошёл, а только молча двинулся следом, отставая на пару шагов. Она остановилась у подъезда, понимая, что привела его к самому дому; спряталась под козырёк — от дождя и любопытных соседских окон, и схватилась за холодную ручку двери, пытаясь сделать вдох.
— Ты что? — испугался Дима.
Он наклонился, пытаясь поймать её взгляд. Соня знала, что смотреть нельзя, но не удержалась, повернулась к нему. С головы парня ручьём стекала вода — наверное, теперь промочит дорогущие сиденья в джипе. Соня усмехнулась — из-за кого она так завелась? Какая чепуха, надо срочно поставить его на место!
— Мальчик… говорю тебе в последний раз. Увижу тебя ещё раз — позову мужа. И вообще… он теперь будет меня встречать, — она выхватила у Димы зонтик.
— Пусть. Я его не боюсь!
— Послушай… Езжай-ка себе в ресторан, отдохни, приведи в порядок мозги. А то у тебя что-то крыша поехала… не туда…
— Крыша поехала, — эхом повторил Дима. — Не называй меня мальчиком, слышишь?
— Ну а как же тебя называть? — Соня беспокойно оглядывалась.
Хорошо, что дождь заставил людей попрятаться по домам, а то на скамеечке сидели бы сейчас постоянные зрители — бабульки из всех трёх подъездов. Надо быстрей уходить отсюда! Но что-то её не пускало.
— Ты думаешь, я такой мажор, да? Я работаю… С третьего курса. Сам, между прочим, и в институт поступил, и на работу устроился. Ты же ничего обо мне не знаешь!
— Может, ты и машину сам купил? Пока в школе учился, подрабатывал почтальоном, да? — она не удержалась от презрительной гримасы.
— Машину не сам, — вскинул голову Дима. — Ладно, всё. Машины больше не будет. Завтра верну отцу.
Это заявление отдавало таким ребячеством, что Соне стало и смешно, и жалко его одновременно. Она уже пришла в себя, образ Димы восстановился, парень снова разговаривал на своём прежнем — дачном языке. А смотреть ему в глаза вовсе не обязательно. Она заставила себя представить Женю — его спокойный, такой мужественный взгляд, надёжные руки, серьёзный голос.
— Не валяй дурака. Ты всё понял… Отойди, я не могу открыть… Отойди, слышишь, я очень устала… на работе, теперь ты тут!..
Соня решительно рванула на себя дверь, но открыть её полностью, пока Дима стоял на крыльце, не получалось.
— Дай мне свой телефон, — потребовал он.
— Счас, разбежался, — Соня изо всех сил дёрнула ручку, и ему пришлось сделать шаг назад.
— Тогда я снова приду завтра в садик.
— Даже не думай! Увижу — позову охрану!
— Ага, давай… Нина Степановна — ещё моей воспитательницей была. Мы с ней мило поговорим.
— Только попробуй! Только попробуй ей что-нибудь вякни! — испугалась Соня.
— Дай телефон!
— Нет!
Она вбежала в подъезд, опасаясь, что Дима пойдёт за ней. Но он остался стоять внизу — видно, наглость его всё же имела пределы.
— Значит, найду сам! — крикнул он вслед, придержав дверь.
— Угу… ищи…
Соня уже вбежала на второй этаж и, пытаясь справиться с дыханием, чуть медленнее принялась подниматься на третий. Телефона у неё в доме отродясь не бывало. Ну, а мобильный — не в счёт, его можно попросту отключить.
Не успела она миновать последний пролёт, как на четвёртом этаже распахнулась дверь. На пороге стояла Анька.
***
Неужели смотрела в окно? И, наверное, слышала их в подъезде…
Не отвечая на робкое приветствие, Анька молча повернулась к сестре спиной и принялась куда-то собираться. Сначала иезуитски долго, тщательно красилась, потом подбирала косынку на шею и взяла, не спросясь, Сонину. И только когда натянула свои длинные сапоги гармошкой — любимая форма одежды под короткую юбку, Соня не выдержала.
— Ну и далеко намылилась? — спросила она небрежно, стараясь скрыть беспокойство.
— Не твоё дело, — отрезала сестра.
— Ань… Не надо, а? Над матерью измывалась, за меня принялась, да? Будешь шляться всю ночь, а я не спи? — Соня с ужасом слышала в своём голосе истеричные нотки Мары, но понятия не имела, как выйти из положения. — Вчера пришла в половине третьего. А сегодня во сколько?
— А ты мужиков позови. У тебя их теперь два, — Анька обернулась и вытаращила на неё полные ненависти глаза. — А я тоже пойду искать. Чем я хуже? Тебе можно, а мне нельзя?
— Аня… Ань, прекрати, пожалуйста… Послушай меня… Я ему всё сказала. Он больше не придёт. Ань, ты куда идёшь? На дискотеку? С Костиком или с Линкой?
— Всё ему сказала?! — истерично взвизгнула сестра. — Десять минут стояли — я засекла! Интересно, что же можно сказать за десять минут? «Пошёл вон» — триста раз?
— Каких ещё десять? — растерялась Соня. — Да он меня в подъезд не пускал, какие десять?
— Всё! Всё, хватит! Ничего! Не хочу! Знать!
— Аня!
— Двадцать три года «Аня»! А ты для него — старая, старая! Ему будет тридцать, а тебе тридцать восемь! Ему тридцать пять, а тебе… сорок три! Ему сорок два, а тебе — пятьдесят! — Анька как будто наносила хлёсткие удары ей по лицу — справа, слева… — Да он тебя бросит, как папа — маму! Забыла, да? Забыла? И будешь — одна! В морщинах, без зубов, без волос, толстая, никому не нужная! А он найдёт! Молодую! Красивую! Здоровую!
— Аня…
Соня прислонилась к стене и схватилась за голову.
— Аня, что ты несёшь…
— Действительно… Что я несу? Какие пятьдесят? Да он трахнет тебя два раза, и всё! А Женя тебя бросит! Я ему всё расскажу, всё!
Она сорвала с вешалки сумочку и, не оглядываясь, вылетела из квартиры, с силой хлопнув дверью. Соня ещё несколько минут простояла, словно её приковали к стене. Потом с трудом оторвалась и отправилась на кухню. Не замечая, что делает, поставила на газ чайник. В голове творился полный сумбур. Ей хотелось реветь — неизвестно только, от чего… от всего сразу. От страха за Аньку, от обиды за её слова. От того, что спокойная, замкнутая, размеренная жизнь за несколько дней превратилась в сплошной кошмар, состоящий из впечатлений самого разного свойства, от того, что она ничего не понимала — что хочет, чему рада, чего боится. От мыслей про Женю, Диму, Танечку, Мару…
Но Соня не заревела. Она пыталась поймать какое-то равновесие, надежду, выход из положения. Вот самый простой вариант. Если снова появится Дима — она не будет с ним даже разговаривать, отошьёт раз и навсегда. Успокоит Аньку. И позовёт Женю жить с ними. Или уйдёт к нему… Нет, нет, лучше, он сюда… да неважно! Будут готовиться к свадьбе, всё вернётся в свое русло…
Кстати, Женя обещал сегодня прийти. Рука замерла над чайником. Соня не могла заставить себя думать, что хочет этого. Вот-вот раздастся звонок в дверь, и войдёт Женя. А она сейчас не в состоянии с ним говорить. И… не в состоянии снова быть с ним — так, как вчера. Ей придётся притворяться, а он сразу заметит. Или — не придётся? Или наоборот, хорошо, если он придёт — всё сразу встанет на свои места, она вспомнит, какой он замечательный, захочет, чтобы он её приласкал, успокоил… Они вместе решат, что делать с Анькой, только на него Соня и может сейчас положиться! Но ведь Жене нельзя ничего рассказать… Ни в коем случае нельзя.
Она не заметила, сколько просидела вот так на кухне, глядя на круглые, детские часики над столом. Стрелки вместо цифр показывали на смешные рожицы — грустные, сонные или весёлые. На цифре девять — озадаченная мордочка с круглыми от удивления глазками. На десятке — один глаз уже закрыт. На одиннадцати — почему-то снова улыбка. Соня опомнилась. Женя не шёл, и нужно было позвонить и узнать, придёт он или решил остаться на службе. Мобильник лежал прямо перед ней, но она не могла набрать номер.
Соня пошла в комнату, медленно разложила постель. Потом виновато, замирая от страха, перевела взгляд на Бориса. В полумраке комнаты не было видно его глаз. Это раньше, давно-давно, зелёная часть зрачка отливала перламутром.
— Я не собираюсь повторять ошибки матери! — строго сказала она ему. — Да это совсем не такой случай. Я уже с этим разобралась. Он больше не придёт.
— Позвони Жене, — приказал Борис.
— Завтра… — пролепетала Соня. — Я сейчас… я сейчас не смогу быть с ним собой.
— Дура, — рассердился лис, — немедленно звони.
Она схватила его и прижала к себе, не давая говорить. Просто сжимала в руках, и всё. А потом заревела. Всё-таки заревела…
Не до Бориса
Она вообще очень редко плакала, можно по пальцам пересчитать. Мать — тоже, хотя иногда случалось. Поджидая Аньку у окна поздно ночью, Мара представляла всякие ужасы, и нервы у неё не выдерживали. Но Соня ни разу не видела, чтобы она плакала от жалости к себе или обиды, хотя обид в её жизни было немало.
Вот и ещё одно противоречие Мары. При всей внешней эмоциональности и крикливости — по любому вопросу, будь то политика, выступление певицы или воспитание Аньки (Соню воспитывать было не нужно, но и с ней регулярно переругивались по какому-нибудь чепуховому поводу), никто и никогда не слыхал от матери ни единой жалобы. Ни на боль — физическую или душевную, ни на болезнь. Своими горестями она ни с кем не делилась, не из гордыни, а из твёрдого убеждения, что никому это не может быть интересно, что она недостойна навязываться людям, а все свои несчастья заслужила сама.
О том, что с ней происходило, могли рассказать только глаза. Соня нередко ловила себя на том, что боится минут затишья, когда мать тихонько сидит на кухне, не кричит по ерунде и не строит Аньку. В эти мгновенья смотреть Маре в глаза, если та случайно их поднимала, было невозможно. Тогда они с сестрой, не сговариваясь, старались вытащить мать обратно, вернуть во внешний мир, пусть даже ценой маленькой свары, отвлечь от чего-то внутри неё самой.
Ради удочерения Сони Маре пришлось вступить во взаимовыгодную сделку — незамужней женщине ребёнка по прежним законам не отдали бы, а тут подвернулся Вова- электрик. Приехал он из далёкого Зауралья, жил в общежитии, и Мара прописала его к себе — за печать в паспорте, благо метраж позволял. Марин отец был заслуженным работником железной дороги. Сосед по квартире умер, и семье отдали её целиком, так что от родителей Маре досталась огромная двушка в кирпичном доме, с двумя одинаковыми комнатами по двадцать четыре метра каждая и большой, в прошлом коммунальной, кухней. К моменту появления здесь Сони родителей Мары в живых уже не было.
Постоянная прописка в то время означала стабильное трудоустройство, иной жизненный статус. Через два года Вову выгнала из квартиры очередная гражданская жена, и, оставшись без крова (в общежитие его обратно не взяли, а снимать жильё было не на что), Володя заявился к ним и… остался.
Вообще-то, договоренность у них с Марой имелась чёткая — в квартире он жить не будет. Кто знает, чем могла обернуться для Мары её доверчивость, если бы Вова призвал на помощь закон. Но новоявленный муж права качать не стал, а решил зайти с другой стороны. Неизвестно, что вдруг случилось с сорокалетней старой девой, но она влюбилась. Соня в тот год как раз пошла в школу. Всё, что происходило с матерью, она понимала — не столько разумом, сколько интуитивно. В Маре проснулась всепрощающая баба, готовая обслуживать своего молодого — на десять лет моложе! — мужа, делать для него всё, что тот только пожелает. При её-то скептическом отношении к мужчинам вообще…
Правда, открытых проявлений нежности или ласки Соня не видела, всё это свершалось за закрытой дверью комнаты, вход в которую отныне стал воспрещён — там обитал Вова или, в его отсутствие, дух Вовы. Но, видимо, эти проявления были, потому что брак по расчёту превратился в нечто большее и для Володи — он подобрел, располнел, практически не пил, забыл про приятелей и подружек, и сидел, как довольный белобрысый кот на кухне, хлебая Марин пересоленный, переперчённый, как он любил, борщ.
К Соне отчим отнёсся вполне дружелюбно, как к ничем не мешающему домашнему зверьку. Раз в неделю даже считал нужным принести ей конфетку. И то правда, любви и внимания Мары девочка у него не отбирала, а то, что мать и дочь чувствовали друг к другу — Вова не мог ощущать по определению.
— Мама с ним счастлива, ну и пусть он будет… — сказала тогда Соня Борису.
По правде говоря, она повторяла за тётей Ирой, которая провела с Соней настоящую воспитательную работу — доброй женщине казалось, что девочка должна страдать от появления отчима. Однако Соня замужество матери приняла спокойно — как неизбежное. Она с самого детства довольствовалась малым и не рассчитывала на какое-то там счастье, зная, что этого или не бывает вообще, или не может быть именно с ней. Дядя Лёша брака не одобрял — он, разумеется, считал, что муж должен быть взрослым, надёжным и с высшим образованием. Ира открыто ему не возражала, но Соне одно время казалось, что она маме немного завидует.
Поначалу Соня даже гордилась, что у Мары такой молодой и красивый муж. Значит, и сама она — молодая и очень красивая. Если подумать, мать действительно была тогда ещё молодой. Наверное, природа решила компенсировать ей неуклюжесть, немодность, неспособность к кокетству, потому что старость долго не нападала на неё во всех своих проявлениях. Внешне мать словно законсервировалась, а с появлением любимого мужчины даже похорошела… насколько это вообще было возможно в её случае. Первые заметные морщинки под глазами появились у неё не раньше сорока трёх, тогда же — и первые седые волосы, которые мать так неудачно пыталась закрашивать хной.
Сойдясь с Вовой, она уволилась из разъездного театра и устроилась в городской ТЮЗ — чтобы успевать по дому. Кукольные спектакли давали в нем редко, но всё же давали. В первый год Мара участвовала во всех постановках, а по совместительству стала помощником костюмера для игровых представлений. Правда, проработала она там недолго.
Кстати, именно тогда Борис и переселился домой окончательно — дядя Лёша подарил Сонечке своего любимца; всё равно никто не мог управлять этой куклой так, как Мара. Этот день стал одним из лучших в Сониной жизни — ведь пока Борис играл в театре, она не могла быть уверенной, что они не расстанутся. Присутствие друга сильно облегчило ей проживание с Вовой.
А Вова… Да, Вова стал самой серьёзной и непонятной Мариной слабостью. Соня часто с удивлением наблюдала такую картинку. Вова приходил домой с работы и, отужинав, устраивался на диване — устал. Мара приносила с кухни табуретку, на которую водружалась бутылка пива и ставилась кружка. Рядом, на тарелочке, лежала сушёная вобла. Вова сидел, нет, скорее, восседал — прямо, не сутулясь, с осознанием значимости и торжественности действа, как на партийном собрании. Медленно, смакуя, отпивал из кружки, затем, тщательно отобрав кусочек, так же «внимательно» разжёвывал воблу. Иногда протягивал девочке: «Сонька, попробуй рыбки». «Не надо, не надо, — беспокоилась Мара, — Нина Степановна не разрешает, у ребёнка слабый желудок». Притулившись рядышком на диване, она смотрела не на мужа, а прямо перед собой — таким взглядом, от которого любой другой поперхнулся бы, увидев, сколько в нём любви и страдания. Это были те самые редкие минуты её счастья: муж пил не водку, а пиво, не на улице, а дома. Просто настоящая русская, многотерпеливая жена! А Соня смотрела на неё — с жалостью и досадой. Ей хотелось подойти к Вове, взять бутылку и вылить ему на голову. Сцена эта дико её раздражала, просто бесила.
Сложная цепочка взаимосвязей, приведшая Вову в их дом, а именно — «высшая сила», делала в глазах Мары всё происходящее священным, оправданным и неизменным. Вова, вне всяких сомнений, явился к ней посланником от детской подруги Аллочки, которая, узнав на небе об удочерении Сони, послала Маре поддержку, а ребёнку — отца.
Отцом для Сони он так и не стал. Зато через два года родилась Анька. И вот тут Володю как подменили. Дочка тогда значила для него многое, это правда. Он баловал её, сюсюкался с ней. Мара так вообще сходила с ума по своему позднему ребёнку, на любой прыщик или чих вызывала скорую помощь и ни с кем, кроме Сони, малышку не оставляла, разве что иногда, крайне редко — с Ириной. Только когда с Анечкой сидела или гуляла Соня, Мара могла быть спокойна — кому же ещё доверить самое дорогое?
А ведь Соне, если подумать, тогда едва исполнилось девять. Они с матерью всё делали вместе — стирали, кипятили бутылочки, вставали по ночам, и Соня не считала, что её эксплуатируют, как сказал однажды сердобольный дядя Лёша. Для неё это было так же важно, как и для Мары, они понимали друг друга с полуслова. «Девочка проснулась», «девочка покакала» — только они знали цену этой радостной новости, Аньку иногда по целым неделям мучил запор. Вообще она с первого дня росла ребёнком проблемным, таким же, впрочем, как и чувство, её породившее.
Володя только приходил вечером и с умильным видом тряс погремушками — главным в его отцовстве стало слово «моё», чувство собственности, удовлетворённость производителя. Больше ничего делать было не надо — он всё уже сделал! Оставалось только гордиться. Но его, как ему казалось, маловато ценили. Бешеную любовь Мары приходилось теперь делить с малышкой. Вове оставалось достаточно, чтобы не вести себя столь по-скотски. Однако он так не считал.
Володя вдруг вспомнил, что достоин куда большего. На работе его тоже незаслуженно обижали — он то и дело менял место службы, нигде надолго не задерживаясь, и, в конце концов, целиком сел Маре на шею. Снова начал ходить к дружкам, открыто заводить молодых девок, пенять Маре на возраст и морщины. Мать ему всё прощала: это же Анечкин отец, муж, посланный свыше! Она даже никогда на него не кричала — ни за один из проступков, и — нет, не плакала. Чувство вины всё реже исчезало из её глаз… она старше, она некрасивая, она не заслужила… Хотя сам Вова к своим тридцати с небольшим полысел, обрюзг и выглядел немногим моложе жены.
Наверное, если бы этот брак не развалился, от Мары не осталось бы ничего. А мог ли он не развалиться? Похоже, что мог. Казалось, многотерпению матери не будет конца. Но конец пришёл. Нет, Вова её не бросил, как утверждала Анька. Всё началось, и всё закончилось опять-таки из-за Сони. А она испытывала как муки совести, так и облегчение. Без Вовы их жизнь стала куда нормальнее, а Мара — не обречённо-несчастной, а обречённо-спокойной. И уже не смотрела перед собой так прямо — никогда.
***
Утром Соня встала разбитая, невыспавшаяся, с тупым отчаянием на душе. Жене она так и не позвонила, а просидела до самой полуночи в страхе, что он объявится. И только сейчас, с утра, задумалась, а почему он не предупредил, что не сможет прийти? Может, что-то случилось?
Анька ночевать не явилась. Соня полночи пыталась ей дозвониться и слушала длинные гудки, пока засранка и вовсе не вырубила телефон.
Первого ребёнка приводили в половине восьмого, и Соня, не позавтракав, побежала на работу. В семь она уже открывала группу. Как обычно, пока никого не было, полила цветы, разложила неубранные со вчерашнего дня игрушки. А в душе шла напряжённая, почти насильственная работа — над не сделанными пока ещё ошибками.
Соня всё понимала. Она знала, что нельзя поддаваться, что это сродни самоуничтожению, что надо всё пережить, перетерпеть — только внутри, ничего не показывая окружающим, обманув всех — себя, Женю, Аньку, и, возможно, это пройдёт, забудется… Не надо бояться, она сможет, она сильная, взрослая, многое об этой жизни знает. Она не сдастся, и никто ничего не заметит. Главное, вести себя так, как правильно, как должно выглядеть со стороны, вычислять, угадывать ежеминутно это «правильно», не допустить ни малейшей ошибки, ни единого взгляда, ни крохотного сомнения.
Соня решительно взяла в руки мобильник и набрала Женин номер.
— Да, детка, — послышался его усталый голос.
Она почувствовала угрызения совести.
— Жень, у тебя всё в порядке? Ты вроде собирался прийти вчера… Не получилось?
В трубке повисла пауза.
— Не получилось, — ровно ответил он.
— А что же не позвонил? Я тебя ждала, — солгала Соня и поморщилась от отвращения к себе.
Новая пауза.
— Так вышло. Меня вызвали. А ты почему не набрала… если ждала?
Вопрос прозвучал легко, без всякого упрёка, но… Соне показалось, что на том конце трубки с напряжением ждут ответа.
— Я… я заснула, прикорнула на диване… прямо перед телевизором. Да ещё Анька сбежала на дискотеку… Представь, до сих пор не объявилась. Телефон отключила.
— А, ясно, — так же ровно сказал Женя. — Не волнуйся, найдётся. Ты же её знаешь.
— Слушай… а сегодня? Приходи, хорошо?
Соня произнесла это так искренне, как только могла.
— Постараюсь. Прости, детка, нельзя больше говорить.
В трубке послышались короткие гудки. Она убрала мобильник — ну вот, всё идет, как надо. У неё хватит и воли, и разума, чтобы спасти свою жизнь от хаоса и несчастья. В раздевалке послышались голоса, и Соня вышла навстречу первому малышу.
Сначала всё шло спокойно. Кажется, вчерашняя встреча осталась незамеченной окружающими. Методист провела в тихий час совещание на тему «Ознакомление детей с временами года через шедевры мирового искусства» по новой, разработанной в министерстве, системе, заставив Соню понервничать — детей на время педсовета пришлось оставлять с чужой няней. Танечка выглядела разочарованной, но по-прежнему искренне расположенной к Соне. Она с завидным упорством второй день являлась в вечернюю смену, непонятно как заинтересовав сменщицу — ту самую Людмилу Алексеевну. Наверное, пообещала отработать за неё все предпраздничные дни — женщина всегда уезжала на выходные к родственникам в деревню.
Погода сегодня стояла замечательная. Выглянуло осеннее солнце, создавая ощущение прозрачности, эфемерности повсюду — на остывшей, прикрытой пожухлой листвой земле, в дрожащем между нищенски обнажёнными клёнами воздухе. Это было её, Сонино время. Никогда, ни в каком возрасте не были ей близки ни весенние зовущие запахи, ни зимние детские восторги, ни летнее довольство. Она всегда жила в ней, в осени, во всех её гранях и изменениях, совпадая на вдохе и выдохе с её прощальными фейерверками, печальными радостями, щемящими намеками о близком конце и ярчайшим ощущением бытия.
На улицу вышли сразу же после полдника, и к пяти часам у Сони остались «неразобранными» три девочки. Все они мирно играли у неё на глазах: набрали воды в формочки и готовили в домике обед из старых листьев и ягод рябины. Даже Настя увлеклась и вела себя тихо. Было ещё довольно светло, и Соня с беспокойством поглядывала в сторону ворот и забора. Смотрела туда не она одна — Танечка, у которой всех разобрали, переместилась к ним на площадку и принялась донимать разговорами.
Соня вдруг поймала себя на том, что эта милая, всегда приятная ей девочка начинает её раздражать. И ни чем-нибудь, а своей молодостью, очаровательностью, наивностью, действительно, как сказал Дима, огромными оленьими глазками. Какой идиот может предпочесть ей угрюмую, узколицую Соню? Если ему надоели глупые испорченные куклы типа Кати, то такая, как Танечка, вполне может украсить его жизнь. Встреть он сейчас их вместе — Таню и Соню, наверняка взглянет на всё иначе…
Накаркала… Она не увидела, а почувствовала — спиной. Да ещё Танечкины глаза округлись до невозможности: девочка схватила Соню за руку. Охранник, подхалим, уяснив позицию Нины Степановны, преспокойно пустил постороннего на территорию.
Соня не обернулась, просто не могла себя заставить. Положение казалось ужасным, но и это, увы, было ещё не всё. Навстречу от центральной террасы к воротам, не спеша, шла заведующая — она всегда обходила садик перед тем, как уйти домой.
«Сволочь, козёл!» — ругалась про себя Соня. Она дрожала от негодования. И… от чего-то ещё.
Дима уже стоял рядом, она видела его боковым зрением. Следовало взять себя в руки и поступить так, как правильно. Только надо решить, как правильно.
— Здравствуйте, — вежливо поздоровался он.
— Здрасте… — растерянно заулыбалась Танечка, мгновенно покрывшись румянцем.
Соня упорно молчала.
— У меня к вам огромная просьба… — начал Дима, обращаясь к девушке.
В этот момент Нина Степановна поравнялась с их верандой. Соня бросилась к домику — якобы поправить на Яне шарфик. Заведующая остановилась напротив.
— Добрый вечер, Нина Степановна! — крикнул парень. — Как поживаете? Рад вас видеть…
Ну, прямо сама светскость и обаяние…
— Ой, Димочка, милый мой, здравствуй, солнышко! — неестественно-приторным голосом проворковала женщина.
Но в глазах её Соня прочла сильное беспокойство.
— Софья Васильевна! — многозначительно позвала заведующая. — Можно вас на минуточку, я тут с вами хочу насчёт покраски веранды…
По-прежнему не глядя в Димину сторону, Соня сошла на дорожку. Нина Степановна потянула её за рукав — подальше от парочки. Понимая, что упускает из глаз домик с детьми, Соня невольно оглянулась.
— Тихо, не смотри туда! — прошипела начальница. — Мне самой это не нравится, а что делать? Ситуация, прямо скажем, нелёгкая. Прогнать я его не могу, ничего плохого вроде не происходит… Ну, а если что — так я буду замешана, хотя никаким боком…
— В чём замешаны? — автоматически спросила Соня.
При всей, как правильно выразилась заведующая, «нелёгкости ситуации», она ещё больше, чем убежать отсюда, желала бы сейчас слышать, о чём Дима так оживлённо беседует с Танечкой на веранде.
— Не знаю, не знаю… Мне девочку жалко, он этих девочек… ну, сама понимаешь. Танечка у нас ведь не из таких. А если что серьёзно — так его мать три шкуры с меня сдерёт, что не доложила… Ну и Татьяна здесь тоже не с улицы. Куда не кинь — всюду клин!
— Нина Степановна, извините, у меня там ребята… Я их, пожалуй, уведу в группу.
— Нет, зачем же? Пусть лучше эти голубки уходят, от греха подальше… Меньше знаешь, крепче спишь. Татьяна Викторовна, Танечка! — крикнула она и добавила игриво:
— А чего же вы так припозднились? Я вас давно отпустила. Идите, отдыхайте…
Соня не выдержала и обернулась. Дима что-то шутливо говорил девушке, а та, не отрываясь, смотрела на него своими огромными глазищами. «Ну и пусть, ну и слава Богу», — подумала разумная Соня. Что подумала Соня пропащая, стоило сразу забыть…
Теперь все трое глядели на Диму. Танечка замерла в ожидании.
— Ну, до свидания, приятно было познакомиться! — всё так же широко улыбаясь, заявил ей парень.
И, больше не обращая на неё внимания, направился по дорожке туда, где стояли Соня с Ниной Степановной. Танечка так и осталась на месте — в полном недоумении, заведующая тоже ничего не понимала. А Соня рванула к веранде, мимо Димы, едва не сбив его с ног.
— Яна, Вика, Настя! Мы уходим! — крикнула она на ходу.
Но это было уже бесполезно. Дима развернулся на месте и двинулся следом.
— Соня…
Она не откликнулась. Он подошёл к домику, за которым она тщетно пыталась спрятаться, присев возле Яночки.
— Ты ещё долго? Я тебя подожду, — заявил он.
— Убирайся, — яростным шёпотом «закричала» Соня. — Что ты творишь? Как ты можешь? Есть у тебя совесть? Ты же мне всё здесь испортил… я на работу завтра прийти не смогу.
— Я просил телефон, ты не дала. А что, надо было у дома ждать? — он и не думал понижать голос.
— Я вообще не хочу тебя видеть! Нигде! Никогда! — застонала она.
Заведующую уже покинул столбняк — она слыла умной женщиной.
— Татьяна Викторовна! Вы идёте? Составите мне компанию? — она быстро подхватила Танечку под руку.
— Нина Степановна! — в отчаянии крикнула Соня. — Тут, оказывается, Анечкин однокашник пришёл, просит её телефон, какие-то учебники она не сдала.
— Конечно, конечно, — проворковала Нина Степановна голосом, не предвещающим ничего хорошего. — Разговаривайте, не волнуйтесь…
Она решительным шагом направилась к выходу, почти насильно волоча за собою Татьяну. Оглядываясь на них, мимо веранды прогулочным шагом прошли ещё несколько воспитателей — они тоже уже освободились. Соня обречённо вздохнула.
— Сволочь ты… — повторила она вслух. — Ты хоть понимаешь, что все подумают?
— Только то, что есть.
— Что — есть?! Ничего — нет! Свинья, эгоист… Ой, здравствуйте, добрый вечер… — Соня вымучила улыбку, увидев Янину маму и Викиного охранника — девочку иногда забирал секьюрити.
Мама Яны глянула на парня мельком, зато мужчина даже переменился в лице — он открыл, было, рот, чтобы поздороваться с Димой, но передумал. Следом уже бежала Настина мама. Она не обратила на посторонних никакого внимания и сразу же затрещала:
— Ой, Сонечка Васильевна, ну как там у нас дела? Только ничего от меня не скрывайте, пожалуйста! Что это она там притихла? Настя, ты снова дралась?
Несколько минут Соня разговаривала с родителями, стараясь задержать их как можно дольше, в глупой надежде, что, если не обращать на Диму внимания, он уйдёт (Настина мама, кстати говоря, была чуть постарше его, а Янина — так совсем ровесница). Однако всё это время он продолжал стоять рядом, не отрывая от Сони взволнованного, нетерпеливого взгляда.
Наконец, все отправились восвояси. Соня тут же бросилась к веранде — за сумкой, схватила её и… в бессилии опустилась на скамейку. «Пусть лучше все уйдут… чтоб никого больше не встретить… а то бросится догонять…» Сердце у неё колотилось так часто и сильно, что, казалось, сейчас выпрыгнет.
Вокруг уже стемнело, но фонарь над дорожкой ярко горел, освещая площадку. Дима подошёл к Соне вплотную и смотрел на неё теперь сверху вниз.
— Послушай… Твоя репутация… она не пострадает. Ты просто не даёшь мне сказать, у меня самые серьёзные намерения!
— Какие ещё намерения? — Соня схватилась за голову.
Он вдруг присел перед ней на корточки, оторвал от лица её руки и сжал их в своих, таких же жарких, как и вчера, ладонях. Она с трудом сделала вдох — воздуха не хватало.
— Хочешь, я сам всё объясню твоей начальнице? И не будет никаких домыслов! Хочешь?
— Ты… ненормальный, да? — у неё даже слов не находилось от негодования. — Да я тебя ненавижу просто! Как от тебя избавиться, скажи, ну пожалуйста? Ну что для этого надо сделать? На колени встать?
— На колени… ты что?! Это я…
Тут он, и правда, как был, в своих щёгольских светлых джинсах упал перед ней на оба колена. Полы его плаща раскинулись по дощатому полу веранды.
— Встань немедленно! Могут увидеть!
— Пускай! Я делаю тебе предложение, официальное. Выходи за меня… Соня, я…
— Что?!
— Только ты не отказывай, не надо сейчас, сразу не отвечай! Ты всё поймёшь, и…
Она вырвала руки, быстро встала, споткнулась об него и чуть не упала в его объятья, но удержала равновесие и метнулась к колонне, прячась от окон, за которыми могли ещё быть сотрудники.
— Дима, миленький… Перестань меня преследовать! Между нами ничего невозможно… ничего…
— Ты просто не знаешь меня! Ты всё поймешь, — повторил он, вскакивая.
На его брюках образовались два грязно-коричневых пятна, но он даже не подумал отряхнуться.
— Не хочу я тебя знать! Послушай, Дима… — жалобно продолжала она. — У меня три месяца назад умерла мать. Анька вчера устроила истерику и сбежала из дома. И у меня впервые в жизни появился мужчина. Настоящий, взрослый, серьёзный человек.
— Кэгэбэшник… — презрительно хмыкнул парень.
Но она спешила выложить, объяснить ему всё.
— Я старая дева, Дима. Эгоистка. Я… никакая в постели. Всю жизнь я только училась и читала. Мне исполнилось тридцать два, когда тебе будет столько же — мне стукнет сорок. Мы абсолютно разные люди. Из разных кругов, поколений. Из параллельных миров! Объясни мне, что — ты — во мне — нашёл?
Это был вопль отчаяния. Он стоял к ней близко-близко, перекрывая пространство, практически прижав её к колонне, но всё ещё не решаясь дотронуться. Кажется, он не слышал ничего из того, что она говорит, и смотрел на неё, как вчера, с глубоким страданием и откровенной надеждой.
— Я… тот случай, на даче… Я знаю, ты злишься, имеешь право. Я не такой, как ты думаешь, просто я увидел тебя там и… Мне что-то в голову ударило, напился — для храбрости… как увидел тебя, так поглупел… я шёл к тебе, а ты такая красивая… спала и… я знаю, я всё испортил, надо было иначе, нельзя было так с тобой! Я ведь тебя искал — всю жизнь. И вдруг — ты! Сначала не понял, но это сначала. А потом узнал. Но я бы не смог, не решился…
— Что ты бормочешь? Кого узнал?
От близости к нему, от запаха его кожи у неё перехватывало дыхание. Но она всё ещё пыталась делать так, как правильно. Даже выставила вперёд руку, чтобы отдалить его от себя, но зря. Он тут же схватил её пальцы и прижал к губам, отчего по всему телу Сони пробежала дрожь.
— Я хотел тебе рассказать… Но… возьми, вот тут… тут всё… я ночью тебе написал…
Он достал из кармана своего пижонского плаща какие-то скомканные бумажки, сунул Соне в карман.
— Вот… ты прочитай пока, а потом… там мой телефон, позвони, скажи, что ты думаешь, ладно? И ещё… Ты должна с ним расстаться, сегодня же! Иначе мне придётся… самому. Пусть уйдёт по-хорошему, или я….
— Не смей! Он ничего не знает, не смей!
— Обещай мне… Что не будешь с ним спать… Пожалуйста, скажи, что не будешь… Я это не вынесу! Я не могу даже думать об этом…
Он обхватил её и принялся целовать, покрывая губами каждую клеточку лица, шеи… И каждая её клеточка ощущала его мучительную жажду, неодолимую тоску. Этому нельзя было не верить, нельзя было не сострадать. Соня не могла больше думать о том, что правильно. Беда и счастье нахлынули на неё одновременно, они стали равны друг другу, они не могли существовать по отдельности. Лавина чувств и желаний накрыла её с головой.
Только одна мысль — об охраннике, который может всё видеть, заставила её сопротивляться, вырваться из его объятий.
— Я прошу… отпусти меня… Я всё прочитаю и позвоню… обещаю! Только не ходи сюда… Ещё раз придёшь — и знать тебя больше не хочу! — почти выкрикнула она.
Это было новое, кардинальное поражение. Но Соня доказывала себе, что это всего лишь уловка, тактический приём. Ведь сейчас главное — убежать, скрыться. От него. И от себя.
— Хорошо… хорошо… — он всё ещё дрожал от возбуждения. — Но… как ты пойдёшь? Одна, уже темно… Я ведь теперь пешком… как обещал, пока сам не заработаю! Я провожу тебя, хотя бы до переезда, ладно?
Он снова стал робким, почти заикался, сделал шаг назад и трясущимися от волнения руками нащупал на скамейке её сумочку.
— Вот, вот, держи…
— Пожалуйста, не иди сейчас за мной… — взмолилась она.
Схватила сумку и буквально побежала к воротам. Мимо охранника, по безлюдному переулку, через переезд. Она ни разу не оглянулась. Только у самого подъезда остановилась и бросила взгляд назад, в темноту. На углу дома, в свете фонаря чернела чья-то фигура. Значит, Дима её всё-таки проводил.
***
Она боялась, что не сможет вынести ни единого Жениного прикосновения, что он сразу всё поймёт, и со страхом ждала его появления. Но всё обошлось. Как только она его увидела — такого спокойного, усталого и домашнего, то сразу же бросилась к нему и, не в силах смотреть в глаза, ткнулась ему в грудь в поисках защиты. Женя обнял её, прижал, погладил по спине, и Соня почувствовала дикую вину. Сейчас надо было сделать самое правильное — рассказать ему всё.
Но… если бы всё было так просто: Дима — навязчивый наглец, Женя — любимый жених… Женя всё сразу же понял бы, а Дима испарился бы сам, поверив в её безразличие. Ну, может, ещё пару раз появился бы… и исчез навсегда.
Но ведь Соня врала, врала обоим. Дима чувствует её лицемерие. И поэтому — надеется, и поэтому — не исчезнет. А Женя… Ей иногда казалось, что он знает о ней больше, чем она сама, что он обо всём догадывается. Даже если Соня почти безразлична ему, он сразу же почувствует ложь. Возможно, многозначительность его молчания просто мерещилась Соне. Однако придётся теперь объяснять и её порыв, и страх, с которым она только что прижималась к нему.
— Анька… Она до сих пор не объявилась. Жень, я не знаю, что делать…
И тут же совесть ухватила её за горло — на самом деле она почти не испытывала сейчас беспокойства за сестру, почти что забыла о ней. А ведь на этот раз всё очень серьёзно.
— Ну-ну, ты же сама говорила, что не в силах её контролировать. Не впервые, верно?
Верно-то верно, да вот только таких конфликтов между ними ещё не бывало. И кто знает, на что теперь способна взбалмошная девчонка?
— Не волнуйся, найдём, — он успокаивающе похлопал Соню по спине. — Как зовут её парня?
— Одного — Костик. Второго — Лёша… — тяжело вздохнула она.
— Не хило, — ухмыльнулся Женя. — Телефоны их есть?
— Костика где-то был… у мамы в мобильнике, только надо его зарядить. А Лёши — нет. Но он с ней в одном институте учился.
— Ладно, разберёмся.
— Ты голодный?
— Нет, перекусил на работе. Но… очень голодный.
Он пристально посмотрел на неё. Сердце у Сони упало, а Женя уже подхватил её на руки и отнёс в комнату, на диван… Она не знала, как реагировать. На лице ещё горели Димины поцелуи, она помнила ту дрожь, которую вызвали его прикосновения. И никакие другие не могли сейчас разбудить в ней ответные чувства. Всё в ней сопротивлялось и бунтовало против иных рук. Она едва сдерживалась от того, чтобы не оттолкнуть Женю, и в ужасе понимала, что нельзя обидеть его — он-то ни в чём не виноват.
Соня видела — Женя в недоумении, после той ночи он не станет довольствоваться её деревянной покорностью, ему нужно совсем иное.
— Не думай сейчас о проблемах, детка, — прошептал он, вконец измучившись. — Пожалуйста, расслабься, забудь… всё будет хорошо… мы её найдём.
Значит, вот как он понял? Соня обречённо закрыла глаза. А закрыв… немедленно представила себе, что это не Женя, что это не он так нежно целует её, а тот, другой… что это его рука, с длинными горячими пальцами, ласкает её тело. Она вцепилась ему в плечи и, не в силах сдержаться, застонала от страстного желания, волной нахлынувшего на неё, от боли едва возможного счастья. Ну и пусть… Пусть всё будет словно во сне… Всё равно это единственный выход, иначе она не сможет, не перенесёт, выдаст себя…
Всё произошло быстрее и ярче, чем в прошлый раз. Соня боялась открыть глаза, но Женя избавил её от необходимости что-либо говорить, он снова быстро ушёл, а, вернувшись, сел рядом на кровать, спиной к Соне.
— Хочешь… правду? — неожиданно сказал он, всё ещё не оборачиваясь, и сердце тревожно забилось у Сони в груди.
Она молчала, а он продолжал.
— Вот ты меня тут допрашивала… Красивая, мол, или нет. Ты не красивая — в прямом смысле слова. Но… ты задела меня. Есть в тебе что-то, что… Я о тебе думаю — понимаешь? А я о женщинах редко думал. Хотел, добивался, но не… Это что-то такое, чего я не понимаю. Чего нет в других. Многослойность, что ли. Или даже странность. Наверное, сразу в глаза не бросается. Но если зацепишься — не забудешь.
Он резко обернулся и пристально уставился на неё.
— Ты когда смотришь вот так… хочется взгляд отвести. А отведёшь — опять смотреть хочется. Ты спросила, хорошо ли мне с тобой… где уж там — хорошо. Разве как наркоману, которому нужна игла. Но без дозы уже не могу. Вот тебе правда.
Поражённая, Соня уставилась на него: она плохо себе представляла, что Женя может сказать ей нечто подобное. Даже когда два дня назад (неужели всего два дня?) она взывала к его откровенности, на такое и не рассчитывала. Это было всё равно, что открыть дверь в постоянно запертый чулан и обнаружить, что за ней не хозяйственное помещение с щётками и вёдрами, а просторный, широкий зал с высокими сводами и изысканной мебелью.
Она испугалась — а вдруг потребует ответной правды? Что она ему скажет? Сейчас она не сможет соврать. Это признание привело её в ужас, ей было куда легче знать, что он ничего к ней не испытывает. Соня попробовала отшутиться.
— Профинтерес к тайнам и ребусам, да? — сказала она, вымучивая улыбку.
— Нет, — не поддержал он шутливого тона. — Это то, чего я в себе боюсь. А ещё… когда долго не вижу тебя, места себе не нахожу.
— Мне казалось… но ведь ты сам не стремишься… то есть, иногда предпочитаешь остаться дома, отдохнуть… Почему же ты говоришь…
Не стоило ничего спрашивать, но любопытство взяло вверх — сделав открытие, Соня не могла не разобраться в нём до конца.
— Я специально старался приходить пореже, — он не сводил с неё глаз.
— Почему?
— По двум причинам. Во-первых, как и сказал, боялся, что ты притянешь меня… больше, чем надо. Во-вторых… когда понял, как ты мне нужна — гордость обуяла. Мне захотелось, чтобы и я стал тебе нужен. Чтобы не навязываться, чтоб ты хоть раз соскучилась и позвала сама. А ты… ты ни разу не позвала. Даже после той ночи. Когда ты была моей. Тот единственный раз. Позавчера.
— Я… я просто… ты же знаешь, смерть Мары… — залепетала Соня.
— Да, я тоже всё этим оправдывал.
— Но я ведь ничего не знала, я думала, ты тоже… то есть, я не это… я просто не задумывалась… Если бы ты сказал…
— Тогда — что? Ты испугалась бы, выскользнула. Мне казалось, это как-то меня защитит… Да и зачем тебя дёргать. Тебе же проще считать меня чёрствым мужланом с примитивными потребностями. Тебе нравится думать, что я… по расчёту. Какой там, к чертям, расчёт! Может, и нельзя было тебя выпускать… Проклятое самолюбие! Вот теперь сиди, кури…
— Женя, что… Что значит «выпускать»? Мы же с тобой собирались… Ты забыл? Или уже передумал?
— Нет. Не передумал. И никогда не передумаю. Но тебе пока не нужны мои… чувства. Я же всё вижу.
— Что — видишь?
— Что ты ещё не любишь меня. Было бы здорово, если и я бы так мог. Вот тебе комфорт и идиллия… полная. Но теперь я хочу другого. Того, что ты избегаешь. И не хочешь мне дать.
— Я… разве я не хочу? Разве ты не видишь, я же стараюсь… Ты очень, очень мне дорог, поверь мне, очень…
Соня произносила эти «очень», как заклинания, пытаясь вдолбить их в собственную башку.
— Вот это меня и тревожит. В последнее время ты так сильно стараешься…
— Ну и что? Почему тревожит?
— Как будто это последняя попытка… Как будто ты боишься — чего-то. Или кого-то.
Он сделал паузу и вдруг произнёс — резко, отрывисто:
— Сонь, у тебя появился другой?
Да, это был удар настоящего профессионала. Как, как он мог догадаться? Моментальный бросок, без подготовки — и она не успела выставить защиту, проконтролировать выражение лица.
Женя избавил её от ответа. Он встал, достал из лежащих на стуле брюк сигареты и зажигалку и, как был, в одних трусах, отправился на балкон. А Соня, как побитая собака, выползла из кровати, накинула халат и ушла на кухню. Зажигать свет она не стала. Сквозь стекло ей была видна фигура Жени, справа, на балконе — его хорошо освещал уличный фонарь. Закалённый, Женя не боялся холода. Соня смотрела на его обнажённый мощный торс, наблюдала за уверенными, чёткими движениями руки, подносящей ко рту сигарету. Но он ссутулился, навис над перилами, и весь его облик выражал сейчас горечь, скупую мужскую боль, которой он ни с кем не собирался делиться, должен был пережить только сам, один.
Соня сжала кулаки, вонзив ногти в ладони — сейчас она ненавидела себя, не способную на благодарность, Диму, за то, что он всё испортил, и даже Женю — зачем ему понадобилось любить её? Вдруг она заметила, как Женя дёрнулся и всмотрелся в темноту на улице. Соня увидела, как напряглась его шея, как крепко вцепились в поручень руки. Сейчас он напоминал хищника, почуявшего добычу.
Соня тоже перевела взгляд вниз, и пульс у неё зашкалил. Она только теперь заметила другую фигуру — под окнами, почти напротив. Ошибиться было невозможно: возле скамейки на детской площадке стоял Дима. Должно быть, он только что сидел и вскочил. Он смотрел вверх — прямо на балкон, на Женю.
Сколько это длилось, сказать трудно — может, вечность, а может, лишь пару секунд. Они смотрели друг на друга, а Соня — на них. Первым не выдержал Дима. Она увидела или угадала, как он повёл головой — и в одно это движение вложил всё: враждебность, ненависть, оскорбление. Потом со всей силой стукнул ногой по скамейке, наверняка отшиб ногу, но словно не почувствовал боли. «Только не спи с ним… пожалуйста», — как будто услышала Соня. Ну и пусть, пусть… Так даже лучше! Пусть всё поймет и уйдёт. А что, что он поймёт? Ей хотелось распахнуть форточку и крикнуть в темноту: «Это неправда, неправда… я не с ним… я не была с ним сегодня!» Она чувствовала себя изменившей женой, застигнутой на месте преступления. Это было абсурдом, и это было истиной.
Тут Дима повернулся и медленно, опустив плечи, ушёл в темноту двора. А Соня почти бегом вернулась в комнату: нельзя допустить, чтобы Женя понял: она видела. Инстинктивно, словно заслоняясь от него, схватила Бориса и плюхнулась в кресло. Балконная дверь открылась, и Женя вернулся. Не зажигая свет, он присел перед Соней на корточки — прямо как Дима сегодня. Аккуратно вынул лиса из её рук.
— Забавный такой персонаж… — мягко улыбнулся он, повертев его. — Старая-престарая игрушка. Наверное, он с детства с тобой, да?
— Да… — напряжённо ответила Соня, ревниво следя за его руками.
Она не любила, когда кто-то тискал Бориса и говорил о нём снисходительно. Женя подержал его ещё немного, а потом посадил на столик, мордой к стене.
— Скажи, пожалуйста, кто он? — спросил Женя, так ровно, что Соня даже не сразу врубилась, о ком это.
Но через секунду уже поняла. Сопротивляться его мягкому, вкрадчивому голосу она не могла.
— Это… Анькин однокашник. Женя, он полный придурок! Ты не должен…
— Подожди… — он намеренно говорил медленно, словно успокаивая её. — Откуда он взялся?
— Она приволокла на дачу компашку. Ну, помнишь, в эти выходные… Послушай, мы с ним даже не говорили… Он притащился вчера в детский сад, куда-то звал, я, разумеется, его послала… Я хотела тебе рассказать, но… это так глупо.
— Анька сбежала из дома — из-за него, да?
Соня в который раз изумилась его проницательности.
— Да… — нехотя выдавила она. — Она влюблена в этого… мальчика. Вдолбила себе в голову какую-то чушь. Приревновала…
Женя вдруг тяжело вздохнул и упал лицом Соне в колени. Запустил руки ей под халат, обхватил и с силой сжал её бедра. Она замерла.
— Помоги мне… — внезапно попросил он. — Я перед трудным выбором. Сделаю, как ты скажешь…
— Женечка… пожалуйста…
Соня нерешительно провела рукой по его голове. Ей было жалко его до слёз. И одновременно она боялась его прикосновений и того, что может снова за ними последовать, едва сдерживалась, чтобы не вырваться. Как будто Дима стоял сейчас в этой комнате и наблюдал за ними.
— У меня сейчас два пути. Первый. Просто уйти и дать тебе время. Чтобы ты могла выбрать… решить — кого же ты хочешь. Сравнить, наконец. Уйду, буду сидеть, сжав зубы и ждать, надеясь, что ты поймёшь, позвонишь и скажешь… что я — единственный мужчина в твоей жизни, — он криво усмехнулся.
— Женя!.. — снова в отчаянии произнесла она.
— Но этот вариант чреват… — продолжал он задумчиво, как будто сам с собой. — Гордыня — оно, конечно, здорово… Но я уже расплатился за это. Отдам тебя своими руками какому-то козлёнышу…
Женя помолчал.
— Есть второй вариант. Я постоянно, по возможности конечно, нахожусь с тобой, ограждаю тебя от всяческого общения с этим… неважно, даже не буду спрашивать, как его звать: захочу — узнаю. И не даю тебе никакого выбора, ты остаёшься со мной, и баста. А если полезет — разберусь сам. Выбирай.
Соня не понимала. Она же всё делала правильно, ничем себя не выдала. Откуда же, откуда он знает, что всё так серьёзно, что ей надо выбирать? Да что за глупость, в конце концов? Какой может быть выбор между порядком и хаосом, рассудком и сумасшествием, спокойствием и страхом, счастьем и пучиной бед, в которую она может себя ввергнуть? Никакого выбора у неё нет, никаких вариантов. Она должна выйти замуж за Женю, иначе её жизнь погибла. А ночью — закрывать глаза и… А может, это пройдёт, как насморк, как скарлатина?
Наверное, она снова молчала слишком долго, вместо того чтобы убедить, то есть разубедить его. Но и он не двигался, ожидая ответа, упорно держал паузу. Наконец, она решилась нарушить тишину, ставшую уже невыносимой.
— Женя… ты что? Конечно, ты должен остаться! Ты что, и правда думаешь… с чего ты взял, что он… что может быть по-другому? — ей самой показалось, что голос её прозвучал слишком тонко и лживо.
— Хорошо, — сказал он и поднялся. — Только одна просьба. Не делай так больше.
— Как? — по-настоящему испугалась Соня.
— Как сегодня. Если спишь со мной… то и будь со мной. Или — вообще не надо.
— Я тебя боюсь, — вырвалось у неё. — Кто ты, Женя?
Он горько усмехнулся — в который раз за ночь.
— Я просто человек, который тебя любит. Это, наверное, и правда, страшно.
— Прости меня… — она закрыла лицо руками.
— Я не упрекаю. Более того… могу даже понять. Это, наверное, возбуждает. Молодой мальчик, романтическая страсть, не то, что у нас — буднично и по знакомству, да? У тебя ведь никого не было до меня, а хочется испытать что-то… яркое. Но я знаю, ты не какая-нибудь пустышка, а мудрая, тонкая женщина. Ты всё поймёшь и оценишь правильно. Далёко ведь всё не зашло, верно? Так, фантазии, воображение?
Всё было в точку. Соню немного задели его поучительные интонации, но она понимала: Женя просто надеется, убеждает её в том, в чем она и сама, конечно, убеждена.
То есть это одна, первая, правильная Соня убеждена. Но была ещё и вторая. Она шла сейчас в темноте, по пустым улицам, по следам того, кто брёл прочь от её дома — уязвлённый, больной, несчастный.
Раздался звонок в дверь, заставив вздрогнуть обоих. Соня вскочила с кресла и замерла в нерешительности.
— Анька? — с сомнением произнесла она, зная, что у сестры должны быть ключи.
Всем сердцем надеясь, что это не Дима, Соня кинулась в коридор. Но Женя оказался у двери первым, глянул в глазок, потом на Соню, и открыл, не спрашивая. На пороге стоял худой длинноволосый парень в кожаной куртке с заклёпками. В одном ухе у него висела серьга. Женя с недоумением рассматривал это чудо, и Соня чуть не рассмеялась — не принимает же он Костика за… Однако лицо у парня было мрачным, и ей стало не до смеха — не случилось ли беды?
— Костя! Где Аня? Она с тобой? — почти завопила она, забыв про любопытных соседей.
— Я, это… за вещами пришёл, — вызывающе вздёрнув подбородок с небольшой козлиной бородкой по последней моде, заявил Костик. — Анька от тебя съезжает.
Соня облегченно выдохнула — жива! А вслух сказала язвительно:
— Очень интересно! И куда же это она съезжает?
— Куда-куда! Ко мне, конечно. Мать не против.
Ещё бы она была против! Анька рассказывала про эту «мать» — её и дома-то почти никогда не бывает.
— Так, стоп, — Женя вдруг резко втащил парня в квартиру и прижал его к стене.
Тот неожиданно для себя оказался в захвате — обе руки как прилеплены к телу, ноги вместе.
— Фамилия, имя, год рождения и место жительства, быстро!
— Виноградов. Заводской проспект, двадцать три, шестнадцать. А что я сделал-то?! — словно пойманный в школьном туалете прогульщик, завопил Костик.
— Номер телефона. Давай, диктуй, — Женя, всё ещё расхаживающий в одних трусах, потянулся к вешалке и достал из кармана куртки мобильник.
Костик надиктовал ему телефон.
— Значит, так. Скажешь Анне, пусть приходит сама, и мы всё решим без посредников.
— Она не придёт, — вскинулся парень. — Вы на неё давите, она не хочет!
— Почему аппарат отключила? — не выдержала Соня.
— Чтобы не доставали!
— Ладно, — Женя ослабил захват. — Тогда звони ей на городской. У тебя есть городской? Давай, набирай с моего.
Несчастный программист послушно набрал номер. Женя вырвал у него трубку.
— Аня… Это Евгений. Подожди, не отрубайся. Слушай меня, детка. Если хочешь самостоятельности — флаг тебе в руки. Но не смей пропадать и трепать нервы сестре. Я таких вещей не прощаю, будешь моим личным врагом.
Он послушал некоторое время, потом кивнул:
— О'кей. Можешь пожить пока у Костика, вещи он тебе принесёт. Только включи телефон и отвечай на звонки, ясно? Что? Какая ещё тебе Москва? Об этом поговорим позже.
— Какая ещё Москва? — заволновалась, Соня. — Дай мне трубку! Жень… ну, Женя!
Но тот отрицательно мотнул головой.
— Значит, так, — продолжал он. — Мы с Соней подаём заявление на этой неделе. Через два месяца свадьба. Необходимо твоё участие — пора бы и тебе оказать помощь сестре. А после поговорим. Возможно, я помогу тебе насчет Москвы. Но никакой самодеятельности, уяснила?
Соня не сомневалась, что Анька сдалась. Человеку, уверенному в том, что его послушаются, нельзя было не подчиниться. Женя нажал отбой и положил телефон на комод.
— Собери ей самое необходимое, — приказал он.
— Но… Нельзя же ей, в самом деле… — попыталась сопротивляться Соня.
— Пусть поживёт одна, — возразил Женя, — не будь наседкой, как мать. Успокоится, сама прибежит.
Соня послушно достала сумку и побросала туда какие-то шмотки — бельё, тёплый свитер, косметику. Она испытывала и тоску (они ещё ни разу по-настоящему не расставались с сестрой, особенно после смерти матери), и облегченье — присутствие Аньки создавало сейчас множество трудностей. Костик ушёл с вещами, а Соня вдруг вспомнила: Анька ведь обещала всё рассказать Жене. Интересно, нажаловалась?
— Что она тебе сказала? Как объяснила? — не удержалась Соня.
— Что вы сильно поссорились. А что, могла сказать что-то ещё?
— Только то, что ты уже знаешь, — отвернулась Соня и пошла на кухню — ставить чайник.
Как Борис потерял глаза
Она чуть не опоздала на работу. Больше они с Женей не сказали ни слова ни об Аньке, ни о Диме, легли в постель и всю ночь делали вид, что спят. Женя, как обычно, обнял её — одной рукой, не очень крепко. Она знала, что он не спит — обычно Женя немного храпел во сне. Соня лежала и думала, как хорошо, что всё открылось, что не надо теперь притворяться. Какой бы ещё мужчина так к этому отнёсся? И какая молодец Мара, что нашла для неё именно этого человека. С ним так хорошо, спокойно, приятно — да, очень приятно, но… Кто-то коварный нападал на Соню исподтишка, заставляя представлять, что бы она чувствовала, если бы рядом сейчас лежал Дима… и её сразу кидало в жар. Бороться с этим было почти невозможно, разум тут был бессилен. Оставалось только надеяться, что Женя ни о чём не догадается.
Под утро Соня всё же заснула, да так крепко, что не услышала будильника. В итоге собиралась в суматохе. Она оставила Жене запасные ключи — запереть дверь, и вылетела на улицу вперёд него.
Воспитатели приветливо здоровались, и Соня почувствовала надежду — похоже, никто ничего не понял. Правда, ни Танечки, ни Нины Степановны она пока не встретила.
Соня ни на секунду не забывала о листках, лежащих у неё в кармане. Убедив себя, что Женя способен на ясновидение, она упорно старалась не думать о них вчера. Достать письмо она смогла только во время тихого часа, когда, перемыв посуду и заполнив программу на завтра, уселась на свободную кровать — поближе к Насте, которая вот уже полчаса старательно жмурила глазки, притворяясь, что спит.
Соня ожидала, что письмо набрано на компьютере — кто сейчас пишет от руки? Но вдоль и поперёк, с обоих сторон листа — с пометками, сносками, то нарочито мелким, то бесконтрольно размашистым почерком шли, прыгали, били в глаза рукописные буквы. Листков было пять или шесть, почерк — неровный, но понятный, местами угадываемый. Запятые и знаки препинания расставлены, как попало. Она вначале претыкалась на фразах, бесконечных повторах, но погружение оказалось настолько глубоким, что она перестала всё это замечать, нетерпеливо пробираясь сквозь торопливый сумбур его слов, местами наивный, местами лиричный и трепетный.
«Сонечка… любимая моя девочка, моя родная! Я умираю, что ты отталкиваешь меня. Во что превратилась моя жизнь… просто не хочется больше жить — так я боюсь тебя потерять, что ты мне не поверишь. Не знаю, с чего начать, передо мной твои глаза, всё-таки ты больше не ненавидишь меня, правда? За ту ночь… ты простишь меня? Нет, сейчас не могу об этом… Ты не знаешь, что я испытал за эти несколько дней. Пожалуйста, только умоляю тебя, главное — прочти до конца, иначе не поймёшь!
Я ведь вижу — ты плохо думаешь обо мне. Я не умею с тобой говорить… Тебе, небось, кажется, что я хочу от тебя только одно… Знаю, я сам виноват! А я просто знаю, что ты предназначена мне, я давно это знаю! Подожди смеяться — я так и вижу, как ты насмешливо улыбаешься. Вообще, закрою глаза — перед глазами ты, как ты смотришь, как поворачиваешь голову… мерещишься мне везде.
Я ведь сразу узнал тебя тогда, на даче. Но я не сразу допёр. То есть меня сразу стукнуло… увидел тебя и всё… Понял, что конец мне пришёл, что нельзя тебя упускать. Напился — впервые в жизни, можешь у ребят спросить. Никогда так тупо не вёл себя… а тут… А узнал — уже после, когда ты гнать меня стала. Как осенило — это же ты! Протрезвел вмиг! Помнишь я сразу сказал тебе что узнал… но ты же не слушала, а я сразу сказал!
Сонечка, я тебе сейчас всё-всё подробно, что помню, ты потерпи, просто боюсь что-нибудь упустить важное. Я ведь ничего не прошу — только прочитай! Я один раз убежал от матери. Мне было четыре, или больше? нет, наверное, нет, точно — уже пять, лето было — значит, с небольшим. Я от неё в магазине сбежал — решил уйти к папе, тогда я ничего не понимал, думал, что могу найти его сам. Вообще она со мной мучилась, я стал тогда такой неуправляемый — даже лечила меня какими-то таблетками. Короче, я вышел и пошёл — куда-то по улицам, и забрёл. А потом встал у подъезда — это был другой дом, не твой. Я бы сейчас узнал, если б твой, но это был другой. Понятия не имею, как ты там оказалась — но ты должна вспомнить! Значит, если мне было пять, тебе было тринадцать. Но ты была очень маленького роста, конечно выше меня, с большой белой дамской сумкой (смешно, я потому и не сразу узнал тебя, что всё представлял тебя выше, а ты и осталась маленькой… но тогда видно было, конечно, что ты школьница. Ты сидела на скамейке и смотрела перед собой. Словно где-то в другом мире, и ничего не замечала. Меня вообще не заметила. А я долго стоял и смотрел.
Ты не повернулась даже! Я даже забыл, что потерялся. Я смотрел на тебя и обо всём забыл. Потом ты достала из своего ридикюля игрушку такого большого коричневого лиса. Странно, но у него не было глаз, только нитки торчали. Ты прижала его к себе и начала что-то ему говорить. Я теперь думаю — ты ведь была уже большая для разговора с игрушками. Но не такая, как все, это точно моя сводная сестра в этом возрасте уже с пацанами по углам обжималась. Ну тогда я об этом не думал, конечно.
Я боялся, что ты прогонишь но всё слышал. Ты сказала ему что-то типа: «Бессовестный! Где твои глаза? Ты с ума меня свести решил, да? Ты доконать меня вздумал?!» Какие-то нотки были у тебя… смешные такие… но мне почему-то плакать захотелось, так жалко тебя стало и что лис без глаз. А потом сама ответила, за него — но я поверил, что это он: «Да глаза бы мои на всё это не глядели! Лучше совсем без глаз!» мне так до сих пор даже кажется, что он… Ты обиделась, снова засунула его в сумку и тут только меня увидала.
Соня! Ты можешь не верить! Я уже любил тебя к этой минуте! Знал, что люблю тебя, любил раньше и буду всегда любить только тебя! И ты видишь — я даже не узнал когда тебя сперва, в темноте, на даче, а сразу же понял, что люблю, как и тогда, в детстве. Потому что ты — единственная, кого я могу любить в своей жизни. Это и помогло мне всё вспомнить — я же не забывал тебя никогда — не смейся, это всё правда!
Ну вот, ты меня спросила: «Ты тоже сбежал?» Я сказал да. «Тебе нельзя. Ты ещё маленький», — это ты говоришь. А я расхрабрился и тоже говорю: «И тебе нельзя!» Ты сказала: «Пошли, я отведу тебя» и спросила, где я живу. А я заявил, что у папы — во дурак — и тебя спросил: «А ты где?» И помнишь, что ты ответила? «На Луне…»
И улыбнулась — вот так, насмешливо. Ты, видать, ты смеялась надо мной, но я был уверен, что это правда. Но ты была добрая, я же видел, поэтому не ушёл. Такие, как ты, могли быть только с Луны. Я и сейчас поверил бы… Я на твоего лиса посмотрел, морда из сумки торчала. И спросил: «А он тоже с Луны?» Мне как раз мама прочитала Экзюпери, ты знаешь, конечно, и вся эта сказка, лис… Я будто в волшебстве оказался. Я тогда во многое верил, а уж тебе — каждому слову.
Ты так терпеливо мне объяснила, что нет, он из кукольного театра, он там работал, а теперь на пенсии. Ну, раз ты не чуралась общаться с таким как я… я спросил: «Ты на него злишься? Из-за глазок? Он — растеряша?» Меня мама так звала, я всё терял. И я её тоже так звать стал, нарочно, когда папа исчез… Она до сих пор обижается. Но это я тебе потом расскажу. А ты так тяжёло посмотрела на меня и вздохнула. Словно у тебя горе. Но не рассердилась, и я решил тебя утешить, сказал, что моя пришьёт ему новые.
Не помню, что ты ответила. Кажется, мы что-то ещё говорили, как будто мы долго — или это мне кажется… А потом вдруг появились эти две тётки, ты их увидала и вздрогнула. Одна сказала: «Вот она где! Блаженная наша (мне показалось — браженная какая-то, кстати, тогда впервые услышал это слово — потом долго думал, что бы оно значило? От слова бродить?). Вся больница на ногах, а она… Спасибо, мать не знает… Мать у неё такая же… с приветом, ходит… истерику бы устроила!»
Только сейчас я заметил, что ты одета не в платьице, а в халатик — одной пуговицы не хватало, я помню это, можешь, конечно, не верить… Почему-то ещё решил, что «привет» — это твоя белая сумка так называется. И у твоей мамы — такая же.
«А это чей? Из нашего отделения?» — это они на меня уставились. Две тётеньки, обе — злые. Ну, мне так показалось, раз они на тебя кричали. Одна даже в белом была, как врач. Кстати же ещё тогда шёл детский фильм — про Алису и мелафон. Там два космических пирата превратились в женщин и переоделись в белые халаты, а девочка из больницы от них сбежала. У меня и это сразу в памяти всплыло — думаю, ты с Луны, а они ещё откуда-то… Страшно так стало! Вообще, в детстве легко проваливаешься в сказку, как в реальность, да? А у меня в голове вообще была путаница. Мною никто не занимался, маме было не до того, я телевизор смотрел всё подряд, или своё придумывал.
Я жутко испугался, что они заберут меня в больницу, или ещё на какую планету, да и просто врачей я тогда очень боялся. Мне захотелось убежать. Но и бросить тебя с ними одну я тоже не мог. Я решил тебя загородить, да ещё руки так широко расставил — чтобы тебя не было видно. И сразу себя таким сильным почувствовал. И говорю смело так: «Мы не из вашего! Это не она, не ваша браженная!» Сонечка, ты помнишь это?
Кстати, это был мой первый геройский поступок в жизни. Я ведь хотел, чтобы ты тоже меня полюбила — а это ведь надо заслужить, верно? Видишь, я это уже тогда понимал, и сейчас понимаю! Но тут как раз прибежала мать — вся в слезах, видать, обрыскала полрайона. Она схватила меня за руку и увела. Я ей кричал, чтобы она тебя тоже спасла, но она ничего не слушала ну как обычно. Ты бы знала сколько потом я не спал ломал себе голову — удалось ли тебе улететь на Луну от злых тёток-пиратов, или они забрали тебя! Плакал, что так и не смог тебя спасти. Придумывал себе космолёт, на котором прилечу тебя выручать и всех расстреляю, кто тебя обижает.
Знаешь… Вот я даже не боюсь ни капли, что это окажешься не ты. Дело не в возрасте даже, потому что знаю, что не ошибся, даже если ты и не вспомнишь. Соня… Сонечка… я хочу быть с тобой, только с тобой. Пробью головой все барьеры, я не знаю, что сделаю… но я больше тебя не отпущу тебя — ни в больницу, ни на Луну, никому не отдам! Я буду с тобой всегда, я защищу тебя ото всех. Да, я хочу тебя, хочу как умопомраченный — но хочу всю, целиком, не только тело, но и душу твою. Да, не буду врать… у меня было много женщин, наверное, слишком много для моего возраста. Тех, кто вешался мне на шею, я просто пользовал, прости меня за грубость, но это правда, тебе я врать не могу, даже если ты плохо обо мне. Тех, кого приходилось добиваться — получал, а если не получал — забывал и не страдал. Но такого со мной никогда не было! Я даже не знал, что это бывает — так… Да, ты скажешь, так все говорят, но я на своей шкуре испытал!
Не думай только, что я просто хочу добиться своего. Я хочу быть для тебя мужем — носить тебя на руках, зарабатывать для тебя деньги — сам. Видеть тебя каждый день. Вот скажи мне — не надо секса, и я буду терпеть всю жизнь, лишь бы рядом с тобой. Не могу, не в силах представлять другого, который смеет тебя касаться, целовать тебя — ты моя! Только моя! Тот, кто дотрагивается до тебя… он ублюдок… нет, не могу даже думать об этом.
Соня, Сонечка, маленькая моя, девочка моя, пожалуйста, позвони мне… Вот мой номер… Просто позвони и скажи: «Я прочитала». Или что хочешь скажи. Я всё пойму по твоему голосу… Я не верю никогда не поверю, что ты просто отвернёшься от меня, уйдёшь к этому мерзкому типу, это же неестественно — быть с ним, неужели ты не видишь сама? Эти всё твои глупости — что ты старше… да не будешь ты никогда старше, ни в шестьдесят, ни в восемьдесят… Ты не должна это же условности — я ведь вижу, что ты — другая. Ты не притворяешься, как я, перед ними всеми, что такая же. Мне жалко потерянных лет, стыдно даже за них. Но теперь я опять стал собой. Оказывается, только с тобой я могу быть настоящим.
Я не знаю, чем закончить это письмо… Перечитывать просто боюсь.
Позвони, иначе я умру».
Соне самой хотелось сейчас умереть. Сердце у неё разрывалось — она не знала, что делать. Лучше бы он остался напористым и навязчивым, требовал или молил. Но это письмо… Оно полностью обезоруживало. Человек писал и совершенно не думал, какое впечатление произведёт, не сочтут ли его самого «с приветом», не покажут ли на мозги. Просто пытался достучаться до неё, донести поскорей свою истину, ни минуты не сомневаясь, что стоит только всё рассказать, и Соня обратится в его веру. Знал бы он, что и обращаться не надо. Может, кто другой и не понял бы, назвал бы всё бредом, но они с Димой, видать, существовали на единой волне, были посеяны на одной почве, хоть и в разное время.
Да, она помнила. Как можно было не помнить тот день, когда Борис потерял свои замечательные, зелёные, блестящие глаза?
Это произошло летом — Дима ошибся, тринадцать ей исполнилось только осенью. Она сбежала в тот день из больницы, где лежала на обследовании — Мара положила её туда по совету Нины Степановны. У Сони всегда был слабый желудок, а в начале подросткового возраста обострения случались чуть ли не каждую неделю, что бы она ни съела. В больнице её поджидали различные тяготы: и заглатывание без наркоза (на детях, видать, экономили) резиновой «кишки», страшная колоноскопия, бесконечные анализы крови из пальца и вены, клизмы, рентгены и жуткая диета.
Всё это было ерундой. Но в середине второй недели из её палаты выписали двух маленьких девочек и подселили двух других — на год старше Сони. Они сразу окрестили её «чокнутой», потому что подсмотрели однажды, как она тайком разговаривает с Борисом, и принялись издеваться. Угрожали, что выкинут игрушку в унитаз или отдадут в палату к мальчишкам — там тоже нашлись желающие поизмываться над «ненормальной». Надо было, конечно, вернуть лиса домой, но ведь Соня никогда с ним надолго не расставалась, никогда не спала без него. Пришлось бы объяснять матери, что случилось. К тому же Вова давно бурчал, что от «лисы» в доме моль и покушался выбросить. Да и Анька была ещё маленькой, могла навредить.
Теперь Соня боялась даже на секунду оставить друга без охраны, но однажды явилась после исследования, на которое сумку брать запретили, и нигде не смогла его найти. Она металась по палате и рыдала — тот самый редкий случай, когда она рыдала в детстве. Это было дикое горе, она была уверена, что не перенесёт, если не найдёт его. Жизнь без Бориса казалась немыслимой. Потом Соня выбежала в коридор. А там её уже поджидали. Подростки, дразнясь, подняли лиса над головой и начали перебрасывать его из рук в руки.
Борис стойко переносил пытку. Кидая его над головой Сони, дети сочиняли для неё разные прозвища, из которых «уродка» было самым невинным. Каждый поймавший должен был назвать новое слово. Ни медсестра, ни дежурный врач и не подумали вмешаться. Возможно, им казалось со стороны, что дети играют, но, скорее всего, это было молчаливое поощрение. Мара, если честно, уже всех доконала. Она каждый день прилетала в больницу, допрашивая всех подряд о состоянии здоровья Сони, в подробностях выясняя, что означают результаты анализов, и почему количество эритроцитов на один процент больше нормы. Матери казалось, должно быть, что Соня умирает, а от неё это скрывают. Так что «чокнутые» были они обе. Поминали в больнице и их национальную принадлежность, что, разумеется, быстро подхватили дети.
Наконец, излишний шум стал раздражать медсестру, и она разогнала всю компанию, отобрала игрушку и вернула девочке — от греха подальше. Вот тут-то Соня и увидала, что у Бориса нет глаз. Реальность показалась страшной и невыносимой — рыдать она больше не могла, но внутри всё тряслось от горя и гнева. Впервые в жизни на Соню навалилось чувство непоправимости. И ещё — она ненавидела и была бессильна наказать виновных. Она взяла Бориса, положила в сумку и ушла. Прошла как-то и мимо охранника, и через ворота. Потом остановилась, не зная, куда повернуть. Домой идти рано — ключа нет, мать на работе. И Соня отправилась гулять по улицам.
«Глаза бы мои на всё это не глядели», — так говорил лис и задолго до этого, в основном про Вову. И вот, больница стала последней каплей… Сбежав с ним, Соня убедила себя (иного она бы не перенесла), что Борис избавился от глаз сознательно, сам, а не кто-то другой сотворил с ним такое. Значит, лиса следовало отругать — и Соня прочитала ему нотацию на скамейке, обличая его вредный характер.
В больницу её тогда вернули, она пролежала там ещё полторы недели, но никто больше не приставал. Возможно, врачи, испугавшись, наказали кого-то из персонала, провели воспитательную работу с детьми. Но, скорее всего, дело было не в этом. Когда Соня вошла в палату, обе девицы лежали и делали вид, что спят — был тихий час. Она подошла сначала к одной, постояла над ней молча, потом к другой — главной зачинщице. Почувствовав на себе Сонин взгляд, та не выдержала и открыла глаза. «Кто ещё раз дотронется до моего — сразу умрёт…» — тихо сказала Соня, глядя на неё. Сказала от отчаяния — а что она могла поделать, одна, против всех, как противостоять злу? Не за себя она боялась, а за Бориса. Однажды, она помнила, этот дурацкий способ подействовал, ну и… Наверное, дело было не столько в словах, сколько в её собственной убежденности в неотвратимости возмездия. Как они посмели… обидеть, покалечить — его! Его, самого лучшего, самого доброго и родного!
Вместо «чокнутой» её принялись звать «колдуньей» и начали избегать. Не разговаривали, обходили стороной. Соню это вполне устраивало. К тому же, оба прозвища и так преследовали её по жизни. Мара об этом инциденте даже не узнала — зачем трепать ей нервы, ей и так не сладко.
Мальчика, который защищал Соню на улице перед медсестрами, она не забыла. После всего пережитого — в школе, в больнице, откуда-то появился ребёнок, который вступается за неё — как ангел, посланный ей в поддержку. От взрослых-то не всегда дождёшься, а тут — такой малыш… Она помнила, как он плакал и кричал: «Вы нас перепутали! Это не она, не ваша „броженная“! Мы просто идём с приветом к папе!» И тянул свою мать обратно…
Соня потом долго, вспоминая об этом случае, мысленно гладила его перед сном по голове и желала чего-то очень-очень доброго, веря, что он почувствует. Как его зовут, она, конечно, не знала. И прозвала его для себя… о, Боже… Митенькой. Тогда это было её любимое имя.
Но как… Как он мог узнать её, спустя двадцать лет? Когда он был совсем маленьким, что он мог помнить? А если бы даже и помнил — как смог разглядеть во взрослой незнакомке ту девочку у подъезда? Эта загадка казалась неразрешимой… если только не принимать всерьёз его версию, что он может любить её одну. Но это же полный бред!
Заверещал мобильник, и Соня, подскочив, выскочила с ним в игровую. Звонил Вова. Этого ещё не хватало!
— Да, здрасьте… — обречённо произнесла она.
За все годы она так и не научилась разговаривать с ним уважительно, предпочитая молчать.
— Всё-таки добилась своего, да? Хитра, хитра, ничего не скажешь… — послышался в трубке его слегка дребезжащий голос.
Он как-то слишком быстро старел рядом со своей художницей, из статного красавца превращаясь в полную рухлядь, хотя ему исполнилось только пятьдесят пять. А Жанночка, наоборот, в свои шестьдесят выглядела великолепно.
— Чего вам? — грубо сказала Соня. — Что у вас опять?
— Выжила… выгнала дочу… А я говорил, говорил Марочке: увидишь ещё, она всё захватит, и домик, и квартирку… Ты нас все-ех ненавидишь… В нашей квартире живёшь и ненави-идишь… А Марочка, покойница, мир праху её, не поверила, поссорилась со мной! А этой — как с гуся вода! Конечно, не сестра ведь она тебе… Не родная кровь…
Так, ясно, он снова пьян. Неужели раскодировался? В трезвом виде он подобных вещей не говорил, держал при себе.
— Ваша доча сама сбежала из дома. Если можете её вернуть — то давайте… — резко сказала она.
— Коне-ечно… — блеял Вова, — сбежа-ала! Меня нашла способ выдавить, Марочку извела и Анечку, дочу мою, прогнала… Придумала, небось, что-нибудь, доконала, довела… хи-итрая…
Соня с силой нажала на кнопку, отрубая мобильный. Как и прежде, при общении с Вовой ей хотелось одного — как следует огреть его по голове. Впрочем, плевать на Вову, и без него проблем хватает. Она не собирается больше испытывать чувство вины — мать прожила бы на десять лет меньше, если бы осталась с ним. Хотя Соня так никогда и не узнает, какой ценой дались ей эти годы.
***
После рождения Анечки, Вова стал относиться к Соне всё хуже и хуже, она постоянно чувствовала на себе его недовольный взгляд. Отчиму теперь казалось, что Соня зря занимает место в его квартире, ущемляет в правах его дочь. Из-за Соньки — чужой и никому не нужной, Ане достаётся только каждая вторая конфетка, на Соню приходится тратить Анькины деньги — одевать, собирать в школу. А это его деньги, даже те, которые зарабатывает Мара — его жена!
Как ни странно, мать сначала ничего не замечала — то ли слишком уставала в борьбе за быт, то ли Вова, зная её трепетное отношение к Соне, умело это скрывал. Да ещё почему-то боялся — её, Соню, боялся. Стоило ей чуть дольше задержать на нём свой взгляд — а кроме взгляда Соня ни разу и ни чем не выразила ни возмущения, ни обиды, — и он начинал ёрзать, отступать от только что сказанных слов, часто моргал, и иногда даже как-то смешно, неумело крестился, чуть ли не зачурался. Соня долго не могла понять, в чём дело, пока однажды не услыхала, как он, пьяненький, шепнул приятелю-собутыльнику (Мары не было дома, а тот, подпевая, возмущался, для чего, мол, кормить чужого ребёнка): «Тихо, колдунья мелкая слышит… Тут так прямо нельзя, она зла-ая, всё-ё слышит, что-то задумывает…»
Вероятно, у отчима начиналась шизофрения на почве алкоголизма. За спиной у Мары дядя Вова мог даже отобрать у девочки лакомство, чтобы отдать Аньке — в этом проявлялась его искренняя отцовская любовь. Соне ни разу и в голову не пришло пожаловаться матери — она представить себе не могла, как можно причинить ей боль, поставив перед выбором между посланным свыше Володей и посланной свыше Соней. Наверное, однозначно плохих людей не бывает, но Соня не могла судить объективно, потому что к ней он повернулся своей самой дурной стороной.
Но однажды Мара поняла.
Соне уже исполнилось тринадцать — как раз в тот год, осенью, после больницы. Надо было купить на зиму пальто — Мара мечтала о пихоре, болоньевом пальтишке с меховой отстежной подкладкой, таком же, как достали соседской девочке. Мать ещё с лета откладывала на него свои копейки. Вова об отложенных деньгах знал, но открыто недовольство не выражал. Зато он начал ныть: «Доче нужны витаминчики… Куда деваются деньги… Надо купить ей апельсин. А какой страшный у неё комбинезончик… чужие люди отдали, как нищим… а новый купить не можем…»
Соня прекрасно понимала, куда клонит отчим. Но мать ничего не подозревала. Она как раз доставала деньги из шкафа — пересчитать, и легко ответила:
— Ну ничего, купим Сонечке пихор, потом ещё Аня его поносит. Она пока маленькая — для нового-то.
И тут Володя взбесился.
— Сонечке? Чужому ребёнку — всё, а моему — шиш, старый пихор после приёмыша, да?! Так ты меня любишь? Лучший кусочек — этой своей… жидовке!
— Что? — Мара даже не сразу поняла, что он говорит.
— Такой же, как ты! Жидовке!
— Что? — переспросила мать, только голос у неё изменился, стал очень тихим и каким-то бесцветным.
— Или мы эти деньги на Аньку тратим, или я ухожу! — заявил взбунтовавшийся муж.
— Соне нужно пальто… — дрожащим голосом начала Мара, словно не услыхав оскорбления.
Соня в этот момент даже не сомневалась, что она сдастся. «Жидовку» и прочий антисемитский бред Мара прощала ему неоднократно, хотя не простила бы никому другому. Правда, он ни разу ещё не называл так Соню, и вообще — никогда раньше открыто на неё не нападал. Мать механически теребила в руках жалкую пачку денег.
— Кто эта твоя Сонька? — Вова, видя её потерянность, почувствовал себя на коне. — Кто она такая? Да она ещё отработать должна все твои харчи! А ты её прописала! Ну ладно, взяла от тоски девчонку, пригрела, а та и рада! Но теперь-то у тебя своя доча есть. Гляди, вот помрём, и Аньку совсем со свету сживёт! Ты посмотри, как она смотрит — всё исподлобья, замышляет чего-то… Всё норовит у Анечки украсть. Видала, как она сначала себе в рот положит, а потом уже Анечке! Понаблюдай, понаблюдай! Да все вы такие… хитрые и жадные, всё у русского человека отнять норовите!
Соня, действительно, когда кормила ребёнка из ложечки, всегда сначала пробовала еду сама — вдруг горячо.
— Кто такая Соня? — медленно, всё так же, как будто растерянно, произнесла мать. — Она дочка моей подруги, Аллочки. Которая спасла мне жизнь…
— Да слышали уже! Сонечка, Аллочка… Думать о своей семье надо, о своих родных надо! Свои родные — они-то не продадут, ни мать, ни отца, ни родину…
— Уходи… — неожиданно, но так же тихо сказала Мара.
Только тот, кто знал, как она тряслась над мужем, мог понять, что это значило и чего ей стоило. Соня, вытаращив глаза, смотрела на мать. Ей хотелось крикнуть: «Не надо, не делай этого, я не обиделась, плевать мне на этого Володю, я потерплю, только бы тебе было хорошо!» Но для тринадцатилетней девочки это оказалось непроизносимо.
— Что? — не понял теперь уже Вова.
— Вон, — твёрдо повторила мать.
— Я, родной муж, отец твоей родной дочери — вон? А она, вот эта — останется?
— Да.
— И кому ты нужна будешь, старая ведьма? Кому? Кто тебя подберёт, кто на тебя взглянет?
Мара молчала. В глазах у неё не было ни слезинки.
— Ну, ладно-ладно… Ладненько… Отличненько… — закружился на месте Вова. — Сейчас… Соберусь… Приползёшь потом…
Но Соня видела — такого поворота он не ожидал. Да и куда ему идти среди ночи?
— Собирайся, — Мара подхватила под мышку Анюту, взяла за руку Соню и отправилась к дверям. — Бери, что хочешь. Придём, чтобы тебя уже не было.
И они гуляли — долго, пока совсем не замёрзли. Когда они вернулись, Вова сидел дома. Он так и не собрал вещей. Но Мара осталась тверда. Она переночевала в детской, ни слова больше ему не сказала, и утром он психанул, забрал свои шмотки и ушёл — сначала к какому-то собутыльнику, затем — к одной из любовниц.
Соня боялась даже вспоминать о тех днях. Мара ни одной слезинкой не выдала детям, что ей плохо. Соня до сих пор не могла понять, откуда у матери нашлись силы вести себя столь спокойно и твёрдо. И так сильна была её воля — выгнать Вову, что тот даже не стал настаивать на факте своей прописки. Однако про факт этот не забыл и всё грозил подать в суд на раздел имущества — в те годы прописка означала неоспоримое право на жилплощадь. По суду ему досталась бы лишь комната в коммуналке после принудительного размена — но и это считалось немало.
Надо отдать Вове должное, размениваться он не стал, и заявление не подал. Может, проснулась совесть, а может, просто лень было заниматься хоть чем-то. Вскоре его пригрела новая супруга — тоже старше его, натура творческая, витающая в облаках, но при квартире и мастерской. Вова, однако, занял в новой семье место себе по чину. Под угрозой выдворения он бросил пить — причем совсем, «зашился», бегал по художественным салонам в поисках подрамников и каких-то особенных кистей, с восторгом рассказывал о гениальности Жанночки, употребляя слова, которых не постыдился бы и профессиональный искусствовед. Жена обращала на него внимание лишь по необходимости — всё остальное время она занималась творчеством. Соня с удивлением узнавала, что Вова готовит ей особые, вегетарианские блюда и убирает квартиру. Она всегда вспоминала при этом сцену с воблой и табуреткой. И думала о странностях любви.
Аньку он навещал — Мара не препятствовала. Но всё больше и больше остывал к ребёнку. В новой семье у него родилась другая, такая же поздняя «доча», которую, правда, растила его тёща в деревне — супруги все силы отдавали творчеству.
А потом визиты вдруг участились. В основном, с просьбой денег — гениальные картины не продавались, современники не понимали мысль художницы, опередившей своё время. Да и времена наступили тяжёлые — не до искусства. Правда, Жанночка регулярно вывозила свои работы на так называемые вернисажи, дававшие свободным художникам шанс заработать. Но у людей совсем не было вкуса — её катастрофически не покупали.
Мара деньги давала, не отказывала, и в душе его, видимо, всё же простила. Он приходил к ним, как хороший гость, иногда даже вместе со своей неземной супругой, и Мара подкармливала их, передавала игрушки и вещи ребёнку. Вскоре оба стали привычными для их дома, как близкие родственники. Вова больше не хамил, держал себя скромно и благодарно. Жанночка витала в облаках, не понимая, где она, и кто её кормит, и могла бесконечно рассказывать им про свою живопись.
А Мара, подкладывая Вове кусочек пожирней, всякий раз виновато смотрела на Соню: мол, прости… он же послан мне свыше…
***
Соня не будет такой… Никаких посланий свыше, совпадений, случайных встреч, мистики. В жизни полно случайностей и совпадений, и вовсе не обязательно они что-то значат, разве только в воспалённом мозгу этого Димы. Город у них не слишком большой — немудрено было встретиться. А придуманное ею имя… Возможно, так назвала его мать, когда отыскала, вот Соня и вспомнила.
Она всё ещё сжимала в руках его письмо и не знала, что же ей делать. Хотя — неправда, конечно же, знала. На искренность следовало ответить бесчувственностью. На мистику — неверием. В конце концов, нельзя пожалеть обоих — одного придётся обидеть. Подумав об этом, Соня чуть было не рассмеялась. Надо же… её, старую деву, чокнутую Соню, на которую никогда не обращали внимания ребята — ни в школе, ни в институте, возжелали вдруг сразу двое. И оказалось, что это — совсем не здорово, а больно и тягостно.
Но ведь если она не позвонит, Дима опять объявится. Надо сделать так, как правильно. Главное, самой не поддаваться на всю эту сентиментальную ерунду, позвонить и мягко объяснить ему… как-то очень по-хорошему… чтобы не ранить… Сказать, что всё поняла, что во всём виноваты его детские впечатления, но нельзя придавать значения подобным вещам и ломать из-за них чужую жизнь. Что он снова пытается провалиться в фантазию, как в реальность, и в голове у него по-прежнему путаница — Дима сам подкинул ей все эти аргументы в своём письме. А самый надёжный способ убить в нём сказку — это изобразить полное недоумение: мол, никогда в жизни не лежала ни в каких больницах, ты всё перепутал. Надёжный… но ведь она так и не научилась врать.
Ничего. Надо когда-нибудь начинать. Как говорится, для спасения жизни можно.
— Софья Васильевна! Вас Нина Степановна зовёт! — услышала она вдруг голос и обернулась. — Я побуду с детьми.
Это была Танечка — гордая, оскорблённая.
— Мы разве на «вы»? — попробовала улыбнуться Соня. — И давно?
Но девочка, даже ни взглянув на неё, развернулась и ушла в спальню. Соня вздохнула и собрала листочки — там был телефонный номер. Потом, когда она всё ему скажет — тогда можно порвать и выбросить. А пока… она бережно сложила письмо, погладила, как живое, и аккуратно спрятала в сумочку.
Нина Степановна её ждала. Она сидела за своим столом, нервно постукивая карандашом. От неё Соня тоже не дождалась ответной улыбки. Ну что ж, будем вести себя так, как правильно. Лучше всего объясниться сразу и пресечь всевозможные домыслы.
— Соня! — трагическим голосом возгласила заведующая. — Ты знаешь, девочка, как я к тебе отношусь! Ты же почти моя крестница, всю жизнь на моих глазах, с Марочкой покойной мы всегда… Я знаю, твоя мама хотела бы, чтобы я принимала в тебе участие, чтобы защитила, уберегла от ошибок… Софья Васильевна! Что же ты делаешь? Ты даже не понимаешь, насколько всё серьёзно! Этот мальчик, с которым у вас… э-э-э… отношения…
— Нина Степановна! — перебила Соня. — Какие ещё отношения, это просто…
— Лучше бы тебе никогда его не встречать! — договорила заведующая.
— Нина Степановна! Послушайте, всё не так, как вы думаете. Вы же знаете, я скоро выхожу замуж. Я понятия не имею, чего этому… чего ему надо… Это, действительно, Анькин однокашник, привязался — и вот ходит! Я ему уже объясняла, сто раз!
— Вот и правильно! Гони его, гони поскорее. Не дай Бог, кто узнает… Ты ведь понимаешь, чей он сын!
— У него крутой папочка, кажется, — пожала плечами Соня. — Да какая же разница, дело не в этом!
— Нет, в этом, деточка, именно в этом! — всплеснула руками начальница. — Ты что, даже не знаешь, кто его папа? Ты вообще что-нибудь про этого парня знаешь?
— Ну… как это? А что надо знать? Дмитрий его зовут, а что?
— Господи, Сонечка! Ты как всегда, витаешь в облаках! Знаешь, как фамилия этого Дмитрия? Знаешь? Ка-люж-ный!
Последнее слово она произнесла, понизив голос, словно дотрагивается до скорпиона — со страхом и уважением одновременно. И уставилась на Соню, ожидая возгласа ужаса.
— Калюжный? — повторила Соня.
Фамилия была ей знакома, но она слишком растерялась, чтобы понять, о ком речь.
— Да, да! Ну, теперь поняла? Весь наш город ему принадлежит… весь куплен… с мэром, с правительством, со всеми заведениями… — она произнесла это шипящим голосом, едва размыкая губы. — Я ведь его жену хорошо знаю, Димину мать… В своё время я оказала ей услугу, она прекрасно ко мне относится, но…
Ах, да… Конечно, Соня знала, кто такой Калюжный, да и кто не знает в их городе? Оглушённая открытием, она молчала. Почему же Анька до сих пор не проговорилась?
— Сонечка! Дай мне слово, что будешь держаться от него подальше! Это такие люди… страшные люди!
— Да, конечно… Не волнуйтесь… — только и смогла выговорить Соня.
На негнущихся ногах она вернулась в группу. Танечка вызывающе посмотрела на неё, прежде чем уйти, но Соня даже не обратила на это внимания. Она взяла сумочку, достала из неё письмо, подержала в руках. Ну что ж… Это окончательно всё решает. Соня развернула листки и нашла номер в конце послания. «Соня, Сонечка, маленькая моя, девочка моя, пожалуйста, позвони мне…» — прочитала она и даже зажмурилась от пронзившей её боли. Сделала над собой усилие и взглянула ещё раз, стараясь видеть одни только цифры, не слышать его интонаций, не вспоминать его глаз. Сделала вдох и решительно набрала номер.
— Соня, это ты… — почти сразу же послышался в трубке его взволнованный голос. — Я знаю, это ты. Ты прочитала?
— Да, — твёрдо ответила она. — Дима. Если я хоть каплю тебе дорога… хоть на полсловечка от того, как ты пишешь… никогда больше не приходи. Никогда, ясно?
***
Вообще-то надо было сообразить — стоит ей позвонить с мобильного, и Дима узнает номер. Разумеется, через секунду раздался ответный звонок. Соня вырубила звук, спрятала телефон в сумку и старалась теперь не смотреть в ту сторону.
Так, время три. Пора поднимать детей. Разбудить иных — ещё труднее, чем уложить. Соня сбегала за полдником, включила симпатичную музыку, и малыши начали просыпаться. Она всё делала механически — улыбалась, отвечала на вопросы, заплетала косички и раздавала булочки.
Потом не выдержала, достала телефон и глянула на экран. Пятнадцать неотвеченных вызовов. Пять смс-ок. Пока она держала аппарат, пришла ещё одна. Читать было страшно. Она несколько раз повторила себе, что не будет поддаваться на угрозы суицидального толка, и только потом открыла сообщения.
Угроз не было. Первая смс-ка гласила: «Что случилось? За что ты так со мной? Пожалуйста, возьми трубку…» Вторая: «Наверное, я чем-то ужасно тебя обидел. Не будь такой жестокой, ответь мне, что я сделал не так…» Третья: «Соня, мне всё равно надо понять, в чём дело, возьми трубку, просто поговори со мной». В четвёртой были одни многоточия — видимо, Дима иссяк. В пятой: «Я люблю тебя и буду любить всегда. Да, я видел его вчера. И знаю, что вы были вместе. Меня это убивает, но это мои проблемы, не буду тебя ими мучить. Только если ты действительно любишь его — так и скажи. Но скажи сама, своим голосом — иначе я не поверю». Вот дурак! Разве она не сказала ему именно это?
И, наконец, последняя. «Я смотрю на твоё окно. Если мне нельзя говорить с тобой, я буду приходить и смотреть. Этого ты мне запретить не можешь». Соня метнулась к окну — ну, так и есть. Вот он, маячит за забором. Неужели она никогда от него не избавится?
Дима стоял, не шевелясь. И она замерла, не в силах спрятаться. Сердце бешено колотилось.
— У тебя снова гости? — послышался звонкий Танечкин голос.
Она опять появилась в группе. Соня ничего не ответила, просто без сил опустилась на детский стульчик.
— Ладно, я по делу, — девочка деловито поджала губки. — Одолжи туалетной бумаги. Мои никак деньги не соберут, а медсестра последние три пачки отобрала. Будто купить не на что — копейки ведь!
Соня обрадовалась, что Танечка с ней разговаривает, вскочила и бросилась в кладовку.
— Сейчас, конечно…
Она принесла несколько рулонов, та сухо поблагодарила и собралась уходить.
— Тань, подожди! Ты на меня злишься? — не выдержала Соня. — За что же? Думаешь, это я виновата?
Девушка не отвечала.
— Ладно, — Соня скривилась и отвернулась, — как знаешь…
— Я не на это… — произнесла вдруг Татьяна. — Ты имеешь право на личную жизнь, и я вовсе не считаю, как некоторые… Они все говорят про тебя плохо, что ты соблазнила его… вцепилась в его деньги… Ну и всякое такое.
— Кто это — они?
Соня даже забыла про Диму за забором. Значит, вот как… Общественное мнение уже сложилось, а доказывать, что ты не верблюд, Соня знала по опыту — бесполезно.
— Ну… все. Но не я. Я не поэтому. Просто… ты меня так унизила. Почему ты сразу мне не сказала, что это к тебе? А я, как дурочка, ещё делилась с тобой!..
— Тань… — Соня покачала головой. — Я и сама не знала сначала, а потом побоялась сказать. Не обижайся, пожалуйста! Хоть ты-то пойми — ничего у меня с ним нет! Я не виновата, что он преследует меня! Почему же они считают… Яна, это не твоя расческа… На-ка, почисть свою.
— Всем просто завидно. И… мне тоже.
Всё-таки Танечка была замечательной, искренней девочкой.
— Чему тут завидовать, Таня? Я даже приближаться к нему боюсь, у меня и так теперь с Женей неладно. А… что они ещё говорят?
— Ну… ещё… они меня жалеют. Все думают, что он приходил сначала ко мне, а ты взяла и… А он… правда, к тебе приходил?
Таня посмотрела на неё исподлобья, и Соня засомневалась — только ли «все» так считают.
— Неужели можно подумать, что я — у тебя — способна кого-то отбить? — усмехнулась она. — Самой-то не смешно?
— Вот именно! — в запале проговорилась Таня. — Никто и не понял…
Всё было написано на её лице — лукавить девочка не умела. Разумеется, общественность в недоумении — чем Соня Смирнова могла привлечь сына Калюжного.
Собственно, всё это ей не в новинку. Жени она тоже, по мнению многих, была не достойна. Один раз он встречал её после работы, и воспитатели его «рассмотрели». Кстати, Танечка и передала тогда Соне последние сплетни.
За Женю она, разумеется, выходила ради квартиры и денег. А вот он ради чего — ну совсем не понятно. Видать, Соня с мачехой что-то ему подмешали. Мара ведь уже имела опыт подмешивания — но потом муж вырвался из-под её гнета и сбежал. Соню она тоже взяла из детдома не просто так — а готовила себе преемницу. Больше всех настаивала на этой версии Людмила Алексеевна. Надька-то больше посмеивалась — она свято верила в несправедливость судьбы и в то, что лучшее достаётся худшим или таким вот чокнутым. Но в Сонькино колдовство — ну вас на фиг!
Соня тогда сделала вид, что это её забавляет, хотя стало неприятно. Взрослые люди с высшим образованием, и такое нести! Но так, как сейчас — не задело, нет…
Дурацкая колдовская тема, похоже, будет преследовать её всю жизнь. Соню это нервировало, словно ей приписывали что-то ужасное, подлое, грязное. Страшное обвинение для верующего человека. Но два раза в жизни она всё же воспользовалась чужим мракобесием — для собственных целей. Второй раз — тогда, в больнице. А первый…
***
Это случилось за год до разрыва матери с Вовой. Он тогда уже окончательно слетел с катушек. Напился, причём так сильно, что посмел ударить Мару. То ли она сказала ему что-то в упрёк, то ли чего-то не досолила — Соня не усекла. Зато навсегда запомнила — словно в замедленной съемке — как он замахнулся на мать. По-бабьи, не кулаком, а ладонью, и не в лицо, а шлёпнул с размаха повыше груди, но так грубо… так обидно, так мерзко!
Мара была женщиной крепкой и на ногах, разумеется, устояла. Она не заплакала и сдачи не дала, хотя Соня на её месте как следует бы ему врезала, размазала бы по стенке, потом повалила на пол, и добавила бы ещё… и ещё — ногами, со всей силы! Сердце у неё разрывалось от ненависти. Мать молча ушла в комнату, а он уселся — наглый, противный, лоснящийся, и принялся как ни в чём ни бывало хлебать недосоленный суп.
Тогда Соня подошла к нему и встала рядом. «Чего тебе?» — рявкнул Вова и поднял на неё окосевшие белесые глазки. Вполне вероятно, он мог двинуть сейчас и ей — почувствовал безнаказанность. Она несколько секунд смотрела на него, вкладывая в этот взгляд все свои чувства к нему. Вова поперхнулся и начал кашлять. Соня постучала ему по спине. И, когда он откашлялся, сказала: «Ещё раз дотронешься до неё — заколдую. Навсегда».
Глупость сказала, сама не понимая, что имеет в виду. Тетя Ира однажды говорила о ком-то — если один раз ударил, значит, будет ещё и ещё. Этого-то «ещё» допустить было никак нельзя! Соня вспомнила о его пьяных разговорах с собутыльниками, о том, что он её побаивается, вот и решила… Но в этот момент сама верила, как и потом, в больнице, в то, что говорит.
Вова мог бы спросить, конечно, как именно она его заколдует. Но, видимо, воображение подсказало ему что-то своё, потому что он перекрестился и забормотал: «Ты что… ты только не вздумай, слышишь! Скажи, что не будешь, а? Да я же нечаянно, Сонь… Сонька, обещай, скажи, что не станешь…»
Она развернулась и убежала на улицу. Но ведь действительно, больше он Мару пальцем не тронул. Мать до последнего верила, что в Вове проснулась совесть, и он искренне раскаялся. Похоже, даже прощения попросил, что вообще ему было не свойственно. А впрочем, может, и впрямь раскаялся, на трезвую-то голову, а про Сонькины угрозы утром забыл. Какая же теперь разница…
Борис знакомится
— Соня, я тебя не осуждаю! Не расстраивайся… Я тебя всегда уважала и буду уважать.
Добрая девочка подошла к ней и даже обняла. И Соня неожиданно для самой себя размякла.
— Анька из дома сбежала, — внезапно пожаловалась она, хотя никогда не рассказывала Тане о личном.
— Да Анька твоя! — неизвестно почему разозлилась девочка. — Неблагодарная она… Ой, смотри, всё ещё стоит, не уходит…
Она подошла к окну. Тем временем к Соне уже выстроилась очередь с расчёсками и резинками, кто-то что-то спрашивал, но она ничего не слышала, отвечала невпопад.
— Давай я тебе помогу, — предложила Танечка и ухватила расчёску у Вики.
— Ты сегодня в первую?
— Да, я закончила. Сейчас домой пойду… А хочешь… Может, передать ему что-нибудь? — Таня кивнула в сторону окна. — Скажу, что ты просишь его уйти, что у тебя есть жених. Ты не думай, я в него не влюбилась. Просто приятно было, что… но ты же знаешь, у меня парень есть… Он весной возвращается.
Танечка ждала своего друга из армии и всем об этом рассказывала.
— Ну, давай, я всё сделаю, не бойся! — она так и рвалась помочь.
«Хорошо всё-таки, когда есть человек, который так искренне к тебе относится!» — подумала Соня. Да, она привыкла к одиночеству, но сейчас впервые почувствовала себя беспомощной. Настолько, что даже готова была поделиться с Танечкой своими бедами, рассказать всё: и про Женю, и про письмо… Однако что-то сдерживало её, какое-то последнее сомнение — уж больно не привыкла она никому доверяться.
Но Диме, и правда, пора объяснить, что ждать бесполезно, и нечего тут торчать. Самой разговаривать с ним нельзя — ни в коем случае.
— Пожалуй, я напишу… Я сейчас, ты за ребятами присмотри пока, ладно? — решилась Соня и бросилась в спальню.
Тут она увидала, что Вадик растерянно сидит на разобранной постели, когда все вокруг свои уже убрали. Она охнула про себя: и как это она упустила, забыла проверить?
— А ну-ка, хватит копаться — беги пить кефир! Я сама застелю, — строго сказала ему Соня.
Но Вадик не испугался — он знал, Софья Васильевна не выдаст. Она всегда делала это незаметно, чтобы не усекли другие дети — догадливые и наблюдательные. Вот если бы сейчас была Надежда Петровна — над ним бы уже потешалась вся группа.
Он убежал, а Соня, дождавшись, пока никого из детей не останется рядом, быстро свернула бельё и застелила кровать покрывалом. Похоже, у мальчика снова проблемы: в последний раз он описался, когда у матери случилось очередное обострение. Надо бы срочно отвести ребёнка к врачу — как бы не развился настоящий энурез. Но — некому.
Спрятав бельё, Соня схватила первый попавшийся листок, ручку и торопливо написала:
«Дима, ты продолжаешь меня изводить. Я благодарна тебе за письмо, но абсолютно ничего к тебе не испытываю».
Она порвала бумажку и выбросила в корзину. Врать ему она не могла, но как иначе его прогнать?
«Перестань меня донимать, — написала она снова. — Это не любовь, а эгоизм. Нельзя всё в мире подчинять своим фантазиям и желаниям. Говорить я с тобой не собираюсь, я тебе всё сказала, но ты не услышал. Если ты ещё раз появишься, я стану очень плохо о тебе думать. Всё у тебя скоро пройдёт, но только если ты сам перестанешь себя накручивать!»
Оказалось невероятно тяжело проявлять к нему чёрствость и сухость. Да ещё изображать из себя опытную матрону — она-то откуда знает, пройдёт или не пройдёт? Соне захотелось хоть чем-то смягчить это письмо, сказать напоследок хоть одно доброе слово. Она пыталась себя удержать, уговаривая, что доброта ему только повредит. И всё-таки приписала:
«Я тебя в детстве вспоминала и всегда желала добра. Желаю и сейчас. Всё у тебя ещё будет очень хорошо, вот увидишь».
Вот так — благодарно и равнодушно, без всякой мистики. Написать, что она знает его фамилию? Нет, это лишнее.
Почти довольная, Соня выбежала из спальни и протянула бумажку Танечке.
— Не волнуйся, я не буду читать! — наивно пообещала девочка, гордая оказанным доверием. — Ну, я побежала?
Она ушла, а Соня встала у окна, спрятавшись за тяжёлой шторой. Едва отдав записку, она тотчас же пожалела. Сейчас Дима прочтёт, поймёт, что его отшили навсегда, а потом разглядит, какая Танечка хорошенькая, и… «И — что? — строго остановила себя Соня. — Вот и пускай!» Но совладать с эмоциями оказалось сложнее — казалось, она душит себя своими же руками…
Тем временем Танечка выбежала из подъезда, остановилась, а потом нерешительно двинулась к Диме. Тот обернулся: в его позе угадывалось недоумение, сменившееся напряжённым ожиданием. Даже издали было заметно, как волнуется девушка. Она достала из кармана бумажку, он буквально выхватил, хотел развернуть, но передумал читать при свидетелях. Однако Танечка уходить не спешила. Тогда он что-то вежливо, но нетерпеливо сказал ей, и девушка медленно побрела к дороге.
Нервы у Сони были настолько напряжены, что она поняла — Танечка разочарована. Похоже, она всё ещё надеялась привлечь Димино внимание.
Но тот уже забыл про неё, прислонился к забору и стал читать. Потом резко обернулся и поднял голову вверх. Соня едва успела отшатнуться от окна, не понимая, что так поразило его в записке? Внезапно её осенило — она же выдала себя с потрохами! Что же она натворила? Ведь решила же делать вид, что никакой детской встречи не было!
Ну, ничего… Не страшно… Она ведь не написала, что придаёт ей какое-либо значение.
К окну Соня больше не подходила. До вечера она занималась с детьми, стараясь ни о чём не думать. Прогулку она отменила, рискуя навлечь гнев начальства. К шести часам в группе осталось трое ребят, она переиграла с ними во все настольные игры, перечитала любимые книжки. Наконец, всех разобрали, не было только дедушки Вадика. Соня опомнилась — она же выключила звук на мобильном! Схватила аппарат — странно… ни одного звонка.
Ну, вот и хорошо, вот и всё, Дима, наконец, осознал… и она больше никогда его не увидит.
— Вадик, пойдём к дедуле, — бесцветным голосом произнесла Соня.
Помогла ему одеться, выключила везде свет, заперла дверь. Взяла мальчика за руку, и они вышли на улицу. Было темно, но Соня необъяснимым образом почувствовала — никого нет, пусто. Значит, и правда — всё. Она достала мобильник, набрала дедушке — тот не брал трубку. Может, заснул, с ним такое бывало… не ждать же до бесконечности? Маршрут один — не разминуться. Да и мама Вадика, наверное, дома. Но её телефон Соня не знала — последнее время женщина совсем не показывалась в детском саду.
Неожиданно повалил снег — первый настоящий снег, для их климата в это время года — большая редкость. Дом мальчика находился на той же стороне железной дороги, что и Сонин, только идти надо было не вправо, а влево, подальше. По пути им никто не встретился. У подъезда Соня подняла голову — свет в окне не горел. Они поднялись и долго звонили в дверь — тишина. Потом опять по мобильнику — бесполезно. Вадик уже приготовился плакать, но Соня принялась заговаривать ему зубы — мол, дедушка сейчас подойдёт, наверное, пошёл в магазин, а мы пока погуляем.
Снег шёл, не переставая, высветляя тёмный осенний двор. Огромные хлопья, не мокрые, а пушистые, падали прохожим на голову и плечи — хорошо, что у мальчика был капюшон. Сначала они с Вадиком радовались, ловили на ладони снежинки, рассматривали, у кого красивее. Через полчаса снегу намело столько, что они начали лепить снежки — детвора вокруг делала то же самое. Потом побегали, чтобы не замёрзнуть. В общем, гуляли ещё около часа, и под конец Соня уже не чувствовала пальцев ног. Вадик, правда, утверждал, что ему даже жарко, но она потащила его в магазин, чтобы их совсем не занесло. Там они купили шоколадку и немного погрелись. Вернулись к дому — окна по-прежнему тёмные. Неужели что-то случилось?
Соня решила вести мальчика к себе. Женя сегодня на дежурстве (она впервые за весь день вспомнила Женю), так что… И, не успела она сказать об этом Вадику, как из-за угла показался дедушка — без головного убора, весь белый от снега.
— Сонечка Васильевна! — закричал он ещё издали. — Вы меня, Бога ради, простите! Так получилось…
Она с облегченьем выдохнула, а Вадик радостно бросился к деду.
— Ох… у нас тут просто… Понимаете, доченьку снова на скорой… А телефон я дома впопыхах забыл. Пока электричку дождался, уже весь извёлся, позвонить не могу…
— Леонид Михайлович, если б я знала! — виновато покачала головой Соня. — Мы бы подольше посидели в группе или ко мне бы пошли, и вы бы не волновались. Я-то ведь думала — вот-вот… Ну, ничего, вы, главное, сейчас ему чайку горяченького налейте, с лимончиком, и сами попейте…
— Да, да, так и сделаю.
— А что с мамой? — добавила Соня тише.
— Не спрашивайте, милая, не спрашивайте, — вздохнул дедушка.
— Давайте тогда, я возьму Вадика к себе? Вы отдохнёте, завтра снова придётся ехать, наверное?
— Нет, нет, что вы! Я без Вадика вообще c тоски помру. Одна радость в жизни! Завтра никуда не поеду, сказали, лучше пока не надо… пусть успокоится.
— Ну, если что, вы сразу звоните, договорились?
— Спасибо, мой дорогой… Пойдём мы, ладно?
— Конечно…
Соня проводила их взглядом, когда они заходили в подъезд, зачем-то подождала, пока не зажёгся в окошке свет, и медленно поплелась домой.
Только сейчас она поняла, как мало её тянет в родную квартиру.
***
Кажется, заболел не Вадик, а она сама. Вернувшись, Соня почувствовала, что её знобит — неужели так сильно промёрзла? Она хлебнула чаю, сразу же постелила постель и легла, прихватив Бориса, хотя обычно берегла его — швы у него на боках стали совсем хилые, пару раз приходилось латать.
Проснулась она от телефонного звонка. Потянулась за трубкой — Женя.
— Что делаешь?
— Ты на дежурстве? — заспанным голосом, ничего не понимая, спросила она.
— Да, а где же ещё. Давно пришла?
— Я уже сплю.
— Спишь? — в его голосе послышалось недоверие. — Так рано?
— А сколько сейчас времени?
— Десяти ещё нет.
— Я, кажется, приболела, голова трещит… Ждали с Вадиком деда у дома… Замёрзла. Такой снег…
— Приболела? Что с тобой?
В его голосе, кроме участия, послышалось облегченье.
— Наверно, простыла. Утром видно будет…
— Хорошо, спи. Жаль, не могу приехать, я в области, вернусь только завтра вечером, — огорчённо сказал Женя и вдруг спросил без всякого перехода:
— Этот — не появлялся?
— Приходил к садику, названивал, я не брала трубку, — устало отчиталась она. — Но люди ему всё передали, и он ушёл. Больше не появлялся, надеюсь, всё понял.
Оказывается, говорить правду так легко… и так тоскливо.
— Ясно.
Она чувствовала — он успокоился, но почему-то не расслабился.
— Жень… Пожалуйста, позвони Аньке. У меня нет сейчас сил с ней разговаривать. И, кстати, объясни ей… ну, ты понимаешь. Чтобы она не дёргалась насчёт…
— Не вопрос, сейчас наберу. А ты выпей чего-нибудь, в смысле, лекарство.
— Да, растворю аспирин… Пока, Жень…
— Пока, детка… Целую тебя. Не болей, хорошо?
Но лекарство она так и не приняла, поленилась встать. Только опустила голову на подушку — и сразу заснула. Продрав глаза в шесть утра, поняла, что до работы не дойдёт, померила температуру: тридцать восемь и пять. Правда, ни кашля, ни насморка не было — может, вирус? Или — на нервной почве? В детстве у неё такое случалось. А чего, собственно, нервничать… Всё как раз в порядке.
Вылезать из постели было холодно, видать, котельная, как всегда, оказалась не готова к сюрпризу под названием «зима». Соня накинула халат и, ёжась, потащилась на кухню — за аспирином. Положила в стакан шипучую таблетку, налила воды, подошла к окну, бросила в него взгляд и…
Таблетка шипела в стакане, но его содержимое потихоньку выливалось в горшок с погибшей геранью — Соня так и не выбросила пожухлый цветок, продолжая без особой надежды его поливать.
Она замерла, глядя вниз. Такое могло быть в песне или в романтическом фильме, но не в этом прозаичном, до боли знакомом дворе. И, конечно, не с ней.
Снегопад прекратился, но снега за ночь навалило изрядно. Он лежал ещё чистый-пречистый и ровным слоем покрывал пятачок перед домом, выделенный детям для игр. Так вот, на этой площадке, как раз напротив Сониного окна, на белом снегу пламенели ярко-алые пятна. Кто-то старательно воткнул в него розы — так, что на поверхности остались одни лишь бутоны. Вокруг — никаких следов, видимо, человек аккуратно передвигался по ходу работы. Цветов было так много, что буквы, составленные из них, имели хорошую толщину. «Люблю», — выложил неизвестный розами на снегу, решив сказать главное — другие слова бы не поместились.
У Сони перехватило дыхание — она с трудом сделала вдох. Нет, нет… стоп. Не надо паники! Это — не ей! В доме полно молодых девушек, у них есть парни… у кого-нибудь день рождения, или кто-то захотел помириться. Вспомнил старую, набившую оскомину песню, и… Вот так и будем считать. Лучше об этом не думать.
Ей — нет — до этого — никакого — дела.
Так, она что-то хотела… что-то должна была… Да, да, надо срочно позвонить Нине Степановне, предупредить, что подвела, заболела…
— Какая работа? — удивилась заведующая. — Софья Васильевна, что с тобой? Подняла меня в такую рань, напугала… Сегодня же выходной, суббота!
Обалдев от собственной глупости, Соня растерянно смотрела на телефон. Суббота. И что делают люди по субботам? Что, например, она делала в прошлую? Ну, конечно… С этого всё и началось. Боже мой, словно прошла не одна неделя, а целая жизнь. Даже как будто зима наступила…
Только не смотреть в окно, только не смотреть… не думать об этих розах на белом снегу… Какая-то пошлость, банальность, подражательство. Но как красиво… Как щемит сердце… Но это не ей, не ей, это не может быть ей… Это не он. Он обиделся вчера и ушёл. И не позвонил больше ни разу.
Соня медленно положила трубку на стол. И в ту же секунду в абсолютной тишине послышалось громкое тренькание смс. Дрожащими пальцами она нажала на конвертик и прочитала: «Люблю и буду любить».
***
Соня лежала в полусне-полубреду. Ей даже хотелось предаться болезни, чтобы мозги ничего не соображали, чтобы ни о чём не думать. Но мысли всё равно роились в голове, и, наложенные на физическое состояние, перетекали в бессмысленные сновидения. Соня несколько раз просыпалась и снова отъезжала.
Впечатления всякий раз преломлялись по-новому. То ей мерещилось, что она получает от Димы новые смс-ки — и Соня писала ему в ответ что-то резкое, причём по-английски, на языке, которого почти не знала, долго и муторно набирая текст на старом Марином телефоне. То она вставала, одевалась и шла на работу, проходя мимо площадки. Ей встречалась соседка, и Соня старательно делала вид, что не имеет к цветам никакого отношения. Потом оказывалось, что она никуда не ходила, всё ещё спит и уже опаздывает. Она снова вскакивала и бежала вниз. Там стоял Женя, и Соня разочарованно понимала, что розы на снегу — его работа. Снова выпадала из сна и осознавала, что находится дома и продолжает лежать.
Один раз ей привиделось, что она выглянула в окно, а цветы вытоптали — на площадке играли в снежки дети. Соне стало невероятно жалко своих роз, но спасти она их не могла. Она маялась у окна, и в очередной раз обнаружила себя в кровати. Но глаза не открывались, а в новом сне выяснилось, что никаких цветов и вовсе не было, и всё это ей просто приснилось.
Наконец, что-то кольнуло её, и Соня по-настоящему проснулась. Не выдержала, вылезла из постели и на этот раз действительно подошла к окну. Цветы никуда не девались, но снег повалил снова, и их сильно припорошило. На улице — никого. Она глянула на часы — всего лишь девять утра, выходной, есть вероятность, что никто ничего не заметит. А если б всё к утру замело, если бы она ничего не успела увидеть? Вот дурачок, как же он не подумал?! «Стоп, — отрезала Соня. — Кто это — он? Мы же договорились: это сделал неизвестный друг неизвестной девушки. Ничего не знаю и знать не хочу».
Она снова легла, так и не выпив лекарство. А может, это самый лучший выход из положения? Будет лежать и лежать, и никто её здесь не найдет, никто не пристанет. А ещё лучше — взять и умереть, и все проблемы решаться сами собой. Соня представила, как Женя с Димой дерутся на кладбище, кому первому бросить ком земли на крышку её гроба. Интересно, Анька придёт? Придёт, да ещё рыдать будет… А что станет с Борисом? Ну, уж нет, его она им не оставит!
Соня вспомнила, что взяла лиса в постель, бережно достала из-под подушки, куда он забился, и усадила рядом на столик.
— Хорошо придумала! — тотчас же заявил Борис. — Насчет похорон.
К нему вернулась его привычная язвительность.
— Знаю, — буркнула Соня и натянула на себя одеяло.
И тут услышала, как в двери повернулся ключ. В голову пришла безумная мысль, Соня испытала секундное погружение в прошлое. Это же Мара, она ходила в аптеку и сейчас будет Соню лечить — как всегда, кучей таблеток.
— Ну и где ты там прячешься?
Голос, который раздался, был очень похож на мамин, но иллюзия исчезла.
— Анька! — обрадовалась Соня, сама себя не услышала и крикнула громче:
— Аня! Я здесь, лежу.
В коридоре послышался грохот — сестра, как и мать, всегда создавала много шума. Что-то швырнули, наверное, сапоги, потом опять — это уже сумка на комод, а потом какой-то странный удар об стенку, словно Анька не держала равновесия.
— С кем лежишь? — пропела она.
— Болею, дура… — разозлилась Соня.
— А-а-а… Воспаление хитрости? А как же Женюрочка-женишок? — раздался ещё один звук — сумка свалилась с комода на пол. — Ещё не обрадовался?
Да где же она, почему не появляется в комнате? Какие-то странные интонации — ухарские, развязные. Соня сделала вид, что не обращает внимания на провокацию.
— Женя на службе. Аня, иди сюда!
Она приподнялась на локте и почувствовала сильную слабость.
В коридоре послышалось басовитое, издевательское пение: «Если кто-то кое-где у нас порой — Женя и не знает…»
— Ты где? — заорала Соня. — Иди сюда быстро! Подожди, я сейчас встану…
— Не, я на минуту. Возьму кое-что и адью.
— Что — возьмёшь? — насторожилась Соня, вспомнив разговор о Москве.
Она через силу спустила ноги с кровати и подтянула к себе халат. Её колотило от холода и тревоги, но она никак не могла нащупать тапочки.
— Не бойся, не ограблю, только своё! — послышался ответ.
Соня, пошатываясь, поднялась, опираясь на кресло, и тут в комнате, наконец, появилась сестра. О, Боже! Никогда ещё Соня не видела её в таком состоянии. Анька была пьяна — не просто чуть выпивши, как после дискотеки, а именно пьяна, что называется, вдрызг. Она шаталась из стороны в сторону, одна нога — в сапоге, другая — босая. Чёрные колготки порваны на коленках. Косметика размазана по лицу — настоящий кошмар! Удивительно, как она ещё могла разговаривать.
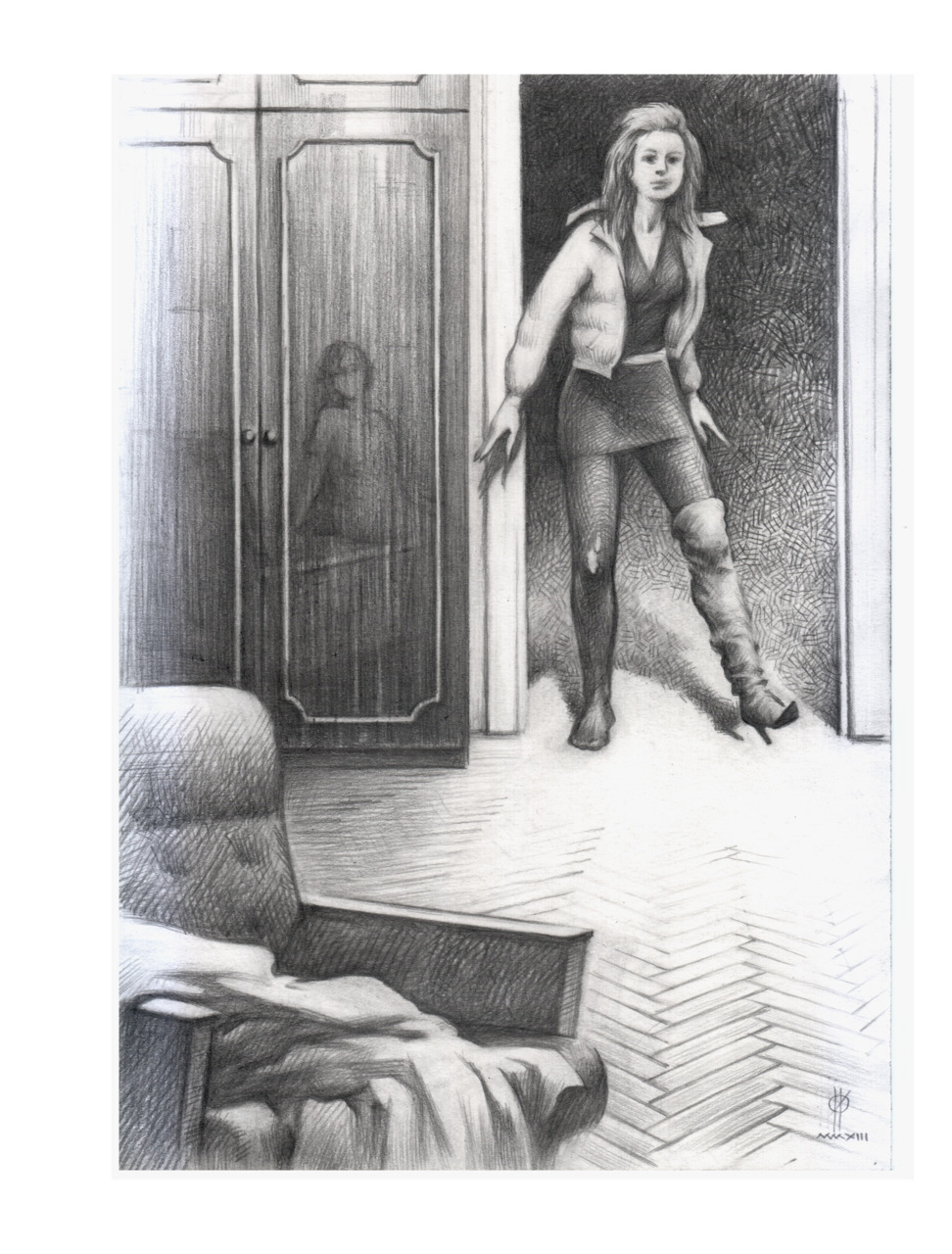
— Аня! Боже… ты что… Ты упала?
— Спокойно! — пробасила Анька. — Не надо мне тут изображать… сёстриную любовь.
— Сестринскую, — невольно поправила Соня, разглядывая её. — Что с тобой?
Анька со всей силой махнула ногой, скидывая второй сапог, и угодила им в шкаф. Соня ожидала, что сестра потеряет равновесие, но та устояла. Она пялилась на Соню своими огромными глазищами — не слишком трезвыми, но, кажется, и не совсем косыми.
— Неважно! — заявила она. — Тебе-то что!
Соня вдруг поняла, что сестра не столько пьяна, сколько придуривается. Но зачем? Упала-то она на самом деле?
— Это тебе — неважно! Лучше бы ты изобразила… спросила, что со мной… — Соня решилась на откровенный шантаж. — Температура тридцать девять, таблетку некому дать.
— Ничего, потерпишь! В старости так вообще стакан воды никто не подаст, — парировала Анька, произнеся очень даже связную фразу, однако в конце её громко и смачно рыгнула, намеренно усилив звук.
Соня в отчаянии опустилась на краешек кресла — что делать, она не знала. Насильно сестру не удержишь — даже если бы Соня была здорова, Анька крупней и сильней. А разговаривать бесполезно. Наверное, Мара смотрит сейчас на всё это в ужасе: «Что же ты, Сонечка? Как допустила?»
— Аня… За что ты меня так ненавидишь? — в бессилии произнесла она. — Что я тебе плохого сделала?
Брови у сестры сошлись на переносице, а губки поджались — сейчас Соня видела настоящую пародию на Вову.
— Не ной! — заявила сестра. — Давай к делу. Где сберкнижка? Себе заныкала?
Так она ещё никогда себя не вела. Это было ужасно.
— Почему ты хамишь? Зачем тебе книжка?
— У нас денежки пополам — забыла? — она уже перестала нарочито шататься и деловито обшаривала ящики в шкафу.
— И что — прямо сейчас понадобилось?
— Ага.
— Тебе что Женя насчёт Москвы сказал?
— А мне не на Москву!
— А на что?
— Не твоё дело.
— Если тебе нужны деньги — я дам, — Соня опять поднялась.
— Не нужны мне твои подачки. У меня свои бабки есть.
— Послушай, а где Костик? — Соня решила подойти с другой стороны.
— Не твоё дело.
— Аня, ты всё равно не сможешь снять с книжки, она оформлена на меня. Хочешь забрать свою половину — скажи мне, зачем.
— Да? Ну ты хитрозадая! — Анька полностью повторяла Вовины интонации. — И как это ты маму уговорила?
— Что… — обомлела Соня. — Ты же знаешь… всё при тебе…
— Мама тебе поверила! Ты всегда-а умела к ней подластиться… А я вот не верю! — выкрикнула Анька. — Вот возьмёшь и истратишь всё! На молодого-то мужика средства нужны — подтяжки, растяжки… А то убежит!
Она больше не разговаривала, как пьяная, но всё-таки не могла же она так говорить в здравом уме? Казалось, в неё вселился бес, настолько эта отвратительная фурия не походила на её взбалмошную, но такую добрую и преданную сестрёнку.
Соня молчала, не в силах оторвать от неё глаз.
— Она и раньше всегда делала доверенность на тебя! А почему, скажи, почему? — продолжала сестра в том же духе.
— Ищи в корне слова «доверенность», — тихо, без всякого выражения, произнесла Соня, продолжая смотреть на неё. — Как только смогу выйти на улицу, сниму все деньги и отдам тебе. Вместе с историей вкладов — чтобы не сомневалась.
Всё, с неё хватит! Пусть забирает, что хочет, и идёт! Так больно и горько… что слов не находится. Осталось только услышать про чужую кровь, и всё между ними будет кончено. Или — уже?
— Не хрен на меня пялиться! — не выдержав, сестра отвела взгляд. — Всего мне не надо! Тогда вот это пока возьму. Это мамино наследство! Ровно половину.
Соня только сейчас заметила, что у Аньки в руках шкатулка с мамиными «драгоценностями». Там и было-то всего, что пару цепочек, серьги, да три золотых кольца. Остальное — так, бижутерия, серебро, бусики из бирюзы… мать не умела себя украшать. Анька высыпала содержимое на столик, под нос Борису. Не выбирая, отгребла на глаз половину, не глядя, сунула всё это в карман и направилась к выходу.
— Деньги возьми! — не выдержала Соня. — У тебя что, кончились?
Когда приходил Костик, она положила в сумку десятку, но мало ли что… Анька не реагировала, она уже подобрала сапоги и натягивала их, прислонясь к стене.
— А, да, как я забыла! Я же тебя из дома выгнала, в чём была, надо, чтоб все поверили, как твой папочка, да? — горько сказала Соня.
Но на этот раз на сестру ничего не действовало. Не отвечая, она пыхтела над сапогом-гармошкой, который никак не хотел натягиваться и выпадал из рук. Наконец, справилась с обувью, сунула руку в рукав тоненькой курточки и, позабыв про второй, ринулась к выходу.
— Оденься немедленно! Холодно! Бомжиху изображаешь? Не стыдно так по улицам ходить? — в отчаянии выкрикнула Соня, кидаясь ей вслед. Голова у неё сразу же закружилась.
— Стыдно? — Анька обернулась. — Если мне не стыдно быть маминой дочкой и твоей сестрой… то мне уже ничего не стыдно!
— Что… — в глазах у Сони потемнело, и она привалилась к шкафу.
— Что слышала. Да, кстати, сколько можно человека морозить? Отмёрзнет у него всё — и ни себе, ни людям…
Анька метнулась на кухню, распахнула окно и заорала:
— Димон! Иди сюда! Путь свободен!
Соня бросилась к ней:
— Ненормальная… прекрати… закрой!..
Но сестра всем телом загораживала форточку, выглядывая в окошко.
— Чёрт… В подъезд, что ли, спрятался?
Она сиганула к дверям, и её каблуки застучали по лестнице.
— Иди, давай, тебя зовут! — раздался её крик на весь подъезд.
Одновременно внизу хлопнула дверь, и послышался новый топот — кто-то взлетал вверх — через ступеньку.
Незакрытая дверь скрипнула, и на пороге показался он.
***
А с Соней происходило необъяснимое. Она была больна, с высокой температурой. Только что убежала из дома сестра — раздетая, неадекватная… Соседи слышали её крик.
Но всё это вмиг перестало беспокоить Соню. В голове теперь было только одно: какая она больная и некрасивая.… почему он застал её в таком виде… Но и это исчезло, пропало, как только они встретилась взглядами. В одну секунду Дима заполнил всё пространство души, а оставшийся мир уменьшился, скукожился, отошёл на второй план.
Дима выглядел жутко замёрзшим. Он стоял всё в том же тоненьком плащике, шея — голая, на ногах — модная, совсем не зимняя обувь. Обоих колотило: его — не меньше, чем её. Соня не могла удержать своих рук — они тряслись. Не могла произнести ни слова, только дала ему войти и закрыть за собой дверь — не хватало ещё разборок на лестнице.
— Ты, правда, звала меня? — выпалил он.
Соня попробовала прийти в себя. Остатки разума в её голове ещё сопротивлялись нахлынувшему безумию, но с каждой секундой всё больше и больше проигрывали битву.
— Нет… Нет! — выдохнула она. — Митя, уходи…
— Как… как ты меня назвала?
Ноги у неё подогнулись.
— Не знаю… У меня температура. Я не могу… Пожалуйста, умоляю, не теперь…
— Ты заболела? Что с тобой? — он подхватил её под локоть.
Если ещё можно было что-то сделать, то надо было делать сейчас. Соня резко дёрнулась, отшатнулась, но голова у неё закружилась сильнее. Всё вокруг поехало — быстрее, быстрее. Потом свет в глазах погас, и она начала куда-то сползать.
***
Она боялась открыть глаза. Вдруг весь мир продолжает крутиться, или снаружи окажется полная темнота?
Соня сознавала, что лежит на подушке, другую зачем-то подложили ей под ноги. Но главное, мама гладила её по голове — те же движения, тот же ритм. Конечно же, это была она, никто другой не смог бы касаться Сони вот так — с затаённой нежностью, едва сдерживаемым — лишь бы не в тягость — порывом. Мара дотронулась губами до её лба, наверное, проверяя температуру — губы были прохладными и несли облегченье, в их прикосновении чувствовались потерянность и испуг — мать всегда легко впадала в панику, если кто-то заболевал.
В ту же секунду Соня очнулась. Мамы, конечно же, не было. Рядом с диваном, на котором лежала Соня, стоял на коленях Дима. Его бледное испуганное лицо нависало прямо над ней. На нём была чёрная рубашка, плащ валялся на полу. Поняв, что Соня пришла в себя, Дима порывисто сжал её руку.
— Слава Богу…
Она попробовала приподняться, но ощутила дикую слабость. Испугавшись нового головокружения, опустилась обратно.
— Лежи, пожалуйста, лежи! У тебя есть что-то от жара?
— Да, там… на кухне. Около хлебницы, на столе, — Соня сама удивилась, что может говорить, да ещё так спокойно, о бытовых вещах.
Дима вернулся через пару минут, в одной руке он держал стакан, в другой — мокрое полотенце. Приподняв Соне голову, поднёс лекарство. Соня перехватила стакан, но Дима руку не отпустил, пока она не выпила всё до дна. Потом в несколько раз сложил полотенце и положил ей на лоб. Аккуратно вытащил из-под неё одеяло и укутал, как маленькую.
— Я вызову скорую. У тебя сорок, не меньше!
— Не надо… — слабо возразила она, но Дима не слушал.
Он позвонил с мобильного и вызвал неотложку, совершенно точно назвав Сонин адрес. Снова сел рядом и взял её руку в свою.
Они ничего не говорили. Соня и не могла ничего сказать, да и не знала, зачем. Всё её тело ломило, в голове звенело, но рука чувствовала Димино тепло. Ничего не нужно — только его рука. Всё казалось оправданным, всё разрешено. Они просто смотрели друг на друга. Иногда Соня, устав, закрывала глаза, но и тогда ощущала его взгляд, и знала: пока Дима смотрит на неё вот так, ничего плохого с ней не случится. Впервые за эти два месяца она чувствовала себя такой защищённой.
Да — Женя… она помнила, знала, он — самый надёжный мужчина на свете, на которого можно положиться во всём, в любом житейском вопросе. Мамина мечта о счастье… Сама она не могла стать для Сони подобной опорой. Но, оказывается, этого вовсе не надо. Или надо кому-нибудь… но не ей.
Женя? Соня сама удивлялась, что её не мучает совесть. Её больное тело подчинялось только своим желаниям, доводы рассудка стали ему безразличны. Если бы Женя был сейчас здесь и держал её руку… хотелось бы только одного — чтоб он отпустил, ушёл… чужой человек в таком положении был бы невыносим… Чужой? Слово это напугало её — так, словно что-то перевернулось в ней раз и навсегда, встало с головы на ноги… или наоборот?
Дима держал её руку, но будь он даже теперь далеко, Соня всё равно осталась бы с ним — в этом прочном невидимом коконе, неуязвимом для врагов, болезни и смерти. Защита его, как и мамина, была иного свойства, иного уровня. Когда чья-то душа так близко с твоей, что они сливаются — потеряться уже невозможно. И чего же бояться тогда? Ничего уж не страшно…
Но может… может, она просто бредит — слияние душ, кокон, яркий сон больного сознания… и стоит ей только прийти в себя, подняться с постели, как всё изменится, станет пустым и смешным? Что происходит… откуда это странное знание — что Дима здесь на своём месте, что он должен быть здесь? Ещё вчера она не то чтобы допустить, представить себе не могла… Как это возможно — вот так, вдруг, в одночасье? Или это нелепая опечатка, бессмысленный ляп? Соня в очередной раз открывала глаза — и все сомнения снова уходили далеко-далеко. Потом… всё потом… Сейчас она не хочет и не должна ничего решать. Сейчас всё должно быть именно так. Сейчас только так — правильно. Хотя бы на время… ещё немного… пожалуйста…
Скорая приехала минут через тридцать. Два молодых коновала вошли в квартиру, как к себе домой. Выслушали сбивчивый Димин рассказ. Первый, высокий и лысоватый, принялся что-то писать, затребовав у Сони страховой полис. Она показала Диме, где его найти. Другой, чернявый, небритый, пощупал ей пульс, измерил давление.
— Тахикардия сильная. Может, от температуры высокой. Сердечко раньше шалило?
— Нет… Но пульс часто вот так… дышать нечем.
— А сознание теряли?
— Нет, никогда.
— Инсульт, инфаркт у кого-нибудь были в роду?
— Не знаю… Мать умерла молодой, но от чего…
— Не знаете, от чего мать умерла? — удивился первый медбрат, подняв голову от бумаг.
— Меня из интерната забрали.
Соня поймала ошарашенный Димин взгляд — ах, да, он же думал, что их с Анькой мать умерла лишь недавно.
— Может, в больницу её? — с сомнением спросил чернявый.
— Нет, пожалуйста… не надо! — взмолилась Соня. — Не выношу больниц.
Медбратья переглянулись.
— Не надо в больницу, — глухо сказал Дима. — Я сам всё… только скажите…
— Ладно. Сделаем ей пока укол, пусть поспит. Горло чистое, вроде не грипп.
Тот, что оформлял документы, оставил бумаги, подошёл и внимательно посмотрел на Соню.
— По-моему, просто нервное истощение, — объявил он и повернулся к Диме. — Чё ж ты жену так довёл, а?
Дима только виновато смотрел, соглашаясь со всем сказанным — и про жену, и про то, что довёл.
— Да у неё ещё устройство такое… по астеническому типу… — продолжал лысый. — Даже на свой возраст не выглядит — я бы ей двадцать пять дал, не больше. Нервная девочка, да?
— Следи за базаром! — вздёрнул подбородок Дима. — Она не нервная.
— Ладно, не заводись, — беззлобно махнул рукой тот.
— Не надо в больницу, — повторила Соня.
— О’кей… Если будет соответствующий уход… Значит, так, — медбрат повернулся к Диме. — Одну не оставлять, повысится температура — делай влажные обтирания, с уксусом или водкой. Питья побольше. Станет хуже — вызывай опять. Но, думаю, всё обойдется. Поправится, своди жену к кардиологу. Понял?
— Да, — сосредоточенно кивнул Дима.
— Больничный нужен?
— Нужен, — решительно заявил он.
— Тогда мы сейчас оформим бумагу, а в понедельник или врача вызови, или сами в поликлинику дуйте — по состоянию.
Лысый снова принялся за документы, а его напарник отправился слоняться по квартире, ушёл на кухню, потом вернулся.
— Видали, там у вас под окном — миллион алых роз прямо. Почти засыпало уже — столько бабок на ветер!
— Не волнуйся… — кивнул лысый, не отрываясь от писанины, — художник, видать, не из бедных, небось, дом и холсты не продал. Тысяч на пятьдесят цветочков-то… А то и больше.
— Повезло же кому-то! Романтик, да ещё при деньгах, — хмыкнул чернявый.
Они ещё пару минут пересмеивались, забыв про Соню. Один спросил другого, чем тот пожертвовал ради любимой женщины. Тот ответил — как чем? Женился! Мол, вся жизнь коту под хвост. Наконец, оба покинули дом, и Соня вздохнула с облегченьем.
Дима вышел, вернулся со свеженамоченным полотенцем, провел им по её лбу, шее, плечам. Но на большее не решился. Соня чувствовала, как дрожат его руки.
— Ну вот… космические пираты исчезли, — вдруг сказала она. — Ты меня всё-таки спас.
У неё даже нашлись силы улыбнуться. Дима шутку не поддержал.
— Да… я не бедный художник, всё не продал, — тихо произнёс он. — Но я жизнь за тебя отдам.
***
Соня быстро задремала после укола, а потом глубоко уснула. Когда она очнулась, то долго не могла ничего понять. За окном ещё не стемнело, но стало как-то неярко — день перевалил за половину. Однако в комнате ничего не изменилось. Дима по-прежнему сидел рядом и держал её за руку. Соня почувствовала себя совсем здоровой, она резко села, но тут же поняла, что поспешила. В голове загудело, и она прислонилась к спинке дивана.
— Я мерил тебе температуру, тридцать шесть ровно, — сказал он. — Вот сбили так сбили…
Соня подумала, что, возможно, ей делалось и влажное обтирание, но решила об этом не спрашивать. Дима встал и подложил ей под спину ещё одну подушку. Одним коленом он опёрся о диван и нерешительно замер — то ли отойти, то ли сесть рядом. Всё-таки сел прямо к ней на постель и нежно, почти просительно притянул Соню к себе. Её голова сама упала ему на плечо. Он тут же обхватил Соню обеими руками и порывисто прижал.
— Сонечка, Соня… маленькая… я всё для тебя сделаю… — шептал он. — Отдай мне, отдай свою болезнь… Пусть она уходит от моей девочки, я её прогоню… не пущу к тебе больше… никакое зло… не пущу…
Он тяжело дышал и явно удерживал себя от более радикальных объятий, только несколько раз ласково коснулся губами её виска. Казалось, он хочет передать ей все свои силы, всю свою нежность.
Соня по-прежнему не могла ни о чём думать — плохо или хорошо то, что происходит. Пусть он будет рядом, остальное пока не важно. Даже в таком состоянии, как сейчас, она остро ощущала его присутствие, чувствовала, как её тело тает, растворяется рядом с ним. И ничего более настоящего сейчас быть не могло. Никого, кроме Мити, у неё нет — никого роднее и ближе, словно они родились вместе. Она снова невольно подумала, что так покойно ей было только под крылом Мары. Когда Соня болела, мать позволяла себе быть ласковее, чем обычно. Вот так она и бормотала ей на ухо: «У волка заболи, у Кощея заболи, у фашистов заболи — а у моей девочки не боли, не боли, не боли…» И боль всегда отступала! А потом они уже по очереди начитывали эти слова над маленькой Анечкой…
Соня встрепенулась:
— Анька. Ты её встретил?
Как только она вспомнила про сестру, ей стало больно и холодно. Запахнув повыше халат, Соня попробовала отодвинуться. Дима тотчас же отпустил её, тревожно всматриваясь ей в глаза, словно пытался понять, не перешёл ли некую грань, не вырвется ли она теперь навсегда.
— Анька убежала куда-то, — ответил он. — Мы на лестнице с ней…
— Нет, до того! — перебила Соня.
— А, ясно, — торопливо закивал он, радуясь, что она говорит с ним. — Анька шла с каким-то парнем, волосатиком. Я его не знаю. Небось, из ночного клуба.
— А ты — что делал ты? Где стоял?
Соне надо было представить всё — как это выглядело глазами сестры. Он помрачнел.
— У подъезда.
— Я тебя в окно не видала.
— Под козырьком. Я… я не знал, где этот. Просто ждал, чтобы кто-то вышел — ты или он…
Дима прервался, и оба замолчали. Соня не хотела и не могла сейчас говорить ни о чём, что происходило между ними всё это время, и особенно про Женю.
— И что — что они говорили? — первая подала голос Соня. — Анька с Костиком?
— Да он вроде звал Аньку к себе. А она — нет, мне к сестре надо.
— А как она это сказала, как? Зло, расстроено? Как? — Соня сверлила его взглядом.
— Нет… мирно, нормально. Даже вроде заботливо.
«Значит, — подумала Соня, — Женя сдержал обещание, позвонил Аньке».
— А потом?
— Ну… волосатик ей тут говорит — смотри…
Дима снова осёкся, но Соня кивнула — значит, Костик показал Аньке на цветы.
— А она?
— Остановилась. Потом оглянулась, меня увидала. Сначала к этому своему обратно метнулась, а потом передумала и снова в подъезд рванула. Мимо меня — как будто со мной незнакома. Я ей: привет, а она споткнулась на ступеньке и прямо мне под ноги грохнулась. Я, конечно, её поднимать, парень тоже… А она, как одержимая, вскочила — и наверх. Хиппи её постоял и ушёл.
— Митя… Она тебе что, совсем не нравится?
— Че-го?
Соня прикрыла глаза.
— Анька ревнует тебя. Сбежала из дома. Разговаривает со мной, как с врагом, хамит.
— Да ну ладно… — недоверчиво протянул Дима. — Она вроде вокруг меня не крутилась, как все эти…
— Все эти? — сузила глаза Соня.
— Сонь, они навязчивые и глупые. Вот Анька дура! Хочешь, я с ней поговорю?
Он сказал это просто, без всякого высокомерия.
— А ты, значит, взрослый и умный? — не удержалась она.
— Не знаю… — он серьёзно смотрел на неё. — Я кажусь тебе таким же придурком, как они — мне, да?
Она промолчала, но Дима не обиделся. Он вдруг хлопнул себя по лбу:
— Как есть придурок! Пять лет проучился, и нигде не кольнуло, что Анька — твоя сестра… Я ведь вообще мог тебя не встретить! Даже на дачу к вам ехать не хотел! Ты бы вышла за этого своего козла… и всё, конец, я тебя знаю! Ты бы даже разговаривать со мной не стала…
Вот как? Значит, он убеждён, что за Женю она уже не выходит? Впрочем, в чём ему быть убеждённым, если она сидит в ночнушке в его объятьях?
— Почему… — медленно начала Соня. — Почему ты мне не поверил… тогда… что он мой муж?
— А ты врать не умеешь. Ты как сказала, я сразу понял — никакой он не муж! Ты его не любишь, — возбуждённо проговорил Дима и снова потянулся к ней.
Она решительно отвела его руки и стала подниматься с постели.
— Мне… надо позвонить.
Пошатываясь, Соня встала.
— Кому? Аньке?
— Нет.
— Ему?!
Он тоже вскочил и уставился на неё, не скрывая волнения. Соня схватила мобильник. Так… Женя уже звонил, раз пять, а она ничего не слышала.
— Ты выключил звук?!
— Ты спала. Я мог бы сам с ним поговорить! Но не стал — за твоей спиной.
— Спятил? Хочешь, чтоб он сейчас пришёл? Он же волнуется!
— Пусть приходит. Я не собираюсь прятаться!
— Ты… только о себе!
Она закрыла лицо руками — ситуация вновь навалилась на неё всей своей тяжестью. Что же делать, что делать?
— Соня… зачем ты… Тебе надо лечь…
Он обнял её за плечи, но она вырвалась.
— Належалась уже! Дима, это близкий мне человек. Я не могу с ним так поступить. Ты… ты не вошёл бы сюда, если бы… Я… я больна! Ты пользуешься моим состоянием. Если я… если… это ещё ничего не значит!
Они уставились друг на друга.
— Это он, — мрачно сказал Дима, — пользовался твоим состоянием.
— А ты — впёрся в мой дом без приглашения! Ты ходил за мной и давил! И сейчас… тебя невозможно выставить!
— Хочешь меня выставить? Выйти за него замуж? Скажи, ну, скажи, Сонь!
Она не ответила. Губы у него скривились.
— Но это же совсем не трудно… — тихо, но как-то непривычно жёстко произнёс он. — Если ты этого хочешь… достаточно просто сказать.
Соня имела в виду совсем не это. Она просто боялась. И больше всего — его убеждённости, что они должны быть вместе, что это не подлежит сомнению. Она тяжело опустилась в кресло.
— Если я попрошу — ты уйдёшь?
Дима потемнел.
— Да, — резко ответил он. — Только дождусь — Аньку или его. Одну тебя не оставлю.
— А потом?
Что он сделает, если она прогонит его сейчас, объявит, что выходит за Женю? Неужели, тогда и вправду — скроется навсегда, и его никогда больше не будет?
Сердце у Сони сдавило. Наступал момент истины. Уже не получится прятаться за болезнью, обмороками, беспамятством. Надо решить, прямо сейчас — возможна ли жизнь без него? И если возможна, то нужна ли такая жизнь? Но… тогда надо перешагнуть через Женю. И ещё — через это: Калюжный. Дмитрий Калюжный. «Ромео… о, зачем же ты Ромео…»
— Какая тебе разница, что будет потом? — отвернулся он. — Преследовать не буду. Обещаю.
— Вот видишь, как просто. Папа подберёт тебе невесту — из соседнего королевства.
— Это другая сказка! — резко произнёс он. — Хорош уже издеваться, Сонь. Хочешь прогнать — гони. Умру у твоего подъезда. Переселюсь в собаку и поселюсь в твоём дворе. Я должен видеть тебя, Сонь… мне без этого нет никакой жизни.
— Я знаю, кто твой отец. Мне сказали вчера, — она смотрела в другую сторону.
— В смысле — сказали? То есть раньше не знала, что ли? Я разве скрывал?
— Раньше не знала. Это делает всё невозможным. Это всё решает.
— Что — решает?! Какая же разница… Подожди… Ты поэтому позвонила и так мне сказала, да? Поэтому?
Соня молчала.
— А я… я думал, после того, как ты… ты с ним — ночью…
— Я не была с ним, — она подняла на него больной, измученный взгляд. — Я была с тобой.
Потрясённый, непонимающий, Дима молчал. Соня перевела взгляд на мобильник и увидела, что он беззвучно надрывается. Мужество покинуло её. Она знала, что должна сделать, и не знала, как…
Дима тоже ждал. Он уселся на пол, как тогда, на даче, обхватил голову руками и начал раскачиваться — взад-вперёд.
— Уйди, — неожиданно сказала Соня. — Выйди, слышишь?!
— Уйти? — он замер, как будто в него выстрелили.
— На кухню, — выкрикнула она и отвернулась.
***
— Детка. Как ты себя чувствуешь? Я обзвонился… Ты спала, я тебя разбудил?
Она молчала, не в силах сказать ни слова. Всё кончено, она больше не может сопротивляться. Не хочет бить лапками, хочет утонуть. Но как сообщить это Жене? Тому, кто ей доверяет, заботится о ней, любит… Говорить, как ни в чём не бывало, она не могла. Сказать правду — тоже.
— Соня… — голос его стал настороженным. — Сонь, что случилось? Я выезжаю к тебе.
Она молчала.
— Соня, ответь, Сонь! — впервые в жизни она услышала панику в его голосе.
— Женя, прости, — только выговорила она.
Секунду он осмысливал. Потом медленно произнёс:
— Так… Ясно…
Теперь замолчал он. Это длилось целую вечность, но Соня не могла заставить себя что-то произнести или просто нажать отбой.
— Значит, всё произошло? — наконец, деловито, деланно-безразлично поинтересовался Женя, и Соне показалось, что она видит, как он, напряжённо вцепившись в трубку, смотрит сейчас в белый потолок где-то далеко-далеко отсюда. — Ну и как — понравилось?
— Забудь обо мне, пожалуйста… Я… недостойна тебя, — она сама поморщилась от избитой пошлости этих слов.
— Он сейчас рядом?
— Женя, прошу тебя…
— Ну-ну, без нервов. Боишься, прилечу — разнесу дом? Ты забыла, детка. Главный мой грех — гордыня. Тебе это на руку, верно?
Он помолчал, никак не желая заканчивать пытку.
— Значит, ты сделала выбор…
— У меня не было выбора. Нельзя больше лгать — себе и тебе.
— Не могу сказать, что не ожидал… — в голосе его слышалась такая боль, что Соня почти физически ощущала её. — Но обманывал себя, надеялся. Как ловко ты меня вчера провела!
Она молчала — какой смысл оправдываться?
— Это самая большая ошибка в твоей жизни, — снова заговорил Женя.
— Это моя жизнь… — выдохнула она.
— Так что? Вроде как всё?
— Всё…
— Ты не ответила на вопрос, детка. Классно с ним трахаться? Не стесняйся, скажи. Так, по-дружески. Я взрослый человек, от ревности не подохну… Молодой и резвый, да? Такие, как ты, девочки, оказывается, быстро идут в разнос.
Она понимала, что в нём сейчас говорят не лучшие чувства. Ужасно не хотелось заканчивать в этом тоне. Было жалко, безумно жалко его. Как страшно… За что она его так? В чём он виноват?
— Женя… Ты мне очень дорог. Пожалуйста, прости меня, если сможешь, — слёзы потекли у неё по лицу.
— Индульгенции ждёшь? Обойдёшься. Он, небось, рядышком, да? Сейчас повторите. Ну и на кой тебе моё прощение?
В трубке раздались короткие гудки. Что ж. Могло быть и хуже. Хотя бы не будет разборок и, не дай Бог, драки. Впрочем, о чём это она? Женя не станет за неё бороться — она этого не заслуживает. И то легче.
Медленно, придерживаясь за стены от слабости, Соня вышла на кухню. Дима сразу же подскочил к ней навстречу:
— Что? Он угрожал тебе?
— Нет. Его больше не будет.
— Тебе… тебе жаль?
— Да.
— Его? Или того, что у вас было?
— И того, и другого. Господи… неужели я это могла… как?.. Зачеркнуть человека… того, кто тебя любит, оскорбить его, ударить… Ты не знаешь! Откуда тебе знать… — она болезненно поморщилась. — Такие, как ты, спокойно идут по трупам.
— Вот как ты обо мне думаешь?!
— А-как-мне-о-тебе-думать, Дима Калюжный?
— Ты ничего обо мне не знаешь. Ты не можешь — вот так судить!
— При чём тут судить…
Соня подошла к окну:
— Смотри, их совсем занесло…
— Я каждое утро буду дарить тебе новые!
— Как всё просто! Ты — наивный романтик, ребёнок…
— Соня… Какой я ребёнок! Если бы ты…
— Митя… Пойми. Я сейчас сказала ему… Да, я не могу быть с ним — потому что не люблю. Если бы ты не появился… наверное, смогла бы. Ты всё нам испортил, ну и пусть! Я лучше буду одна… так правильнее, — Соня уже говорила сама с собой. — Попробовала выйти замуж — не получилось… я ведь и раньше знала… никогда и ни с кем у меня не получится. Мне так легче, я так привыкла, никого мне не надо…
Да, так правильнее и разумнее! И тогда Женя не станет считать, что она пошла в разнос. Он просто поймёт и забудет про неё. И её не будет мучить совесть. И никаких неприятностей и проблем на работе. И Анька вернётся в семью…
— Соня, о чём ты?! — буквально взмолился он, перебив её бормотание. — Не понимаю… Я сделал что-то не так?
Он попытался дотронуться до её плеча.
— Ты всё делаешь не так! — она с раздражением отпихнула его руку. — Ты, ты… самонадеянный, наглый… думаешь, раз я рассталась с Женей, тебе всё можно? Да я вижу тебя третий… четвёртый раз в жизни! И лучше бы вообще никогда… Как было бы хорошо!
— Пятый, — глухо сказал он. — Ты забыла, девятнадцать лет назад.
Соня попятилась, пытаясь отойти от него подальше. Но он следовал за ней, а, когда пути отступления у неё не осталось — остановился так близко, что она чувствовала на своём лице его дыхание. Руками он упёрся в стену по обе стороны от Сони, но к ней не прикасался. Это ужасно, но у неё не было против него оружия, она не в силах была совладать с собой, когда он находился рядом.
— У нас нет никакого будущего! — жалобно проговорила Соня. — Митя… Мне не нужен красивый роман… любовник на два часа. Я лучше буду одна… всегда, как раньше… Пожалуйста… пожалуйста, отпусти меня… дай мне дышать одной! Мне страшно…
— Глупая, — пробормотал он, — маленькая и глупая девочка. Как же я люблю тебя, Господи, ты бы знала… Какой, на фиг, любовник?! Я же писал тебе — хочешь, даже не прикоснусь к тебе? Завтра подадим заявление, и ты будешь моей женой. Я своих планов на жизнь не меняю. Это он — он был любовник. Я буду твоим мужем.
— Это ты так решил? Разве ты сделал мне предложение? Разве я согласилась? — невесело усмехнулась Соня.
— Сделал, не помнишь — тогда? — горячо заговорил он. — И делаю сейчас — ещё раз! Или — нет. Нет, всё, забудь. Ты поправишься, и я сделаю его тебе совсем по-другому. Так, как никто никогда никому не делал.
— Ну да, в шикарном ресторане, встанешь на колени, а в зубах — кольцо?
— А вот и нет! — сейчас Дима напомнил ей того, на даче, с ковбойским блеском в глазах. — Увидишь!
Она не верила в эту чушь ни единой секунды. Не питала никаких иллюзий. Просто ей надо было видеть его сейчас, находиться с ним рядом — столько, сколько это возможно. Про завтра она думать не могла. Жизнь её загублена, Мара стонет на небесах… Ну и что. Пусть. Ничего не поправишь.
Соня представила на минуту, что Димы нет — он остался по ту сторону двери. Вечером приехал Женя и… Нет! «Нет, мама, я не могу, не могу! Пойми, ну, пожалуйста, пойми…».
Соня закрыла глаза и почувствовала тошноту. Она ведь, и правда, ничего не ела со вчерашнего вечера. Дима тоже просидел возле неё весь день и, конечно, голодный.
— Пусти, — резко сказала она и, насколько хватило сил, оттолкнула его.
— Соня… Пожалуйста… — в его голосе снова появилась тревога.
— Отойди, говорю. Я что-нибудь приготовлю. Пельмени будешь?
Глаза у Димы сразу заблестели от радости.
— Нет, иди ложись. Я всё сделаю сам! Что это за еда — пельмени? Камни в желудок кидать!
Он неловко, торопливо примерял на себя маску семьянина. По-хозяйски открыл холодильник — там оказалось шаром покати.
— Ну уж, что есть, — проворчала Соня. — Извини, не рассчитывала на таких высоких гостей. Не запаслась омарами… или что там у вас едят? Мраморное мясо…
— Так, хватит болтать! — заявил он. — Тебе только сбили температуру. Помнишь, что врач сказал?
— Мне уже лучше…
— Давай, быстро в кровать!
— Митя!
Он неожиданно подхватил её на руки и понёс в комнату.
— Митя… пусти… Не смей!
Он на секунду замер, потом опустил её на диван, сразу убрал руки за спину и по-детски отскочил — чтобы она, не дай Бог, чего не подумала. Соня с облегчением откинулась на подушку — она всё ещё испытывала слабость. Тогда Дима приблизился, помог укрыться и подоткнул одеяло:
— Поспи ещё. Я тебя разбужу.
— Что ты собираешься делать?
— В магазин бы сходить… Нет, не пойду. Ещё обратно не пустишь — с тебя станется! Ладно тогда, посмотрим, что там у тебя есть.
Дима, и правда, принялся греметь на кухне кастрюлями, а Соня спокойно лежала, глядя на вытертый коричневый ковёр на стене. Удивительно, но она почти успокоилась — подействовало лекарство? Или просто устала жить на пределе? Она снова задремала, и разбудил её только аромат жареной картошки с луком.
— Не вставай! — предупредил Дима.
Он уже тащил в комнату поднос, поставил его на заранее принесенную табуретку и уселся рядом.
— Давно меня никто не кормил, — сказала Соня.
Она приподнялась. Есть очень хотелось, но голодная тошнота мешала проглотить первую порцию. Дима забрал у неё вилку и поднёс кусочек Соне прямо ко рту, как ребёнку. Подождав, пока она прожуёт, схватил стакан с водой и напоил из своих рук.
— А так — тебя давно кормили? — с довольной усмешкой спросил он, увидев её глаза.
— Так — никогда…
— Хочешь, буду всю жизнь так кормить тебя?
— Угу, — саркастически усмехнулась Соня.
Она вспомнила другую табуретку и Вову за ней.
Дима поставил воду на столик и только сейчас впервые увидел Бориса.
— Ого! Вот это встреча… — обалдел Дима. — Привет!
Он аккуратно пожал лису лапу.
Соня напряжённо смотрела на них. Дима не ёрничал, ни шутил. Интересно, что же ответит ему лис?
— Смотрю, ты опять при глазах? Нашёл, растеряша? — продолжал Дима.
Такого, Борис, разумеется, не потерпел.
— Сам растеряша, — ответил он. — Взять-то возьмёшь, а удержать слабо?
Неизвестно, слышал ли это Дима, только сказал неожиданно серьёзно:
— Знаешь… Я твою Соню очень люблю. Ты уж не ревнуй, пожалуйста. Не прогоняй меня. Мы всегда будем вместе. Пока я дышу, буду любить её.
Он не смотрел на Соню. Проговорив это, встал и повернулся лицом к окну, к ней спиной. Поэтому только она угадала, что буркнул в ответ Борис — чуть слышно, себе под нос.
— Тогда дыши… пока можешь.
Борис совсем позабыт
Дима стоял, словно застыл, а Соня смотрела на него, не в силах оторваться. Он обернулся, и они встретились взглядами. Дима совершенно не умел скрывать своих чувств. Сейчас в его выразительных тёмных глазах она читала и страстное желание, и разгорающуюся надежду, и нерешительность. Соня сама понятия не имела, как быть дальше. Она и боялась, и жаждала его объятий. Голова у неё на миг закружилась, и она, отодвинув тарелку, снова откинулась назад.
— Что? — испугался Дима. — Плохо? Давай мерить температуру!
— Нет… просто слабость. Митя… я нормально. Тебе надо домой. Наверно, тебя уже ждут.
За окном, и правда, совсем стемнело, часы показывали половину восьмого. Как странно прошёл этот день… Никогда у неё не было такого невозможного дня — чувство нереальности не оставляло её. Но ей и впрямь, не смотря на слабость, стало намного лучше. Болезнь физическая отступила, но что творилось у неё на душе — здоровьем назвать было нельзя.
— Почему ты меня так называешь? — спросил Дима странным голосом.
— Не знаю… кажется, тебя мама окликнула… тогда, в детстве.
— Мама? Она никогда меня так не звала, ей не нравилось. Меня никто никогда так не звал.
— Послушай… Я не понимаю — как ты мог меня узнать?
— Но ты ведь не изменилась совсем. Один раз увидишь и не перепутаешь.
— Ты же был совсем малышом!
— Пять лет. Ты что — не помнишь себя в пять лет?
— Помню. Но только потому, что у меня яркие события были. Меня Мара как раз из интерната взяла.
— Расскажи… Я ведь не знал, что ты…
— Я там долго не пробыла. Мне повезло.
— А я жил в этом интернате. Года два с половиной, — сообщил вдруг Дима. — В первый класс там даже пошёл, правда, не доучился, забрали.
Она удивлённо подняла брови.
— У тебя тоже приёмная семья?
— Нет, родная. Потом расскажу. Лучше ты. Я хочу всё про тебя знать. С самого начала.
— Ничего интересного… Вот… у него спроси… — Соня серьёзно кивнула на Бориса. — Он всё знает.
— Ладно. Как ты ночью заснёшь, мы с ним поговорим.
— Ночью? Вот как… А тебе домой не пора?
Дима озадаченно уставился на неё. Соня тоже смотрела на него — с затаённым любопытством. Она отлично понимала, что он никуда не уйдёт.
— Я… но ведь врач сказал… ты же слышала! Я тебя одну не оставлю!
— А тебя что — искать не будут?
— Отец меня не контролирует. А мама думает, что я у него. Она сейчас в Греции отдыхает.
— Что-то твой мобильник молчит. Тебе некому звонить?
— Я его отключил.
— Во сколько ты обычно приходишь домой?
— Во сколько хочу.
Соня вдруг почувствовала себя неуютно.
— Так, ладно, мне надо одеться. Не могу больше в таком виде.
Она решительно откинула одеяло:
— Ну-ка, выйди.
— Ты что — гулять собралась на ночь глядя?
— Не твоё дело. Пойди, включи у Аньки телевизор. И зажги здесь, пожалуйста, свет.
Они заговорили про ночь, и Соня почувствовала, как в комнате повисло напряжение, как будто «лежать и болеть» отличалось от «лежать и спать». Вообще всё происходящее между ними было и странно, и непонятно. Никаких определяющих слов сказано не было. Дима не предпринимал новых попыток сближения, только вглядывался в неё, опасаясь сделать что-то лишнее и быть изгнанным. Но одновременно ни капли не сомневался, что имеет право здесь находиться.
— Я пока посуду помою, — буркнул он и ушёл на кухню.
Соня стащила с себя старый халат и ночнушку и надела домашнее платье: длиной чуть выше колена, оно застёгивалось спереди на молнию, в нём она ходила по дому в присутствии посторонних. Расчесалась перед зеркалом, с досадой отвернулась — глаза у неё были сейчас совсем больные, под ними — синяки. Потом кинула взгляд на постель, вспомнила вдруг, как они с Женей спали на ней… неужели позавчера? — и сразу же принялась стаскивать бельё, вытряхнула из наволочки подушку, вытащила одеяло.
Она почувствовала на себе взгляд: Дима стоял на пороге и смотрел на её действия с непонятным прищуром. Соня отвернулась и стала складывать пододеяльник, потом собрала снятое и понесла в ванную. Дима неожиданно вырвал бельё из её рук, кинулся с ним на кухню и запихнул в мусорное ведро — точнее, просто бросил сверху, иначе не уместилось бы.
Они снова смотрели друг на друга. Соня не выдержала и первая опустила глаза, словно, и правда, в чём-то перед ним провинилась. Вернулась в комнату, плюхнулась в кресло, взяла в руки Бориса.
Дима нерешительно подошёл и присел рядом на край дивана.
— Почему ты тогда лежала в больнице? — спросил он вдруг.
— Мать на обследование положила. Желудок часто болел.
— А почему сбежала?
Соня никогда никому не рассказывала ту историю. А тут вдруг взяла и рассказала, в подробностях. Казалось почему-то, что Дима обязан всё это знать. Всё, что предшествовало их первой встрече тогда, в детстве. Только смотрела при этом не на него, а на Бориса; и лис всё это время не сводил с неё своих чёрных внимательных глаз.
— А знаешь, какие у него раньше были глаза? — грустно улыбнулась она. — Ярко-зелёные, такие переливчатые. Просто волшебные.
Дима сидел перед ней, сжав кулаки.
— Мрази… — сказал он.
— Ну, что ты… Просто дети. Люди. Ты пойми — я ведь и вправду была для них ненормальной. Ты же сам писал — кто в тринадцать лет с игрушками разговаривает? А я с ним всегда разговариваю. Всю жизнь. Больше не с кем.
— К тебе плохо относились дома?
— Бог с тобой! — рассердилась Соня. — Мама — лучший человек на свете! Вова не считается, он и жил-то с нами всего шесть лет. Анька всегда была доброй и любила меня… вот только сейчас…
— У тебя наверняка нет друзей.
— Я ни в ком не нуждаюсь. У меня есть Борис. Он мне всех заменяет.
— Наверное, он теперь на меня злится.
— С чего ты взял?
— Я собираюсь отнять тебя у него.
— У тебя не получится, — улыбнулась Соня, поймав насмешливый взгляд Бориса.
— Значит, придётся нам подружиться, — на полном серьёзе заявил Дима.
— Ты сейчас со мной, как с больной разговариваешь? А в душе считаешь, что я чокнутая?
— Нет, ты — настоящая. Соня… я тебя… ты не знаешь…
— Не надо сейчас, Мить. Я пока не понимаю ничего… что мы делаем.
— Соня…
— Я не успеваю подумать. И сил нет, и желания тоже.
— Тебе не надо ни о чём думать. Я обо всём подумаю сам. Главное, чтобы ты поскорее поправилась. Возьмём тебе больничный, в понедельник пойдем в загс, напишем заявление.
— Митя, не надо… — покачала головой Соня. — Это всё из области… про Луну.
— Сонь, я не хочу — в любовники. Чтобы ты выскользнула от меня — в любой момент? Нет уж, спасибо!
— А ты так уверен, что тебя возьмут в любовники? Ну ты, мальчик, нахал…
Дима смутился, но ответил — вызывающе и напористо:
— Во-первых, мы договорились, что я — не мальчик. Во-вторых… я тебя не отдам никому. Просто не выпущу отсюда и всё.
— Ах, да, я забыла… Ты же лезешь в постель без спроса! Я засну, а ты…
Он досадливо сморщился.
— Ты мне всю жизнь теперь будешь…
Потом резко вскочил и то ли вздохнул, то ли застонал.
— Думаешь, мне легко сейчас… рядом — вот так, сидеть? Да я с ума всю неделю схожу — так хочу тебя… Но вот сдохну — пальцем тебя не трону! Пока сама не разрешишь, вот! — по-детски заключил он.
— Вот и не трогай, — быстро проговорила Соня.
Несколько секунд, вопреки только что сказанному, оба готовы были кинуться друг другу в объятья. Это был поединок упрямств и гордынь.
Наконец, он скривил губы и сказал зло:
— Только я в этой комнате лягу. На полу. А то вдруг тебе ночью хуже станет.
— Что — прямо на полу?
— Ну… есть же у вас матрас какой-нибудь…
— У Аньки есть спальный мешок, она его на дачу брала.
— Отлично.
Соня встала и полезла в шкаф. Достала свежее бельё и, ничего не говоря, перестелила постель. Дима стоял, колеблясь — то ли помочь, то ли лучше не лезть. Потом она нашла в кладовке Анькин спальник и бросила его на пол. Что делать дальше, Соня не знала.
Оба заняли исходную позицию: она на кресле, он — на краю дивана. Соня первая прервала молчание.
— Расскажи про себя. На кого ты там учишься, где работаешь.
— Мы словно знакомимся с тобой, — усмехнулся Дима.
— А мы и правда знакомимся.
— Я на факультете защиты информации учусь. То есть — почему учусь? Мы уже диплом защитили. У экономистов — госэкзамены были, а у нас ещё и дипломный проект. Мой приняли ко внедрению! — с гордостью заключил он.
— Анька хвалит тебя, говорит, ты там знаменитость.
— Ну… — в его голосе прозвучало маловато скромности. — Я уже второй год работаю. Фирма занимается разработкой новых противоугонных систем. У меня уже два «ноу-хау». Сертификат даже есть.
— Ничего себе! — искренне удивилась Соня.
— А ты говоришь — папочка! Да отец сам удивляется — он у меня не технарь.
Вспомнив про его отца, Соня помрачнела.
— Уехать бы куда… где никто не знает, кто ты… — пробормотала она.
— Сонечка! Всё будет хорошо. Папа меня всегда понимал.
— Не в этом дело. Давай не будем сейчас…
— Ладно. Мы ведь ещё поговорим с тобой — обо всём, да?
— Не знаю…
— Сонь… Тебе правда — легче? Ты горишь. Щеки красные.
— Не знаю.
Она и сама не могла понять — то ли у неё снова температура, то ли просто взвинчена до предела.
— Тебе… лучше лечь? — неуверенно спросил Дима.
— Нет, не лучше, — отрезала Соня. — Что ты меня всё укладываешь? Позвони-ка домой. Скажи, что скоро придёшь.
Он отрицательно помотал головой.
— Тогда полезай в свой спальник. Я хочу спать.
Она самой себе противоречила, к тому же, было ещё рано, но Дима ничего не заметил. Он послушно расстелил на полу спальный мешок.
— Брюки жалко… — сказал он. — Отвернись, я сниму.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.