
Бесплатный фрагмент - Reminiscences
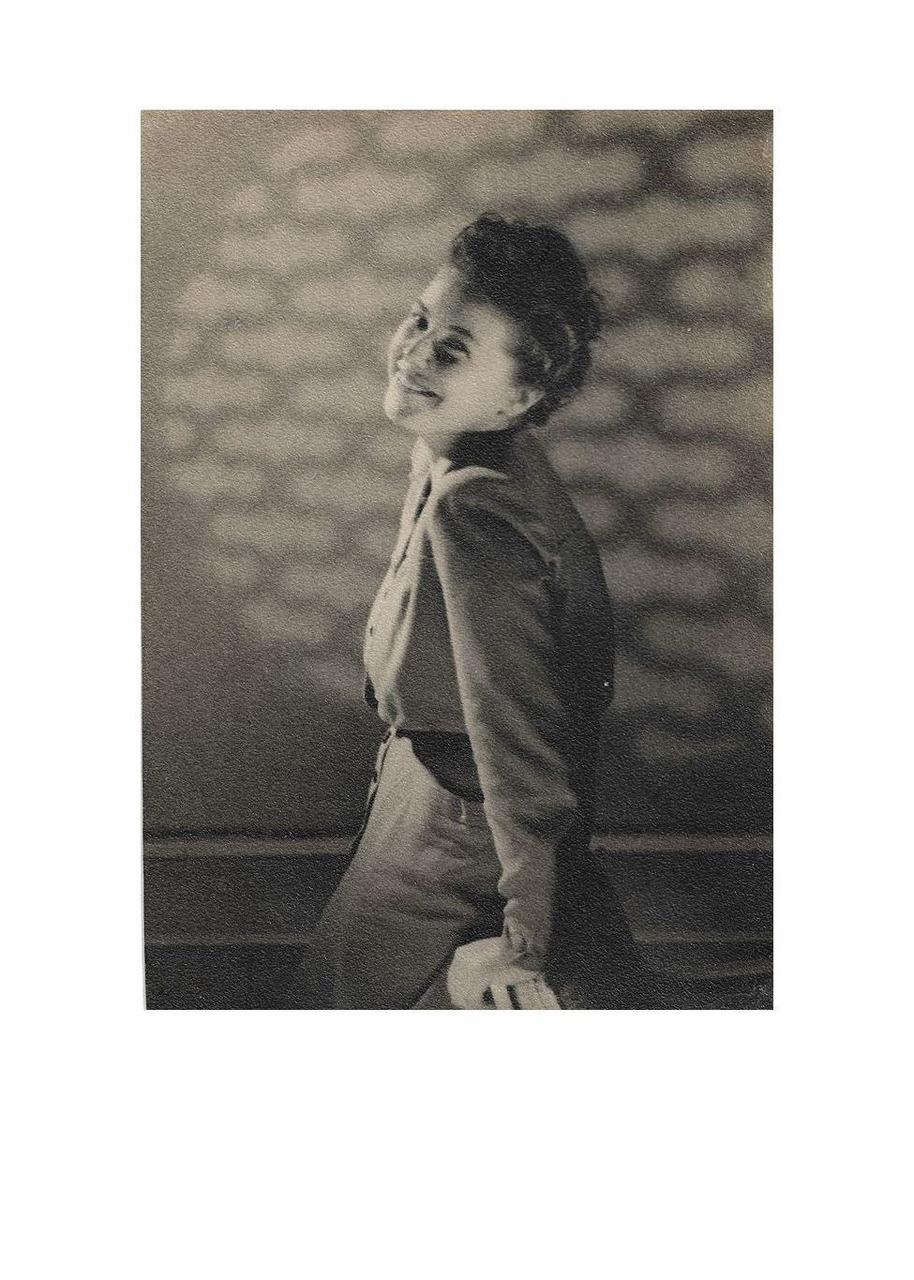
Предисловия
От «редакторов»
Все началось с компьютера.
В середине 1994 года в бабушкиной квартире на улице Дмитрия Ульянова впервые появился компьютер, старый IBM XT с MS-DOS и монохромным черно-желтым дисплеем. Первое время основными его пользователями были гости, которые, как обычно, шли к бабушке нескончаемым потоком. «Зайти поработать на компьютере» стало еще одним поводом для визита (как всегда сопровождавшегося обедом и задушевным разговором), хотя поводов хватало и раньше. Среди гостей было много иногородних, а также тех, у кого дома компьютера не было, так что для многих этот XT был либо единственным, либо единственным доступным вне работы устройством. Использовался компьютер почти целый день. В какой-то момент Сергей даже взялся составлять на листочке график его использования, так как возникали накладки.
Бабушка всю жизнь использовала печатные машинки и всегда играла роль неофициальной «семейной машинистки». Помимо прочего, все рукописи деда превращались в машинописный текст на ее двух машинках (с кириллицей и латиницей соответственно). К компьютеру бабушка первое время относилась с определенным женским кокетством, говоря, улыбаясь и подмигивая, что эта сложная современная техника — не для «глупой бабушки». Потом начала эксперименты — стала пробовать использовать компьютер как модернизированный вариант печатной машинки, с возможностью сохранить текст и несколько раз отредактировать его перед распечаткой. Это было удобно — бабушка все еще вела активную бумажную переписку со знакомыми по всему миру. Наконец в 1997 году она отбросила кокетство, заявив, что будет сама работать над своими трудами — а именно над мемуарами.
(К сведению читателей, которые не застали эти годы: в то время любое знакомство с компьютером считалось весьма нетривиальным навыком даже для молодых людей. Наличие в резюме строчки «опытный пользователь ПК», например, давало серьезное преимущество при трудоустройстве. Люди, не знакомые с бабушкой, воспринимали рассказ о том, что человек в 75 лет сел писать собственные мемуары за компьютер, как смешную и неправдоподобную шутку.)
Процесс пошел. С появлением электронной почты бабушка (с помощью Сергея) стала постепенно отправлять всем родственникам сперва наброски, а потом финальные варианты тех или иных текстов. В итоге бабушка работала над мемуарами примерно семь лет, с 1997 до 2004 года. (Мы не можем вспомнить точно, когда работа прекратилась и по какой причине.) В результативности процесса можно убедиться, посмотрев на количество страниц в этой книге.
К сожалению, нельзя сказать, что процесс был очень организованным. Возможно, у бабушки был какой-то план, но никто из нас в него не был посвящен. Свою роль сыграли и технические сбои: иногда файлы дублировались, иногда терялись, иногда бабушка забывала сохранить работу, иногда рукавом случайно выделяла и стирала часть написанного текста. В итоге потомкам осталась россыпь файлов в очень разных стадиях готовности, от «почти готово к публикации» до «очевидно недописано, оборвано посередине». Дополнительные осложнения привнесло большое количество разных версий одного и того же текста, иногда в разных форматах, которых за эти семь лет доброжелатели (включая меня) нарекомендовали в избытке: Word, TeX, TXT и другие. При желании можно было углубиться в эти файлы и найти много интересного, но для читателя, не готового к таким «раскопкам среди файлов», мемуары, очевидно, не были готовы.
Со времени бабушкиной смерти в феврале 2009 года потомки предпринимали несколько попыток привести мемуары в читаемый формат. Сейчас перед вами результат работы, которую мы проделали в апреле — сентябре 2020 года, во время карантина, вызванного коронавирусом. «Мы» — это неформальная «редакция», состоящая из потомков:
• Георгий Шабат (примечания с его авторством помечены «ГБШ»),
• Василий Шабат («ВГШ»),
• Мария Шабат,
• Сергей Смирнов («СВС»).
(Нам очень помогали советом и комментариями родственники — Ольга Вендрова, Александр Айрапетов, Мария Блинчевская, за что им большое спасибо!)
Здесь собраны достаточно разнородные бабушкины тексты. Сама бабушка, вероятно, рассматривала как Reminiscences только части 1–3 и часть про деда. Мы допустили ряд вольностей, включив сюда под тем же заголовком другие бабушкины работы, а также переместив главы между частями с тем, чтобы лучше соблюдалась хронология.
Эта книга получилась не совсем автобиографией. Во-первых, последовательное жизнеописание здесь заканчивается примерно 1946 годом; про детство и молодость написано много, а про поздние годы — почти ничего. Конец 1930-х описан довольно скудно; бабушке тяжело давалось описание веселой жизни молодой москвички при том, что она позже узнала и поняла о репрессиях того времени. Во-вторых, здесь есть воспоминания о других важных для бабушки людях, в первую очередь, конечно, о деде, но также о родителях, Белинкове, Шварце, Смирницком, Реформатском, Михальчи и других. Кроме этого, мы добавили сюда главу с воспоминаниями о работе и архив писем военного времени с комментариями.

У разных частей этих мемуаров — разный стиль. Можно даже сказать, что они сделаны с разным качеством; это вызвало у нас много споров на тему того, включать ли сюда всё или только самое лучшее. Сами части 1–3 — эмоциональные, интересные, яркие воспоминания. Наоборот, тексты про учителей и даже про деда, как нам показалось, состоят из более прямолинейной фактологии, снабженной каким-то количеством похвал или критических замечаний. Остальные разделы находятся где-то посередине. В итоге мы решили, что и тот и другой стиль вполне отражают бабушкин взгляд на жизнь, так что правильно будет включить в этот сборник всё.
Мы полагаем, что эта книга может быть интересна как нашим родственникам и знакомым, так и широкому кругу читателей. Здесь в живых воспоминаниях представлен «срез эпохи» на примере одной московской семьи. Главы про Белинкова, Смирницкого, Реформатского, Михальчи и про ФБОН/ИНИОН могут также заинтересовать литературоведов и лингвистов с профессиональной точки зрения.
Я получил массу удовольствия, работая над этим сборником. Большинство из бабушкиных текстов я читал раньше, когда бабушка их присылала, хотя, как выяснилось, не все (или про какие-то уже забыл). Перечитать их еще раз, пережить вместе с бабушкой главные эпизоды ее жизни было очень приятно, а уложить в голове общую хронологию — полезно и познавательно. (Особенно сильно у меня почему-то отозвался рассказ про детские поездки в Кулики, на мой вкус это вообще самый яркий фрагмент всей книги.) Бабушка всегда была прекрасным рассказчиком, я и мои друзья всегда с удовольствием слушали ее истории из жизни. И на этих страницах я как будто снова услышал ее вдумчивый, ироничный и веселый голос.
Василий Шабат
Жизнь моей мамы
Разве ты мне не скажешь снова
Победившее смерть слово
И разгадку жизни моей?
Анна Ахматова
Марианна Цезаревна Шабат (в девичестве Рысс) — дочь ровесников прошлого века. Рожденная в 1922 году, она прожила бóльшую часть того века и немного захватила этот.
У нее было счастливое детство в коммунальной квартире на Полянке (я тоже провел там первые пять лет своей жизни), а затем трудная студенческая юность военной поры, с невозможными бытовыми и другими проблемами в эвакуации, постоянной тревогой за отца на фронте, тяжелой болезнью и стремлением, несмотря ни на что, получить полноценное университетское образование. В зрелые годы, уже на моих глазах, она радовалась короткой оттепели начала 60-х; затем было подавление Пражской весны советскими танками в 68-м, а потом 70-е и 80-е с репрессиями, психушками, маразмом и застоем. Мама хорошо знала о происходящем и тяжело переживала все это. Вместе с мамой мы предавались вольнолюбивым иллюзиям 90-х и постепенно утрачивали их в нулевых.
Как писал Мандельштам (в своих бездомных скитаниях поживший недолгое время и в нашей квартире на Полянке),
Попробуйте меня от века оторвать, —
Ручаюсь вам — себе свернете шею!
Что-то похожее можно было бы сказать и про маму.
Была ли она советским человеком? В определенной степени да — не только потому, что прожила основную часть жизни при советской власти. Часть ее мировосприятия была вполне советской — в вопросах взаимоотношений индивидуума и общества она придерживалась точек зрения, близких к официальным, принимала существующие порядки как данные (например, не сочувствовала моим возмущениям и мучениям при сдачах общественных дисциплин — «выучи и забудь!»). Считала необходимым, чтобы у ее потомков трудовые книжки лежали в отделах кадров…
Но, в отличие от типичного гражданина, всю жизнь мама была внутренне свободна. В юности у нее были не вполне заурядные романы: не очень удачный (с личной точки зрения) с Аркадием Белинковым, арестованным за антисоветскую литературную деятельность в 1944 году, и с немцем в послевоенной Германии (о котором она вспоминала с удовольствием — например, рассказывая мне о тайных свиданиях на мельнице). Мама свободно владела немецким и английским (владение английским передав всем своим потомкам, читая с ними «Винни-Пуха» в оригинале и отправляя их в прогулочные группы и в спецшколы). В доме всегда на видном месте были книги на иностранных языках, мама вела интенсивную переписку с заграницей (в том числе с русскими эмигрантами), а иностранцы (в частности, математики) были частыми гостями в нашей квартире задолго до того, как это стало общепринято в Москве.
У нас в доме всегда можно было говорить всё (разве что в конце 60-х мама просила не рассказывать при отце популярные тогда анекдоты про Ленина — не потому, что опасно, а потому, что отца это огорчало). Мы всей семьей начали читать самиздат, как только он появился, и тогда же слушать различные магнитофонные записи бардовских песен, включая Высоцкого и Галича; насколько помню, эти записи именно мама покупала у каких-то сомнительных личностей. В моем исполнении под гитару родители с удовольствием слушали аморальные песни Высоцкого (…Ой, где был я вчера — не найду, хоть убей…), идеологически вредные Галича (…Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час?!) и «белогвардейские» (…За нашим бокалом сидят комиссары и девушек наших ведут в кабинет…). В нашем последнем семейном мероприятии (здесь я имею в виду семью в узком смысле — родители, Алёна и я), кавказском походе 1968 года, мы вслух по очереди читали по-английски Лолиту Набокова.
Вдохновителем перечисленных и некоторых других вольностей была, конечно, мама (хотя она, по обыкновению, никогда свою роль не подчеркивала); отец, остававшийся коммунистом до своей смерти в 1987 году, иногда с удовольствием участвовал, а иногда лишь терпел, не одобряя.
Свои жизненные установки в общем виде мама обсуждать не любила (и, возможно, не формулировала всякие свобода лучше несвободы даже для себя), предпочитая рассказывать об их конкретных проявлениях. Однако в «Реминисценциях» содержится тщательный анализ генезиса этих установок — от глубокой, сохранившейся на всю жизнь благодарности родителям за наполненный любовью мирок на Полянке, в котором маленькая девочка составляла свои представления о хорошем и плохом, до умения следовать этим представлениям в течение длинной трудной жизни в обществе, в котором приходится постоянно сопротивляться навязываемым стереотипам.
Мамина биография может показаться ничем особенно не примечательной и довольно благополучной. Школа — университет (во время войны учеба в эвакуации) — десятилетия работы в одном и том же учреждении — своевременный выход на пенсию. Единственный муж, с которым прожито несколько десятилетий, двое детей с университетским образованием. Внуки и правнуки, с которыми до последних лет складывались нежные и доверительные отношения…
На поверхностный взгляд — все обычно, ничего из ряда вон выходящего. Моя убежденность в том, что речь идет о жизни замечательного человека, может интерпретироваться как пристрастный взгляд сына. Тут я не одинок — Окуджава, например, писал:
Настоящих людей очень мало:
На планету — совсем ерунда,
На Россию — одна моя мама…
Тем не менее я попытаюсь дать объективный ответ на вопрос:
Что же необыкновенного было в жизни Марианны Цезаревны Шабат?
Начну с того, к чему я при жизни мамы был недостаточно внимателен (хотя и старался делать все, что было в моих силах): проведя детство здоровым и радостным ребенком, основную часть жизни она фактически была инвалидом, хотя никем так не воспринималась — и прежде всего сама требовала от себя полноценной жизни без всяких снисхождений.
Про свою страшную детскую болезнь, однажды вернувшуюся в юности, она достаточно подробно пишет в «Реминисценциях», я же лишь скажу, что она прожила всю оставшуюся жизнь с частично парализованной левой рукой. Но, рожденный в 1952 году, могу засвидетельствовать, что по крайней мере с 1958-го, когда мы стали жить в отдельной квартире, мама была прекрасной хозяйкой и из нашего открытого и гостеприимного дома никто не уходил голодным! До появления компьютеров у нее всегда были две пишущие машинки, с кириллическим и латинским шрифтами, и она печатала (одним пальцем, как она выражалась) огромное количество разнообразных текстов: свои рабочие документы, письма, отцовские книги, летний дневник восьмилетнего меня, впоследствии — наши статьи… И никогда ее парализованная рука не упоминалась, только надо было ей поставить нужную машинку на столик.
У отца тоже ступня одной ноги была с детства ампутирована, и он ходил на протезе; но, как можно прочитать в «Реминисценциях», мои родители договорились в самом начале совместной жизни, что будут себя вести как здоровые люди, и это важное обещание (как, впрочем, и все другие!) десятки лет выполняли. Мы всей семьей катались на лыжах, ходили в первомайские походы, летом покоряли горные вершины и т. п.
В преклонные годы мама перенесла две тяжелые онкологические операции, но тоже, как только могла, возвращалась к нормальной жизни и старалась не акцентировать ничье внимание на своих недугах.
Итак, окружающие (как и она сама) относились к маме как к здоровому человеку.
Соответствовали ли ее социальные достижения общественным ожиданиям?
Я думаю, можно дать вполне определенный ответ: частично. Человек исключительной одаренности, она не опубликовала научных работ и не защитила диссертаций; в Википедии можно найти упоминание о М. Ц. Шабат только как о редакторе библиографических сборников (впрочем, высоко оцененных специалистами). Об отношениях мамы с науками и сложившемся нежелании ими заниматься мы поговорим ниже.
Она закончила трудовой путь младшим научным сотрудником и никогда ничем не заведовала. Здесь никаких загадок нет: она к руководящим постам никогда не стремилась (Окуджава: Грош цена тому, кто встать над другим захочет…). Кроме того, потомкам важно объяснить: мама работала в идеологическом заведении, и любой подъем по карьерной лестнице требовал членства в ПАРТИИ (было такое время, когда не надо было указывать, в КАКОЙ — она была единственная). А об этом не могло быть и речи, хотя вполне можно было быть женой коммуниста.
Но на своем скромном месте она была весьма квалифицированным работником, ценимым и уважаемым коллегами. Без малейшей горечи она рассказывала мне, что подобрала литературу для десятков кандидатских диссертаций и указывала будущим ученым, откуда брать цитаты.
Наконец, возникающей у некоторых женщин дилеммы
семья или работа?
для мамы, по-видимому, не существовало. Бросать работу она никогда не собиралась, но семья, несомненно, обладала высшим приоритетом.
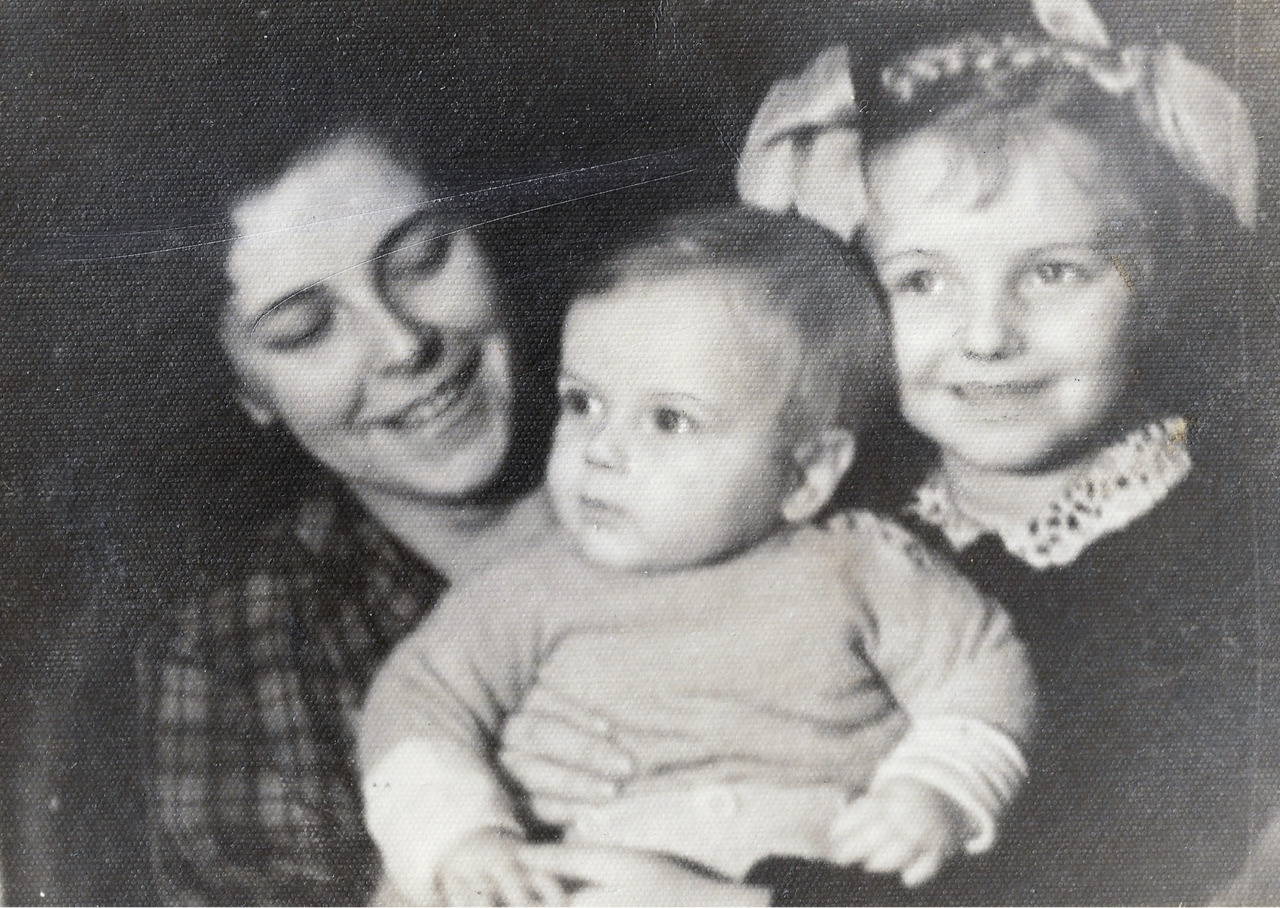
Страсти, сопутствующие образованию нашей семьи, очень подробно описаны в последующих главах; чтобы создать ее, необходимо было разрушить другую, а это противоречило вышеупомянутым представлениям мамы о хорошем. Видимо, я отношусь к этим страстям без достаточного сочувствия, не претендуя при этом на объективность. Действительно, если бы мама относилась к предыдущей семье отца ЕЩЕ бережней, то меня бы не было на свете, а это представляется мне слишком высокой ценой за то, чтобы делать хорошо и не делать плохо. А вот при том варианте развития событий, который имел место, мы с Алёной и появились, и сохранили и передали нашим потомкам теплые и вполне родственные отношения с потомками той, разрушенной, семьи. Основу этих теплых отношений заложила сама мама непосредственно при разрушении — она об этом подробно пишет.
Впрочем, если мама и виновна в обсуждаемом разрушении, то в основном фактом своего существования. Как мы можем заключить из содержащегося в основном тексте описания зарождения любви моих родителей в эвакуации (это не только интересно для потомков, но и мастерски написано с чисто литературной точки зрения), прихрамывающий аспирант-математик пропал, едва встретив в коридоре общежития только что приехавшую из Москвы очаровательную студентку филологического факультета. Потом читался Маяковский (разумеется, для этой студентки) под ночным ашхабадским небом, другие общие радости наметились, но все дальнейшее было уже предопределено и неизбежно.
Все написанное до сих пор поддается прямому анализу маминой жизни, иногда с привлечением сведений из «Реминисценций». Однако не все так просто. Расположенность к ней огромного числа самых разных людей, с которыми она общалась, обаяние и мудрость, под влияние которых попадали столь многие, не объясняются просто женской красотой, хорошим воспитанием, университетским образованием или советской добросовестностью. Тут есть тайна, разгадку которой я попытаюсь наметить.
Начнем с маминого несравненного дара общения, который отмечают все знавшие ее.
Она была прекрасной рассказчицей — читатель «Реминисценций» в этом легко убедится, особо отметив краткие, но содержательные характеристики многочисленных персонажей. Подчеркну, что навыками устного рассказа по крайней мере на двух языках (про немецкий не знаю…) она владела не хуже.
Еще более важным мне представляется противоположное качество. В доверительных разговорах, к которым мама почему-то располагала своих собеседников разнообразнейших возрастов, социальных положений, национальностей, интеллектуальных и образовательных уровней, она умела слушать. Это уникальное умение объясняется ее искренним интересом к людям, удивительной памятью, распространяющейся на все человеческое, талантом понимания проблем и чувств собеседников — как явно выражаемых, так и скрытых. Выслушав очередной горестный рассказ о чужих делах, она обычно умела не только посочувствовать, но и подбодрить; вникнув в кажущиеся неразрешимыми проблемы — дать дельный совет.
Советчики обычно опираются на собственный жизненный опыт. И здесь возможны сомнения: много ли знала о «НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ» мама — родившаяся в Москве, всю жизнь прожившая в ней в относительном довольстве и проработавшая библиографом до самой пенсии? Не испытавшая на себе профессиональных творческих мук? Не метавшаяся в поисках Бога и других Истин?
Мой ответ: очень много знала. Не все знания приобретаются во мраке и буре, своими боками, на собственной шкуре (Алла Григорьевна Богораз). Мама с раннего детства и до конца дней много читала, переписывалась, внимательно слушала истории разных людей (см. выше!), сопоставляла и анализировала — м.б., не всегда разумом, но всегда чуткой душой. И хотя оказалось, что ее с юности обыкновенный ждал удел, к ней абсолютно неприменимы дальнейшие строки Пушкина Узнал бы жизнь на самом деле, …, пил, ел, скучал, толстел, хирел, … Мама не скучала никогда! Ей всегда было чем заняться, о чем и о ком подумать.
Не менее, чем знанием жизни, она действовала на окружающих, как это ни шаблонно звучит, личным примером. Никогда, даже в тяжелейшие периоды болезней и потерь близких не опускавшаяся ни внутренне, ни внешне, аккуратно и со вкусом одетая, мама демонстрировала выдающуюся жизненную стойкость. Ни для себя, ни для ближних она не допускала оправданий недолжному поведению ссылками на в наше время, в этой стране, в моем возрасте и т. п.
Впечатлял ближних и своеобразный мамин перфекционизм. Все, что она делала, она делала хорошо, а то, что делала бы плохо, старалась совсем не делать… Работая над этим пассажем, я обнаружил двусмысленность бинарной оппозиции хорошо/плохо в русском языке: смысл крошки-сына Маяковского уже фигурировал, отчасти в ироническом контексте, а сейчас речь пойдет о серьезных оценках (ср. Марианна Цезаревна очень хорошо подражает собачьему лаю…). Будем в дальнейшем называть первый смысл этическим, а второй базовым — мы еще поговорим об обоих.
Именно базовый перфекционизм, на мой взгляд, был главным препятствием в ее отношениях с наукой. Сама мама объясняет эти несложившиеся отношения частными обстоятельствами: трудностями и взаимонепониманием с научным руководителем и т. п. Но меня это не убеждает; другой человек — более «целеустремленный», а точнее, более подверженный социальным стереотипам, — мог бы как-нибудь решить проблемы (например, сменив научного руководителя или тематику). Отличница Марианна Рысс вполне могла бы написать требуемые для ученой степени тексты по лингвистике или искусствоведению. Но к окончанию университета у нее сложилось настолько трепетное отношение к Науке вообще — по воспоминаниям о великом деде, под влиянием будущего мужа и других математиков в ашхабадской эвакуации, — что желание делать что-то околонаучное, но, возможно, не первосортное у нее пропало. Ценимое окружающими получение ученой степени (несомненно, доступное ей) не перевешивало ее глубинный перфекционизм. При этом мама на много лет сохранила уважение к лингвистике и интерес к ней, достаточно тесно общалась с выдающимися лингвистами. Это уважение вместе с серьезным отношениям к другим гуманитарным наукам она ненавязчиво пыталась передать потомкам, и в одном случае ей это удалось. Я, унаследовавший от отца и профессию математика, и, видимо, упомянутую мамой фанатичную преданность, более четверти века преподаю в гуманитарном университете, иногда устанавливая профессиональные контакты с лингвистами, психологами и философами.
Другой, менее фундаментальный, но для меня эмоционально важный пример маминого базового перфекционизма связан с ее пением. В моей обычной памяти почти не сохранилось воспоминаний о ней поющей; но какая-то удивляющая меня глубинная память, видимо, близкая к эмбриональной, хранит исчезнувшие звуки. Зажмурившись, я включаю какое-то устройство, сохранившее мамин голос, и оно воспроизводит колыбельные Спят медведи и слоны, Дяди спят и тети… и Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни… И взрослые: Помню, я еще молодушкой была…, Надоело говорить и спорить…, Услышь меня, хорошая…, В далекий край товарищ улетает…
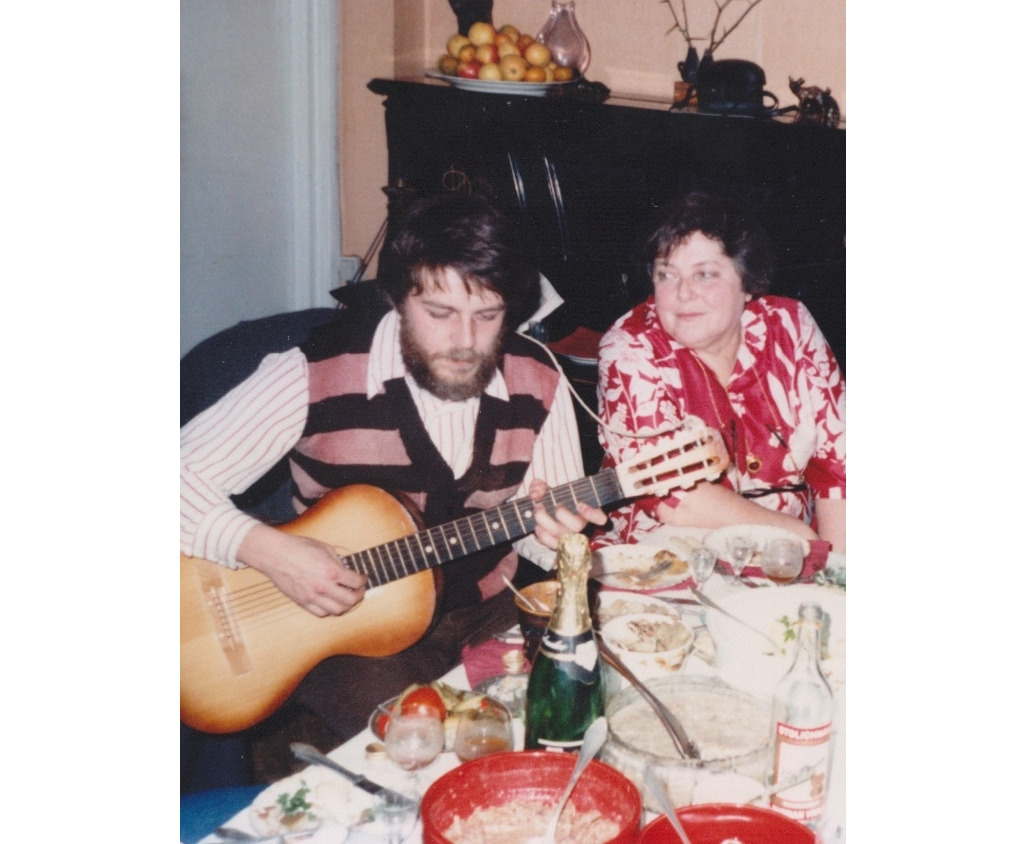
Почему мама перестала петь? Со своих 14 лет пел под гитару я, и она никогда мне не подпевала — хотя мое пение любила, заказывала песни и не терпела, когда мне мешали петь разговорами. Говорила, что у нее что-то случилось с голосом. Не могу, конечно, сомневаться; но она, никогда (в отличие от отца и большинства своих потомков) не читавшая лекций, при мне на конференции, посвященной 90-летию отца, вполне «по-профессорски» произнесла перед большой аудиторией разборчиво и четко прекрасное вступительное слово по-английски. Так что, мне кажется, дело в том, что мама, осознав (или придумав) почему-то, что не может петь так же прекрасно, как в юности, предпочла не петь никак.
Всей своей жизнью и ее отдельными проявлениями мама показывала, что и в XX веке в той самой стране, в которой мы продолжаем жить, можно следовать сложившимся в детстве представлениям о хорошем и плохом — на этот раз в этическом, намеченном выше смысле. И распространять эти представления.
Еще раз — как ей это удавалось? При нескольких тоталитарных режимах, будучи свидетельницей жестокого подавления вольнодумств, запрета книг, спектаклей и фильмов, большую часть жизни за железным занавесом?
Мы возвращаемся к вопросу о маминой (не) советскости и внутренней свободе, на этот раз пытаясь очертить ее общие подходы к построению жизни, полной радости и добра, в трудные времена нашего отечества.
• Не добавлять своих ограничений к тем, которые явно наложены государством. Читать, петь и обсуждать что хочется. Смеяться, когда смешно, даже над святым. Пока железный занавес не поднят — путешествовать там, где можно, а теми местами, куда нельзя, — спокойно интересоваться (как мы сейчас, в 2020-м, следим за началом развития космического туризма).
• Исходить из собственной системы ценностей, отвергая навязываемые обществом стереотипы. О маминой «научной» и служебной карьере уже говорилось. Отца глубоко уважали как заведующего математической редакцией переводного издательства «Мир», но его дальнейший карьерный рост (запомнившийся мне, четырехлетнему, ненадолго появившимися личными шоферами отца) был пресечен. Относительно же академической карьеры отца мама (в полном согласии с ним) считала, что быть профессором МГУ — естественное для него социальное положение, и никогда не поощряла его дальнейший рост. Отвергнута была (казавшаяся мне заманчивой) возможность перебраться в Сибирь, где царил отцовский учитель и соавтор М. А. Лаврентьев и где мы уж по крайней мере жили бы в коттедже, а не в тесноватой трехкомнатной квартире на четверых…
• Создать свой дом при первой возможности, построить жизнь в нем в соответствии с упомянутыми выше ценностями и открыть его для всех разделяющих эти ценности. У мамы такая, не вполне очевидная, возможность появилась в 1958 году, когда мы въехали в один из первых в Москве кооперативных домов; так была решена (точнее, устранена) распространенная проблема сосуществования в одной квартире нескольких поколений. В этом доме родители и прожили всю оставшуюся жизнь — сменив, правда, несколько квартир; их потомки и сейчас там живут, и там же были написаны тексты, вошедшие в настоящий сборник.
Об атмосфере дома Шабатов сейчас, спустя десятилетия после смерти его основателей, вспоминают многие. Мои школьные друзья порой удивляют меня, рассказывая (обычно в застольях…), что чуть ли не жили у нас. Тема нашей квартиры заслуживает отдельного описания; сейчас ограничусь тем, что припомню, что в ней творилось в августе 1966-го во время ICM. Как уже упоминалось, в ту пору приглашать иностранцев домой было еще не принято — а к нам они ходили толпами; многие советские математики тогда не владели английским, и нам с Алёной хватало работы по устному переводу (бытовой лексики; я, семиклассник, тогда совсем не знал взрослых математических терминов, а Алёна, студентка мехмата, знала не очень многие — но математики разных стран понимали друг друга, при необходимости традиционно пользуясь бумажными салфетками для формул).
Мама тогда не только кормила, но и прекрасно находила общий язык с математиками из разных стран и с их женами. На этих встречах она подружилась с некоторыми, впоследствии переписываясь и посещая их после падения железного занавеса. Я в 1966-м не осознавал, а теперь изумляюсь, сколько звезд мировой математики у нас побывали: Альфорс, Хейман, Кахан, Мандельбройт, Неванлинна, Ройден… Впоследствии мама с удовольствием воспроизводила характерную фразу знаменитого американского математика финского происхождения Ларса Альфорса (видимо, не секрет, что вместе с женой Эрной до поздних лет любившего выпить) I AM NOT GOING! — то есть Не поеду в гостиницу из этого замечательного места!
Кем же была мама? Можно ли ее отнести к какой-либо социальной группе?
Как я старался показать, если она и была советским человеком, то не совсем настоящим — слишком свободным, независимым, слишком (несмотря на готовность внести весь посильный и непосильный вклад в Победу) приверженным общеевропейским ценностям вместо национальных интересов.
Рискну предложить ответ. Мама — русская интеллигентка ХХ века. Потомок мандельштамовских разночинцев, рассохлые топтавших сапоги, оставивших, по поэту, заповедь
Чур, не просить, не жаловаться! Цыц!,
которую она безусловно соблюдала. А буквально — внучка Иоанникия Алексееевича Малиновского, интеллигента в первом поколении из семьи ремесленника, историка и правоведа, написавшего книгу Кровавая месть и смертные казни, получившую высокую оценку Л. Н. Толстого. Любившая своего деда, тщательно изучившая его многочисленные труды и унаследовавшая его широкие либеральные взгляды на историю человечества.
Здесь может возникнуть вопрос, до некоторой степени вернувшийся в позднепутинскую Россию, но в отношении мамы совершенно бессмысленный: она западница или славянофилка? По многим параметрам, упомянутым выше (либеральные взгляды, круг чтения, знакомства…), и потому, что мы никогда не слышали от нее ничего про Особый Путь, Любомудрие, духовные скрепы и т. п. — западница. Безусловно, она хотела главного — чтобы Россия стала нормальной страной. Однако воспитывала она нас с Алёной вполне сбалансированно — не только внедряла в сознания европейские идеалы, но и приглашала на домашние концерты ныне известную фольклористку Серафиму Евгеньевну (тогда Симу) Никитину, замечательно певшую собранные ей северные песни, устраивала поездки — любоваться церквями — в старые русские города; придумала летние поездки на Кижи (прочитав какие-то источники о русском деревянном зодчестве и пересказывая их нам) и в Соловки, пожить в монастырской келье и попутешествовать на лодке по каналам, построенным монахами.
Советскую интеллигенцию власть пыталась отрезать и от западной культуры, и от классово чуждой русской, но в случае с мамой не удалось ни того ни другого, и свое понимание общечеловеческой культуры маме удалось передать потомкам.
Говоря о маме как о потомке русской интеллигенции, напоследок упомянем этнический аспект. И мы, Шабаты, и моя первая жена Регина Лазаревна Турецкая участвовали в своеобразном селекционном эксперименте, выводя еврейско-славянскую популяцию в соотношении 1:1. И мама, и отец, и Регина были детьми отцов-евреев и матерей-славянок.
Мама была далека от иудаизма (как и от других религий) и равнодушна к сионистским идеям. Думаю, что главное, в чем сказывалась ее еврейская половинка, — это в трепетном отношении к потомкам. Она не была еврейской мамой из анекдотов; например, когда я лет в тринадцать, подражая отцу, заявил, что буду даже в морозы ходить без шапки, она меня немного поуговаривала, но вскоре махнула рукой. Однако она постоянно думала о потомках, хотела все о нас знать (а это огромный объем информации, со многими из нас часто что-нибудь происходило), переписывалась, когда мы путешествовали, тревожилась, звонила… В самые последние месяцы, когда у нее уже ни на что не было сил, регулярно обсуждала по телефону с правнуком-первоклассником его школьные дела.
Намеченным пониманием маминой жизни, не стесняясь высокопарных слов, я и закончу. Она с раннего детства восприняла идеи, мировоззрение и стиль жизни русской интеллигенции, сохранила их и вместе с единственным любимым мужчиной построила открытый дом, в котором они доминировали. Пронесла их, как могла, через нелегкий XX век и сделала все, чтобы передать их детям, внукам и правнукам.
Г. Б. Шабат
Действующие лица
Ближайшие родственники, упоминающиеся в тексте:
• Иоанникий Алексеевич Малиновский,
1868 — 12.01.1932, дедушка
• Мария Александровна Малиновская (Конисская),
20.04.1870 — 10.02.1941, бабушка
• Цезарь Георгиевич Рысс,
03.10.1898 — 13.10.1974, отец
• Евгения Иоанникиевна Рысс (Малиновская),
27.04.1900 — 29.08.1982, мать
• Борис Владимирович Шабат,
09.07.1917 — 23.07.1987, муж
• Елена Борисовна (Алёна) Шабат,
16.08.1947 — 09.02.2004, дочь
• Георгий Борисович (Юра) Шабат,
род. 21.05.1952, сын
Марианна Цезаревна Шабат (Рысс),
10.12.1922 — 08.02.2009.

Введение
Видимо, погружение в прошлое — счастливая или несчастная, но более или менее обязательная потребность старости. Видимо, невозможно обойтись без попытки осмыслить свою собственную жизнь и жизнь близких людей, их мироощущение и поступки, которые с современных позиций кажутся порой необъяснимыми. И, пока голова не погрузилась в безнадежное склеротическое бездумье, найти если не оправдание, то по крайней мере свое сугубо личное объяснение того, что происходило в далекие годы детства, отрочества и юности. Необязательно быть для этого Толстым или Моэмом — необходимо другое: отказаться от непреодолимого желания оправдаться перед потомками, от желания выглядеть не столько лучше, сколько мудрее, чем на самом деле; отказаться от желания объяснять прошлое с позиций накопленного опыта и приобретенных знаний; быть фактографом, а не интерпретатором.
В нашей семье очень сильны мемуарно-реминисцентно-дневниковые традиции, а в дотелефонные времена существовала достаточно высокая культура письменного общения. Дорогие мои дети и внуки, если когда-нибудь потом, помимо естественного интереса к корням, который на современном отрезке российской истории не затаптывается безжалостно в землю, вам пригодится то, что я расскажу, значит, не зря я поддалась традиционно-семейной эпидемии…

Часть 1
До меня
Родители моими глазами
Я рассказываю о жизни моих молодых родителей так, как воспринимала эту жизнь, т.е. с позиций единственного обожаемого ребенка. Через восприятие ребенка я пытаюсь показать, как складывалось их мироощущение и мировоззрение в эпоху бурных потрясений в стране, в судьбах их семей, в их собственных судьбах. Я хочу понять, какие истины были для них бесспорными, какими словами и делами доносили они эти истины до своего ребенка. Очевидно, запомнилось то, что впоследствии оказалось для меня важным и значительным.
В этих записках нет строгой хронологической последовательности и единообразия; в некоторые отрывки включены рассказы о более поздних событиях. В отрывке, посвященном родителям, слились в единое целое их рассказы о невозвратно ушедшем прошлом и мои воспоминания.
Смогу ли я воссоздать в середине 90-х годов атмосферу семейной жизни, семейного климата так, как я воспринимала это в детстве? Смогу ли рассказать о молодых людях, заброшенных в Москву не столько по доброй воле, сколько силой самых разнообразных и по большей части неблагоприятных обстоятельств? Смогу ли отстраниться от своих воспоминаний и реакций на происходящее в стране и в моей личной жизни в течение более чем полувека? Смогу ли правдиво рассказать, какой представлялась очень счастливому ребенку жизнь молодых родителей, вырванных из привычной обстановки и вынужденных бороться не только за существование, но и за духовное выживание, за формирование (быть может, не всегда осознанное) жизненной философии, за определение моральных приоритетов и ценностей? И как сумели они сделать так, что их маленькая дочка смотрела на главных людей в своем мире широко раскрытыми, восхищенными глазами, а душа ее была распахнута для добра и любви?
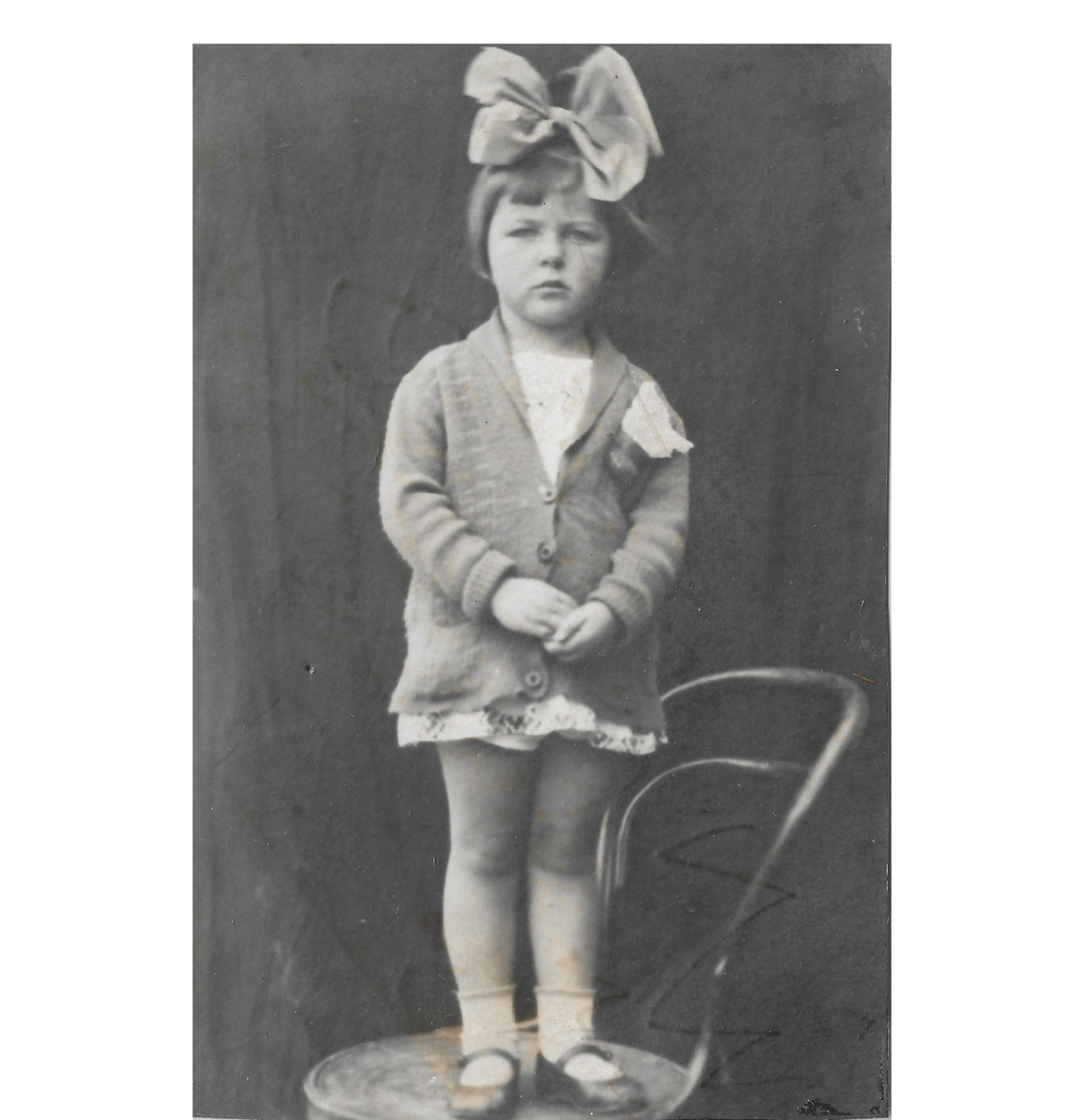
Мои родители. Цезарь Георгиевич Рысс и Евгения Иоанникиевна Малиновская. Необыкновенно красивая, знающая цену этой красоте, горделивая, строго и с достоинством несущая преимущества и бремя этой красоты мама. Обаятельный и приветливый, щедро выплескивающий богатства своей души и интеллекта, казалось бы мягкий и податливый, но внутренне независимый, раскованный и очень свободный папа. Неотразимая пара, представители своего поколения.
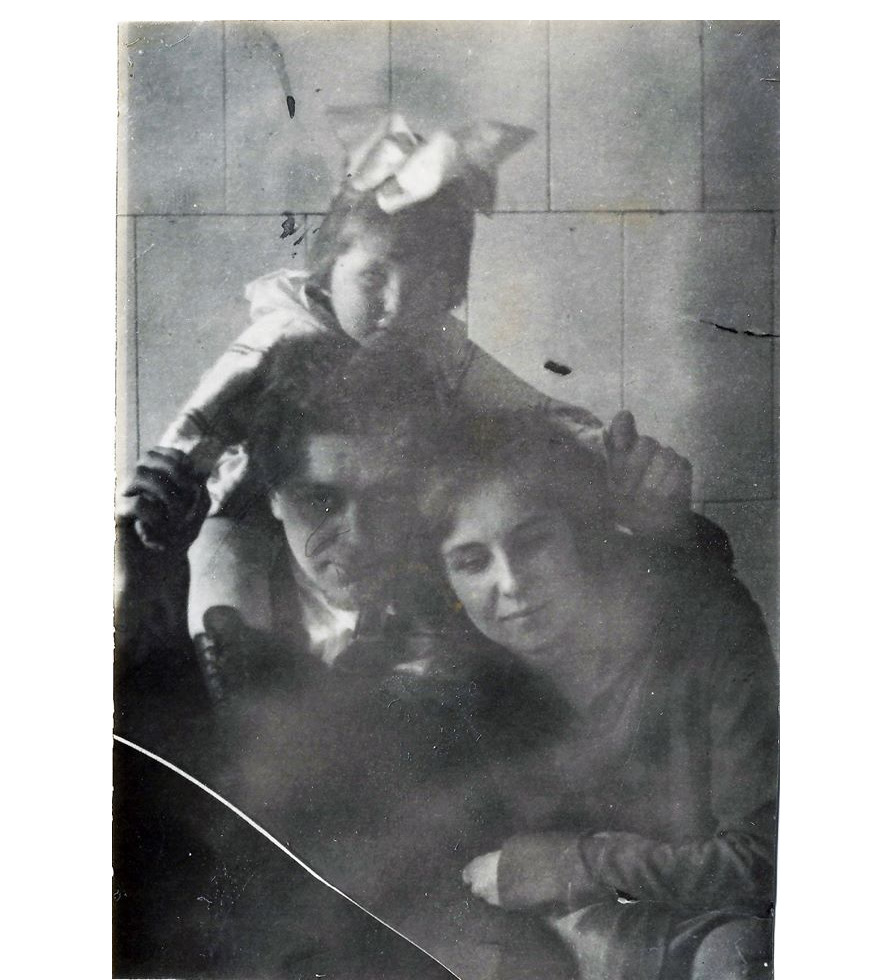


С тех пор как я себя помнила, я всегда была уверена, что ни у кого нет таких красивых и умных папы и мамы. Ничто и никогда не изменяло благоговейного отношения к родителям моего детства, к светлым, жизнелюбивым людям, ухитрявшимся вопреки трудностям их не так уж легко устроенного, нищего быта, вопреки общим трудностям смутных 20-х годов жить интересно и насыщенно, создавать в семье такую среду обитания, в которой эти трудности не были доминирующими и их единственной дочке жилось радостно, комфортно и уютно.
Мои родители подарили мне удивительное детство, прошедшее в любви и неосознанном ощущении превосходства, потому что таких необыкновенных папы и мамы не было ни у кого из окружавших меня детей.
О предках
В наших семейных архивах сохранились очень интересные воспоминания, дневники и письма моих дедушки и бабушки Иоанникия Алексеевича и Марии Александровны Малиновских. Вместе эти материалы охватывают почти полвека и являются бесценными свидетельствами истории семьи моей мамы.
Бабушка — третий ребенок в семье украинского интеллигента А. Я. Конисского, адвоката, писателя и переводчика, члена группы, ратовавшей за культурную автономию Украины, автора текста «Боже, Великий, Единый, нам Украину храни…», широко известного в современной самостийной Украине. Она рассказывает о своем «детстве, отрочестве и юности». Эти воспоминания относятся ко второй половине 70-х — 80-м годам XIX века.
Мемуары Иоанникия Алексеевича охватывают более 30 лет. Это 90-е годы XIX века в Киеве, быт и нравы близкого к Киевскому университету круга интеллигенции; начало XX века, становление молодого Томского университета и его место в интеллектуальной и политической жизни развивающейся Сибири; сложные обстоятельства, обрушившиеся на Иоанникия Алексеевича и его семью во втором десятилетии нашего, XX века; перемещение из Томска в Варшаву, из Варшавы в Ростов… Далее — тюремные дневники начала 20-х годов (письма, в течение нескольких месяцев передаваемые на волю из камеры смертников Ростовской большевистской тюрьмы; дневник и письма периода сидения в Ивановском лагере в Москве).

Мамины рассказы о детстве
Вдохновенные рассказы мамы о ее детстве, о городах, в которых она жила, о родителях и их друзьях были, конечно, очень важны для формирования личности ее ребенка. Прочитав в старости мемуары и дневники моих бабушки и дедушки, я словно вновь окунулась в знакомую с детства, но забытую атмосферу этих увлекательных рассказов. Думаю, что я только теперь смогла понять, как же трудно было маме строить свою жизнь в условиях, не имевших ничего общего с условиями жизни ее детства и отрочества…
Видимо, из рассказов мамы, из случайно услышанных разговоров и обсуждений сложились и какие-то стереотипы моего отношения к членам маминой семьи. С самого раннего детства я знала, что дедушка — замечательный, а бабушка очень красивая, но больше всего любит себя… Мне было жалко бабушку — ведь любить себя больше всего очень неудобно. Что же тогда остается другим? Может быть, бабушке не хватало любви для дедушки и для своих детей? Может быть, поэтому все дочки живут отдельно от бабушки и дедушки? И дочек было жалко — ведь мне было так хорошо, потому что больше всех на свете я любила своих папу и маму.
Об отцовской семье
Я о ней не знала, да и сейчас не знаю, почти ничего. Он происходил из очень разветвленной еврейской семьи Рыссов, среди которых было достаточно много интересных людей большего или меньшего достатка, с самыми различными мировоззрениями и судьбами. Папа очень не любил рассказывать о своем детстве, о сложных переживаниях ребенка, растущего вне нормальной семьи. Ему было всего восемь лет, когда неожиданно умерла мать. Это было в Мюнхене; отец, как всегда, был в отъезде (я так и не узнала, почему его работа была связана с постоянными разъездами). Четверо детей — самому младшему из них исполнилось два года — остались совсем одни. Позже их распределили по семьям ближайших родственников. Детей любили и жалели, но жизнь без матери и без отца, который только навещал их… — в ней была какая-то неправильность. Женившись второй раз, мой дедушка Рысс осел в Ростове-на-Дону и забрал к себе детей. Папа всегда говорил, что мачеха хорошо к ним относилась. Тем не менее сразу после скоропостижной смерти мужа она бросила детей и, забрав немногие ценности и деньги, имевшиеся в доме, уехала из Ростова. Больше дети свою мачеху никогда не видели, хотя не один раз предпринимали попытки найти ее.

Папе было тогда 13 лет, старшей сестре — 16. После смерти их отца на них двоих легла полная ответственность за младших брата и сестру. Кое-что об этом периоде их жизни рассказывала мне уже в старости старшая сестра папы. Она в год смерти своего отца заканчивала гимназию.
Отрочество папы; репетиторство
А папе оставалось до окончания еще несколько лет, и он считал, что не имеет права учиться дальше, так как обязан зарабатывать на жизнь. Учителя гимназии убедили его, что он сможет содержать семью, не бросая гимназию, и рекомендовали в качестве репетитора в богатые семьи слабых учеников.
Учился он всегда очень хорошо (я не знаю точно, так ли это было, но мне кажется, что как сильный ученик он попал в процентную норму для евреев) и получил прекрасное гимназическое образование. Степановская гимназия считалась тогда одной из лучших в России. Однокашниками отца были многие интересные и известные впоследствии люди, например кузены Шварцы, Антон и Евгений.
Как далеко в прошлое уходят корни репетиторства в нашей семье! Дедушка Иоанникий Алексеевич Малиновский, типичный разночинец, зарабатывал обучением дворянских детей в помещичьих усадьбах на Полтавщине, бабушка Мария Александровна, еще будучи гимназисткой, готовила девочек к приемным экзаменам в Киевскую гимназию, а позже сама организовала частную гимназию с пансионом. Мой отец учил в основном детей ростовского купечества. И вот теперь мои дети и внуки подрабатывают, занимаясь математикой с абитуриентами или отстающими студентами.
О юности папы
То, что я знаю как о детстве моего отца, так и о жизни осиротевших детей, о том, чем занимался папа по окончании гимназии, больше всего похоже на прерывистую линию, состоящую из разрозненных фактов.
Военное училище, нежелание идти служить в белой армии, контакты с друзьями-большевиками, какие-то поручения вроде сопровождения архивов деникинского правительства в Москву, почему-то встреча с Лениным, почему-то знакомство с Шаляпиным, служба в качестве то ли третьего секретаря, то ли культурного атташе большевистского посольства в меньшевистской Грузии, служба в Реввоенсовете. В те годы отец, кажется, считал себя членом большевистской партии, но позже почему-то это членство не оформил (Почему? Ведь в жизни моего детства никогда не витала в доме атмосфера критики и недовольства советской властью).
Оказавшись в Москве, отец поступил учиться в один из технических институтов и параллельно в только что основанное Гнесинское музыкальное училище. Известен эпизод его детства (из рассказов тети Доли, старшей сестры отца): «Сам Рахманинов, послушав маленького Цалю, сказал, что этому мальчику нужна хорошая школа и что он прославит музыкальную Россию». Увы… мы никогда не узнаем, был ли действительно такой эпизод или это только красивая легенда, романтизация нереализованных возможностей. Но я прекрасно помню, что день, когда у папы появилась возможность взять в аренду пианино, превратился в настоящий семейный праздник; только после этого я поняла, как тосковал он без музыки в доме.

Совмещать занятия в двух институтах с работой было невозможно. Сначала папа поставил крест на своем музыкальном образовании, хотя М. Ф. Гнесин усиленно убеждал его, что он может позволить себе отказаться от чего угодно, но только не от музыки. Позже он бросил и технический институт и в конце концов вместе с мамой поступил в Литературно-художественное училище, известное больше как Брюсовский литературный институт), который они оба так и не закончили. Возможно, это незаконченное высшее образование всю жизнь было для моих родителей каким-то неосознанным раздражителем, хотя, казалось бы, и не мешало им в каждодневной жизни.
О первом браке папы
Мама была второй женой отца. Ему было всего 17 лет, когда его женила на себе красавица-ростовчанка Мила Клячко, человек неординарный, но никогда не любимый (она была больна тяжелой формой шизофрении и в один из периодов перевозбуждения превратилась из Милы Клячко в Милу Арбат, идентифицируя себя с улицей, на которой жила). Я всегда знала, что у папы кроме брата и сестер есть какая-то странная неродственница Мила. Странная, потому что если папа был не на работе, папа и мама всегда и всюду ходили вместе, а к этой неродственнице он всегда ходил один и после возвращения от нее бывал особенно ласков дома. Навещал он ее регулярно и постоянно помогал ей. Ему приходилось приводить в порядок ее запутанные дела, улаживать какие-то неприятности. «У Милы опять что-то стряслось», «Мила опять вызвала Цезаря». Когда мама говорила это, голос ее звучал не так, как обычно. Видимо, из-за напряженных интонаций, из-за немного чужого маминого голоса я плохо относилась к этой загадочной Миле, из-за которой папа меньше времени бывает дома, понятия не имея ни о том, что она была папиной первой женой, ни вообще о том, что у пап может быть несколько жен. Мама не разрешала папе брать меня с собой, когда он навещал Милу, т.к. боялась «вредного влияния на детскую психику», но никогда не возражала против того, чтобы отец помогал ей, в каких бы стесненных материальных обстоятельствах ни находилась наша семья.
О юности мамы и об ее отце

Профессорская дочка, обожавшая своего отца и возмущавшаяся деспотизмом своей матери, мама, несмотря на все превратности судьбы своего отца, прожила достаточно благополучно до его ареста в 1919 году. Была она энергична и своевольна, красива и обаятельна и с очень ранних лет не боялась открыто брать на себя ответственность за свои поступки и решения.
Иоанникий Алексеевич Малиновский чудом избежал смерти во время жестокого самосуда, учиненного над профессорами Ростовского университета, но был арестован и приговорен к расстрелу, так как и при правительстве Деникина занимался проблемами просвещения (какое-то время он был в правительстве то ли ответственным за школьное образование, то ли министром просвещения — официальная и семейная версии расходятся) и не оставлял просветительской деятельности, благодаря которой был широко известен и очень популярен среди ростовского студенчества. Благодаря хлопотам тех учеников, которые, безоговорочно приняв власть большевиков, не предали своих кумиров, удалось на неопределенный срок отложить исполнение смертного приговора.

И. А. Малиновский третий слева
Позже студенты добрались до приехавшего в Ростов А. В. Луначарского, уговорили его наложить на деле профессора Малиновского резолюцию: «Без согласования со мной ничего не предпринимать» и для окончательного решения его судьбы переправить Иоанникия Алексеевича в Москву. Наверно, в реальной жизни все было не совсем так или совсем не так, но в моем сознании сложилось именно такое представление о тюремном периоде жизни дедушки. Совсем молодая, очень энергичная и очень красивая Женя Малиновская решила сама заняться освобождением своего любимого отца и в 1920 году отправилась вслед за ним в Москву.
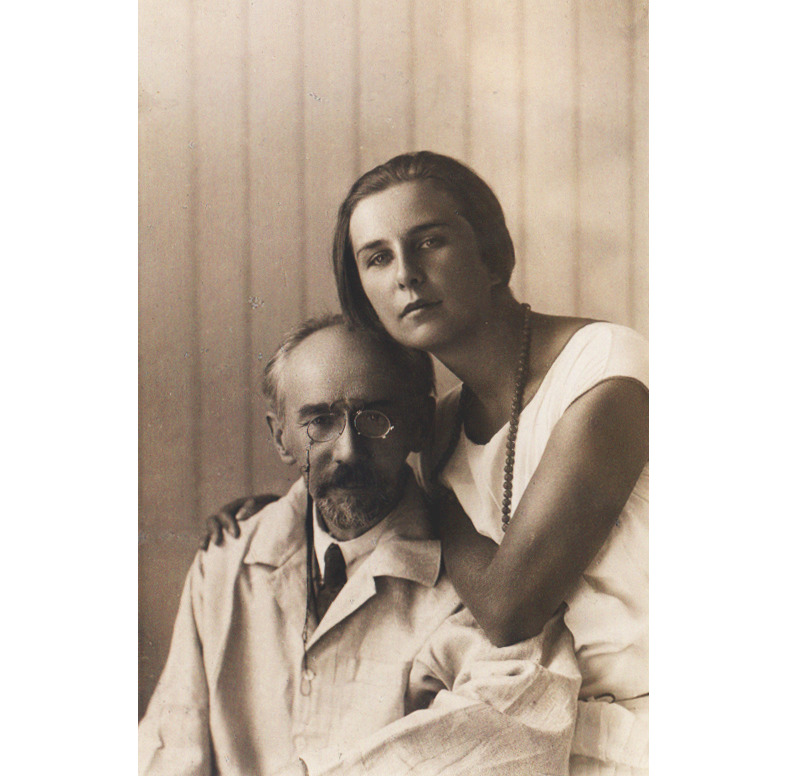
Знакомство и брак родителей
Оказалось, что в Москве уже собралось довольно много знакомых молодых ростовчан, активно включившихся в работу по «построению самого лучшего и справедливого в мире общества». Среди них был и мой отец, работавший в это время в Реввоенсовете, предшественнике современного Министерства обороны.
Мои родители познакомились только в Москве, хотя в Ростове они принадлежали к одному и тому же слою молодежи и мой отец даже бывал в доме Малиновских на студенческих вечерах, которые устраивал дедушка. Через три недели после первой встречи они «вступили в законный брак» в соответствии с только что созданным Гражданским кодексом, чтобы «поддержать советское законодательство», как говорил их друг-ростовчанин, один из авторов этого кодекса. На всю жизнь отголоском этого стремительного брака осталось церемонное обращение моих родителей друг к другу на «вы». А в семейном альбоме хранится любительская фотография счастливых смеющихся молодоженов, над головами которых простер руки инициатор их официальной регистрации Яков Старосельский (судьба его сложилась трагично, но это уже совсем другая история).
Со мной
Мое появление на свет.
Где жить? Крестить или не крестить?
Мои родители были очень молоды, когда выяснилось, что мама ждет ребенка. Судя по рассказам, она была испугана, а отец счастлив, но появление ребенка оба встретили с восторгом, хотя в конце 1922 года у них не было не только стабильной крыши над головой, но они даже не знали толком, в каком городе будут жить. Наверное, в этом проявлялось не столько легкомыслие, сколько здоровая молодая реакция на общую неустроенность и нестабильность в стране. Одним из первых вопросов, которые им пришлось решать в связи с моим появлением, был вопрос о том, крестить меня или не крестить. Из рассказов мамы я знаю, что ее родители, которые никогда не отличались религиозностью, считали, что спокойнее было бы по традиции окрестить меня, а вреда это во всяком случае никому не принесет. Что касается родственников папы, то, скорее всего, эта проблема просто не волновала их. Мои папа и мама оказались очень принципиальными и наотрез отказались поступать в соответствии с канонами старой жизни. Бабушка настаивала, твердокаменный интеллигент дедушка встал на сторону молодых родителей и решительно объявил, что только они имеют право решать, как поступить в этом случае.
Жилье, зарплата отца, ночная работа
Мне не исполнилось еще полугода, когда у моих родителей появилось жилье, предоставленное советской властью. Папа получил право выбрать комнаты себе по вкусу в бывшем купеческом особняке в Замоскворечье. Весь дом, в котором не осталось никого из семьи прежнего владельца, был передан городскими властями военному ведомству для расселения сотрудников…

…Наша жизнь в огромных полупустых комнатах была правильна и незыблема. Для меня это была единственно возможная жизнь. Мои родители были очень бедны, некому было помогать им; зарплата отца, которую он получал на основной работе, обычно кончалась за несколько дней до получки, и он вынужден был искать дополнительные приработки. С самого раннего детства я помню, как время от времени (наверно, перед зарплатой) родители искали по карманам остатки денег; это воспринималось как интересная забава: выигрывал тот, у кого в карманах набиралось больше мелочи. Конечно, я, маленькая, не понимала, что папа вынужден был работать и дома, но с самого раннего детства меня приучили к тому, что папа должен поспать после службы, иначе он не сможет заниматься ночью. Ночная работа за письменным столом окружала моего и без того замечательного папу ореолом таинственности и значительности.
Оля и Моня
Наша семья отличалась от всех окружающих нас семей тем, что в нее, кроме положенных каждой семье родителей и детей, входила еще младшая сестра мамы Оля. Конечно, Оля была взрослой, и когда мои родители уходили куда-нибудь вдвоем, они оставляли меня на попечение Оли. Но интуитивно я всегда знала, что Оля тоже «немного ребенок» моих родителей. Был и еще один такой «немного ребенок» — младший папин брат Моня. Он приезжал иногда в Москву из Ленинграда и жил с нами.
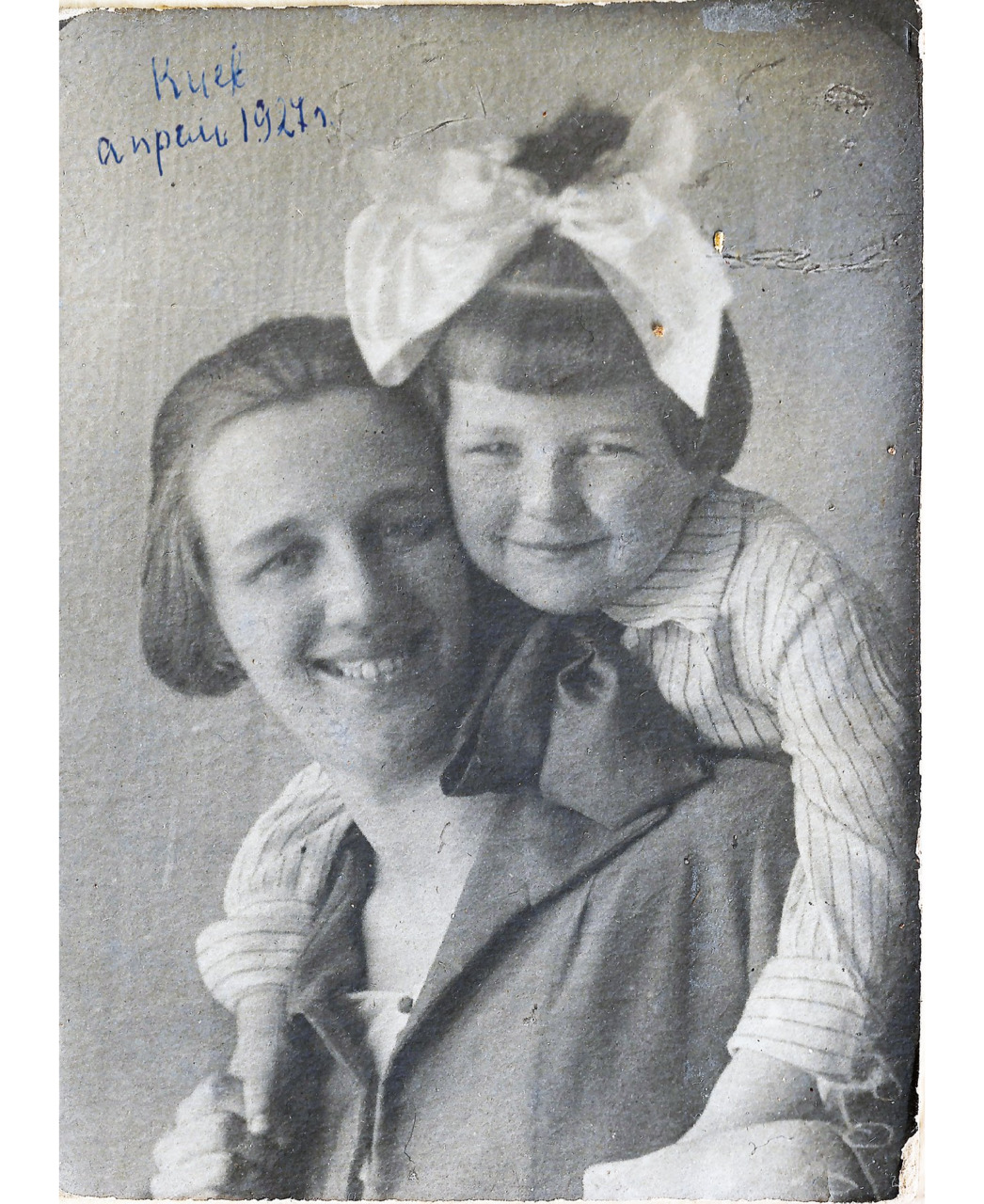
Из очень ранних, отрывочных воспоминаний мне запомнилось, как, проснувшись ночью, я услышала разговор родителей о том, что хорошо бы Моне и Оле пожениться, и как рассердилась Оля, когда я спросила, хочет ли она «пожениться на Моне». (Оля так никогда и не имела своей семьи. В старости она стала «немного моим ребенком»).
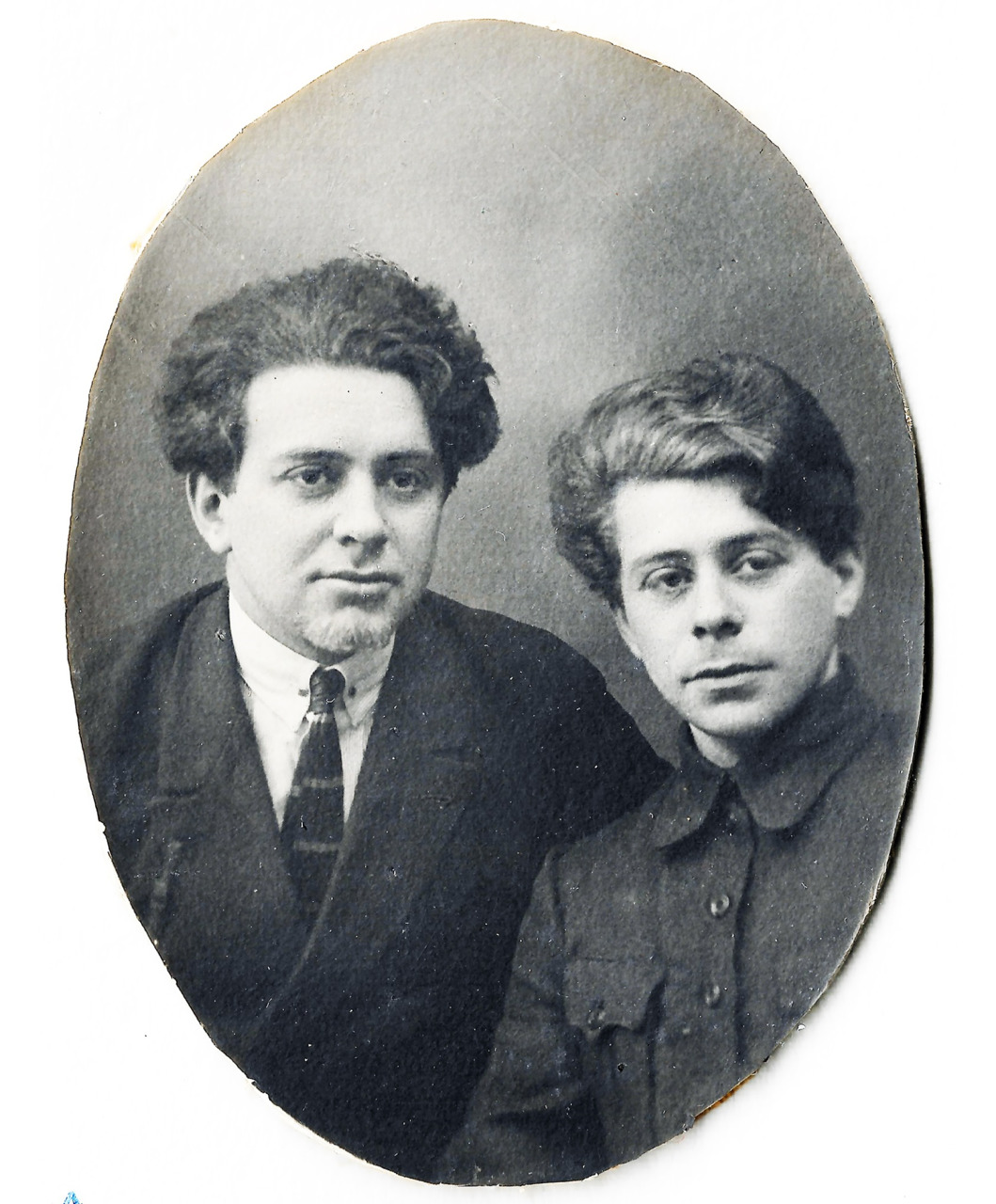
Исчезновение Мони
С какого-то момента Моня вдруг перестал приезжать из Ленинграда в Москву. На мои вопросы я получала неубедительные ответы о какой-то «ссылке». Потом ссылка кончилась. Когда мама и папа взяли меня с собой в Ленинград, Моня опять жил там после большого перерыва. В 1937 году он вновь был арестован и расстрелян, а его жена с двумя детьми — выслана из Ленинграда сначала в Тамбов, потом в Казахстан и достаточно настрадалась до времен оттепели и до реабилитации Мони; но это другая история…
Открытый дом
Это понятие было вполне применимо к нашим большим, пустым, гулким комнатам. У моих папы и мамы друзья и родные были повсюду. Из Ленинграда приезжали папины сеcтры и брат Моня; в Ростове жила мамина старшая сестра Муся с дядей Жоржем и моим братом Давидушкой; в Киеве жили мамины родственники, а потом туда переехали бабушка и дедушка; даже из Сибири приезжали иногда мамины двоюродные сестры. Разве не значило это, что моих родителей любило очень много народу? Я была не настолько велика и озабочена событиями и делами вне нашего семейного мира, чтобы задумываться над тем, почему же близкие люди оказалась развеянными так далеко по всей стране.
«Хоромы». О бедности и богатстве
В Москве у родителей тоже было много друзей, и они очень любили собираться вместе. Возможно, собирались чаще всего у нас, потому что мы жили в «хоромах».
Хоромы. Это слово неизменно вызывало смех и непременные разговоры о бедности и богатстве. Понять эти разговоры было невозможно. Я была уверена, что быть богатым очень плохо и стыдно. Ведь для того и была сделана революция, чтобы отобрать все богатство у бездельников и отдать его тем, кого эксплуатировали. Но в то же время моя подруга Шура, которая жила в нашем дворе, была бедной. Так говорила мама, отбирая платья, из которых я выросла, чтобы отдать их Шуриной маме для Шуры или ее младшей сестры. А какими же были мои родители, бедными или богатыми? Шурины мама и папа не могли купить ей платья, а моя мама без конца придумывала для меня красивые юбочки и платья, завязывала мне банты из блестящих, очень красивых лент, и я не сомневалась, что моя мама одета красивее всех, а я — самая нарядная девочка в нашем огромном дворе.
Няни и домработницы
Я не сохранила никаких воспоминаний о нянях моего младенчества, но очень хорошо помню домашних работниц (слово «прислуга» — обидное, я знала это с пеленок), которые готовили, делали покупки, стирали… словом, делали всю работу, которую до Революции выполняла прислуга. Если мама и папа уходили, а у Оли были свои дела, я оставалась на попечении домработницы. У бабушки и дедушки в Томске были и горничная, и кухарка, и даже конюх, потому что у них была своя лошадь и собственный экипаж (экипаж лучше, чем коляска извозчика). Получалось, что бабушка и дедушка были раньше совсем богатыми, а мои папа и мама теперь богатые чуть-чуть. Почему же тогда нас жалеют из-за того, что у нас нет красивых кроватей, диванов и шкафов? Нам и без них хорошо.
Изменения в хоромах
Зато только у нас есть «хоромы». Хоромами наше жилье называлось и после того, как мои родители разделили одну из роскошных квадратных комнат на две длинных, узких кишки. Наверное, они устали от жизни всегда «на виду» и им необходимо было устроить для себя подобие изолированной спальни. Не может быть, чтобы их, особенно маму, не угнетали реминисценции детства, воспоминания о большой квартире, в которой у каждой комнаты было свое назначение. Наверное, превращение двух комнат в три стоило отцу не одной бессонной ночи за письменным столом. Помню, какое разочарование я испытала, когда, вернувшись домой после лета, увидела изменения в хоромах. Но мама объяснила, что теперь «у всех будет свое место» и никто не будет никому мешать. Действительно, неперегороженная комната стала выглядеть еще просторней, чем до ремонта. В ней стояли поначалу только деревянная садовая скамья — спальное место приезжавших из других городов гостей, колченогий обеденный стол, несколько стульев и папин письменный стол, место, где он проводил за своей непонятной работой много ночей. Стол был завален бумагами, которые ни в коем случае нельзя было трогать.

Приработки отца
Чем же занимался мой молодой одаренный отец, который с 13 лет знал, что такое бремя ответственности за близких ему людей? Я думаю, что в молодости, независимо от того, где ему приходилось работать, он быстро завоевывал почетное положение «ученого еврея» при своих менее умных, менее образованных руководителях. Обладая гибким умом, невероятной жадностью к познанию и редкостной добросовестностью и трудоспособностью, он за несколько бессонных ночей мог выполнить то, на что другим потребовались бы недели или месяцы. «Этот кодекс», «этот устав»… — конечно, слова не имели никакого смысла для ребенка, но запомнила я их с детства. Мой папа все знал про эти слова и, наверно, что-то сочинял про них по ночам.
(После ухода из Реввоенсовета и до тех пор, пока он не стал работать сначала в совместной архитектурной мастерской братьев Весниных и Гинзбурга, а потом в отпочковавшейся мастерской Гинзбурга, отец работал в учреждениях, занимавшихся разработкой законодательно-правовой базы в нашей стране: жилкооперация, комплексная разработка инфраструктуры промышленных комплексов, — я боюсь быть неточной и недостаточно осведомленной).

Портрет Ленина
На папином столе всегда стоял один из очень известных портретов Ленина — вождь читает газету, сидя в кресле. Надо сказать, что на стенах в наших хоромах никогда ничего не висело. Портрет просуществовал у моих родителей до тех пор, пока мы не расстались с хоромами на Большой Полянке. В новой квартире я его никогда не видела. (Одна из маминых историй: отец два раза прошел после смерти Ленина через Колонный зал, но не брал с собой маму, считая, что нельзя рисковать ее здоровьем в страшный мороз, когда на руках годовалый ребенок.)
Книги. Пушкин
Очень маленькая полка с книгами висела в новой комнате-кишке, в которой спали папа и мама. Причуды памяти! Лучше всего я запомнила небольшую книгу об Уистлере с замечательными репродукциями (впрочем, может быть, такими замечательными они мне только казались, и связано это было с тем, что я очень любила рассматривать их вместе с мамой). Пушкин был представлен на этой полке растрепанным, видавшим виды однотомничком в бумажном переплете. Сказки, «Руслана и Людмилу», отдельные стихотворения, вообще пушкинскую ауру подарил мне именно этот однотомник. Родители купили мне новый, гораздо более полный однотомник в середине 30-х годов. У них не было и тени сомнения в том, что взрослеющая девочка просто существовать не может без собственного Пушкина. (Этот однотомник сохранился у нас до сих пор, громоздкий, растрепанный, но любимый.) Я помню, что на этой же полке стояло несколько дешевых изданий, наверно, это были стихи любимых поэтов.
Буржуйская мебель. Книжные полки
Папа нашел где-то и купил по дешевке настоящий трельяж с тройным зеркалом, низенькими тумбочками и ящичками. Меня поразил не только вид, но и название внесенного в комнату предмета — он был из «богатой» жизни. Можно было повернуть боковое зеркало и увидеть себя сразу с трех сторон. Я любила наблюдать, как мама, нарядно одеваясь, осматривала себя в зеркалах, когда они с папой собирались в гости или в театр.
Постепенно наши хоромы стали заполняться и другой мебелью. Вся она была из прошлого, буржуйского мира и всегда покупалась по дешевке. Но книжный шкаф, безобразный, покрашенный черной краской, сколотил живший во дворе мастер на все руки, умелец дядя Петя. Его поставили рядом с папиным письменным столом. На нижних полках лежали папки с бумагами — папина работа; на верхних расположились некрасивые одинаковые книги. Папа добросовестно покупал очень дешевые массовые издания трудов тогдашних руководителей страны. Они нисколько не интересовали меня, и было непонятно, почему такие уродливые книги стоят на самом видном месте. Позже они стали понемногу исчезать с полок…

В гости втроем!
Какое это было счастье! Специально чистился и отглаживался папин единственный костюм, мама выбирала нарядную блузку, мне завязывали самый красивый бант… Праздник начинался во время сборов, но самыми лучшими были минуты, когда мы выходили на улицу и я шла между папой и мамой, крепко держа их за руки. Еще лучше было ходить не в гости, а в театр, в цирк или в зоопарк. Я не помню себя без этих радостных семейных праздников. Если они совпадали с днями получек, папа, человек очень широкий и щедрый, к ужасу мамы устраивал совсем невероятный праздник: мы ехали по Москве не в битком набитом трамвае, а на извозчике. Никогда позже, когда извозчики уже исчезли и вошли в нашу жизнь такси, не испытывала я такого захлестывающего восторга, как во время этих редких поездок. Лучше всего было зимой, когда полозья бесшумно скользили по снегу, извозчик устойчиво сидел на облучке в своей огромной шубе, а впереди бежала покрытая инеем лошадь в красивой сбруе.
С горки
Одно из очень ранних воспоминаний. Мы возвращаемся домой от бабушки и дедушки. Очень сильный мороз, начинает темнеть. Я сижу на санках, которые везет папа. На нашем пути — высоченная гора (бабушка и дедушка жили в самом начале Большой Молчановки у Арбатских Ворот, а гора — это спуск по Знаменке к мосту через Москву-реку). Папа весело кричит: «Бежим, дочка!» — и несется вниз с невероятной скоростью. Я слышу отчаянный крик мамы: «Цезарь! Она выпадет!..» Я действительно выпадаю и кулечком качусь вниз по мостовой, хохоча от восторга. Папа, который не заметил, что я выпала, бежит где-то далеко впереди. Мама подбегает, поднимает меня и спрашивает, не ушиблась ли я. Но я так закутана, что даже не почувствовала удара о землю. Я в восторге от этого приключения и не могу понять, почему мама недовольна папой, который со смущенным видом возвращается к нам снизу. Он усаживает меня на санки, и мы скучно движемся к мосту. «Давай побежим еще раз!» — прошу я. «Нет, маме не нравится, как мы бегаем», — отвечает папа. На этом праздник кончается. Папа обещает, что мы покатаемся с горы в другой раз, но я знаю, что другого раза не будет — ведь папе надо всегда работать. И неизвестно, когда мы опять пойдем к бабушке и дедушке с санками.
Культурная жизнь родителей и их друзей
Таиров, Мейерхольд, Станиславский… эти и многие другие имена были у меня на слуху с самого раннего детства. Когда собирались у нас друзья, разговор шел не столько о личных и бытовых делах и проблемах, сколько о том, что удалось увидеть или услышать, о новых спектаклях, о литературных вечерах, о концертах. Я не сохранила никаких воспоминаний о дискуссиях на политические темы. Почему? Действительно не обсуждались политические новости и события или мое детское восприятие обладало счастливой способностью отталкивать неинтересное и непонятное? Ведь люди, вместе с которыми прошли по 20-м и 30-м годам мои родители, жили такой же нелегкой жизнью, как наша семья. Сейчас, оглядываясь на свое детство из конца XX века, вспоминая всеохватывающую атмосферу оптимизма и твердой уверенности в правильности происходящего тогда (не думаю, что дело только в моем детском восприятии), я очень хотела бы понять, что же было тем стержнем, который даже в самые тяжелые минуты удерживал поколение интеллигентных ровесников века на плаву, вопреки всем невзгодам, выпавшим на их долю. Эти ровесники века не были карьеристами, не рвались к власти, не стремились «наверх». Большинство из них пыталось получить высшее образование, но «сошло с дистанции» до получения диплома. Они с трудом доживали до зарплаты, они вынуждены были искать дополнительные заработки, им приходилось учиться жить не так, как в детстве, и убеждать себя, что теперешняя их жизнь правильнее той далекой, дореволюционной. Тривиальные слова — они мирились с трудностями во имя великого будущего, во имя счастья для всех. Но ведь они верили, что это счастье возможно и достижимо, и, стремясь быть честными перед самими собой, старались находить оправдание тому, что не устраивало их в их нищем бытии, не замечать уродливых ростков грядущей диктатуры и пользоваться всеми доступными им благами захватывающей, увлекательной столичной культурной жизни!
Еще об идеологии
И своему единственному ребенку родители прививали ту же уверенность в правильности происходящего, веру в то, что революция — это событие, когда плохое старое заменяют хорошим новым, что Великая Октябрьская революция — самое великое событие в истории, что Гражданская война необходима была для торжества справедливости, что Ленин — самый великий друг всех честных трудящихся людей на земле, что религия — дурман для народа…
Я выросла, очень хорошо усвоив эти и многие другие штампы тех далеких 20-х годов и в твердой уверенности, что, скажем, неприятности, которыми изобиловала жизнь моего любимого дедушки, были случайными ошибками, потому что правда восторжествовала и теперь он стал академиком, как того и заслуживал.
Воспитание барышни
А как же с моим воспитанием, которое в искаженном, сокращенном виде напоминало воспитание барышень в дореволюционной интеллигентной среде? Почему родители выкраивали из своего скудного бюджета деньги на мое «особое» воспитание? Почему меня не отдавали в детский сад, а предпочли устроить в частную группу? Почему из всех детей нашего двора я единственная занималась немецким языком? Почему мама приложила немало усилий, чтобы организовать частную группу ритмики? Ведь можно было целиком положиться на официальные формы коллективного выращивания будущих строителей коммунизма? Мне, счастливому, окруженному любовью ребенку, некогда было размышлять на эти темы. Но, скорее всего, где-то в моем подсознании укоренилось неоформленное представление об исключительности нашей семьи, о том, что все, чем отличалась моя жизнь от жизни приятелей во дворе, связано именно с этой исключительностью.
Мама работает и не работает
Как сочеталась преданность идеалам новой жизни с неустроенным, не очень понятным статусом мамы? Почему-то мне казалось, что она почти всегда работает «временно». И доносились до меня какие-то разговоры о несправедливости по отношению к ней. Или вдруг выяснялось, что она не может работать «из-за здоровья». И обязательно в конце концов эти разговоры сводились к скучному и странному обсуждению маминых недомоганий. А я очень любила, когда мама не работала и не уходила из дому на целый день. Мне гораздо больше нравилось после того, как ребята из частной группы расходились по домам, проводить время с мамой, а не с домработницей. С мамой всегда было так интересно! Мы что-то клеили, вырезали, и это сопровождалось увлекательными рассказами о прошлом. Или мама читала вслух. Или мы ходили гулять, бродили по замоскворецким переулкам, ехали на трамвае к Кремлю или к храму Христа Спасителя. А походы в Третьяковку или поездки к Соболевым! И многое, многое другое, интересное, необъяснимо отличающееся от жизни соседей в нашем доме, в нашем дворе.
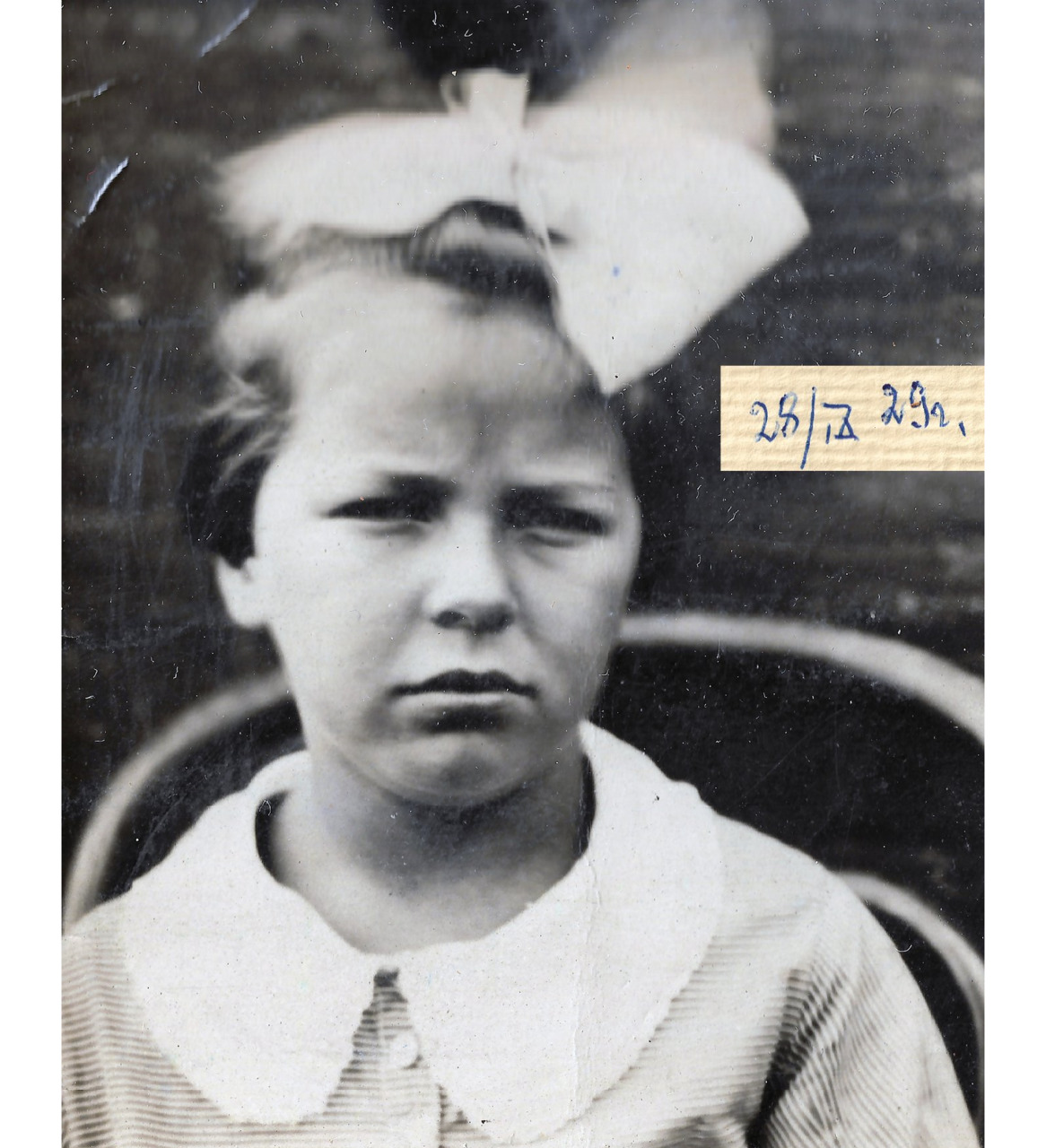
Сохранить ушедшее навсегда?
А может быть, именно в воспитании дочери, в стремлении передать ей то, что ушло навсегда из жизни моих родителей, крылась причина не совсем стандартного по меркам 20-х годов выращивания ребенка? Можно было не признаваться явно в несогласии со многим, что происходило вокруг, но нельзя было смириться с тем, что из-за этого ребенок вырастет не таким, каким хотелось бы его видеть.

Марианна первая слева
Конечно, все это — только домыслы. Но мне так хотелось бы понять, что помогло моим родителям в те не менее трудные и не менее сложные времена, чем наше постперестроечное время, сохранить себя, сохранить чистоту и благородство помыслов, не сломаться. Свидетельство этому — прежде всего — радостная, оптимистическая тональность моих воспоминаний о 20-х — начале 30-х годов.
Провинциалы в столице
Я не помню в окружении моих родителей коренных москвичей. Были среди них многочисленные ростовские знакомые, были выходцы из крупных российских провинциальных городов. Может быть, отчасти и этим объяснялось страстное желание молодых интеллигентных немосквичей получить от столичного города все, чего не было в их родных городах. И это же приводило к достаточно пренебрежительному отношению к бытовым неурядицам, к материальным трудностям. Нельзя было пропустить премьеру у Мейерхольда или Таирова, но можно было красавице маме, которая очень любила хорошо одеваться, пойти на эту премьеру в много раз перешитом платье.
После театра, когда не хотелось расходиться, друзья допоздна засиживались у кого-нибудь дома. Наши хоромы были удобным местом для таких посиделок. За чашкой пустого чая яростно дискутировали о месте великих режиссеров в истории театра, о сенсационном вечере Маяковского в Политехническом музее, о концерте Яхонтова или Антона Шварца, о Филонове и передвижниках, о Корбюзье или Иофане… Конечно, я не могла понять, о чем шли громкие беседы, которые будили меня. Но ощущение приобщенности моих родителей к чему-то очень важному и прекрасному и неосознанное предвкушение собственной приобщенности к этому важному и прекрасному сформировалось в моей душе и в моем сознании именно в те далекие 20-е, когда мои родители были очень молодыми, когда они жадно впитывали все лучшее, что могла дать им молодая советская держава, и, видимо, в основном им были чужды и черные мысли, и интеллектуальная усталость. А личный не очень легкий жизненный опыт, преломляясь сквозь призму любви, дружбы и веры в светлое будущее, становился основой их ежедневного существования.
Командировки
С раннего детства я привыкла к слову «командировка». В нашей семье командировки были неотъемлемой частью быта, папа уезжал очень часто, обычно на пять — десять дней, но иногда командировки затягивались на два — три месяца. Сейчас мне трудно представить, почему мой молодой папа постоянно занимался какими-то ревизиями, проверками и контролем в других городах. В разговорах о работе, именно работе, а не службе, постоянно звучали ничего для меня не значащие слова вроде «кооперации» или «коммунхоза». Я знала, что если папа пишет ночью, значит он что-то проверяет: обычно он занимался этим после возвращения из командировок. К каждому возвращению мама готовилась как к маленькому празднику. Из скудных запасов готовилось что-нибудь любимое папой, например грибной суп или картофельные котлеты с грибным соусом. Символом праздника был также самый красивый, тщательно вывязанный бант на моей голове. А мама была особенно красива в эти часы перед возвращением папы из командировки. Папа приезжал оживленный, счастливый тем, что добрался домой, и всегда старался привезти какие-нибудь небольшие подарки, какую-нибудь местную коробочку или косынку, открытки для меня… Если командировка оказывалась хорошо оплаченной, папа «шиковал» и привозил маме что-нибудь более дорогое.
За обедом начинались рассказы. Поначалу мне было интересно — папа рассказывал о незнакомых мне городах, о понятном. Но довольно быстро родители забывали обо мне и начинали обсуждать скучное и непонятное. Конечно, этот разговор был гораздо важнее той легкой беседы, в которой могла принимать участие маленькая дочка. Мама прекрасно разбиралась во всех делах отца, всегда была в курсе его взаимоотношений с сослуживцами, в курсе его успехов и неудач.
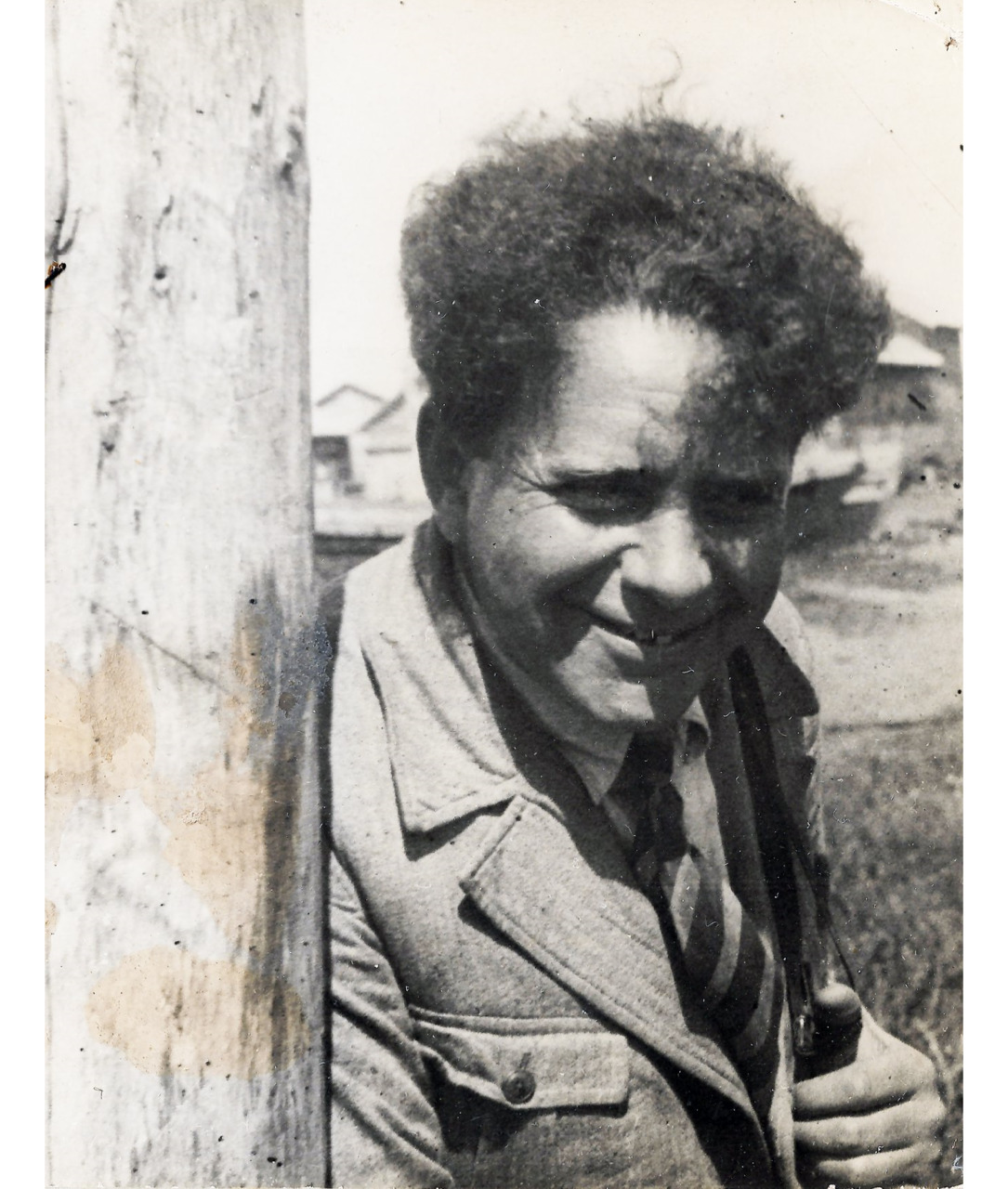
Папа в коллективе
Очевидно, папа был не самым простым и не самым удобным членом любого коллектива. С одной стороны, со своим активным и творческим умом он вносил живую струю в любое дело, которым занимался, и за это его ценили. Но в то же время он был непокорен, строптив и бескомпромиссен. Невозможно было заставить его подчиниться приказу или поддаться уговорам, если у него возникали серьезные принципиальные возражения против решений начальства. Переубедить с помощью веских аргументов? — Конечно. Но тупо подчиняться давлению? — Нет, такой способ поведения был ему недоступен. Эти неудобные качества сочетались с огромным личным обаянием и популярностью среди сотрудников, с которыми он работал, потому что он был добр, открыт и мягок в личном общении, охотно предлагал помочь и щедро делился своими знаниями. Все это я примысливаю к восприятию моего детства. Тогда же главным было, что опять мы вместе, что нас можно разлучить только на время нелюбимых мною командировок (зато как прекрасны праздники возвращения!), что есть надежда на какое-нибудь замечательное, интересное дело вместе с папой.
Радио
Однажды после командировки в наших комнатах впервые появилось радио. Папа принес загадочный предмет — маленький ящичек из лакированного дерева. Я завороженно наблюдала за действиями папы: он включил в розетку проводок из ящичка, приложил к ушам приделанные к какому-то полукругу черные кружки и стал то ли нажимать на кнопки, то ли вертеть винтики на ящичке. Из кружков стали доноситься какие-то слабые звуки. Мама умоляюще просила дать ей тоже послушать. Папа дал ей один из двух кружков… теперь они оба что-то слушали вместе, а я терпеливо ждала своей очереди… Когда мне дали наушники, оказалось, что слушать совсем неинтересно — по радио говорили о чем-то очень взрослом. Мои родители были первыми в нашей коммуналке, кто обзавелся портативным приемничком. Стационарный приемник появился у нас много позже, это был странного вида шкафчик на ножках, обтянутый розовой материей, — творение какого-то умельца, собранное из заграничных деталей. Он отличался от покупных приемников тем, что очень хорошо принимал музыкальные передачи. Это сооружение служило нам верой и правдой до войны, а во время войны мы заменили его надежной «тарелкой», которая была включена круглые сутки и сообщала голосом Левитана все новости военных лет.
Мои родители регулярно слушали вместе «Последние известия», каждый приложив по наушнику к уху. Видимо, покупка этого первого приемничка была для них очень важна, это был как бы выход на более современный образ жизни. Они не могли освободиться от бытовых забот, сохранившихся из XIX века, не могли заменить пожирающие массу дров и требующие неусыпных забот печки-голландки на калориферы центрального отопления, не могли избавиться от примусов и керосинок и обзавестись если не электрическими, то по крайней мере газовыми плитами. Радио оказалось доступнее всех остальных радостей цивилизации XX века, родители могли купить его сами, независимо от соседей, от управдома. И слушание новостей превратилось на некоторое время в своего рода священнодействие, в котором мне не было места.
Детские балы
Скорее всего, вспоминая праздники собственного детства, папа и мама устраивали удивительные детские балы по случаю моих дней рождения. Гостями на праздниках были дети, занимавшиеся вместе со мной в частной группе, дети из нашего двора и дети друзей родителей. Наши хоромы были очень подходящим местом для таких праздников. Жарко натапливалась голландка. Скудная мебель убиралась из большой комнаты, и она превращалась в настоящий зал. На широченные подоконники складывалась одежда. Один подоконник оставался свободным и был предназначен для подарков. В углу стоял заранее накрытый для чая стол. Дни рождения дошкольных лет слились в моем сознании в нечто единое. Основное, сохранившееся на всю жизнь ощущение от них — это уверенность в необыкновенности моих родителей, которые устраивают для меня и для других ребят такие сказочные праздники.
В те годы декабри в Москве были суровыми. Родители приводили закутанных как кульки детей, и из платков, рейтуз, шубок и валенок выбирались постепенно нарядные мальчики в костюмчиках и девочки в красивых платьях и носочках, с праздничными бантами на стриженых головках (косы тогда были не в моде). Понимая торжественность момента, они церемонно преподносили мне подарки, помогали их распаковывать и радовались, если видели, что подарок понравился.
Веселье было бурным и необузданным, благо хоромы позволяли и всласть побегать, и поиграть в мяч. После шумных игр мыли руки и приступали к чаю. Надо сказать, что взрослым, по крайней мере «моим» взрослым, не приходило в голову, что детям можно поднимать бокалы и чокаться во здравие именинницы. Игры, игры, игры… Взрослые ненавязчиво помогали детям переходить от буйного веселья к более спокойным развлечениям. Наступало время расходиться. Постепенно гостей, которым казалось, что веселье только-только началось, уводили родители. Хоромы приводили в порядок, расставляли по местам нехитрую мебель, наступала какая-то особенная тишина. Мама и папа обязательно спрашивали, довольна ли я праздником, и вместе со мной с интересом рассматривали подарки. Довольна ли я? Да я ни минуты не сомневалась, что таких праздников, как мои дни рождения, не бывает ни у кого. Потому что мои родители не только самые любимые, но и самые лучшие, самые необыкновенные.
Думаю, что даже на уровне детского восприятия я чувствовала, что дело не только в праздниках. На самом деле родители подарили мне то, что достается далеко не всем. В трудной, тяжелой жизни 20-х годов они сумели не сломаться, сохранить индивидуальные особенности своих очень несхожих характеров и, с любовью отдавая друг другу все самое лучшее, что было в их душах, сплавились в нечто единое, что и составляло суть и прелесть нашей семейной жизни. И я формировалась как личность в этой неповторимой атмосфере напряженной духовности и, ощущая необыкновенность своих родителей, конечно, никогда не задумывалась о том, как существуют другие дети, если им не достались такие родители.
Я ничего не примыслила, ничего не приукрасила, пытаясь рассказать о родителях времени моего дошкольного детства. И если что-то объясняла, то стремилась не искажать представлений ребенка, который, подрастая, решал свои сложные детские проблемы. Я ощущала себя неотъемлемой частью семейного целого, необходимой моим родителям так же, как необходимы они были мне. И если то, что здесь рассказано, звучит гимном ранним годам их совместной жизни, значит они заслужили быть воспетыми.
Детство
Колокольный звон
Раннее-раннее утро. Или еще ночь? На улице полутьма, полусвет. И сквозь закрытые окна доносится удивительно красивый перезвон колоколов. Я знаю, откуда: по дороге к Москве-реке мы проходим мимо приземистой, красной церквушки (она была уничтожена в начале разрушительной оргии 20–30-х годов).
Мне три или четыре года. Хочется поделиться с кем-нибудь своим открытием — открытием Красоты этого перезвона. У меня нет никаких сведений, никаких ассоциаций, связанных с церковью, с религией, с Богом. Просто маленькая девочка, проснувшись почему-то раньше, чем обычно, впервые осмысленно восприняла удивительную, радостную прелесть этой колокольной разноголосицы.
Сначала я слышу только общее звучание, потом начинаю различать: вот гулкий, «большой», редкий звук; на него накладываются сочные звуки «помоложе», а к ним присоединяются частые-частые тоненькие голосочки. Как же много колоколов должно быть там, наверху, в красной колокольне!
Небо светлеет. И вдруг звон обрывается… Я с трудом дожидаюсь счастливой минуты, когда можно будет поделиться своим необыкновенным открытием с мамой и папой. То, что я слышала, было так удивительно красиво. А они ничего об этом не знают.
Взахлеб рассказываю родителям, что я сегодня услышала, но почему-то мой рассказ не вызывает у них радости.
— Это звонили к заутрене, — скучным голосом говорит мама.
— Почему к заутрене? Это ведь доутреня? — Я волнуюсь, мне кажется, что я плохо рассказала.
— Иди мыться, одевайся, будем завтракать.
— Но ты слышала эту Заутреню?
— Еще бы… Это никому не нужно, — говорит мама.
Я совсем расстроилась, спрашиваю:
— А она еще когда-нибудь будет, эта Заутреня?
И получаю ответ:
— Ночью надо спать. Колокола только мешают. Иди мойся и одевайся.
Tаким запомнился мне первый урок антирелигиозного воспитания. Почему он оказался таким? Были ли мои молодые, изумительные родители искренни в своей реакции на первую эмоциональную встречу маленькой дочки с религией? Действительно ли религия, Вера воспринимались ими как что-то ненужное, излишнее в их славной послереволюционной жизни, разрушившей прогнивший старый мир? Или боялись они, что, полюбив восхитительный колокольный звон, я могу душой потянуться дальше к Вере, к Богу? А может быть, не очень задумываясь, они интуитивно стремились защитить меня от неприятностей и не хотели усложнять свою и без того нелегкую жизнь?
Последнее воспоминание, связанное с маленькой красной церковью, — взрыв. И груды кирпичного мусора.
Храм Христа Спасителя
В 1926 году мой дед Иоанникий Алексеевич Малиновский, отсидев достаточно долгий срок в Ивановском лагере в Москве после отмены первоначального смертного приговора за контрреволюционную деятельность, по приглашению Всеукраинской академии наук переехал в Киев. Там он был избран академиком, занимался своей любимой историей западно-русского права и становлением советской законности на Украине и, более или менее безбедно и спокойно прожив несколько лет, умер в 1932 году.
Ежегодные поездки к бабушке и дедушке в Киев были для меня радостными праздниками. Я так любила и само путешествие в поезде (мне, маленькой, и в голову не приходило, что поездки эти были трудными и неудобными), и особенно замечательные минуты, когда поезд подъезжал к Киеву и к Москве. В Киеве — знак встречи с городом — появление лавры, белоснежной, сверкающей куполами на фоне яркого, иного, чем в Москве, неба (и, Боже, как безобразно выглядит на фоне того же неба титановая дама, оставленная городу Щербицким на память о себе великом).
В Москве не так. Вдруг кто-то из пассажиров замечает вдали блестящую точку и радостно сообщает об этом соседям; по вагону проносится шелест — храм Христа Спасителя; уже скоро. Пассажиры начинают быстро собирать вещи, а точка, приближаясь, увеличивается, увеличивается, и вот уже виден весь купол, но только купол, он притягивает к себе, и кажется, что вся Москва сосредоточена в нем. Мы жили недалеко от храма Христа Спасителя, и я всегда просила повести меня к храму гулять. Там можно было по ступеням спуститься к Москве-реке и даже дотронуться до воды, вокруг храма было так красиво, и, если попросить очень сильно, можно было уговорить войти внутрь, в огромное, темноватое, загадочное помещение с колоннами, в котором стены были украшены портретами нездешних (или из другого времени?) мужчин и женщин, в котором горело много свечей, освещающих загадочные блестящие украшения мерцающим светом. Там было жутковато и необычно и даже пахло как-то особенно.
Зачем свечи, если можно зажечь лампы? Зачем делать какие-то непонятные движения, то прикладывать руку ко лбу, то как-то странно — к груди? Так делали все, кто заходил в этот (может быть, волшебный?) зал; и шли они опустив глаза, а иногда делали что-то совсем странное: у колонн на небольших столиках стояли портреты непонятных нездешних людей, и посетители зала подходили и целовали эти портреты; или вдруг опускались на колени и начинали раскачиваться так, чтобы достать головой до пола, и при этом что-то часто-часто бормотали.
Естественно, я задавала вопросы, но ответов, которые меня бы удовлетворили, никогда не получала (картины называются иконами; эти люди молятся; они думают, что есть бог и если очень сильно попросить его о чем-нибудь, он поможет; молиться — это просить бога; бога нет, подумай сама, где ему жить на небе; иконы целовать опасно, через них передаются заразные болезни; Христос-спаситель — это придуманный человек, которого якобы убили за то, что он хотел помочь всем людям хорошо жить; попы обманывают народ; чтобы хорошо жить, надо хорошо работать…).
Но храм Христа Спасителя — а из окна нашего жилища была видна его верхняя половина вместе с меньшими куполами — все равно притягивал, возможно непонятностью и недосказанностью всего, что было с ним связано.
Однажды, когда мы возвращались из Киева, купола не оказалось на обычном месте. Праздничность возвращения домой, в Москву, неужели она была связана с этим куполом? Конечно, я начала спрашивать. Мне объяснили, что храм Христа Спасителя стоял на самом красивом месте в Москве, что его взорвали, а на этом месте будет построен Дворец Советов с самой большой в мире статуей Ленина, такой большой, что в его голове сможет разместиться целый зал. В моем детском сознании это никак не могло уложиться: зачем вместо красивого храма Христа Спасителя строить что-то другое, да еще с залом в голове? Вот у папы на столе всегда стоит портрет Ленина, это понятно: Ленин — самый замечательный человек; но поверить, что будущий дворец может быть лучше загадочного храма, было невозможно. И зачем памятнику Ленина зал в голове?
…Печальная история несостоявшегося строительства Дворца Советов широко известна. Не были произведены необходимые расчеты, непродуманными взрывами было нарушено равновесие в обильной грунтовыми водами прибрежной полосе Москвы-реки, строители не сумели справиться с регулярно наполняющей котлован водой.
Огромный котлован стал любимым местом купания окрестных мальчишек, вода в нем была чистая, отфильтрованная, не то что в Москве-реке, а проделать по весне лазы в деревянном заборе, отделявшем стройку от улицы, не составляло никакого труда. Я работала в то время в Институте русского языка АН СССР.
Из окон института, выходящих на Волхонку, мы несколько лет наблюдали за безуспешными баталиями строителей — они откачивали воду, а через несколько дней котлован снова превращался в искусственный пруд.
В конце концов власти вынуждены были отказаться от осуществления дорогостоящего проекта, и было принято решение соорудить вместо Дворца Советов самый лучший и самый большой в мире открытый бассейн с гордым именем «Москва». Окончание строительства широко разрекламировали и с помпой открыли бассейн. «Москвичи и гости столицы» мечтали лично убедиться в том, что наш бассейн — лучший в мире. Они осаждали кассы, спекулянты сновали в толпе жаждущих, билеты рвали из рук. Но бум этот продолжался недолго. Оказалось, что у многих посетителей из-за высокой концентрации хлора воспалялись глаза, в огромном бассейне плавать разрешалось только в ограниченном пространстве сектора, в который был куплен билет, а центр бассейна, самую глубокую его часть закрыли для рядовых купальщиков после того, как утонуло там несколько человек. Любители загадочного и зловещего убежденно доказывали, что причина этого — уничтожение храма Божьего и неправедность нового сооружения.
…Не чудо ли, что к 850-летию Москвы восстановленный храм Христа Спасителя предстанет перед современным поколением в своем прежнем виде? Но это — отступление…
А тогда, давно… Разрушение храма оказалось для меня еще одним тяжелым уроком антирелигиозного воспитания. Моя русская мама, выросшая в семье, которая не была ни религиозной, ни воинственно атеистичной, и отец, еврей, не только не впитавший с детства высоких традиций иудаизма, но не знакомый даже в самой малой мере ни с идиш, ни тем более с ивритом, прекрасно обходились без традиционных форм, в которые облекала нравственные идеалы религия.
Наверное, им было проще вместо вразумительных бесед о Боге и Божественном, не вдумываясь, отмахнуться от вопросов ребенка. У них в те далекие 20-е годы было другое мироощущение. Они строили самый справедливый, самый лучший мир. Неустроенность своей жизни, все трагические события в жизни своих близких, все щелчки и оплеухи, которые им доставались, они воспринимали как неизбежность. Религия, обрядность, внешние формы служения Богу мешали им. Их заменяла убежденность в правильности и высшей, не сиюминутной справедливости того неповторимого, что происходило в стране. Эта слепая Вера и служила мощным и убедительным нравственным стимулом.
Киево-Печерская лавра
И еще один урок антирелигиозного воспитания. Мы в Киеве. Едем в лавру осматривать Дальние пещеры. Мне заранее рассказывают, что некоторые монахи навсегда уходили в эти пещеры и оставались там до самой смерти, никогда не выходя из сумрака, сырости и холода. Поверить в это невозможно, поэтому я не задаю вопросов.
А что такое умереть? Перестать быть?
Смерть деда
Так случилось, что впервые я столкнулась со смертью дорогого мне человека, когда мне было девять лет; в Киеве умер мой любимый дедушка. В Москву пришла телеграмма. Мама и тетя тут же бросились на вокзал и уехали, а я и двоюродный брат, мой ровесник, остались дома в Москве под присмотром его отца. Было непонятно, что же надо делать сейчас, если потом в Киев придется ездить к одной бабушке. Мой кузен почти не знал дедушку и поэтому не любил его. А я — я не горевала, но играть не могла. И не могла понять, почему, после того как произошло такое изменение — до сих пор дедушка всегда был, а теперь его нет, — все вокруг осталось таким, как всегда. Взрослые знают, что произошло. Но они ничего не меняют в своем поведении, в своих поступках. Наверно, то же самое надо делать детям. И я насиловала себя и старалась делать все как обычно; но «веселые» игры не получались.
Вернулась из Киева мама, очень шумная и возбужденная, и стала рассказывать «кому что досталось из книг» и еще что-то совсем непонятное о каких-то речах и разговорах, о жадности и несправедливости; тогда я не понимала, что эти рассказы имеют какое-то отношение к моему дедушке.
И жизнь потекла по-прежнему. Раз в год мы ездили в Киев, но я эти поездки больше не любила: бабушка и дедушка жили в одном из домов Украинской академии наук на улице, которая теперь называется улицей Репина.
Всякий раз, когда мы с мужем потом бывали в Киеве, я пыталась попасть в их квартиру, но дверь всегда была заперта; быть может, сотрудники Института права Украинской академии наук в связи с возникшим в суверенной Украине интересом к деятельности и личности моего деда, выходца из Западной Украины, проникнут в квартиру и узнают, что там находится; а я расскажу, как была устроена эта квартира, как была обставлена, как в квартире витал дух интеллигентности и интеллектуализма.
Дедушка был похоронен на Байковом кладбище, но меня ни разу не возили на его могилу на поклон… Никто не может сказать теперь, когда она была уничтожена, во времена немецкой оккупации или потом. Но могилы нет, хотя известно, где она находилась, и другие люди носят цветы к месту захоронения своих близких…
Смерть друга
Первым мертвым человеком, которого я увидела, был мой друг Гога Мухерджи, который служил в Красной армии под Серпуховом и, к ужасу любивших его друзей, умер в течение недели от нелеченого жестокого воспаления легких. Несмотря на протесты родителей, я рискнула ослушаться и вместе с другими ребятами, отпросившись в школе (мы учились в выпускном классе), поехала прощаться с Гогой в Серпухов.
Гроб стоял в холодном помещении в обезглавленной церкви, находившейся по соседству с воинской частью, в которой служил Гога. Видимо, в ней собирались устроить нечто вроде клуба. Стены были оштукатурены, со сводов толстым слоем свисал иней, по углам у стен в беспорядке стояли и лежали доски, вёдра, какие-то пакеты, кое-где еще оставались неснятыми строительные леса, лужи на полу замерзли, всюду валялись груды мусора. А высоко на своде — там, видимо, поленились или забыли положить штукатурку — сквозь белила и иней проглядывал силуэт склоненной фигуры, освещенный единственным источником света, то ли дырой, то ли незаколоченной прорезью в стене.
Посередине на двух скамейках стоял очень маленький гроб. Гога в гробу был меньше нашего настоящего Гоги, а застывшее лицо походило на скульптурный портрет в белом обрамлении, который настолько формально отражал сходство с нашим другом, что все мы — шесть 16-летних мальчиков и девочек — не сумели осознать, что лежащая в гробу фигурка и есть то, что осталось от нашего жизнерадостного, дружелюбного, черноглазого Гоги. Мы видели, но не чувствовали. Никто из нас не попрощался с Гогой, не приложился губами к его застывшему лбу. Мы не спросили, где он будет похоронен; и никто ни разу не приехал на его могилу…
Снова Киево-Печерская лавра
…Но это было лет через десять — двенадцать. А тогда, в Киеве, родители решили показать мне Киево-Печерскую лавру и Дальние пещеры. Кроме нас осмотреть пещеры хотело еще три человека, и нас повел под землю молодой монах. Всем, даже мне, дали в руки по свечке и предупредили, что в пещерах очень скользко и надо идти аккуратно. Мы долго шли по извилистым узким коридорам, время от времени останавливаясь около довольно широких ниш в стенах. Монах освещал кости на земляных лежанках и скучным голосом рассказывал что-то непонятное о подвиге, о святости, об усмирении плоти, о чуде. Хотелось скорее выбраться на волю, подальше от этого подземелья, от колеблющихся теней на стенах, от костей в нишах, от противного, подвывающего монашьего голоса.
Когда мы наконец вышли из пещер, монах взял меня рукой за подбородок и, противно хихикая, сказал, что, наверное, я натерпелась в пещерах страху и теперь всегда буду хорошо себя вести, а то, не дай бог, можно угодить в подземелье, не в это, конечно, а в какое-нибудь другое. И противно ухмыльнулся. Я метнулась в сторону и побежала прочь в отчаянии и ужасе. Родители догнали меня, долго успокаивали. Но я ненавидела все, что нам только что показывали, ненавидела Бога, ради которого люди забирались жить в темноту и сырость под землей, Бога, который заставляет людей сначала «быть», а потом «не быть». И даже лавра не казалась мне в тот день такой сказочно-прекрасной.
А ночью мне приснился сон: я в маленькой, белой-белой комнате; где-то рядом кто-то полупоет, полуговорит гнусавым, скучным голосом противные слова, похожие на те, что говорил монах в подземелье; я вижу приоткрытое оконце в стене, понимаю, что голос доносится через это оконце, с трудом заглядываю в него, забравшись на табуретку, вижу монахов и истошным голосом кричу: «Нет Бога, нет Бога, нет Бога!!!»
…Оказалось, что своими криками я перебудила весь дом.
Наверно, все это происходило не совсем так; наверно, не было в моем поведении того отчаяния, которое запечатлелось на всю жизнь в подсознании. Но неприятие внешнего обличия всего связанного с религией и беспомощные, невежественные попытки разобраться в сути основных проблем Жизни (что такое «хорошо» и что такое «плохо» в детской формулировке) самой, для себя, без помощи извне, составляли очень важную часть моего внутреннего мира в детстве. Вероятно, я каким-то непостижимым образом почувствовала, что мои обожаемые родители, которые так любили меня и так много делали для моего духовного и интеллектуального развития, не считали важными вопросы и реакции ребенка, связанные с Церковью и с религией.
Наше жилище, наш двор, наш район
Квартиру, а более точно — две огромных комнаты по 29 квадратных метров каждая, мой отец получил в 1923 году от Реввоенсовета (Министерства обороны в современной терминологии) в ближнем Замоскворечье, в пяти минутах от Малого Каменного моста. Наша семья прожила в этих комнатах до 1958 года.
Комнаты, бывшие парадные апартаменты, находились на втором этаже главного дома большой купеческой усадьбы. Одни окна смотрели на храм Христа Спасителя, другие — на Кремль. На широченных подоконниках можно было играть, строить из кубиков или, удобно устроившись и одевшись потеплее, наблюдать за неспешной жизнью улицы. Метровые стены и двойные рамы огромных заклеенных, чтобы сберечь тепло, окон почти не пропускали звуков. Было интересно смотреть на извозчиков, гадать, почему они иногда мчатся, а иногда лошади еле-еле переставляют ноги и извозчик не размахивает кнутом. Совсем редко проезжали машины, больше всего похожие на огромных черных жуков. Еле слышно доносился скрежет тормозящих у остановки трамваев. Днем они спокойно останавливались, выпускали на улицу пассажиров и отправлялись дальше. Но к вечеру к остановке подъезжало облепленное людьми чудовище. Смотреть на это чудовище было и страшно, и увлекательно. Черные фигурки стремительно отлеплялись от трамвая, на короткое мгновение он становился обычным мирным ярко-красным трамваем. И тут же на него набрасывалась толпа, поджидавшая на остановке. Из окна казалось, что все в этой толпе дерутся. Кому-то удавалось пробиться внутрь, остальные повисали на подножках; непонятно было, за что они держатся. Трамвай вновь превращался в чудовище и медленно отползал от остановки. Изредка кто-то падал на мостовую, но обычно все кончалось благополучно и я, успокоившись, возвращалась к прерванной игре.

Подпись: «Вид из нашей квартиры на Большой Полянке 10, кв. 20. (Дом снесен в сентябре 1969 г.)». Дата неизвестна
Может быть, кто-то из жильцов и знал, кому принадлежала до Революции эта богатая купеческая усадьба, но к тому времени, когда меня заинтересовала история дома, мои вопросы вызывали только недоумение. Правда, было известно, что старший в роде всегда жил с семьей в самом старом, «нашем» доме, построенном еще в начале XIX века. Остальные дома, поменьше, строились по мере того, как взрослели и обзаводились своими семьями сыновья. Вот, собственно, и все, что было известно об истории усадьбы.
Усадьба располагалась между двумя Полянками, Большой и Малой. За высокой оградой в четырех ее углах стояли дома. Сейчас сохранился только один из них. В свое время он прятался в глубине просторного двора за тополиной рощицей.
Владельцы дома жили на первом, теплом этаже в невысоких комнатах с небольшими окнами. Главной достопримечательностью первого этажа была поражающая своими размерами необъятная плита — она заполняла всю кухню, оставив свободным только проход из передней в жилые комнаты. Когда жильцы нижней коммуналки договаривались топить плиту для каких-либо хозяйственных нужд, например стирки, весь этаж наполнялся уютным мягким теплом. В такие дни все семьи готовили на плите, а не на керосинках и примусах. Это было выгодно — таким образом экономили керосин.
Мы, дети, любили пристраиваться на кухне где-нибудь в уголке и наблюдать за независимой, как нам казалось, жизнью плиты. Вот подкинули дрова в топку; только что мы видели ярко-малиновые угли, а сейчас пламя перекинулось на поленья и полыхает, вытянувшись вверх в трубу и пожирая поленья. На плите что-то фурчит в баках, а на краю плиты стоят сковороды и кастрюли, распространяющие дразнящие ароматы по всей кухне. Для детей, живущих на втором этаже, гигантская плита была предметом белой зависти и восхищения.
На нашем втором этаже располагалась анфилада из четырех больших парадных комнат и подсобные помещения. Внутренняя лестница вела из коридора наверх, в мансарду для слуг, и еще выше, на огромный чердак, пахнущий летом прогретой пылью. Наша маленькая, жалкая кухня была сооружена на месте просторной площадки при выходе на черный ход, когда послереволюционные хозяева дома решили рационально использовать роскошный второй этаж и предоставить нуждающимся работникам Реввоенсовета жилплощадь «с удобством» в виде собственной кухни на втором этаже.
Отцу достались две комнаты из анфилады, соединенные высокой двустворчатой дверью. Такая же дверь, ведущая к соседям, была наглухо закрыта и задрапирована то ли ковром, то ли толстым покрывалом. Третья дверь выходила из комнат на парадную лестницу, которой мои родители пользовались только в исключительных случаях. (Почему? Может быть, они не хотели «выделяться»? ) И так удобная площадка около лестницы, которая летом служила чуланом, а зимой прекрасно заменяла погреб и холодильник, принадлежала только нашей семье. Впрочем, это преимущество исчезло через несколько лет; площадку и лестницу тоже рационально использовали. На их месте были сооружены крохотные каморки, в которых поселились две семьи.
На потолках по углам сквозь побелку проступали очертания каких-то фигур, а в середине, вокруг шнуров от ламп, угадывались венки, составленные из диковинных растений. Я помню горькое разочарование, когда после летнего ремонта оказалось, что на чистом белом потолке не осталось никаких следов былой росписи. Тогда же одна из комнат была разделена перегородкой на две длинных узких комнаты и у нас появилась кое-какая мебель — видимо, недаром отец по ночам засиживался за письменным столом.
Родители мои начали семейную жизнь очень молодыми. Отягощенные достаточно тяжелыми жизненными обстоятельствами, они в те далекие годы не были отягощены приверженностью к прошлому быту — на то были у каждого особые причины — и стали весело и радостно обживать свои хоромы — гулкие, холодные, парадные комнаты некогда богатого купеческого особняка.
В нашей коммуналке не было того гигантского скопления народу, которым славились коммуналки в бывших барских квартирах центра Москвы. Но люди в ней собрались очень разные: два брата, командиры Красной армии, с женами; скромный слесарь, мастер на все руки, и его очаровательная звонкоголосая хохотушка-жена; сбежавшая из деревни неграмотная Матрёна, которая работала разнорабочей в Реввоенсовете; бывший член какой-то запрещенной партии, мрачный и недоброжелательный, работавший в канцелярии Реввоенсовета мелким служащим.
Мои родители были самыми молодыми, самыми интеллигентными (оба успели до Революции закончить гимназию) и, наверно, самыми нищими в коммуналке. Я хорошо помню топчаны, на которых спали взрослые, разваливающийся обеденный стол и садовую скамейку для молодых друзей и родственников, приезжавших в Москву по делам. Помню, как радовались родители, когда им удавалось по дешевке купить что-нибудь из мебели, как появился у нас шкаф для платья, а через некоторое время — мягкий диванчик, обитый зеленым плюшем. Помню, как расставили на сколоченной соседом уродливой черной полке книги, лежавшие до этого на полу около папиного письменного стола. (Это были первые массовые издания собраний сочинений Ленина, Троцкого, Бухарина и, наверно, других руководителей страны, которые вряд ли сохранились теперь где-нибудь, кроме рассекреченных спецхранов в больших библиотеках да заброшенных чердаков под грудами мусора.) Я замечала, что эти книги постепенно исчезали с полок, но они были такие несимпатичные, что их судьба меня нисколько не волновала.
Помню, как алюминиевые миски были заменены на фаянсовые тарелки; как мама повесила в новой комнате-спальне, построенной с помощью перегородки, первую в этом жилье штору, тяжелую, отгораживавшую комнату от улицы и от шума пробегавших под самыми окнами трамваев; как обсуждалось, что надо накопить деньги и как можно скорее повесить толстые шторы на все окна — тогда в комнатах будет теплее и не надо будет тратить столько денег на дрова. Дрова были грозной проблемой в жизни моих родителей. Выбирая себе просторные, светлые комнаты, они не подозревали, что раньше в них никто не жил: у прошлых, настоящих хозяев парадная анфилада отапливалась только изредка, по случаю праздников и приемов гостей.
В Киеве, в отдельной квартире бабушки и дедушки скромная, простая обстановка казалась мне роскошной и связывалась с высоким и «богатым» положением дедушки-академика (не словами, не разговорами, а общей атмосферой беспредельного уважения и почтения к занятиям дедушки, которая царила в семье, с самого раннего детства было взращено во мне святое отношение к людям, способным самоотверженно и преданно заниматься Наукой).
Вне наших комнат, вне доброжелательной коммуналки был двор. В правой его части разрослась тополиная роща, слева разместились два жилых дома, а между ними — огромные, длинные, высотой в два этажа амбары. На дверях (или воротах?), в которые запросто могла въехать телега, висели тяжелые замки. Однажды пришли какие-то люди и сняли замки. Мы, ребятишки, которых к тому времени было уже достаточно много во всех четырех домах нашего двора, с трепетом устремились внутрь амбаров. Нас ждало разочарование: в огромных помещениях, кажущихся еще больше из-за пустоты, ничего не оказалось; пусто было на полках, и только кое-где на полу валялись рваные пыльные мешки.
Прошло какое-то время, амбары сломали, на их месте был построен безобразный четырехэтажный дом с отдельной котельной, с ванными и туалетами в каждой квартире. Несмотря на то что квартиры были тесными, «малогабаритными», коммунальное бытие заполонило и этот дом: в одной квартире поселили по две-три семьи. Правда, кому-то достались отдельные квартиры, но поначалу мы относились к детям из тех квартир с подозрением; что-то в их жизни было «немного буржуйским».
Неужели трудная жизнь моих родителей привела к тому, что маленькая девочка, воспринимавшая свое бытие на этом свете как замечательный праздник, тем не менее неосознанно завидовала? Но чему? Или было в поведении детей из этих отдельных квартирок что-то, отличавшее их? Но ведь я всегда твердо знала, что мы живем гораздо лучше семьи моей любимой подруги, в которой было пять детей. Может быть, в моем детском мироощущении уже тогда подсознательно возникали первые «почему», которые через десятилетия привели к полному отказу от идеалов детства, ранней юности и даже достаточно зрелых лет?
Следом за амбарами была уничтожена наша любимая тополиная роща. Ее вырубили и вдоль забора построили длинный ряд сарайчиков для жильцов усадьбы, у которых были отобраны многочисленные чуланы и кладовушки; вместо них сооружали подобия жилых комнат.
В доме, который уцелел до сих пор, расположилось отделение милиции. Потом милицию куда-то перевели, а дом передали совсем другому учреждению — Районному дому пионеров. «Для удобства» были открыты ворота на Малую Полянку и снесен забор, защищавший усадьбу от Большой Полянки. Вместо него была построена безобразная хибара, в которой последовательно размещались то маленький магазинчик, то мастерская жестянщика, то обувная мастерская.
Еще позже жильцы сами построили забор, который отделил проходную часть двора, от той части, где в форме буквы П стояли старые дома и новенький уродец. В возникшем замкнутом пространстве, занявшем примерно половину прежней усадьбы, насадили прекрасный сад. До войны ухаживали за ним сообща, очень им гордились и никому в голову не приходило сорвать хотя бы один цветок.
А по спокойной, вымощенной булыжником Большой Полянке изредка с шумом проносились трамваи. Трамвайная остановка находилась рядом с нашим домом, почти под нашими окнами, и летом нам слышны были истошные звонки и скрежет тормозящих вагонов. По сравнению с трамвайным шумом цоканье копыт и постукиванье тележных колес казались нежными звуками.
…Всего этого уже давным-давно нет. Нет усадьбы. На месте, где стоял наш дом, троллейбусная линия, соединяющая Центр с Юго-Западом Москвы, сворачивает с Большой Полянки на Большую Якиманку, а немного поодаль на треугольном сквере, разбитом на месте другой снесенной усадьбы, сердитый Георгий Димитров, обратившись лицом к Кремлю, пытается выразить что-то своей сжатой в кулак рукой. Единственный уцелевший от всей огромной усадьбы дом кажется маленьким и несчастным, и в нем по-прежнему ютится Районный дом художественного воспитания детей и молодежи (прежний Дом пионеров).
В эпоху бурных переименований Большой Полянке и соседним с ней Ордынке и Пятницкой повезло: они сохранили свои исконные названия. Не повезло только Якиманке; несколько лет она неудобно именовалась «улицей Георгия Димитрова», хотя называли ее по-прежнему Якиманкой.
…Тогда, в 20-е годы, все эти названия несли в себе что-то загадочное, какой-то тайный смысл. Я пыталась сама заниматься наивными топонимическими изысканиями. Какая же была Полянка, большая в одном месте и маленькая в другом? Или Поляна была одна, а улицы стали разные? На том месте, где теперь Якиманка, жил, наверно, человек с непривычным именем Яким; название «Пятницкая» вопросов не вызывало — ее назвали в честь дня, но почему выбрали именно пятницу? И вообще, как придумываются названия?
Очень обижало название «Канава». Мне объясняли, что когда-то очень давно, кажется во времена Екатерины Великой, эту канаву вырыли, чтобы обезопасить Замоскворечье от наводнений (а как интересно было, когда наводнение все-таки случалось!). Но ведь и у Канавы могло быть красивое имя, как у Москвы-реки. Радовало понятное «За-Москвой-рекой» Замоскворечье. Также понятно было, почему пустое место между Канавой и Москвой-рекой назвали когда-то Болотной площадью (сейчас там разбит прекрасный сквер и построен изысканный пешеходный мостик, ведущий прямо к Третьяковской галерее). Взрослые рассказывали, что после половодья вода никогда не уходила полностью с этого низкого места, но площадь была очень удобно расположена, поэтому раньше здесь был базар. На более высокие просыхающие места приезжали возы с товарами, и шла бойкая торговля.
Но иногда в торговые дни на Болоте собиралось слишком много возов и телег; тогда могло случиться страшное: топь заглатывала и возы, и лошадей, и торговцев, если они неосмотрительно съезжали с надежных высохших возвышений. Может быть, это были только страшные «придумки», но воображение они поражали. Подумать только: топь заглатывает целый воз; только что было всего так много — и лошадь, и торговец, и товары, а потом вдруг сразу — ничего. Страшней, чем в сказках; в сказках можно насочинять что угодно, а здесь, на Болотной площади, действительно могло случиться всякое. Может быть, и сейчас под булыжной мостовой скрыты товары, колеса, кости лошадей… и людей, которые погибли из-за своей неосторожности.
В наше время ни Москва-река, ни Канава зимой никогда не замерзают. В годы моего детства они покрывались толстым льдом, по льду переходили реку, а примерно на том месте, где сейчас находится Малый Каменный мост, заменивший низенький старый мост, каждую зиму устраивали каток. Мои родители не катались ни на лыжах, ни на коньках, но отец иногда соглашался пойти со мной вечером полюбоваться на каток. Казался он необыкновенно праздничным. Пестрые флажки украшали ограду, отделявшую каток от остального неровного льда. Вечерами зажигались цветные лампочки, играла музыка. Катались без специальных костюмов, в обычной одежде, но иногда на льду появлялись женщины в необыкновенных ярких юбочках, отороченных мехом, и мужчины в непривычно ярких пиджаках или куртках. Когда они катались — танцевали под музыку, — все, кто находился на катке, сбивались в сторону, освобождая лед, и смотрели, как кружатся и выполняют разные замысловатые движения эти пары из какого-то другого мира. Потом катка не стало…
Мне было три или четыре года, когда начали строить Дом Правительства, впоследствии с легкой руки Ю. Трифонова ставший широко известным как Дом на набережной. Напротив Болотной площади за высоким дощатым забором, протянувшимся между Большим и Малым Каменными мостами, довольно быстро вырастали массивные темно-серые, почти черные корпуса. Дом этот был построен очень быстро. Громадный, уродливый, он был известен тем, что в него поселяли в замечательные квартиры самых знаменитых героев Революции и Гражданской войны, чтобы, настрадавшись в те тяжкие годы, они могли наконец пожить вольготно и удобно. Очевидно, такое представление о доме и его жильцах сформировалось под влиянием услышанных разговоров. Оно вполне соответствовало представлениям о справедливости и добре, которые во мне воспитывали взрослые. Ведь во время Революции и Гражданской войны боролись за то, чтобы всем людям жилось хорошо, чтобы не было богатых и бедных, чтобы у всех было все, что нужно для жизни. А в нашей коммуналке, в нашей прекрасной усадьбе, в наших пустых нищих хоромах было вдосталь «всего, что нужно для жизни». Мы жили изумительно, и мои родители были самыми лучшими на свете. Но иногда становилось немного обидно, что моего папы нет среди замечательных жильцов Дома Правительства.
Домашнее воспитание
Меня никогда не сдавали на воспитание в детский сад — значит, эта непоколебимая уверенность в том, что ребенка надо воспитывать дома, была таким же отражением мироощущения, господствовавшего в семье, как и трепетное отношение к Науке и к тем, кто себя ей посвятил.
Лет с трех-четырех и до самой школы я ходила в частную детскую группу. «Ходила» довольно условно, т.к. родители предоставили в распоряжение группы одну из наших не загроможденных мебелью комнат. Было нас четыре девочки и два мальчика. Эта частная группа была, как я понимаю, порождением НЭПа.
Нашу любимую «учительницу» Зинаиду Геннадиевну все время где-то проверяли, какие-то люди приходили к нам домой и придирчиво изучали несложное хозяйство группы; я помню, как время от времени Зинаида Геннадиевна оставалась у нас после того, как детей разбирали родители, и отец помогал ей писать что-то непонятное под названием «отчет». Отдел детских садов выяснял не только финансовую сторону взаимоотношений родителей с воспитательницей, но и проверял, «правильно» ли она с нами занимается.
Зинаида Геннадиевна по вечерам где-то училась (наверно, в педагогическом институте), а с утра до трех-четырех часов подрабатывала, вела нашу группу. Может быть, с позиций формализованных теорий и методик воспитания она и делала что-то неправильно, но мы были счастливы. Нам хватало веселых игр и во дворе, и дома; мы учились читать, писать, рисовать, шить… Мы пели песни тех времен, читали и учили наизусть Пушкина и стихи о Ленине и Революции.
И уже тогда мы знали, что после Октябрьской революции у нас нет эксплуататоров и эксплуатируемых, что в нашей стране все равны, что мы живем очень хорошо, а в остальных странах богатые капиталисты угнетают трудящихся, что мы строим лучшее в мире коммунистическое общество. Конечно, мы не пользовались такой лексикой, но ощущение «самых лучших и правильных на земле» было неотъемлемой частью нашего безмятежного бытия.
В нашей маленькой группе действительно все было прекрасно. Вероятно, Зинаида Геннадиевна, ровесница моих родителей, была их единомышленницей и они полностью доверяли ей воспитание дочки и детей своих друзей. В играх и занятиях, в уважительном и любовном отношении друг к другу, к родителям, к другим старшим формировались наши характеры, наша неосознанная вера в Справедливость, в Добро.
Мы очень любили Зинаиду Геннадиевну, расставание с ней перед школой воспринималось трагически, со слезами; о ее дальнейшей судьбе я ничего не знаю.
…Почему мои родители не отдавали меня в детский сад? Почему они предпочли естественному по тем временам способу воспитания ребенка другой вариант? Было это вызвано какими-либо обстоятельствами, о которых теперь уже никто никогда не узнает, или они сознательно решили не подвергать меня неприятностям, связанным со стадным выращиванием детей? Ведь избранный ими вариант был гораздо дороже, не говоря уже о сложностях, с которыми была сопряжена организация быта группы в жилых комнатах. А может быть, подсознательно они не хотели, чтобы их ребенок штамповался без учета его индивидуальных особенностей и таким невоинственным способом выражали подспудное несогласие с жизнью, в которую погрузила их История? Так или иначе, благодаря группе я получила в раннем детстве то, чего не имели многие мои ровесники.
Путешествия в поселок Сокол
Мама была очень привязана к друзьям своих родителей Вере Петровне и Михаилу Николаевичу Соболевым. Эта семейная дружба завязалась очень давно, в конце прошлого века, когда два молодых ученых почти одновременно приехали в Сибирь работать в набиравшем силу Томском университете.
И мама, и Оля, жившая с моими родителями, всегда очень много и охотно рассказывали о своем детстве, особенно о жизни в Томске. Эта жизнь была прекрасной, но такой, какой на самом деле не бывает.
В детстве мамы и ее сестер были детские праздники, которых мы не знали, были костюмированные вечера и спектакли, было катанье на санях зимой и пикники летом… Но самый замечательный праздник — Рождество с елкой, нарядной, украшенной какими-то особенными пестрыми блестящими игрушками и свечами, с Дедом Морозом и Снегурочкой, приносящими подарки.
В далекие 20-е годы елки были запрещены. Мои родители не хотели или не решались нарушать этот запрет. Впервые я узнала, что такое елка, только в 1935 или 1936 году, когда она была реанимирована по инициативе Постышева и городским властям было вменено в обязанность организовывать для детей елочные гуляния. В Москве главным праздником во время зимних каникул стали елочные балы в Колонном зале Дома Союзов; Кремль в те времена был еще на замке.
Помню, как мама прибежала домой возбужденная и радостная с небольшой пушистой елочкой в руках. Игрушек, украшений и свечей у нас, естественно, не было. Мама так хотела нарядить елку, что тут же, немедленно, забросив все дела, стала делать из цветной бумаги, лоскутков и пуговиц импровизированные украшения; нашли толстую белую свечу, разрезали ее на маленькие кусочки, как-то прикрепили к елке. Я была совершенно не готова к тому, чтобы воспринять появление елки в доме как праздник, и принимала участие в возникшей суете, скорее всего, видя, как счастлива мама. Привитые с младенчества честность и правдивость не позволяли мне сразу радостно и бездумно воспринять и почувствовать своим то, о чем взрослые вспоминали как об ушедшем навсегда вместе с дореволюционной жизнью.
Взрослые в Томске жили необычно и интересно, по очереди ходили друг к другу в гости (у профессоров обязательно были приемные дни, их нельзя было нарушать); самой важной частью вечеров считался не ужин, а концерт: читали только что опубликованные сочинения современных писателей (Чехова, Бунина и других), играли на рояле и на скрипке, пели романсы, народные песни, арии из опер. В жизни папы и мамы ничего похожего на жизнь их родителей не имело места. Наверно, так можно было жить только до Революции.
Но самыми невероятными были рассказы о быте. Ребенок 20-х годов, я с трудом воспринимала их как описание реальной жизни. Шестикомнатная квартира, горничная, кухарка, гувернантки, собственная лошадь и экипаж, кучер… (Мой дед заведовал в Томском университете кафедрой истории русского права и не имел никаких доходов, кроме профессорского жалованья и литературных гонораров.) Я знала совершенно точно, что мой любимый дедушка никогда не был буржуем. Почему же у него в Томске до Революции была такая «буржуйская» жизнь?
Соболевы были из той нереальной буржуйской жизни. Они жили в поселке Сокол, не в коммуналке, как все, а в совсем отдельном домике. Станция метро «Сокол» названа по имени этого поселка. Путешествие к Соболевым было как поездка в праздник и занимало целый день.
Ехать надо было на двух трамваях. Сначала на номере 18, который останавливался около нашего дома, мы ехали по Малому и Большому Каменным мостам и пересекали сначала Канаву, а потом Москву-реку. Старые, дореволюционные мосты были прямым продолжением Большой Полянки и вливались в коротенькую улицу Ленивку — почему она так называлась? — наверно, потому, что даже самому ленивому человеку ничего не стоило пройти ее из конца в конец. С Большого Каменного моста открывался великолепный вид на Кремль — башни тогда еще были увенчаны двуглавыми орлами (я помню, как позже родители горячо обсуждали с друзьями замену орлов рубиновыми звездами: — «нужны ли нам символы царской власти?»). Между Кремлем и Ленивкой примостились густо застроенные кварталы, за которыми видна была верхняя часть Пашкова дома — Румянцевского музея — Главной библиотеки страны — «Ленинки».
Часть этих кварталов была снесена, когда строили новые Каменные мосты, но во всей красе Пашков дом открылся позже, когда приукрашивали Москву перед несостоявшимся приездом президента Эйзенхауера. Тогда площадь между «Ленинкой» и Александровским садом окончательно освободили от всех построек.
Слева, совсем близко, сверкали купола храма Христа Спасителя. Они скрывались из виду, пока мы ехали по Ленивке и Волхонке (там тоже было на что полюбоваться — Музей изящных искусств с колоннами и галереей не имел ничего общего с привычными постройками Замоскворечья), и появлялись вновь перед тем, как трамвай сворачивал на кольцо А.
В названии «Кольцо А» таилось что-то непонятное. Мне очень рано объяснили, что Москва строилась концентрическими кругами: Кремль, Китай-город (какое отношение могли иметь к Москве китайцы? Я не верила, что такое название не связано с ними), кольцо А, кольцо Б, валы, заставы. Но почему А и Б? Было понятно, когда их называли Бульварным и Садовым кольцом, названия соответствовали их виду. Неужели из-за трамвайных маршрутов А и Б? Но почему только эти два маршрута названы буквами, а не цифрами, как другие маршруты? И вообще трамваю не пристало ходить рядом с Кремлем (в те времена маршрут А проходил по Кремлёвской набережной и с нее поворачивал на Волхонку).
Трамвай 18 довозил нас до Страстной площади. Не было случая, чтобы, попав на Страстную площадь, мы не пошли поклониться Пушкину. Памятник стоял еще на Тверском бульваре; рядом с ним и тогда собиралось много народу, сидели на скамейках взрослые, играли дети, приезжие осматривали памятник, обсуждали его; а на противоположной стороне Тверской высился Страстной монастырь. Я боялась его. Серый, очень закрытый, с высоко уходящей в небо колокольней, он казался мне враждебным, в отличие от любимого светлого храма Христа Спасителя. Может быть, уже тогда монастырь ассоциировался в моем сознании с монахами, которые вместо того чтобы работать, как все остальные люди, укрывались за высокими стенами монастырей и целый день проводили в бессмысленных молитвах? Я была уверена, что хуже монахов могут быть лишь самые богатые люди, которые умеют только бездельничать. Мои взрослые работали, папа часто засиживался за письменным столом даже по ночам; Оля училась в университете и так много работала, что даже переутомлялась. А мама горько плакала, и ее все утешали, когда у нее на работе что-то случилось. Ее «уволили», и она не могла ходить в свое издательство (издательство — это очень важная работа, ведь там делают книги!).

Мы пересаживались на другой трамвай и бесконечно долго ехали все время прямо, никуда не сворачивая, сначала по Тверской, потом по Ленинградскому шоссе. Мне очень нравилась Тверская. Дома на ней были наряднее, чем у нас на Полянке, почти в каждом доме на первых этажах размещались красочные витрины магазинов, и многочисленные прохожие с удовольствием их рассматривали. По улице ездило гораздо больше извозчиков, чем у нас, а автомобили то и дело обгоняли трамвай или мчались ему навстречу. Улицу не зря назвали Тверской — от нее начиналась дорога прямо в город Тверь. Все московские улицы или площади, от которых начинались дороги в другие города, назывались по имени этих городов: Серпуховская, Калужская, Владимирская. Рядом с Тверской расположилось несколько Тверских-Ямских улиц. Рассказы о том, как раньше, до изобретения паровоза, из города в город ездили на почтовых тройках, на облучках которых сидели лихие ямщики, завораживали, вызывали зависть и неосознанную тоску о том, чего никогда больше не будет. Ямщики, которые ездили в Петербург, жили в Москве на Тверских-Ямских — наверно, ямщиков было очень много, если им нужно было для жилья несколько улиц.
Тверская заканчивалась перед площадью Белорусского вокзала около Триумфальной арки (позже ее исчезновение с привычного места тоже горячо обсуждалось взрослыми: правильно ли ради расширения улицы так расправляться с памятником истории?).
После привокзальной площади сразу спадало городское оживление. Трамвай бежал вдоль очень красивой аллеи; с обеих ее сторон среди одноэтажных построек лишь изредка виднелись большие дома. Когда справа показывалась необыкновенно красивая Петровская академия, я знала, что мы почти приехали.
У Соболевых все было не так, как у нас. Их жилье начиналось с сада, небольшого, уютного, заполненного роскошными цветами и грядками, на которых росли овощи и клубника. Мне разрешалось пойти и сорвать то, что мне понравится, — необыкновенная радость для городского ребенка. В комнатах стояли горшки с незнакомыми растениями, можно было аккуратно потрогать их жесткие листья и колючки. В отличие от наших пустых комнат здесь было много мебели, какие-то столики, стульчики, полочки, а на стенах — картины и фотографии.
В доме у Соболевых была своя, принадлежавшая только им ванна. Наш визит начинался с похода в ванную комнату. Разве можно было сравнить это купанье со скучным мытьем в корыте у нас на кухне? Или с баней, отвратительным местом, где надо было искать шайки, стоять в очереди за водой и в душ и стараться не прикоснуться случайно к голым уродливым старухам? (Наверно, мои родители не могли позволить себе ходить в дорогие Сандуновские или Центральные бани.) К тому моменту, когда мы с мамой, чистые и ублаготворенные, выходили из ванной, у Веры Петровны все уже было готово для обеда. На скатерти стояли красивые тарелки, мисочки, чашки, и, самое необычное, — вилки, ложки и ножи лежали рядом с каждым прибором на специальных подставочках.
Соболевы были совсем не такими, как другие взрослые. Еще бы! Ведь они дружили с бабушкой и дедушкой. У моих родителей больше не было таких старых знакомых, а мама и Оля играли в Томске с их дочками.
Очевидно, визит к Соболевым значил очень много и для мамы, и для хозяев. Начинались разговоры, за деталями которых я не могла, да и не хотела следить; обсуждалась жизнь бабушки и дедушки в Киеве, жизнь маминой любимой подруги детства Люси, дочери Соболевых. Люся жила в Голландии, потому что вышла замуж. (Как же это было непонятно: дочь, и вдруг в чужой буржуйской стране; почему-то ей нужно жить там и она не будет возвращаться домой. Почему? Ведь у нас так хорошо! Если бы Люся вернулась, ее папа и мама не скучали бы без нее. Соболевы грустно говорят маме что-то совсем непонятное — ей нельзя приехать в гости; но ведь мы ездим в бабушке и дедушке в Киев, когда соскучимся!) Конечно, я пыталась выяснить у мамы, понять, как такое могло случиться. Но мама скучнела и отделывалась невнятными фразами о судьбе, о случайностях и обстоятельствах и даже — это было обиднее всего — лукавыми словами «вырастешь — поймешь».
Часть времени я проводила одна в садике; зимой каталась на санках с маленькой горки, которую Михаил Николаевич строил специально для меня, в теплые дни — блаженствовала среди зелени, цветов, ягод и ароматов, которых так недоставало в нашем прекрасном дворе.
Наступал момент, когда мама спохватывалась, что «уже поздно и ребенку давно пора в постель». Нам торопливо собирали букет цветов и гостинцы для папы и Оли, меня целовали и почему-то ласково называли внучкой, и мы отправлялись домой. Мама была какой-то немножко другой, чем всегда, немножко «не моей».
Соболевы умерли перед войной. В последние годы их жизни я редко сопровождала к ним маму. За несколько лет до смерти Михаилу Николаевичу ампутировали ногу, он с трудом передвигался на костылях в заставленных комнатах и казался мне мрачным и неприветливым. Когда мы приезжали, Вера Петровна почти все время плакала. Мое появление больше не вызывало у них радости. Видимо, свои последние годы Соболевы прожили трудно и безрадостно. С Люсей они переписываться перестали. Римма, младшая дочь, была замкнута и одинока: ее будущее не могло их не беспокоить. Римма умерла в конце войны; так оборвалась последняя связь мамы с Томском ее детства.
Десятая годовщина Октябрьской революции
Особенный, незабываемый день. Накануне вечером взрослые что-то горячо обсуждают. Решено, что папа и Оля отправятся на демонстрацию, а мы с мамой останемся вдвоем дома, потому что «ребенку это будет утомительно». Немного обидно, что папа не берет меня с собой, но мама очень довольна и говорит, что мы все, что надо, увидим из окна.
Утром мы с мамой удобно устраиваемся на широком подоконнике и поджидаем Демонстрацию, которая должна пройти из Замоскворечья на Красную площадь по Большой Полянке и Каменным мостам.
«Демонстрация». Это слово не похоже на другие слова и сулит радости, которых не бывает каждый день. Мне объяснили, что все трудящиеся идут на Демонстрацию, чтобы отметить самый главный Праздник в нашей стране (А какие еще бывают праздники? Первое мая? Тогда все тоже идут на демонстрацию. Есть еще Новый год, но тогда демонстрации нет; просто взрослые ночью ходят друг к другу в гости). «Отпраздновать демонстрацию» значит пройти по Красной площади с плакатами и красными знаменами и кричать как можно громче «Ура!» и разные слова о Революции. Революция — это когда идет борьба за то, чтобы всем людям было хорошо, и прогоняют богатых. А для детей праздник — смотреть на демонстрацию.
…И вот мы сидим с мамой на подоконнике и ждем. На улице почти никого нет и необычно тихо; трамваи в праздничные дни до конца демонстрации не ходят. На противоположной стороне улицы, на здании типографии, закрывая окна второго и третьего этажей, висит огромная красная буква Х. Мама объясняет, что это не буква, а цифра 10 (оказывается, «десять» можно изобразить не только палочкой и кружочком). Эту цифру повесили на окна, потому что ровно 10 лет назад произошла Революция и с тех пор у нас нет ни царя, ни буржуев.
Издали, несмотря на двойные рамы в окне, доносится слабый гул, он нарастает, постепенно мы начинаем различать отдельные голоса, звуки гармошки, пение. И, наконец, перед нашим окном появляется Демонстрация. Густая толпа заполняет всю улицу и медленно движется в сторону Каменного моста. Впереди мужчины с очень сердитыми лицами несут красные флаги с золотыми кистями и красные полотнища, на которых что-то написано белыми буквами. Я уже умею читать, но не настолько хорошо, чтобы сразу разобрать надписи на колышущихся стягах. Да это и неинтересно. Гораздо интереснее смотреть, как развлекаются демонстранты. Вот человек с красной повязкой на рукаве поворачивается к толпе, что-то кричит и разводит руки в стороны. Толпа расступается, и образуется свободный круг; в середину его выбегает девушка, за ней парень, и начинается пляска. К первой паре присоединяется вторая, третья…, и вот уже весь круг заполнен танцующими. Вместе с толпой круг медленно движется к Каменному мосту.
За плясунами под нашим окном проходит шеренга взявшихся под руки людей. До нас доносится нестройное пение. (Это могла быть любая революционная песня тех лет: «Мы кузнецы, и дух наш молод…», «Как родная мать меня провожала…», «Наш паровоз вперед летит…», «Вихри враждебные…» и многое другое. Хотя дома у нас никогда не пели, я знала многие популярные в те годы песни — очевидно, они составляли важную часть моей дворовой среды обитания.)
Уже скрылись из виду знаменосцы и плясуны, прошагала мимо поющая шеренга, а по улице идут всё новые и новые толпы веселящихся, танцующих и поющих людей. Праздник!!!
В толпе снуют лоточники. Они продают какие-то лакомства, свистульки, незабываемые «уйди-уйди», о которых современные дети даже не знают. Очень хочется на улицу, но мама строго говорит, что вечером мы пойдем смотреть Иллюминацию, а это гораздо интересней, чем гулять в толпе.
Мне кажется, что Демонстрация продолжается очень долго. Мимо нас снова проплывают украшенные золотом знамена и плакаты. Но я не помню портретов. (Почему? Ускользнули они из памяти, потому что все остальное было гораздо интереснее, или в 1927 году еще не было принято решение считать портреты руководителей партии и правительства обязательным элементом оформления праздничных колонн демонстрантов?)
На многих плакатах я вижу уже знакомую цифру Х и прочитанные с маминой помощью и легко узнаваемые слова: «Да здравствует…» Что это такое? Кто должен быть здоровым? Или этим словом здороваются во время праздников? Оказывается, это слово употребляют, когда хотят что-нибудь «прославить». Сегодня праздник Октябрьской революции, и все его прославляют, радуются, что у нас была Революция. В свои четыре года я твердо знаю, что Главным в Октябрьской революции был Ленин. За это враги хотели его убить, но это им не удалось. Потом Ленин все-таки умер, но чтобы он остался навсегда, с ним что-то сделали и положили его в Мавзолей. Мавзолей — это небольшая коричневая пирамидка на Красной площади.
Мама и папа говорят, что когда я вырасту, мы обязательно пойдем к Ленину в мавзолей. Он лежит там как живой. Понять это невозможно, и мне не хочется идти в мавзолей, но я стесняюсь признаться в этом. К счастью, пока я не выросла, мои страхи и опасения не имеют значения.
Я знаю, что, когда Ленин перестал быть главным, у нас стало несколько главных, но самые Главные — это Ворошилов и Буденный. Они носились по степям во главе Красной армии и побеждали врагов. Недаром о них сочинили так много песен.
Толпа под окнами все тянется и тянется к мостам и к Красной площади. Плясунов сменяют группы, танцующие польку или краковяк (это мне объясняет мама), до нас доносится пение и пронзительный писк «уйди-уйди». В руках у некоторых демонстрантов воздушные шарики. Неожиданно улица сразу пустеет. Становится очень тихо. Ветер гонит мусор и бумажки. Праздник кончился. Праздника больше нет. Возвращаются усталые Оля и папа, что-то рассказывают, но мне это неинтересно. Я с нетерпением жду вечера. Вечером будет Иллюминация!!!
Наконец стемнело. Мы собираемся! Мы едем в центр! Мы едем смотреть Иллюминацию! Трудно сказать, как бы оценили мы ту далекую иллюминацию теперь, но тогда, в 1927 году, она произвела на меня ошеломляющее впечатление. Вечер, а на улице светлее, чем днем. Откуда-то льется мерцающий свет; вращается яркий, полыхающий всеми цветами радуги шар; разноцветные лампочки превратили дома в сказочные замки. На стенах замков выделяются большие, красные цифры Х. Через улицу перекинуты пестрые гирлянды из лампочек. По сказочной, светящейся разнообразными огнями улице медленно идут улыбающиеся люди. Очень много детей. Счастливцы вроде меня едут на папах; сверху Иллюминация видна лучше, высокие взрослые ничего не загораживают. Днем я думала, что не может быть ничего интереснее Демонстрации, но оказалось, что Иллюминация еще лучше. Как же нам повезло, что мы целый день празднуем десятилетие Октябрьской революции, сначала Демонстрацией, а вечером — Иллюминацией!
Шахтинский процесс и промпартия
Вредитель. Вредительство. Шахтинский процесс. Промпартия. Как-то незаметно вошли в обиход эти новые слова, слова-полутайны. При мне о вредителях старались не говорить; очевидно, взрослые не хотели, чтобы я расспрашивала их. Обычно родители охотно отвечали на мои бесконечные «почему». Но я очень рано научилась понимать, что на некоторые вопросы ответов не будет. У мамы скучнел голос, и вместо ясного интересного рассказа мне доставались невнятные и почему-то очень обидные отговорки.
Все же, несмотря на все недомолвки и разговоры вполголоса, в моем сознании сложился образ странных людей, которые не хотят, чтобы народу было хорошо. «Народ — это все кроме богатых и попов, все, кто трудится. „Вредитель“ — от слова „вред“. Раньше, до Революции, вредители жили хорошо, теперь жизнь улучшается, а тем, кто жил хорошо раньше, становится хуже. Вредитель вредит, он портит станки и шахты, мешает хорошим рабочим работать».
Помню, как упорно я выпытывала у родителей, почему вредители не могут жить как все, почему им после Революции должно быть хуже, чем другим. Труднее всего было понять разницу между хорошей и плохой жизнью. Мне, обласканному любимому ребенку, невдомек было, что родителям моим приходится нелегко, что они c трудом сводят концы с концами и крутятся, одалживая деньги до получки, что «хорошая жизнь» не имеет ничего общего с нашей жизнью.
Бедные мои родители! Им не могли доставлять удовольствие очень простые вопросы дочери. Вряд ли они умели честно ответить на них. Я уверена: тогда, в 20-х годах, они не могли поверить, что в предъявленных подследственным обвинениях хоть что-то было правдой. Процессы, и Шахтинский, и промпартии, занимали умы, о них разговаривали, страстно обсуждали написанное в газетах, спорили и не понимали. При всем желании, не разобравшись в этом неправедном и непонятном, взрослые не могли толково объяснить любознательному ребенку, кто такие вредители и почему их судят. А для меня за недомолвками взрослых скрывалось что-то неприятное и таинственное, непостижимым образом связанное с навсегда ушедшей дореволюционной жизнью, о которой с таким упоением рассказывали мама и Оля.
Странным образом с прежней жизнью перекликалось и заселение выстроенного в нашем дворе дома-уродца. Конечно, этот дом не отличался красотой, но зато в нем были все удобства и прежде всего центральное отопление — жильцам не надо было мучиться с дровами и топить печи; в доме были даже «отдельные» квартиры; в них жили отделенные от всех остальных соседей люди.
Кроме сонма переехавших в дом шумных, воинственных мальчишек постарше, сразу завоевавших наш прекрасный двор и ставших главарями во всех играх, во дворе гуляли и дети из отдельных квартир. Очень толстый Витося, которому его очень толстая мама не позволяла играть в шумные игры; Люба и ее совсем маленький брат со странным именем Сакко (говорили, что мальчику дали это имя в честь Сакко и Ванцетти, которых казнили в Америке на электрическом стуле за то, что они боролись против капиталистов. Все в этой истории было непонятно: и имена казненных, и загадочный электрический стул, не говоря уже о казни, после которой люди умирают, перестают «быть»). Люба никогда не играла с нами, она не отходила от мамы, маленькой, необычно одетой женщины, которая с напряженным лицом катила перед собой коляску с Сакко. Третьей была плаксивая девочка Ира. Старшие мальчики невзлюбили ее и неохотно брали в игры.
«В отдельных квартирах, как баре живут», — злобно судачили вечерами обитатели коммуналок. Было что-то неправедное в том, что не все живут, как положено жить после Революции трудящимся. Откуда могло возникнуть у маленькой девочки такое ощущение? Наверно, прежде всего от недосказанности и двусмысленности разговоров, обрывки которых я улавливала. Ностальгически-элегические рассказы мамы и Оли о прошлом не имели ничего общего с разговорами, обрывки которых доносились до нас во время игр. В теплые весенние вечера соседи выбирались отдохнуть во дворе и неторопливо рассказывали, почему и когда уехали из деревни, как попали в Москву после Гражданки, как с утра до ночи гнули спину на фабрике и многое другое…
Переехавшие в новый дом старшие мальчики довольно быстро признали меня «своей», и я радостно включилась в неведомые раньше шумные дворовые игры. Иру же дразнили и унижали. Не разбираясь еще в общих категориях добра и справедливости, я тем не менее как могла заступалась за нее.
Однажды, когда Ира расплакалась в очередной раз, кто-то из мальчиков крикнул ей голосом-дразнилкой: «Рамзин, Рамзин, вредитель!» Они-то слышали больше, чем мы, пяти-шестилетние. Мы не знали, кто такой Рамзин, но достаточно хорошо разбирались в интонациях, чтобы уловить в голосе мальчика что-то оскорбительное и жестокое.
«Не Рамзин, не Рамзин!» — бессмысленно завопила я, бросившись вдогонку за убегающей домой ревущей Ирой. Так я попала в отдельную квартиру, и она мне очень не понравилась: разве можно сравнить маленькие комнаты, похожие на набитую хламом кладовку, в которых не только побегать, но и повернуться толком негде, с нашими просторами?
Всхлипывая, Ира рассказала родителям, как мальчишки дразнили ее «Рамзиной». Родители слушали и как-то странно переглядывались. Они несколько раз повторили, что я очень хорошая девочка, что наконец у Иры появилась во дворе настоящая подруга.
Я тоже подробно рассказала дома, что произошло во дворе и как я оказалась у Иры, нарушив строгое правило никуда не ходить без предварительного разрешения. Естественно, я спросила, кто такой Рамзин. И увидела на лицах моих родителей такую же растерянность, какая была на лицах чужих людей — Ириных родителей. И беспомощный, скучный ответ:
— Тебе еще рано знать, ты все равно не поймешь.
— А кто такие вредители? — И снова беспомощный ответ, что-то вроде «те, которые вредят».
Почему этот незначительный эпизод так отчетливо врезался в память? Были, вероятно, и другие случаи, когда по тем или иным причинам родители не сумели удовлетворить мое любопытство и любознательность. Но в этом случае сплелись и первая осмысленная попытка защитить слабого, и неосознанная обида, возникшая как реакция на бессмысленный ответ любимых родителей. Вряд ли на самом деле наш разговор был так схематичен и прямолинеен. Но не сомневаюсь, что такие разговоры отражали растерянность и неуверенность родителей, связанную с событиями, которые нельзя было объяснить ни здравым смыслом, ни высшей необходимостью, ни великими сверхзадачами борцов за счастливое будущее человечества.
Третьяковская галерея
От нашего дома до Третьяковской галереи было рукой подать. Родители очень ценили возможность забежать в Третьяковку «просто так», на минутку. Наверно, они стали брать меня с собой, когда я была совсем маленькой. Поэтому с самого раннего детства Третьяковка стала для меня неотъемлемой частью окружающего мира. Я не помню жизни без Третьяковки, не помню и чуда открытия Мира Искусства. Но чудо соприкосновения с другими мирами, с тем, чего уже нет, или еще нет, или никогда не будет, воспринималось как праздник всякий раз, когда мы оказывались в тихих, прохладных залах Третьяковки. Прийти туда можно было всегда, и экскурсоводы в те далекие годы еще не гоняли обалдевших от обилия впечатлений туристов от картины к картине.
В детстве мое отношение к картинам никогда не определялось понятиями «нравится — не нравится», или «это как в сказке, а это как в жизни», или «эта картина — красивая, а эта — некрасивая» и другими ничего не выражающими штампами. Наверно, родители рассказывали мне и о художниках, и об отдельных картинах, и, конечно, восприятие живописи определялось их эстетическими представлениями. Не знаю, как они меня этому учили, но я уверена, что именно в детстве в строгих залах Третьяковки у меня подспудно сформировалось отношение к искусству как к неотъемлемому элементу духовной жизни.
Меня поражало и вызывало недоуменное восхищение умение художников-волшебников изображать и все, что им хотелось, и так, как им хотелось. Казалось непостижимым, что одной девочке «Стрекозе» так прекрасно живется на свете, а «Алёнушка» в отчаянии тоскует на берегу пруда. Непонятно было, как мог догадаться Репин, что у отца, убивающего своего сына, должны быть именно такие страшные глаза. А роскошные «Три богатыря» вызывали ностальгическую, неосознанную тоску по прошлому (как ни прекрасна и радостна была моя жизнь, которой не могло «не быть») — я знала, я не сомневалась в том, что прошлое невозвратимо. Может быть, так трансформировались в детском сознании отголоски Революции — мы ведь строили Новый Мир, в котором всему, что было раньше, просто не находилось места.
Огромный зал с «Явлением Христа народу» я не любила. Заговор молчания относительно всего, что относилось к религии, сделал для меня эту картину враждебной и лишенной человечности. Непонятно было, почему такая толпа людей смотрит как-то особенно на маленького человека на горе. И «чудо» казалось придуманным, так же как придуманным был Иисус Христос.
Я всегда просила маму хоть на минуточку заглянуть в те залы, где размещены были портреты Боровиковского и Левицкого. Конечно, люди на этих портретах были не такие, как мы, но они прекрасно вписывались в мое мироощущение; мне очень нравились их глаза, их полуулыбки и их необыкновенные прически.
Отдельно на видном месте висел портрет Третьякова. Какие же слова нашли мама и папа, рассказывая об этом человеке, если совсем маленькой девочкой я относилась к нему с трепетом и восхищением?
И еще одному портрету мы наносили визит всякий раз, когда приходили в Третьяковку: это был портрет Н. Петрункевич работы Н. Н. Ге. Наталья Петрункевич была женой родного дяди моей мамы А. А. Конисского (он был земским врачом, в течение многих лет практиковал в Полтавской губернии и был настолько популярен среди крестьян, что его усадьбу не сожгли во время бунтов. За эту популярность он заплатил изгнанием за границу. Когда власти разрешили ему вернуться в Россию, Конисские поселились в Крыму под Алуштой и стали серьезно заниматься садоводством. Во время Гражданской войны его и жену зверски убила одна из многочисленных банд, гулявших в то время по Крыму). Прелестный портрет соседки Н. Н. Ге написал в имении Плиски в Полтавской губернии незадолго до свадьбы Н. Петрункевич и А. А. Конисского. То, что портрет маминой тети, которую мама хорошо знала и любила в детстве, висит в таком удивительном месте, как Третьяковка, и им любуется всякий, кто сюда приходит, вызывало восторг и, конечно, задевало тщеславные струнки моего детского воображения.
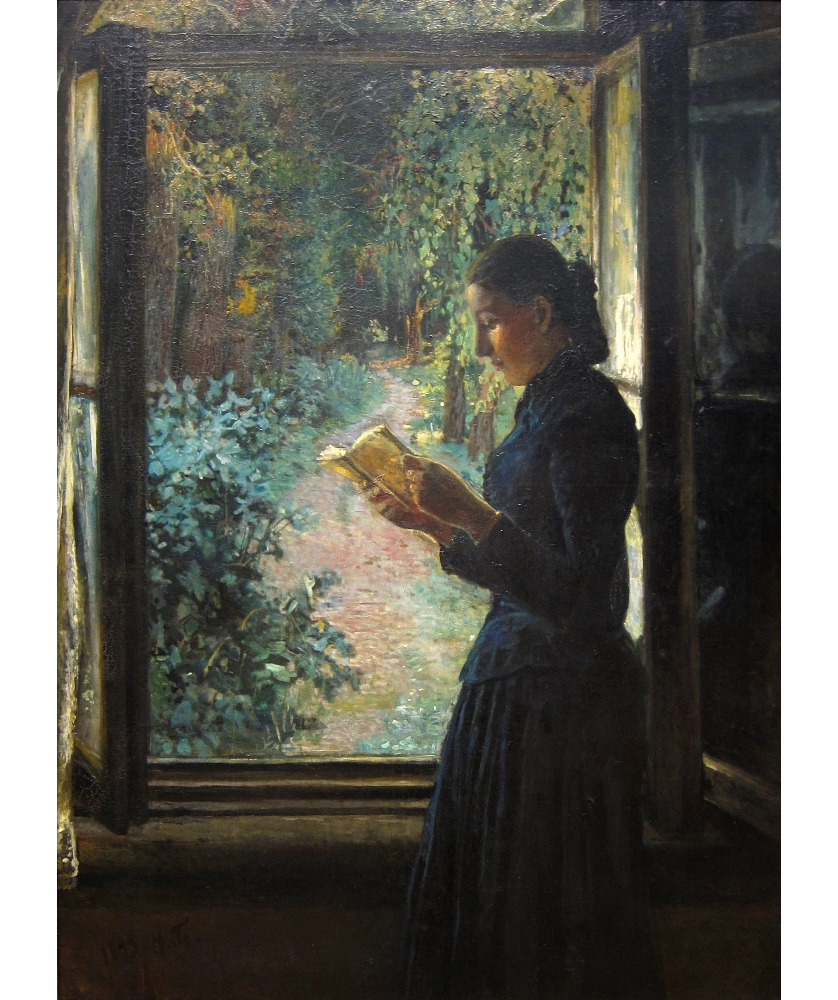
Было еще много прекрасного в Третьяковке, например Куинджи, который научил любоваться березами, и тревожный Рерих, «Гонцу» которого хотелось помочь…
Но самыми необыкновенными, самыми прекрасными были «Царевна-Лебедь» и «Демон». Я познакомилась с ними до того, как мне читали Пушкина и Лермонтова. Неизъяснимая, колдовская магия их глаз притягивала, манила, и почему-то больше всего хотелось любить и защищать их. Как можно объяснить возникновение у ребенка именно такой реакции?
На всю жизнь я сохранила любовь к выставкам, к музеям, большим и малым — спасибо за это моим родителям. А сумели ли мы с мужем передать эту любовь своим детям, а потом и внукам? Думаю, что нет. И не знаю, только ли мы виновны в этом. Когда мы с детьми жили еще на Полянке, Третьяковская галерея по выходным дням бывала уже переполнена (правда, очереди на улице появились позже, уже во времена моих внуков); в будни я была занята больше, чем моя мама, — я работала «от и до». Просветленное, радостное общение с сокровищами Третьяковки просто не могло состояться в толпе. Мы смогли только познакомить наших детей с Третьяковкой, но не научить их общению с ней. Хорошо еще, что мама частично компенсировала нашу беспомощность и как на праздник ходила в Третьяковку со своей любимой внучкой. На внука и тем более на правнуков у нее уже не хватило сил.
Теперь все изменилось. Я не хочу ходить в современную Третьяковку, не могу заставить себя спокойно и с открытой душой воспринимать естественные и необходимые изменения, происшедшие с сокровищами моего детства.
…Не похоже ли это на старческое брюзжание? Впрочем, рассказ не о нашем времени, а о тех бесконечно далеких 20-х годах, на которые пришлось детство моего многострадального поколения и мужание поколения моих родителей, может быть еще более многострадального.
Летние каникулы
Само собой разумелось, что лето ребенок должен проводить на свежем воздухе вне Москвы. В свои шесть лет я очень хорошо помнила, как отец отвез меня четырехлетнюю на все лето к старшей маминой сестре, в Ростов. Из Ростова меня и моего двоюродного брата, пятилетнего Давида, отправили на дачу в станицу Морскую и поселили на самом берегу Азовского моря в стоявшем посреди фруктового сада доме с глиняными полами и маленькой терраской. Мы были поручены женщине, которая, видимо, очень хорошо заботилась о нас. Я запомнила ласковую воду Азовского моря и замки, которые мы с Давидом с упоением строили на берегу. Запомнила, пожалуй, и первую детскую обиду: к Давиду папа и мама приезжали, а ко мне нет, хотя обласкивали они меня во время этих еженедельных визитов ничуть не меньше, а может быть и больше, чем Давида.
Так же хорошо я помнила и следующее лето на даче под Киевом в поселке Буча. На этой даче очень больная Оля (ей в то лето не разрешали даже вставать с постели) и я жили под присмотром женщины, которая запомнилась мне только непривычным отчеством — ее звали Мария Оттоновна.
Худенькая, болезненная дочка Марии Оттоновны была вдвое старше меня, но не стала ведущей в наших играх, мне было стыдно, что играть с ней неинтересно; очень много времени я проводила одна в большом (или он казался мне большим?) сумрачном саду, в котором всегда сновало много ящериц. Я завороженно наблюдала, как они осторожно высовывают головки из укрытия, осматриваются и быстро-быстро уползают куда-то по своим делам. Там же в Буче я впервые познакомилась с лягушками, осознала, как красивы в полете бабочки и стрекозы, узнала названия некоторых цветов, научилась составлять букеты.
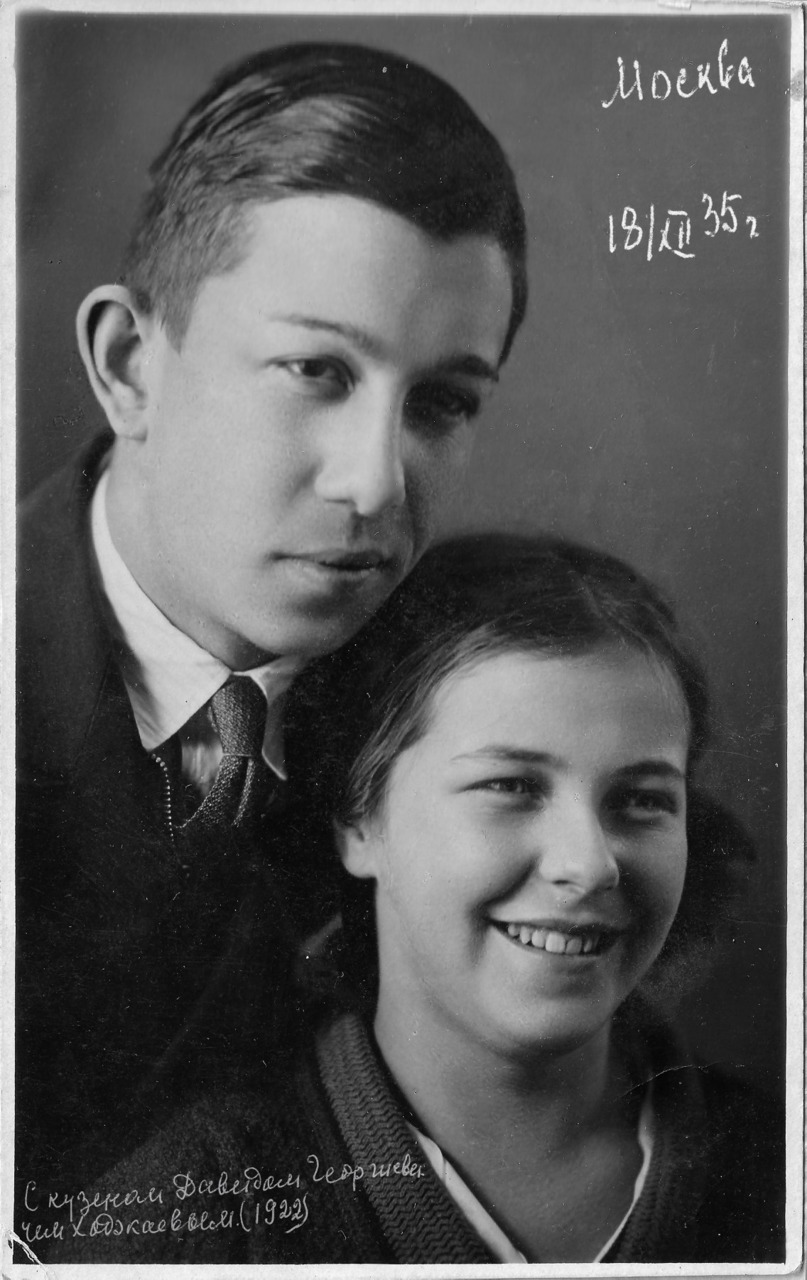
В плохую погоду Оля играла с нами или читала нам вслух, но, странное дело, мне, маленькой, было неловко признаться, что мне скучно и неинтересно. Но я жалела бедную больную Олю; после этих занятий она всегда веселела и мечтала о том, как будет работать в школе после того, как поправится.
Из Киева к нам приезжали на извозчике бабушка и дедушка. Это было прекрасно. Лошадь в красивой упряжке, коляска на высоких колесах и с мягкими сиденьями, груды подарков на коленях у бабушки и дедушки. Казалось, что они приехали к нам из другой, не нашей жизни. Нарядное бабушкино платье, ее шляпа с большими полями отличались от нарядов маминых подруг и соседей. Она была бы такой же красивой, как мама, если бы не была такой старой (ей было тогда 58 лет). У бабушки был певучий красивый голос и непривычные интонации, дедушка разговаривал тихо и необыкновенно ласково. После обеда, украшенного киевскими «вкусностями», бабушка обычно сидела с Олей, а мы с дедушкой гуляли по саду, и он всегда рассказывал что-нибудь очень интересное; я была уверена, что мне принадлежит самый лучший дедушка на свете; я была так счастлива, что он любит меня и я нужна ему. Будни, наступавшие после того, как исчезала из виду коляска и затихало цоканье копыт, казались серыми и унылыми.
Да, визиты бабушки и дедушки были прекрасны, но настоящий праздник наступил лишь в конце лета, когда перед нашим возвращением в Москву приехала мама и прожила на даче несколько дней…
…Приближалось следующее лето. И вдруг оказалось, что на этот раз мы будем жить на даче совсем близко под Москвой. Меня не повезут куда-то далеко поездом к родственникам и не оставят у них. Мама будет жить со мной на даче все лето, а папа — во время отпуска, но он сможет проводить с нами выходные дни. Кроме того, с нами на даче будет жить мой двоюродный брат, сын папиной сестры семилетний Боря, которого его мама и папа не могут вывезти этим летом из Ленинграда; это было замечательно, но в глубине души я жалела Борю, помня собственные переживания прошлых лет.
Я слушала, как родители обсуждали будущее лето с друзьями, и была счастлива! Дача будет в неведомом Мякинине на берегу Москвы-реки, где пляж не хуже, чем на Азовском море, а лес лучше, чем под Киевом, потому что в Буче сад только выглядел лесом, а в Мякинине лес не внутри ограды, а за ней и, конечно, самый настоящий. (Сейчас Мякинино крошечным островком втиснуто в новые кварталы подмосковного Красногорска, сохранившиеся деревья трудно назвать лесом, а излучина Москвы-реки всегда в сизом дыму — по шоссе бесконечным потоком мчатся машины.)
Дачу, небольшой домик с мезонином, сняли на лето три молодых семьи; в каждой было по ребенку, и мои родители добавили четвертого, моего кузена Борю. Насколько я понимаю, поначалу предполагалось на практике осуществить идеи коллективизма и вести общее хозяйство, но очень скоро кому-то не под силу оказался жесткий прессинг такого устройства жизни. Общие застолья на террасе за большим столом прекратились, общим остались только надзор за детьми и совместные прогулки. К чести моих родителей и их друзей надо сказать, что хозяйственная размолвка не привела ни к охлаждению, ни к разрыву отношений.
Я с нетерпением ожидала переезда на дачу. Родители заранее рассказали, как это будет происходить. С утра за вещами приедет «воз». После того как воз с вещами отправится в путь, мы сначала поедем двумя трамваями до вокзала с красивым именем Покровское-Стрешнево, потом пересядем на поезд и через 40 минут будем на станции «Павшино». Оттуда до Мякинина всего 15 минут ходу. Надо только перейти по мостику через Москву-реку и пересечь поле. Тропинка приведет нас прямо к даче, где мы будем поджидать воз с вещами.
Я была страшно разочарована, когда воз оказался обыкновенной подводой с высокими бортами. И лошадь, и возница показались мне хилыми и неинтересными. Но когда доверху груженная скарбом подвода ходко двинулась по булыжной мостовой в сторону Каменного моста, мы с Борей почувствовали себя и гордыми, и причастными к началу чего-то увлекательного и необыкновенного.
И мы были правы. В первый же день мы убедились, что Мякинино — действительно необыкновенное место. Садик около дома был крошечный, но в нем нашлось место для спрятанной под какими-то вьющимися растениями беседки, которая была отдана в полное наше с Борей распоряжение (другие дети были значительно младше; очевидно, они нисколько не интересовали нас — я ничего не помню о наших с ними контактах). Все дома в деревне словно спрятались за желтыми акациями — в лучах вечернего солнца казалось, что улица украшена желтыми электрическими гирляндами (только у городского ребенка мог возникнуть такой образ!).
На пляже нам разрешали вволю возиться в воде; мы строили замки, башни, целые города, прорывали каналы, пускали по ним бумажные кораблики. Весь набор детских радостей, связанных с водой, был к нашим услугам.
Так же прекрасно было в лесу, где еще встречались последние ландыши и росло много цветов, названия которых были неизвестны даже взрослым. Сосны с их дурманящим запахом, мягкие, засыпанные хвоей тропинки, постукиванье дятла, кукушкин голос… Конечно, этот лес был не очень велик и девственен, но именно в нем открылись мне величие и красота Природы, неосознанно воспринимавшейся как вечное и незыблемое.
Чудом были встречи папы, приезжавшего иногда в середине недели после работы. Мы шли к станции через поле. В начале лета вдоль тропинки росла очень густая, ярко-зеленая трава; день ото дня она поднималась все выше и меняла цвет, и к концу лета мы с Борей могли уже прятаться в густой колосящейся ржи. Мама выбирала нам созревшие колоски, мы очищали их от шелухи и ели ароматные, еще не затвердевшие зерна как изысканное лакомство.
За дальним краем поля возвышалась железнодорожная насыпь. По ней, словно цокая копытами, неторопливо бежали за дымящим паровозом маленькие вагончики, черные на фоне закатного неба. Обычно мы замечали папу, когда находились в середине поля, и наперегонки бросались ему навстречу в широко раскрытые руки. Возвращались на дачу умиротворенные, притихшие, не мешая родителям обсуждать свежие московские новости. Идиллическое поле, мирный, словно игрушечный поезд на краю видимого мира, счастье и уверенность в обществе родителей формировали в душе неосознанное, но господствующее ощущение гармоничности и правильности бытия.
Но были в нашей дачной жизни и тревожащие моменты. На краю Мякинина притулились сельское кладбище и маленькая церковь. В домике при церкви жил священник. Мы думали, что он очень старый, хотя сейчас я понимаю, что ему вряд ли было больше 50 лет. Обычно он ходил в рясе, казавшейся нам нелепым одеянием. Был он каким-то «отдельным», отделенным от остальных людей. Видимо, витавшее среди близких моим родителям людей отношение к религии делало свое черное дело, и мы с Борей воспринимали существование этого человека как вторжение в наш гармоничный мир. Но когда священник (для нас он был «попом») снимал свои одежды и работал, как все, на своем маленьком огородике, он становился обыкновенным, таким же, как все жители Мякинина.
Церковь мы открытой никогда не видели, не видели выходивших из нее людей с просветленными лицами, не помню, сохранились ли на ней кресты. Родители говорили, что поп сейчас ничего не делает — надо же было как-то реагировать на наши с Борей неудобные вопросы. Иногда при встрече с нами священник вдруг доставал из кармана рясы горох и угощал нас, печально улыбаясь в усы. Мы принимали угощение, как воспитанные дети говорили спасибо, но никогда не рассказывали об этих встречах взрослым.
Почему? Почему в нашем сознании возникло ощущение недозволенности? Ведь нам никто ничего не запрещал! Или уже тогда души моих родителей, стремившихся к построению светлого будущего, были настолько поражены микробом антимилосердия, что и нас, детей, они невольно заражали правом не доверять человеку, который был добр и ласков с нами, но принадлежал к ушедшей навсегда жизни?
Поглощенные нашими делами, мы не интересовались событиями в жизни взрослых. Тем не менее какие-то обрывки разговоров остались в памяти на всю жизнь. У меня появилось два новых двоюродных брата. Один родился у Бориной мамы (поэтому нам и отдали Борю на лето, как хорошо!). Другой кузен родился у младшего папиного брата Мони в ссылке. Тоже хорошо, но я очень плохо помнила дядю Моню.
— Где он живет?
— Моня живет в ссылке.
— Что такое ссылка?
— Ссылка — это когда людям нельзя уехать из того места, где они живут.
— Почему?
— Потому что они сделали что-то нехорошее.
— Но разве дядя Моня сделал что-то нехорошее?
— Конечно, нет, но он попал в ссылку по ошибке, потому что был анархистом.
— Разве анархисты плохие?
— Нет, они не плохие. А Моня очень хороший.
Конечно, это — не точное воспроизведение вопросов-ответов на тему ссылки и дяди Мони-анархиста. Обычно разговоры со старшими заканчивались скучным «подрастете и всё узнаете» или еще более обидным «детям нечего об этом думать». Мои родители не злоупотребляли этой нелепой формой общения, унижающей ребенка и исключающей его открытость и доверие. Может быть, именно поэтому всякий раз, когда звучали такие ответы, было очень обидно. Спрятавшись в беседке, мы пытались додумать сами, как получилось, что Моня оказался в ссылке, и на своем детском уровне разобраться в проблеме прав человека (Моня живет в городе Нарыме, интересно, кто его туда сослал и живет ли там кто-нибудь кроме тех, кто в ссылке, есть ли там другие хорошие люди, какие дома в ссылке, чем занимаются в ссылке… и много-много других вопросов).
Или другое. Когда мы идем через поле к даче, папа говорит маме, что когда Мандельштамы уедут, надо будет сделать генеральную уборку, в квартире грязь и безобразие и соседи очень недовольны.
— Кто такие Мандельштамы?
— У них нет дома.
— Почему?
— Иногда так бывает.
— И у нас может не быть дома?
— Нет, у нас дом будет всегда, не волнуйся.
Снова что-то недосказанное. Могли ли мои родители предположить тогда, что через много-много лет будут рассказывать, как в свое время они сумели немного помочь бездомному гению?
Совсем другие разговоры:
— Хорошо, что Оля поедет в дом отдыха. Может быть, она там познакомится с хорошим человеком.
— Зачем Оле знакомиться? Разве у нас мало знакомых?
— В домах отдыха всегда с кем-нибудь знакомятся. Только, пожалуйста, не спрашивай ее о новых знакомых.
— Почему?
— Ей может быть неприятно.
— Почему?
— Я тебе объясню потом.
Эти непонятности и недосказанности не омрачали наше радостное летнее житье. Тем не менее и Боря, и я с удовольствием расстались с дачей. Боря очень соскучился по родителям, а мне просто хотелось сменить маленькие клетушки на просторы наших комнат, узнать, что делается во дворе, покататься на трамвае (и, может быть, папа решит, что уже подошло время прокатиться на извозчике…).
Кулики
И было два следующих лета: 1930 и 1931 годы. Не знаю, что побудило моих родителей не снимать дачу под Москвой, а поехать на все лето в глубинку на Украину. Может быть, они подсчитали, что, несмотря на дальнюю дорогу, это обойдется дешевле, чем подмосковная дача. Может быть, маме, которая в то лето опять нигде не служила, захотелось полностью отключиться от московской суеты и идиллически провести месяц папиного отпуска только своей семьей и вкусить прелести настоящей деревенской жизни.
Разговоры о Куликах начались в середине зимы. Знакомая, которая уже провела в Куликах два лета, рассказывала о сложной дороге, о баснословной дешевизне, о замечательных пляжах на реке Псёл, о «вкусном воздухе» (разве так бывает?). Дорога в Кулики, сложная, с двумя пересадками, пугала маму, а мне казалась заманчивой и интересной. В начале июня мы отправились в Кулики. И началась другая жизнь.
Сначала Харьков. В Харькове жила младшая сестра моей бабушки, 48-летняя Надежда Александровна Конисская. Я помню встречу на вокзале. Совсем не старая, красивая, ни капельки не седая и вообще не похожая на бабушек, баба Надя целует и обнимает нас; я потрясенно вслушиваюсь в очень красивую, певучую русскую речь — в Харькове говорят не так, как в Москве. С вокзала мы едем к бабе Наде на извозчике. Баба Надя говорит, что Харьков стал хуже после того, как столицу Украины перенесли в Киев, но мне он кажется очень красивым и праздничным. Меня укладывают отдыхать после дороги; взрослые увлеченно разговаривают, что-то вспоминают, говорят о неизвестных мне событиях, о незнакомых людях. Я, конечно, не могу заснуть, с интересом слушаю, физически начинаю ощущать себя частью чего-то большего, чем наша семья, наш двор, наш город…
Наконец мне разрешают встать, и мы отправляемся обедать к Тимофеевым, самым близким друзьям бабы Нади.
Надежда Александровна Конисская умерла в Москве в 1972 году; ей был 91 год. Дочь ее подруги Дада, а на самом деле Лидия Владимировна Тимофеева-Тремль, опасаясь жестокой кары соотечественников за то, что работала во время немецкой оккупации машинисткой в городской управе, ушла из Харькова с отступающими немецкими войсками вместе со своей семьей и бабой Надей. Около Винницы умерла мать Дады, любимая подруга бабы Нади. Баба Надя решила остаться в России. Лидия Владимировна после нескольких тяжелых лет в лагерях для перемещенных лиц добралась до Америки с сыном и теткой. Через сравнительно короткое время она связалась с Толстовским фондом, основанным Александрой Львовной Толстой, и проработала в нем всю жизнь.
Во времена оттепели с помощью Красного Креста Лидия Владимировна отыскала осевшую в Москве Надежду Александровну и помогала ей до самой ее смерти. После смерти бабы Нади эстафета семейных связей была передана нашей семье. Сын Дады Влад Тремль, которому в 1930 году было полтора года, стал крупным специалистом по экономике бывшего Советского Союза, а теперь России, и работает в Дюкском университете.
В 1977 году во время поездки в США мне выпало большое счастье вновь встретиться с Дадой, провести с ней несколько дней в семье Тремлей, услышать подробную эмоциональную исповедь — историю ее исхода в Америку. Когда Лидии Владимировне стало трудно жить одной, она переехала на ферму Толстовского фонда, где в комфортных условиях жили немощные и беспомощные русские, заброшенные судьбой в США. Дада до последних дней, до последней болезни активно работала, приводила в порядок архивы фонда. Она ушла из жизни в 90 лет. Сын и невестка очень хотели, чтобы Лидия Владимировна жила с ними, но она не смогла отважиться на этот шаг. Прожив половину жизни в США, она осталась глубоко русским человеком; для нее была немыслимой жизнь в Чапел-Хилле, где нет ни русских друзей, как в Нью-Йорке, ни русской библиотеки и церкви, как на ферме Толстовского фонда. Ее любимые внуки не могли заменить ей русской среды. Все трое — настоящие американцы, младший практически не говорит по-русски. Главные герои повести-воспоминания Инны Гофф «Долгий век» (М., 1993) — Надежда Александровна Конисская и Лидия Владимировна Тимофеева-Тремль.
…Тогда, в 1930 году, мы идем в гости не в квартиру, а в собственный дом, который был оставлен семье профессора Тимофеева, наверно, в память о его заслугах перед Революцией — в этом было что-то непостижимое. Я помню крыльцо, вход из него в темноватое помещение, на противоположном конце которого сквозь открытые двери виден сад.
Мы проходим через это помещение и оказываемся на просторной террасе. В середине ее уже накрыт для обеда очень большой стол. Рядом со столом в детской кроватке играет хорошенький мальчик. Все, что я вижу, так отличается от привычного мне московского быта, что хочется куда-то спрятаться. Меня смущает все: и непохожая на наш абажур люстра, и красивая посуда на столе, и большие плетеные кресла, и покрытый чем-то очень ярким диван, и огромная ваза на полу, и кипящий самовар на низком столике (когда, будучи в США в 1977 году, я рассказывала Лидии Владимировне о моих детских впечатлениях, ее больше всего удивило, что на меня произвела такое сильное впечатление «роскошь» их очень скромного быта).
Взрослые, особенно мама и высокая женщина с очень добрым лицом — Дада — заговорили одновременно; опять они говорили о чем-то непонятном, не имевшем никакого отношения к нашей московской жизни. Я вышла в сад. Трудно было поверить, что этот сад отделен от городской улицы только старым деревянным домом; пышно-зеленый, с красивыми цветами, раскинутыми по клумбам, он был как сад на картине «Всё в прошлом» из Третьяковки и в то же время смутно что-то напоминал — не мамины ли сказки о дореволюционном детстве?
Поздно вечером мы поездом отправились дальше до станции со смешным названием «Боромля». Утром пересели в игрушечный поезд, который с почти пешеходной скоростью проделал за три с половиной часа путь в 37 километров и доставил нас в маленький городок Лебедин.
Теперь нам осталось только преодолеть семь километров до деревни Кулики (начиная с 1972 года мы из Москвы летали в Сумы, а оттуда доезжали на такси прямо в Кулики; вся поездка занимала не больше семи часов).
В Москве езда на извозчиках считалась праздничным дорогим развлечением, подарком. Я могла припомнить считаные случаи, когда папа решал, что можно позволить себе поехать куда-нибудь на извозчике. В Лебедине не было извозчиков, но на привокзальной площади толпа лошадей, запряженных в телеги, ожидала пассажиров, и мама легко договорилась с одним из возчиков, что он довезет нас до Куликов. Наша телега была застлана душистым сеном и покрыта мешковиной, ехать на ней было гораздо интересней, чем на извозчике.
Все было мне внове в Лебедине. Мы медленно ехали по длинной улице: чтобы не пылить, — объяснил возница. Говорил он напевно и мягко, уже не по-русски, но это не был тот изумительный украинский язык, который в Куликах даже в те далекие годы сохранили лишь старики.
Центральную площадь города окружало несколько двухэтажных приземистых домов, а вдоль улицы выстроились утопающие в зелени одноэтажные белые домики с дверцами на окнах (такие дома называются мазанками, потому что их обязательно мажут мелом каждую весну, а дверцы называются ставнями, они летом защищают от жары, а зимой сберегают тепло, — объясняла мама); на освещенной солнцем стороне улицы почти все ставни были закрыты и ярко разрисованы.
Прохожие на улице останавливались, увидев нашу телегу, и внимательно нас разглядывали (в маленьких городках редко встречаются незнакомые люди). Думаю, что я разглядывала прохожих еще внимательнее. У всех без исключения мужчин на головах были кепки, непохожие на московские (это картузы), на ногах сапоги или непонятная привязанная обувь (мне кажется, это чуни), и рубахи, каких я никогда раньше не видела, с полоской вместо воротника и застежкой сбоку (это косоворотки). Все женщины в платках, в темных, очень широких юбках до земли, в ярких кофтах.
В пыли поближе к домам и палисадникам возились маленькие дети, и тут же разгуливали петухи и куры. Отовсюду доносилась необычная, певучая и почему-то притягательная речь. А над этим незнакомым, но сразу полюбившимся мне миром — ослепительное солнце в ярко-голубом немосковском небе.
Увертюра куликовской сказки — всего два километра медленного путешествия на телеге по городку. А сколько впечатлений, сколько вопросов! И, быть может, впервые — ростки сознательного отношения к многообразию жизни, осознания ее богатства, радость встреч с неизведанным и незнакомым, навсегда сохраненное уважение к не «своей привычной», а другой, тоже обыкновенной, не претендующей на исключительность жизни.
Именно после первого лета в Куликах меня всегда неудержимо влекло туда, где мы еще не бывали; и не столько к неизведанным красотам, сколько к людям — всюду и всегда, на севере и на юге, в Сибири и на Дальнем Востоке, в США и в любимой Москве…
Лебедин кончился внезапно, улица превратилась в лесную дорогу, и мы оказались в ласковой тени, в тишине, наполненной только ровным гудением насекомых, в царстве лесных ароматов, замешанных на хвое и на неизвестных цветах. Неспешно переступала лошадь, возница что-то рассказывал.
А я не могла слушать, не могла воспринимать ничего, кроме леса. Да, да, был тот первый лес в Мякинине, но у того леса был конец. Здесь же пять километров до Куликов казались нескончаемыми, гудящая тишина — сказочной, деревья — вечными. Неужели и в Куликах нас ожидают еще какие-нибудь чудеса?
— Скоро доедем, — сказал возница.
Действительно, тень вокруг нас словно растворилась, и мы увидели белоснежную на ослепительном солнце мазанку с закрытыми ставнями. За ней, на пригорке среди деревьев, виднелась еще одна мазанка, а слева, внизу — огромное ярко-зеленое поле, с серебристым длинным прудом посередине. (Позже мама рассказала мне о пойменных лугах, о старицах, о том, как реки меняют русла.) Казалось, что открывшаяся перед нами красота и есть самое главное, самое замечательное чудо. Возница притормозил лошадь, и мы остановились на краю деревни. Мама приглушенно и растерянно сказала:
— Я не ожидала, что здесь будет так красиво.
Мы медленно поехали вдоль домов. Около второго дома на низенькой скамье сидела женщина с ребенком на руках. Она была одета как женщины в Лебедине, только белый платок в горошек закрывал ей лоб и даже брови. Мама очень быстро договорилась с ней, что нам сдадут горницу в хате. Мы простились с возницей, и хозяйка повела нас в дом.
Жизнь в Куликах в это первое лето состояла из открытий и исследований.
Свежая после весенней побелки, слегка голубоватая комната — горница. В одном углу три иконы и лампадка (так называется масляная лампочка перед иконами). Оказалось, что картины с нездешними людьми могут висеть не только в храме Христа Спасителя, но и в горнице. Я хотела бы узнать о них побольше, поначалу было непривычно спать в комнате с иконами, но мама скучнела, когда я начинала задавать вопросы. Так как кроме икон вокруг было столько интересного и незнакомого, я предпочла привыкнуть к ним. Очень скоро иконы вместе с большой свадебной фотографией хозяев и рамкой, в которой было расположено множество мелких фотографий членов семьи, стали для меня частью интерьера.
В комнате терпкий аромат полыни, ею застлан весь пол, и пучки висят на стенах (полынь — для здоровья; кроме того, она изгоняет насекомых). Стены украшены очень красивыми вышитыми полотенцами — рушниками. Мебели в комнате нет; больше всего места занимает огромный топчан. Топчан — это кровать без спинок, на которую кладут сенник, чтобы было мягко спать. Сенник — большой мешок, набитый свежим, душистым сеном. У меня тоже есть сенник поменьше, его положили на ларь. Ларь — длинный ящик, на нем мне устроили постель, а внутри лежат вещи хозяев. Ухват, кринка, роблинка… — новые слова, новые понятия. Я с восторгом осваиваю эти понятия и стремительно пополняю свой запас слов. Мои городские сведения и представления бесполезны в куликовской жизни.
В хорошую погоду ставни почти всегда закрыты, но солнечный свет пробивается сквозь щели в ставнях, так что в горнице нет даже полумрака. Нельзя было не полюбить такую замечательную комнату!
Последний раз мы были в Куликах с тремя внуками в 1984 году. Прелестная комната в разваливающейся хате была загромождена мебелью: кровать с шишечками, диван, два гардероба, буфет с парадной посудой, тумбочка с телевизором; неизменными остались только иконы с лампадкой, зажатые в простенках между окнами фотографии да ароматные пучки полыни в свободных от мебели местах…
Открытием была кухня, самое главное место в доме, и, конечно, русская печь, огромная, с лежанкой, на которой, оказывается, спят зимой в тепле и уюте. Я с восхищением смотрела, как наша хозяйка тетя Дуня и ее мама, безошибочно выбрав ухват нужного размера, отправляли в печку или вытаскивали горшки, чугуны и кринки. А как красиво горел в печке костер! Непостижимым казалось, что можно заранее знать, сколько положить дров, чтобы печь прогрелась как надо. Борщ, который томился в печи, розовая под коричневой корочкой роблинка, пироги с картошкой, еженедельное таинство изготовления хлеба — все это я воспринимала как маленькую сказку внутри дома. Вокруг дома было еще интересней.
Наши хозяева Довженки считались, по-видимому, середняками. Глава семьи Василий Иванович был младшим сыном в семье. Женившись, он попросил у отца разрешения отделиться. Старшему сыну был оставлен большой дом со всеми надворными постройками, и он потихоньку освобождал отца от забот по хозяйству, а младший поставил на краю усадьбы небольшую хату, в которой и приняли нас на постой гостеприимные Василий Иванович, тетя Дуня (я так и называла ее до самой ее смерти в 1984 году) и бабушка.
Как хороший хозяин, Василий Иванович основательно и добротно обустроил свою небольшую усадьбу. Он построил сначала конюшню, потом хлев и свинарник и, наконец, поставил лучшую клуню в Куликах. Я сразу полюбила и небольшую хату, и все подворье Довженок. Как объяснить, как понять сейчас, какие размышления и сопоставления привели меня, маленькую девочку, к мысли, что очень хорошо иметь не только свой дом, но и свой огород, свою корову, свою лошадь, свою клуню, наполняющуюся сеном, которого должно хватить до следующего года? Нет, я не помню никаких разговоров на эту тему, но помню, как любовно ухаживали за живностью взрослые, как счастлива я была, когда тетя Дуня разрешила мне помогать ее дочке Кате кормить кур, каким необыкновенным праздником были поездки на луг, где Василий Иванович делал главную работу — косил, а тетя Дуня вместе с нами ворошила скошенную вчерашнюю траву. И как необыкновенно и прекрасно было ехать домой высоко-высоко на сене, куда Василий Иванович забрасывал нас с Катей, а потом въезжать в полутемную клуню, насыщенную ароматами свежего сена, и смотреть, как раз от разу она наполняется сеном (клуня — огромный сарай для сена; заполненная сеном клуня — основа благополучия семьи). Иногда мама разрешала мне ночевать в клуне с Довженками, и это тоже воспринималось как праздник праздников.
Корова. Я до сих пор помню эту «немного мою» корову (видимо, почувствовав мое трепетное и восхищенное отношение ко всему, что составляло их жизнь, все Довженки в силу их природной доброты и благородства включили меня в свои дела, а с Катей мы стали друзьями на всю жизнь). В Мякинине мы ходили на другой конец деревни, и нам выносили банку парного или холодного молока. В Куликах мы встречали корову, возвращавшуюся с пастбища, и провожали ее в хлев, а тетя Дуня шла к ней с двумя ведрами. Что-то ласково приговаривая, тетя Дуня обмывала корове вымя, раздавался много раз описанный, ни с чем не сравнимый звук ударяющихся о ведро молочных струй. Сколько же молока давала эта любимица семьи, небольшая черно-белая ласковая корова, если после каждой дойки тетя Дуня уносила из хлева почти полное ведро? Никогда, никогда в дальнейшем парное молоко не казалось мне таким необыкновенно вкусным.
В Куликах я впервые близко познакомилась с жеребенком и с теленком (увы… бедные мои городские внуки ни в семь лет, ни позже не узнали восторга непосредственного общения с животными).
И, наконец, лошадь — прекрасная добрая рыжая красавица и ее восхитительный, тоже рыжий и очень веселый жеребенок. Василий Иванович ухаживал за лошадью сам, сам водил ее на водопой и купал в старице. Часто мы ходили с ним, провожали лошадь в конюшню (неповторимый смешанный запах конского навоза и свежего сена — где могут познакомиться с ним наши бедные городские дети?).
Мы с Катей все время проводили вместе. Она учила меня деревенской жизни, а я рассказывала фантастические для нее истории из городской жизни: трамваи, машины, электричество, магазины, радио — все это, обыденное и привычное для меня, вызывало у нее благоговейный трепет. Видимо, мы восхищали друг друга непохожестью наших маленьких жизненных опытов, и ей мои рассказы казались таким же чудом, как мне — сказочная, райская куликовская жизнь. Ведь кроме чудес подворья была и необыкновенная река с чистейшим пляжем, и, казалось, нескончаемый лес с ягодами и грибами, и удивительное хоровое пение по вечерам, и многое-многое другое…
И еще один «кусочек опыта»: знакомство с другим языком, открытие не только совсем новых жизненных реалий (ухват, кринка, роблинка, стог, упряжь, клуня, подойник…), но и того, что знакомые предметы и понятия могут быть названы по-другому. В Куликах не пели, а спивали, открывали не калитку, а фортку, не закрывали ее, а зачиняли.
Не буду больше приводить примеры, скажу только, что, приехав в Москву, я поначалу говорила на странной смеси русского и украинского языков, и потребовалось некоторое время, чтобы разобраться в неразберихе этих родственных языков и понять, что надо разговаривать не на смеси, а на каком-то одном языке.
В райской куликовской жизни не хватало только папы. Но наконец подошло время папиного отпуска, и он приехал к нам на целый месяц, до конца лета. Жизнь наша не изменилась; те же прогулки в лесу, то же купанье, то же мое активное участие в жизни Довженок.
Добавились только необыкновенные вечера. Около дома стоял простой струганый стол и вокруг него — скамейки. После папиного приезда тетя Дуня по вечерам раздувала около стола самовар, и начиналось долгое спокойное чаепитие и разговоры, разговоры, разговоры. Наверно, папа и Василий Иванович, такие разные и по происхождению, и по жизненному опыту, оказались чем-то близкими друг другу людьми. Катя уходила спать, а я умоляла, чтобы мне разрешили подольше посидеть со взрослыми. Тишина черных августовских ночей, огромные звезды среди листвы нависших над столом деревьев, воздух, настоянный на деревенских ароматах, и чай с привезенными из Москвы конфетами создавали фон для самого главного — разговоров. Я не помню, принимали ли в этих беседах участие мама и тетя Дуня, но мужской разговор, неспешный, раздумчивый, задушевный, очевидно много значивший для обоих, навсегда остался в памяти. Я была слишком мала для того, чтобы понимать, о чем шла речь, но, наверно, именно во время этих лирических августовских вечеров начало складываться в моем открытом всем влияниям сознании несформулированное, неосознанное представление о единомышленниках, об острой необходимости для человека быть вместе с теми, кто о главном думает одинаково. Боже, как я любила наших замечательных новых друзей и их замечательную жизнь!
Смешно думать, что больше чем через полвека, наполненных такими огромными событиями, старый человек способен, не разбавляя детскую непосредственность и мудрость, достоверно передать реакции и восприятие ребенка, нисколько их не исказив; тем более невозможно восстановить более абстрактные рассуждения. И все же… Я думаю, что хотя бы отчасти моя влюбленность в жизнь семьи Довженко была связана с интуитивным пониманием разумности и закономерности всего, что происходило в их маленькой усадьбе, законченности этого маленького мирка, окруженного такими же мирками, из которых и состоял мой любимый хутор Кулики. Всё в Куликах — и дом, и скотина, и клуня, и луг, и лес, и речка — сразу стало для меня осмысленным и своим и потому таким дорогим и любимым. Любовь к Куликам я пронесла через всю жизнь, особенно к Куликам того первого года знакомства с ними.
В Москве у нашей семьи тоже был свой мирок в пределах хором в коммуналке, была понятная жизнь в пределах двора. Были радостные выходы в театр или в цирк, в красивый магазин, к любимым друзьям родителей. В Москве было много замечательных мест, которые я воспринимала как «наши». Но мир грохочущих трамваев и незнакомых людей, в котором почти все было запретным, в который ежедневно уходили по каким-то важным делам, а к вечеру возвращались с озабоченными и усталыми лицами любимые взрослые, — этот мир был если и не враждебным, то во всяком случае не приветливым и не обласкивающим. И настолько далеким, что даже неинтересно было о нем думать.
Перед отъездом в Москву родители договорились с Довженками, что следующее лето мы непременно проведем у них.
В середине зимы 1930/31 года к нам в гости неожиданно приехал Василий Иванович. Вся наша семья радостно приветствовала его. Василий Иванович привез деревенские подарки: яички от своих курочек, сало, сушеные яблоки и груши из сада. Приехал он в Москву посоветоваться с моим отцом. Они очень долго, серьезно и неулыбчиво что-то обсуждали. Василий Иванович спрашивал, папа отвечал раздумчиво и как бы нехотя. Разговор шел о чем-то очень серьезном, о том, что одному не устоять, о том, что куда-то надо поступать, но, может быть, как-то все обойдется.
Я задавала вопросы — не зря же Василий Иванович приехал советоваться с папой; неужели что-то случилось с моими любимыми Куликами? Взрослые не отвечали или отвечали скучными обидными словами: «Ты все равно не поймешь; детям нечего об этом думать; не волнуйся, ничего страшного не произошло…»
Значит, они не знают, что ответить. Так говорил мне мой небольшой жизненный опыт. Если мама и папа, вместо того чтобы удовлетворить мое любопытство, отводят глаза в сторону, скучнеют и начинают говорить о чем угодно, лишь бы не отвечать, — значит, я задаю неправильные вопросы. Мне казалось, что родители начинают любить меня меньше, когда они не хотят или не могут ответить.
Василий Иванович погостил у нас совсем недолго и уехал, взяв с родителей слово, что как бы ни повернулись у них в Куликах дела (значит, что-то там все-таки происходит!), мы непременно приедем к ним летом.
Слово «колхоз» витало в воздухе. Колхоз, кулак, подкулачник, раскулачивание. Видимо, примерно в это же время появилась страшная легенда о подвиге Павлика Морозова. Из каких-то разговоров (быть может, даже из объяснений в школе) я поняла, что колхоз — это когда в деревне все будут делать всё вместе, и от этого все начнут жить лучше; что в колхоз все должны вступать обязательно; что кулаки-мироеды — это деревенские богачи, которые против Революции и только угнетают бедных крестьян, а сами ничего не делают и не работают. Подкулачники хотя и не очень богаты, но предпочитают поменьше работать и прислуживают кулакам. Я совершенно не помню разговоров на эти темы дома. Но когда в школе нам рассказали о «подвиге Павлика Морозова», я спросила папу, почему говорят, что надо поступать как Павлик Морозов. Он ответил вопросом на вопрос:
— А как бы ты поступила, если бы узнала, что я сделал что-то плохое?
С абсолютной, непоколебимой уверенностью я ответила, что он никогда не делает ничего плохого. Папа грустно улыбнулся и ничего не сказал, предоставив мне самой разбираться в этой сложной этической головоломке. А я, счастливое дитя обожаемых родителей, вероятно, в силу здорового инстинкта самосохранения решила для себя, что, наверно, такого ужаса, какой произошел с Павликом Морозовым, просто не может быть; наверно, в школе ошиблись. Очевидно, наша умная учительница рассказала нам тот минимум, которого требовали от нее «сверху», и больше никогда не возвращалась к Павлику Морозову. Также никогда не обсуждались на наших уроках в тот первый год моей не очень счастливой школьной жизни животрепещущие проблемы коллективизации и колхозного строительства.
…Подошло лето 1931 года, и мы вновь отправились в Кулики, на этот раз без остановки в Харькове. Игрушечный поезд приехал в Лебедин вечером. Мы добирались до Куликов так же, как и в прошлом году, на телеге через темный, сказочный, но совсем не страшный лес. Я, наверно, заснула по дороге и не помнила, как меня уложили спать.
Зато утро помню во всех подробностях. Мама и Оля спали. В комнате пахло свежей полынью, свет прорывался сквозь щели в ставнях. Я быстро оделась и выскочила во двор. А там — всё как в прошлом году: одноэтажная белая школа на другой стороне улицы, за домом два высоких дуба и красавица клуня, кудахчут и ищут что-то в пыли куры, вьется дымок из летнего очага. Ко мне бежит Катя, и мы от радости начинаем бестолково бегать, прыгать и хлопать в ладошки. Я бегу к сараю. Там пусто, только поросята хрюкают в своем загончике.
Катя, словно предупреждая мои вопросы, очень серьезно и тихо-тихо говорит:
— А коня больше нету. Его в колхоз забрали.
И глаза у нее становятся очень печальными. И, не дожидаясь следующих расспросов, она объясняет:
— Теперь все лошади не наши, а общие, они все вместе в колхозе живут. Только там конюшни хорошей нет и кормят плохо. Папка сам ходит коня кормить, когда не видят. И другие тоже ходят.
Так состоялось мое знакомство с колхозом. Нельзя было сказать, что в Куликах стало хуже, во всяком случае мне так не казалось. Конечно, конюшня без лошади — уже не настоящая конюшня, и странно было, что кто-то в колхозе мог не разрешить Василию Ивановичу поехать по делам в Лебедин на его любимой лошади. Не было и прошлогодних веселых семейных поездок на луг, но сено все равно заготавливали, в хлеву по-прежнему жила корова, любимица и кормилица семьи, и для нее обязательно надо было заполнить клуню сеном. А в доме ничего не изменилось, только реже «спивали» по вечерам да мы с Катей замечали, что иногда взрослые разговаривают тихими голосами, словно не хотят, чтобы мы слышали, что они обсуждают.
В остальном лето в Куликах было таким же прекрасным, как первое. А новые реалии — конечно, поначалу они смущали, конечно, было жаль любимую подругу, у которой грустнели глаза, когда мы забегали в опустевшую конюшню. Но я была обыкновенной здоровой жизнерадостной девочкой, судьбы человечества волновали меня гораздо меньше, чем сиюминутные ежедневные интересные события куликовской жизни; я восприняла эти новые реалии как нечто неизбежное и привыкла к ним. Колхоз существовал где-то сам по себе, и отношение к нему имел только Василий Иванович.
Мама договорилась с Василием Ивановичем и тетей Дуней, что мы снова приедем к ним летом 1932 года.
Но зимой 1931 года из Куликов пришло письмо. Помню, как помрачнели мои родители и как упорно они не хотели отвечать на мои вопросы. Меня не могло удовлетворить лаконичное «Летом мы не поедем в Кулики».
Почему? Почему? Почему? Ведь мы такие друзья, ведь мама и папа договорились с Василием Ивановичем и тетей Дуней. Как же мы не увидимся с Катей? Никакие убеждения родителей, никакие рассказы о том, что есть другие замечательные места и там, где мы будем проводить лето, не хуже, чем в Куликах, меня не убеждали. А «секретные» разговоры взрослых приводили в полное уныние. Что-то очень плохое произошло в Куликах, если мои родители нарушили договор. Но ни разу, ни в каких разговорах я не слышала слова «голод».
Почему? Насколько осведомлены были мои родители об ужасе, прокатившемся по Украине? Были ли они так наивны, что верили только газетам, или до них действительно не доходила молва о том, что там происходит? А может быть, они сознательно оберегали меня от страшной информации? Я думаю, что, протестуя против поездки летом в любое другое место кроме Куликов, я неосознанно стремилась доказать верность своим друзьям.
В хранящихся у меня письмах бабушки и дедушки того периода из Киева нет ни слова об украинском голоде. Но в это время очень тяжело болел дедушка; может быть, бабушка была настолько занята заботами о нем, что ее не волновали происходившие на Украине события? Или страшно было писать о таком?
Два следующих лета мы провели в Смоленской области. Места эти назывались «столыпинскими отрубами». Здесь все было не так, как в Куликах. Я была преданной однолюбкой, неспособной эмоционально воспринять и полюбить деревню Княжино, которая на самом деле была не деревней, а группой разбросанных далеко друг от друга домов с усадьбами. Здесь не было улицы с нарядными палисадниками, за которыми прятались белые хаты, здесь нельзя было полюбоваться возвращавшимся с луга стадом, поиграть в клуне… здесь не было ничего похожего на мои любимые Кулики.
Может быть, мы попали к нерадивым хозяевам и поэтому сараи у них были кое-как сколочены, сквозь крышу в коровнике просвечивало небо, а сено хранилось за загородкой под брезентом. Унылые, приземистые избы нельзя было даже сравнивать с беленькими хатами в Куликах. И разве можно хранить сено под брезентом? Наши хозяева, и взрослые и дети, казались мне и мрачными, и неприветливыми, речка — мелкой и некрасивой, лес — скучным и маленьким, а вокруг дома не на чем было остановить глаз. Конечно, я была несправедлива, но полюбить Княжино я не могла и, не понимая, почему все здесь такое чужое, искала объяснений и умоляла маму поскорее вернуться домой.
Мама не была большим специалистом в деревенских делах. Она рассказала, что еще до революции министр Столыпин зачем-то придумал, что крестьян надо расселять из деревень (отрубать, отсюда и название «столыпинские отруба»), чтобы им было удобнее хозяйничать, что надо было помогать им налаживать хозяйство на новых местах. Но из этого ничего не получилось, потому что сначала убили Столыпина, потом началась мировая война, потом наступила Революция, потом была Гражданская война, а потом началась другая жизнь, и уже никому не было дела до крестьян, которых «отрубили». Я не знаю, каким образом сложилась у мамы такая версия столыпинских реформ. Мне же нищие хутора, на которых мы провели два лета, были настолько неприятны, что объяснения эти меня не заинтересовали и запомнилось только, что Столыпина убили в Киеве, в театре. Столыпинские реформы, великий Петр I, мировая война, Иван Грозный, убивающий своего сына, или декабристы — все события до Великой Октябрьской революции были историей, которая к нашей жизни непосредственного отношения не имела. Но плохая деревня Княжино непонятным образом была связана с тем, что случилось с моими любимыми Куликами, а в том, что случилось что-то нехорошее, я не сомневалась.
…В 1984 году мы с мужем и тремя внуками последний раз были в Куликах. Изменившиеся и обветшавшие Кулики, вопреки всем ударам судьбы, не утратили своего удивительного тихого обаяния.
На окраине деревни расположилась «качкоферма» (уткоферма). Ее обслуживала бригада, которая была частью многократно укрупнявшегося колхоза, объединявшего около 10 больших сел. Бригада приносила колхозу хорошие доходы; в ней мирно уживались современное итальянское оборудование внутри здания и дедовские ручные носилки, с помощью которых осуществлялись все работы вне здания. Так как в обезлюдевших Куликах практически не осталось молодежи, работников на ферму привозили на грузовике из ближайшего села. Надо полагать, что руководители колхоза не обладали ни чувством прекрасного, ни минимальной экологической грамотностью — никто и никогда не чистил водоемы уткофермы, но в то время они еще не успели подавить мягкую красоту окрестных лугов и сильно обмелевшего Псла.
Наши внуки упивались купаньем и играми в песке, радовались лесным прогулкам. Увы… они познакомились с северной Украиной и ее очаровательной природой, но не с украинским деревенским укладом жизни; им уже не дано было ни встречать корову из стада, ни пить свежее парное молоко, ни спать в клуне… Их открытия ограничились знакомством с поросенком и курами — у моей подруги детства Кати не было сил держать корову.
Катя не предупредила нас, что тетя Дуня тяжело больна. Наверно, зная, как близка она к смерти, мы не решились бы ехать в Кулики с детьми. Но тетя Дуня была счастлива, что ей удалось не только еще раз увидеть старшего внука Васю, который крошкой провел в Куликах два лета, но и познакомиться с младшими — с Серёжей и Машей. Чуткая, деликатная тетя Дуня, словно понимая, как испугаются дети, столкнувшись впервые со смертью, слабела, но оставалась приветливой, ласковой и доброжелательной. Перед отъездом мы зашли к ней попрощаться. Она погладила детям руки, пожала руку Борису и поцеловала меня.
— Ну, всё. Теперь прощайте.

Мы ушли. Катя рвалась проводить нас до шоссе, но мы убедили ее, что не надо оставлять маму надолго. Тети Дуни не стало через два часа после нашего ухода.
Весь этот месяц я много времени проводила с тетей Дуней. Она вспоминала, я слушала, узнавая о том, что никогда раньше не всплывало в разговорах: как до Революции она пела в хоре деревенских девушек, которых графиня Капнист тщательно отбирала, проверяя их музыкальность (остатки разоренного имения семьи Капнист можно было угадать на краю леса); как красиво ухаживал за ней младший сын из семьи давно «окрестьянившихся» обедневших дворян, ее будущий муж Василий Иванович; как жили они при немцах во время оккупации и многое другое.
Самым патетическим был рассказ о том, как большая семья Довженок уцелела во время голода 1932 года. В какой-то момент, поняв, что озверевшие уполномоченные увезут с подворья всё до последнего зернышка, свекор тети Дуни ночью тайком сумел закопать несколько мешков зерна в таком месте, где никто не догадался бы его искать. По ночам он доставал из тайника зерно и раздавал его понемногу всем членам своей семьи. Он бдительно следил за тем, чтобы все выглядели изможденными и голодными: сытые и здоровые не могли бы уцелеть в умирающей деревне. Разводили огонь в скрытой от взоров яме, только если были твердо уверены, что уполномоченные ушли из Куликов, а обессилевшие соседи не найдут в себе сил бродить по деревне в предрассветные часы. Старик Довженко сумел в 1932 году спасти всю свою большую семью. Но до самой смерти его преследовали кошмары и он мучился угрызениями совести: спасая своих, он никому больше не помог. Правда, некоторым утешением ему служила уверенность, что его действиями руководил Господь. Тетя Дуня призналась мне, что ни она, ни другие члены семьи никогда раньше никому не рассказывали об этом.
…В Куликах в разваливающейся хате живет теперь в полном одиночестве подруга моего детства Катя. Мы даже не переписываемся с ней регулярно, очень плохо работает почта между нашими двумя странами. Ее сын Вова уехал в Харьков, дочку Свету мы увезли из Куликов в Москву, когда ей было 15 лет. Тогда Катя, обливаясь слезами при мысли, что она надолго расстается с дочкой, обратилась ко мне с просьбой (я запомнила ее слово в слово):
— Марьяша, сделай из нее чоловiка, а не колгоспнiцу (колхозницу).
Я выполнила просьбу Кати. Света — москвичка, у нее хорошая семья, любимый муж и двое детей. Она работает старшей сестрой в одном из отделений больницы Онкологического центра, живет в современной трехкомнатной квартире недалеко от работы. Ежегодно летом вся семья ездит «за границу» на Украину навестить мать и хоть немного помочь ей: прополоть картошку, побелить хату, покрыть прохудившиеся места на крыше. Клуни давно нет, она сгорела в результате поджога (но это уже совсем другая история, романтический эпизод из Катиной жизни).

Не думаю, что мне удастся еще хоть раз повидаться с Катей, но хочу надеяться, что, может быть, когда-нибудь потом, когда ни Кати, ни меня уже не будет, Кулики всё же возродятся в новом обличии, не таком, какое мне запомнилось с детства, но не менее прелестном.
Школа
Когда подошло время отдавать меня в школу, мои родители, стремясь по возможности облегчить для меня процесс выхода в самостоятельную большую жизнь, на самом деле этот процесс несколько осложнили. Казалось бы, что проще? Каждый дом, каждый двор приписан к ближайшей школе, в ней учатся все ребятишки, знакомые по играм во дворе.
Но мои родители отдали меня в школу, к которой был приписан дом первого в моей жизни друга Вити Люблина, в класс к очень опытной учительнице. Витя был почти на год старше меня, заботливо опекал меня в частной группе, в которой мы провели вместе целых три года. Больше всего мы любили играть вдвоем. Очевидно, родители ожидали, что мне будет легче освоиться в школе, если рядом будет Витя.
…Увы, судьба не пощадила Витю. В 1940 году он как отличник без экзаменов поступил в Московский авиационный институт, а через месяц вместе с другими студентами-первокурсниками был призван в армию. Витя погиб в самом начале войны; немцы разбомбили эшелон, в котором его часть ехала на Ленинградский фронт. У меня сохранилась одна-единственная фотография: Витя в военной форме с мамой (перед самым началом войны ей удалось навестить его в части). И одно письмо из армии, искрометное, дружелюбное, окрашенное глубоко затаенной подспудной печалью…
Казалось бы, мое школьное житье-бытье было тщательно продумано и не сулило никаких неприятностей. (Почему мама и папа боялись неприятностей? Думаю, что в их опасениях прихотливо переплелись сложности и неурядицы их собственного непростого и часто мучительного приспособления к послереволюционной жизни, которую они приняли безоглядно, но в которой не все происходило так, как им хотелось бы.)
Но родители ошиблись. Витя быстро освоился в школе, у него сразу появились приятели-мальчишки, и ему было не до меня. Кроме того, родители сделали еще одну ошибку, не подумав, насколько важно для ребенка, чтобы изменение статуса, начало «взрослой» жизни в школе, «первый раз в первый класс» произошло как у всех и непременно вместе с будущими одноклассниками. Может быть, они не подумали о значительности этого дня потому, что в их детстве им не один раз пришлось переезжать из города в город и неоднократные смены гимназий стерли из памяти детали этого торжественного момента.
Начало сентября мы провели у бабушки и дедушки в Киеве, и мама повела меня в школу с опозданием на 10 дней. Произошло это очень буднично. Мама «из рук в руки» передала меня учительнице. «С тобой у меня сложностей не будет, попрощайся с мамой», — сказала Елизавета Николаевна добрым голосом, взяла меня за руку, повела в класс, посадила за самую заднюю парту и ушла.
Боже, какой одинокой и заброшенной я себя почувствовала! Елизаветы Николаевны — единственного человека, хотя и незнакомого, но все же разговаривавшего с моей мамой, — нет, Вити нет. Мне казалось, что теперь я всегда буду одна в этой большой белой комнате, в которой с бессмысленными воплями возятся между партами чужие мальчишки, а чужие девочки почему-то хихикают и перешептываются. И никто не обращает на меня внимания, я словно невидимка из сказки. Витю, который с упоением возился с другим мальчиком, я заметила не сразу. Я очень тихо произнесла его имя, но он вряд ли мог услышать меня и продолжал увлеченно возиться в проходе.
Меня охватила паника. Хотелось заплакать, но было стыдно — увидев слезы, все решат, что я рёва. Убежать из класса? Какой в этом смысл? Я могла бы сама дойти до дома, но мама сказала, что зайдет за мной, и велела ждать ее около школы. Искать учительницу? Но ведь я не знала, куда она пошла. Я была совсем, совсем одна, никому не было до меня дела, никто не понимал, как мне плохо и страшно. Все ребята как ни в чем не бывало поджидали учительницу. Может быть, им тоже было страшно? Может быть, они притворялись и тоже хотели бы убежать? Нет, неправда, им всё здесь нравилось. Значит, я какая-то «не такая», неправильная — ведь все дети хотят ходить в школу, я знаю, как любят школу старшие мальчики, с которыми я дружу во дворе… Я была еще слишком мала, меня ошеломило неведомое раньше, пугающее ощущение отдельности, одиночества, пылинки в толпе — ведь до того, как мама оставила меня в школе, всех и всегда интересовали несложные перипетии моей жизни; дома все, кого я знала и любила, принадлежали мне, а я принадлежала им.
Вот таким мучительным страхом, отчаянием и впервые пережитым чувством одиночества в толпе заплатила я за неделю праздника в Киеве у бабушки и дедушки. На всю жизнь я запомнила эти несколько бесконечных минут до начала моего первого урока в школе.
Наконец прозвенел звонок, все ребята бросились рассаживаться по партам, и Елизавета Николаевна вернулась в класс. Рядом со мной села рыженькая девочка с двумя тонкими косичками, а Витя оказался в другом конце класса. Еще одно разочарование: я-то была уверена, что в школе мы будем сидеть с Витей вместе.
Очень странным показался мне этот первый мучительный школьный день! На уроках ребята почему-то шумели и не слушали, что говорит Елизавета Николаевна; ей все время приходилось говорить очень громким голосом. Но больше всего меня поразило, что почти никто не умел писать и читать. «Грамотеями» были только мы с Витей, да еще две девочки с трудом читали по слогам. Елизавета Николаевна все время просила нас помочь ей. Витю это не смущало — он уже освоился в школе, а мне было неловко; всякий раз, когда Елизавета Николаевна обращалась ко мне, я с трудом справлялась с партой, отвечала или читала дрожащим голосом, и мне казалось, что после урока ребята засмеют меня. Конечно, я была несправедлива: может быть, я и показалась им странной, но на самом деле им не было до меня никакого дела.
День тянулся бесконечно долго. На перемене две девочки подошли ко мне и спросили, почему я не пришла в школу 1 сентября. Я охотно объяснила, что была в Киеве, и хотела рассказать, как там красиво и интересно, но оказалось, что девочки никогда ни о каком Киеве не слышали и мои рассказы им не нужны. Взаимопонимания не возникло, скорее наоборот: наверно, уже тогда они решили, что я — воображала. Витя все время был занят своими делами.
Наконец кончился последний урок. Мама уже ждала меня. Какое же счастье идти рядом с мамой, крепко держать ее за руку, болтать о чем захочется и после одиночества и отчуждения в школе снова очутиться в своем любимом мирке! Не помню, что я рассказывала, но, видимо, что-то в этом рассказе насторожило маму. Она стала вспоминать свою жизнь в гимназии, убеждать меня, что сначала всем детям кажется, что дома гораздо лучше, чем в школе, а потом оказывается, что в школе есть очень много интересного, того, чего никогда не может быть дома.
Потянулись школьные будни. Я довольно быстро привыкла к новой жизни. Через несколько дней я заметила, что кроме меня никого не встречают и не провожают, и упросила маму разрешить мне ходить в школу одной. Странно было только, что никто в классе не идет домой вместе со мной. Объяснялось это очень просто: наш дом был приписан к другой школе. Но из-за этого за два года, которые я проучилась в своей первой школе, я так и не почувствовала себя частью класса и, несмотря на общительный характер, не сумела найти в классе новых друзей и подруг.
Мы с Витей были лучшими учениками в классе, но ему это не мешало, он с удовольствием принимал участие во всех мальчишеских шалостях, а мне было очень скучно с девочками, казалось, что им интересно только перешептываться о каких-то глупостях. На мою беду, когда я немного привыкла к условностям школьной жизни и перестала мучительно бороться с партой, Елизавета Николаевна все чаще стала вызывать меня к учительскому столу и давала задание читать вслух. Витя читал не хуже меня, но он не только читал, но и забавлял класс своими интонациями и ужимками. Со мной было легче, я добросовестно читала, как положено. Но это чтение дорого обошлось мне. Очень скоро я все-таки попала в некую полосу отчуждения, в разряд «не таких, как все». Конечно, я не могла понять в свои семь лет, в чем дело, и мне было очень обидно, когда меня поддразнивали и называли подлизой.
Учиться хорошо было совсем необременительно, поэтому я стала относиться к школе как к необходимой, но безрадостной обязанности, а настоящая жизнь начиналась дома. Я очень быстро делала уроки и после этого до следующего утра вообще не вспоминала о школе. Я никому не жаловалась и, конечно, сама не могла определить, в чем дело, но, привыкнув за свою недолгую жизнь к всеобщей любви, к доброжелательному отношению, не могла понять, почему там, где всем ребятам всё нравится, мне так неуютно и одиноко.
Почему-то Елизавету Николаевну часто куда-то вызывали во время уроков, и она оставляла меня или Витю «за старших», давая нам задание прочитать отрывок из книги для чтения вслух. Витя легко справлялся с этой задачей, он раздавал мальчишкам тумаки за непослушание, начиналась своеобразная игра — то один, то другой мальчик вскакивал и бежал по проходу, Витя откладывал книгу и бросался к нарушителю, а класс как завороженный наблюдал за этим спектаклем, в котором роли наказуемого и наказывающего были четко прописаны ситуацией. Когда в коридоре раздавалось цоканье каблуков Елизаветы Николаевны, все молниеносно бросались по местам, а Витя с умильным выражением лица показывал, до какого места он успел прочитать. А мне, самой младшей в классе и «не такой, как все», было очень страшно, когда наступала моя очередь оставаться за старшую.
Очевидно, родители сумели сформировать во мне представление об ответственности, поэтому я очень серьезно относилась к поручениям Елизаветы Николаевны и старалась выполнять их как можно лучше. И постепенно получилось так, что во время моих дежурств ребята перестали бегать по классу и спокойно слушали меня. Трудно понять, какими мотивами руководствовалась многоопытная Елизавета Николаевна, подвергая меня этим испытаниям. Неужели она была уверена, что рано или поздно я смогу сама справиться с ситуацией, складывавшейся в классе? Так или иначе, хотя я и не перестала быть «не такой, как все», постепенно весь класс стал гораздо охотней искать помощи и объяснений непонятных задач или слов не у Вити, а у меня. Но мне не стало ни теплее, ни комфортней в классе. Я с нетерпением ждала конца года и мечтала о Куликах — мои родители окончательно договорились с Довженками, что мы приедем к ним.
Помимо школы мы с Витей занимались немецким языком. Вряд ли моим родителям легко было оплачивать частные уроки, но они были убеждены, что что ребенка надо учить иностранным языкам с детства. Поэтому через несколько лет они добавили к немецкому языку английский. (Во времена моего детства в Москве еще не появились школы с углубленным изучением иностранного языка.)
Наша преподавательница жила в коммуналке в небольшой, заставленной старинными креслами, столиками и тумбочками комнате. Мы с Витей пробирались вслед за ней к круглому низенькому столику, раскладывали тетрадки, и начинались занятия. Софья Карловна научила нас склонениям и спряжениям до того, как мы узнали о них в школе на уроках русского языка. У нее была своеобразная методика: перекидывая через столик легкий воздушный шарик, мы должны были правильно изменять склоняемые и спрягаемые слова. Тот, кто делал меньше ошибок, получал шарик в награду. Я не помню, что и как мы писали в тетрадках, но очень хорошо помню вторую часть уроков. Тихо и очень выразительно Софья Карловна читала нам стихи, а мы должны были запоминать их с голоса. (Vor seinem Loewengarten… Die Luft ist kühl und es dunkelt… Wer reitet so spät…) Удивительно: до сих пор я помню эти классические стихотворения и незабываемое выражение лица Софьи Карловны. В ее загроможденной маленькой комнате отчуждение, которое возникло между мной и Витей в школе, исчезало, и мы снова были самыми близкими неразлучными друзьями. Может быть, это неосознанное ощущение верной, непреходящей дружбы придавало особенную прелесть нашим урокам. Но в школе мы никогда и никому не рассказывали, как интересно мы занимаемся немецким языком. Эта маленькая тайна помогла нам сохранить детскую дружбу, когда мы больше не учились с Витей в одном классе.
Где встретились мои родители с этой удивительно милой немолодой одинокой женщиной? Почему убранство ее комнаты так разительно отличалось от нашего? Из случайно услышанных разговоров мы с Витей знали, что «раньше она жила не так», что «она осталась в Москве совсем одна», что «она зарабатывает только уроками». Скучный голос мамы всякий раз, когда я пыталась узнать побольше о Софье Карловне, сразу отбивал охоту приставать с вопросами.
Мы перестали вместе заниматься немецким после того, как я заболела и надолго стала лежачей больной. После выздоровления я изредка навещала Софью Карловну. Она всегда встречала меня с радостью, подробно расспрашивала о моих делах. Мне тоже хотелось расспросить ее о многом, но я не решалась задавать ей вопросы.
Во время войны, вернувшись в Москву из эвакуации, я пошла к Софье Карловне. Дверь открыла угрюмая соседка, которая всегда провожала нас с Витей злобным взглядом, если мы попадались на ее пути.
— Нечего тебе сюда ходить. Нету твоей Карловны, ее теперь не найдешь, — таков был смысл ее невнятного ответа на мой вопрос.
Кем же была Софья Карловна? Почему она была сломлена Революцией? Оказалось, что мама почти ничего не знала о ней, кроме того, что в свое время ее семья уехала за границу, а она почему-то осталась в Москве. Мы решили, что скорее всего она была выслана из Москвы в начале войны как немка…
…На сером фоне безрадостной школьной жизни случилось со мной происшествие, которое я запомнила на всю жизнь. Связано оно было с работой школьного антирелигиозного комитета. Странные организации существовали в школах 30-х годов. В моей школе был организован антирелигиозный комитет, и я, домашняя, очень правдивая девочка, была назначена представлять в этом комитете первый класс как одна из лучших учениц. Меня за руку привели на первое заседание две семиклассницы и посадили в первом ряду. Конечно, я не могла понять, что обсуждалось на этом заседании, но послушно поднимала руку вместе со старшими ребятами и получила похвалу за то, что «поддержала предложение, и решение было принято единогласно». Дома все взрослые почему-то очень развеселились, когда я рассказала им о заседании. Увы, они не могли предположить, что из-за антирелигиозного комитета меня и всю нашу семью подстерегают неприятности. Я продолжала добросовестно ходить на заседания, сидеть в первом ряду и поднимать вместе со всеми руку.
Однажды, в начале весны, на комитете стали обсуждать, как надо бороться с религиозными предрассудками во время Пасхи. Какой-то взрослый требовал, чтобы члены комитета разъясняли, что крашение яиц — варварский обычай. Но я так любила красить яйца! Когда мы красили яйца, никто не разговаривал о Боге. Мама рисовала на яйцах красивые, веселые картинки, мне разрешалось красить фон. Приходили соседи, любовались нашими яйцами и просили маму сделать яички и для них. Я была уверена, что к Богу, которого вообще нет, это не имеет никакого отношения.
И я произнесла первую в своей жизни речь. Прежде всего я декларировала, что у нас дома все прекрасно знают, что никакого Бога нет. Потом также убежденно сообщила, что мы всегда красим яйца, когда наступает весна, что моя мама красит яйца лучше всех в квартире и в этом нет ничего плохого, потому что все радуются и с удовольствием принимают мамины подарки.
Очевидно, такой «доклад» решительно не вписывался в протокол заседания. На короткое мгновение в комнате воцарилась тишина, потом все стали смеяться, а председатель сказал, что заседание закончено, подозвал меня к себе и строгим голосом сказал, что вызывает маму в школу. Я была смущена и озадачена. Когда вечером я рассказала родителям об этом происшествии, они поскучнели и озабоченно переглянулись. На следующий день мама пошла в школу. Тогда я не знала, о чем с ней беседовали, но из антирелигиозного комитета меня исключили. Конечно, я была очень довольна, что не надо сидеть на непонятном собрании, но из всей этой истории я вынесла неоформленное представление о том, что чужим людям не всегда надо говорить то, что думаешь.
Только много позже я узнала, что у моей бедной мамы состоялся очень неприятный разговор с руководством школы. Ей пригрозили, что у папы будут неприятности на службе, если выяснится, что я продолжаю неправильно относиться к религии. Мама обещала заняться моим антирелигиозным воспитанием и попросила учесть, что я самая младшая в классе, и освободить меня от почетной нагрузки. Так бесславно окончилось первое мое приобщение к общественной деятельности. А мои родители? Каково им было, когда они поняли, что и их совсем еще небольшая дочка вступила в конфликт с официальной идеологией, потому что ей и в голову не могло прийти, что не всегда надо говорить правду, что иногда «слово — серебро, а молчание — золото»?
После летних каникул в Куликах пришло время возвращаться в школу. К весне я привыкла к своим одноклассникам, но теперь после длинного летнего перерыва они вновь показались мне чужими. И вместо милой, доброй Елизаветы Николаевны в класс почти вбежала очень маленькая, очень кудрявая молодая женщина в белой блузке и черной юбке и на очень высоких каблуках. Визгливым голосом она сообщила, что она наша новая учительница и что она никому не позволит плохо себя вести и плохо заниматься.
Так начался самый печальный год в моей школьной жизни. Бедная Лидия Ильинична! Выпускница педагогического училища, невежественная и неопытная, она не могла держать класс в руках и вряд ли знала намного больше того, что было написано в учебниках. Я добросовестно выполняла все ее требования, получала хорошие отметки и тосковала.
Конфликт разразился уже после Нового года. Почему-то, очевидно для приобщения городских детей к проблемам сельского хозяйства, в программах тех лет очень много места уделялось разным формам животноводства. Однажды Лидия Ильинична красиво написала на доске «кролеководство» и сообщила, что мы начинаем новую тему. Я и раньше замечала, что Лидия Ильинична иногда пишет с ошибками, но такую грубую ошибку обязательно надо было исправить. Лидия Ильинична очень рассердилась, когда я попыталась объяснить, что надо писать «кролиководство», потому что это слово происходит от слова «кролик». Она назвала меня выскочкой и маменькиной дочкой и сказала, что я еще пожалею, что завожу глупые споры. После этого мне стало совсем тяжко ходить в школу.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
