
Бесплатный фрагмент - Очерки на разных высотах
«Медленно-медленно плыть через Лету и писать…
Для родных и друзей»
Пожелание от моей приятельницы Н.Т.
Часть первая. Триптих. В те года…
1.Его называли «Святой», и это не было просто прозвищем
Чуть больше года назад не стало моего старого друга, Олеся Миклевича. Шестьдесят лет длилась наша дружба, которая началась на восхождениях в горах Кавказа и Памира. Среди множества живописных картинок, что с тех далеких времен остались в памяти, как кадры видеофильма, пожалуй, самые яркие — о нашей экспедиции в верховья ледника Федченко в 1960 году. Про несколько дней из будней той экспедиции мне и захотелось рассказать прежде всего.
Памир, верховья ледника Федченко, 1960 год
Самолет из Москвы до Душанбе, потом три дня на грузовых машинах по Памирскому тракту до ущелья Ванч, далее еще 80 км по бездорожью, через речки без мостов и высохшие селевые потоки, до поселка геологов Дальний, еще день каравана (12 ишаков, один верблюд) до базового лагеря у озера, откуда начинается подъем к перевалу Абдукагор (5100 м). Уфф!
Еще неделя у нас ушла на то, чтобы организовать лагерь, разобрать снаряжение и продукты, сделать необходимые заброски груза наверх на перевал. И вот, наконец, мы у нашей первой цели, у выхода на ледник Федченко. Осталось немного — устроить там жилье, где нам будет уютно и тепло, независимо от погоды. Нам повезло — почти сразу нашли подходящий снежный склон и выкопали в снегу большую пещеру, чтобы в ней удобно разместились все 18 человек нашей экспедиции. Закончился наш первый день на высоте.
Вечера почти не было: едва солнце скрылось за хребтом, как ночь наступила сразу и бесповоротно. Как-то все помертвело вокруг — от снегов повеяло холодом абсолютного нуля, а окружающие вершины, казалось, уходили куда-то в бесконечность. Небо черное-черное, мириады звезд и необычно светлая полоса Млечного пути. Но скорей в пещеру — там светло от десятков свечей, закрепленных в ложках-подсвечниках, черенки которых воткнуты в снежные стенки. В углу уютно шумят примуса, обещая обильный обед, а тем временем дежурные обносят нас крепким чаем. Пол пещеры устлан пенопластом, сверху наброшены спальники, вход заложен снежными кирпичами, и нам нет никакого дела, что на улице уже минус двадцать. Завтра у всех дневка, и публика с удовольствием вечеряет. Затевается бесконечный треп обо всем на свете — нигде так хорошо и свободно не разговаривается, как в снежной пещере на приличной высоте. Но усталость берет свое, все-таки несколько часов интенсивного копания снега требует немалых усилий даже от нас, молодых и здоровых. Вскоре все расползлись по мешкам, и вот уже то от одного бесформенного тела, то от другого, слышится мерный храп на разные голоса.
Утро следующего дня: холод собачий, над головой темно-фиолетовое небо и, встающее откуда-то из бокового ущелья Танымас, ослепительное солнце. Быстро наступил рассвет — вокруг бескрайнее поле ледника Федченко и ни души. Царство льда и снегов: вот оно — Белое Безмолвие по Джеку Лондону, место только для его героев, таких как Мэлмут Кид, Смок Белью и Малыш, да еще для их ездовых собак. И где-то здесь, посредине этой «замерзшей» реки, почти Юкона или Клондайка, две затерявшиеся странные фигурки — это Олесь Миклевич и я.
Из уюта нашего жилья мы постарались выбраться пораньше — нам предстояло разведать путь по леднику Федченко до подножия пика Фиккера (6718 м) и определить возможные пути выхода на гребень вершины. Налево от нас лента ледника уходит вниз на несколько десятков километров, направо ледник идет все расширяющимся полем вплоть до завершающего его верхнего цирка, шириной километра 3—4. На всем пространстве ледника не видится никаких признаков присутствия человека. Ледник окаймляют цепочки вершин, высотой 5500—6500 м. Где-то далеко-далеко, у истока ледника, высятся громады почти семитысячников — пика Революции и пика Бакинских Комиссаров. Общий масштаб совершенно подавляет, кажется, что мы почти стоим на месте и никогда не дойдем до нашей цели.
А еще не оставляет ощущение какого-то неправдоподобия: мы в высоких горах, в центре Памира, а идем на равнинных лыжах по крепкому насту, скольжение отличное, морозный воздух бодрит, идется как по Подмосковью, и единственное отличие — дыхалка почему-то неровная, легко сбивается (с чего бы это, а?). Но утренняя прохлада быстро проходит и к полудню солнце начинает по-настоящему припекать. Ещё немного и начинаешь чувствовать себя, как на сковородке. Удивителен контраст — под ногами снег, от него вроде бы тянет холодом, но ощущение жары не отпускает. Если бы еще был хоть какой-то ветерок, но, как назло воздух, недвижим, и, кажется, еще немного и может хватить тепловой удар (как-же, знаем, уже проходили, не в первый раз в Средней Азии!). И никаких признаков тени, хоть убейся. Вдруг — о, радость! — Олесь заметил трещину в леднике. Она нам не по пути, надо уйти метров на триста с дороги, но нас это не останавливает. Осторожно подходим — как бы не провалиться раньше времени, но все безопасно. Сбрасываем лыжи и осторожно спускаемся метра на три на снежный мостик. Здесь прохладно, висят сосульки, по бокам от мостика чернота провалов, куда даже смотреть не хочется. Сели на рюкзаки, наслаждаемся прохладой, но рассиживаться нельзя — нам еще идти да идти. Посидели с полчаса, съели по конфете, запили ледяной водичкой и снова в пекло.
Еще через пару часов подходим к боковому ущелью, туда, откуда предполагалось идти на гору. Чуть прошли вглубь ущелья, и вот оно то, ради чего мы сюда стремились! Совсем неподалеку от нас виден гладкий выкат снежно-ледового склона, уходящего куда-то далеко вверх. Что там наверху: есть ли выход на гребень или все упирается в скальные стенки — снизу не видно. На все эти вопросы нам и предстоит найти ответы. Как это говорится у Визбора:
«Вот это для мужчин — рюкзак и ледоруб,
И нет таких причин, чтоб не вступать в игру.
А есть такой закон — движение вперёд,
И кто с ним не знаком, навряд ли нас поймёт.»
У начала подъема мы оставили лыжи, взяли побольше ледовых крючьев, сменили лыжные ботинки на горные, надели кошки, айсбайли в руки, связались и по крутому ледово-фирновому склону вверх-вверх-вверх, попеременно выходя вперед и забивая крючья для страховки. Высота где-то порядка 5200—5700, но идется с необыкновенной легкостью, будто бы все это происходит где-нибудь на Кавказе. Здесь уже нет жары, погода великолепна, с каждой веревкой вверх все ближе гребень… Еще немного, и вот уже становится ясным, что мы угадали: похоже, что наш склон выведет нас на ребро, ведущее к вершине. Настроение великолепное — еще бы, мы в высоких горах почти как первооткрыватели (первый и последний раз здесь были люди лет 35 тому назад). Если добавить к этому, что идешь вдвоем с близким другом, то ощущение почти как от благодати, дарованной свыше. Прошло каких-то три часа и вот уже мы сидим на рюкзаках, привалившись к какой-то скале, на седловине в гребне. Перед нами фантастические виды: и на панораму ледника и окружающих его гор и еще куда-то в подернутую дымкой даль Памира. Но самое главное — прямо от нас хорошо просматривается начало нашего маршрута к вершине. Там на пути будет несколько крутых скальных участков, где-то там, прямо нам навстречу выглядывает ледовый карниз и что-то вроде крутой ледовой ступени, но это все пустяки. Мы же все-таки не новички в горах, вопросов нет, прорвемся! Ну, а сейчас: мы сделали свое главное дело — путь найден! Задерживаться не будем, здесь изрядно продувает и сидеть просто так не очень уютно. Теперь с чистой совестью можем «сваливать» вниз.
Конечно, под ногами довольно крутой склон (градусов под тридцать-сорок, а тридцать — это как на эскалаторе метро, между прочим), внизу не совсем приятный вынос — многовато трещин, да и какие-то камни просматриваются на пути… Ну и что с того — мы молоды, полны сил, рюкзаки почти пустые, и кошки отлично держат на размягченном фирне. Вниз мы бежали с попеременной страховкой, просто через ледоруб, без всяких крючьев, не переводя духа, и опомнились только тогда, когда оказалось, что под ногами ровное поле ледника.
Наверху, на гребне, был резкий ветер, что-то от арктического холода, а здесь, на леднике, по-прежнему тихо, солнце еще припекает, но уже не с такой неистовой силой. После проделанной работы появилось ощущение необычайного комфорта. И совсем хорошо стало, когда мы сварили на примусе чаек, разъели баночку шпрот и подкрепились какими-то бутербродами, сделанными для нас заботливыми девушками. Спешить нам некуда, и вот мы можем просто посидеть и поболтать в уютной мульде ледника, доброжелательно поглядывая на окружающий нас удивительный пейзаж. О чем мы тогда говорили, я естественно, вспомнить не могу. Да это и неважно — ведь с Олесем мы старые друзья и вместе прошли через такие переделки и испытали так много, что о чем бы ни шла наша беседа, всегда нам было здорово от полного взаимопонимания и любви, не побоюсь этого слова.
В тот раз день наш закончился также великолепно, как и начинался. Никогда бы не мог подумать, что бег на лыжах может доставлять такое удовольствие! Вы только представьте себе огромную поверхность ледника, почти без трещин, с небольшим и почти постоянным уклоном. Снег не проваливается, подлипа еще нет, лыжи несут тебя сами. Даже одышки почти не чувствуется. Нас окружают те же самые вершины, что мы видели с утра, но теперь кажется, что они почти благожелательно смотрят на наше вторжение. Конечно, «Белое безмолвие» Джека Лондона все так же невозмутимо, столь же невозможно ультрамариновое небо и так же ни единого звука вокруг. Но есть нечто новое — появилось ощущение, что мы здесь уже, если не свои, но и не совсем чужаки.
Неподвижность пространства вокруг и полная тишина буквально завораживают. Кажется, что на всем белом свете существуем только мы, Олесь да я. Ощущение такое, будто мир только что создан, и мы чувствуем себя в нем как юные боги. Где-то захотелось остановиться на минуту, чтобы перевести дух. Господи, как же замечательно все вокруг! Огляделись и, не сговариваясь, скинули с себя всю верхнюю одежду и, оставшись в одном исподнем (кальсоны сиреневого цвета!), побежали дальше с одной мечтой: чтобы этот бег первобытных людей никогда не кончился. Еще с полчаса вниз, потом поворот налево и вот уже недалек наш пещерный лагерь под перевалом. Поддали еще темпа и на хорошем накате оказались у входа. Вид у нас был лихой, можно сказать, даже — гусарский. И вполне уместно прозвучал вопрос встречавшего нас Мики Бонгарда: «Напомните мне, господа, форма с лосинами сиреневого цвета была, кажется, у Царскосельских гусар, или я чего-то путаю?»
Напомню, что все это было ужасно давно, в 1960 году. А совсем недавно, а именно три года назад, когда в Москву приехал Олесь из Минска (на праздник моего 85-летия), у нас случайно зашла речь о той давней экспедиции на Памир. И тут оказалось, что и для него, и для меня картинка чудного дня на леднике Федченко сохранилась в памяти с необыкновенной ясностью, как одно из самых замечательных впечатлений нашей молодости.
С Олесем я ходил в горах не один год и попробую припомнить еще пару-другую эпизодов, оставивших отметку в моей памяти.
Кавказ, Безенги, 1958 год, конец июля
Мы только что вернулись со спасательных работ — на подъеме по сложнейшему маршруту на вершину Шхара разбилась двойка наших друзей, Володя Спиридонов и Юра Добрынин. Спустили их вниз, похоронили на Миссес-коше, помянули… Что дальше? — ехать в Москву, «в суету городов и потоки машин», но после пережитой трагедии рутина обычной жизни смотрится невозможной. Отправиться на очередное из запланированных спортивных восхождений, как будто ничего не произошло, кажется почти кощунственным. И тут вдруг родилась идея — мы должны пройти маршрут ребят на Шхару. Мы должны докончить начатое ими дело, и только так мы сможем, что называется, «закрыть счет к горам». Группа собралась быстро — Боб Горячих (руководитель), Олесь Миклевич, Мика Бонгард, Олег Брагин и я. Сначала Олесь отнесся очень неодобрительно к этой идее. Как врач с большим клиническим опытом, он лучше других чувствовал, насколько психологически трудным для нас может оказаться это восхождение. Пройти последним путем наших друзей — такая ноша могла стать слишком тяжелой, даже неподъемной. Но колебания Олеся сразу закончились, как только он увидел нашу решимость исполнить задуманное. «Конечно, я иду с вами, без вариантов» — были его слова в том вечернем разговоре. Вот тогда-то, на Шхаре я и познакомился с этим удивительным человеком, Олесем Миклевичем. В тот год он впервые появился в нашей команде, с легкой руки Боба Горячих. Тот не стал много говорить об Олесе, а просто сказал о нем: «Он — святой!» Это прозвучало как ироническое прозвище, но очень скоро мы убедились в том, насколько точно оно к нему подходит.
Для меня Шхара началась (а могла и закончиться!) еще на подходах. Неудачный прыжок через трещину, и я, придавленный двухпудовым рюкзаком, рухнул от дикой боли в голеностопе, а когда поднялся, понял, что для меня восхождение закончилось. Но Боб реагировал иначе: «Симулянт, несчастный! А ну-ка, Святой, займись им, как следует!». Тот немедленно выдолбил глубокую лунку во льду, заставил меня разуться, сунуть босую ногу в ледяную воду и держать ее там чуть не до посинения. Потом стянул эластичным бинтом, заставил попрыгать на больной ноге и доложил Бобу: «Артурыч в порядке. Теперь надо дать только хорошую нагрузку его ногам». Следующие три часа мы шли без остановки и, когда пришли к ночевке, я уже забыл, какой из голеностопов я потянул.
Маршрут оказался очень тяжелым. И дело не только в крутых обледенелых скалах и почти полном отсутствии простых участков, где можно было как-то расслабиться. Нас давило еще чисто психологическое ощущение того, что мы идем по пути наших друзей, которые не вернулись с этого маршрута. Как же тогда наш доктор обихаживал нас, буквально как своих пациентов, чтобы облегчить эту ношу! На маршруте он работал на «всю железку», как и все мы. Но ему не было равных, когда надо было устраивать ночевку, выравнивая/вырубая площадку под палатку, потом тщательно устраивать крючьевую страховку для нас и всего того, что было с нами, а заодно найти укромное место, чтобы запалить примус, натопить воды и сделать чай. И вот уже мы все залезли в палатку, а он еще хлопочет снаружи, подкрепляя растяжки или пряча кошки, чтобы их ненароком не столкнули вниз. Потом миг блаженства — снова горячий чай, вместе с какими-то ватрушками, что по заказу Олеся сделали наши девушки в лагере.
Боб недолго терпел это безобразие и на третий день сурово ему сказал: «Чтобы я тебя больше не видел за всеми этими хозяйственными хлопотами! Нашел себе теплое местечко при кухне! Теперь будет все иначе: пока мужики будут возиться с биваком и с готовкой, ты пойдешь со мной, чтобы обрабатывать путь на следующий день». Олесь только добродушно посмеялся в ответ. Олесь и Боб — это была идеальная двойка на восхождении. Они понимали друг друга с полуслова. Боб был человеком страстным и не упускал случая подразнить Олеся нарочито грубоватым обращением. Тот никогда не «заводился» в ответ. помалкивал или спокойно ему отвечал в духе: «Боря, ну как ты можешь нести такую чушь?» Жаль, что я никогда не записывал их диалогов; попробую, однако, дальше как-то воспроизвести их хотя бы по тональности.
Пожалуй, тяжелее всего нам дался последний, четвертый день маршрута. Тогда нам предстояло пройти крутейший ледовый склон, нечто вроде шапки, чтоб выйти на вершину. Как-то так получилось, что первым вышел на эту очень тяжелую работу Олесь. Предполагалось, что он пройдет веревку, а там его кто-нибудь заменит. Но, как это нередко бывает, крутизна склона не позволяла вырубить площадку-станцию, где можно было поменять ведущего. Поэтому Олесь забивал очередной крюк и снова рубил ступени вверх и так веревка за веревкой. Работа, уверяю вас, очень тяжелая, а тут еще Боб не может не приставать с советами: «Времени мало, а ты там возишься с каждой ступенькой, будто это парадная лестница в Мавзолей. Наметил ямку и дальше! И нечего весь лед измельчать в винегрет, его никто жевать не собирается. Коли покрупнее, от осколков мы увернемся, не барышни!» — и все это, естественно, с добавлением крепких слов, без которых Боб просто не обходился. Но тут случилось ЧП — от сильного удара у Олеся сломался ледоруб, и он остался беспомощно стоять на вырубленной ступени (хорошо, что она была довольно просторной!). Самостраховка у него была надежная — забитый ледовый крюк, Боб быстро к нему подошел и ушел рубить ступени дальше. Олег и Мика подтягивались к Олесю, а вот у меня возникли проблемы и довольно серьезные.
Я шел последним и должен был выколачивать все крючья. Наконец, донеслось откуда-то сверху: «Можешь идти!». Для начала мне надо было добраться до основной веревки, что была закреплена метрах в пяти-семи выше меня на забитом крюке. От этого крюка ко мне шел репшнур, держась за который я должен был добраться до основной веревки. Но это все в теории, а на практике оказалось все совсем иначе: стоило мне попытаться нагрузить репшнур, как он плавно ко мне соскользнул, и я остался стоять, привязанный коротким отрезком самостраховки к последнему крюку, который еще не успел выбить. Видимо, кто-то не очень надежно закрепил репшнур на крюке. Оплошность, которая могла иметь роковые последствия… Теперь у меня не осталось никакой свободы действий — ни вправо, ни влево не могу сделать ни шагу. Кричу вверх — меня не слышат, через меня стекают снежные ручьи, почти реки, погода — хуже некуда. К тому времени мне пришлось простоять на одном месте часа два, и пальцы на ногах совершенно закоченели — я уже мысленно с ними простился. Хуже того, сам начинал замерзать так, что еле шевелил руками. И тут пришло спасение в лице Олеся — он спустился ко мне по закрепленной веревке. Увидел сразу, что я почти обездвижен, подстегнул меня к себе, сам стал за моей спиной, крикнул вверх, чтобы там выбирали веревку, и мы с ним начали медленно двигаться со ступеньки на ступеньку. Сначала я не мог сделать и шага без его помощи, но постепенно разошелся. Веревка-другая по ступеням, еще несколько шагов, и вот уже мы стоим рядом с Борькой. Боб, конечно, не мог удержаться, чтобы не съязвить на мой счет: «Вот ведь как у тебя получается: еще на леднике Олесь спасал твою ногу, а здесь он тебя под ручки на вершину выводит — одно слово «Святой!». А дальше к Олесю: «А что, Святой, из ада ты тоже мог бы вытащить?» и услышал в ответ: «Смотря кого… Тебя, грешник, не смог бы даже я!».
Тем временем Олег и Мика уже выбрались на вершину, нашли там место для палатки, и, когда мы до них добрались, там уже нас ждал горячий чай и домашнее тепло. Первым делом я разулся. И, должен признаться, что буквально обомлел, увидев свои ступни беломраморного цвета. Моя первая мысль была, что несколько пальцев я уж точно потеряю. Даже подумалось: «Не такая уж большая плата за Шхару!» Но Олесь слушать меня не стал, а принялся растирать мои ноги, то сухим шерстяным носком, то спиртом. Почуяв запах спирта, Боря стал было говорить о том, что он знает лучший способ его употребления, но Святой на него так взглянул, что Боб мигом умолк. Упорство нашего лекаря было вознаграждено — часа через два с половиной чувствительность ступней и пальцев были полностью восстановлены. На этот раз — обошлось!
С утра побежали по гребню вниз. Но слово «побежали» здесь не вполне уместно: снежный гребень разукрашен карнизами на обе стороны и надо было суметь проскочить по осевой линии между ними. Меня, как самого легкого, пустили первым, вручив мне один из оставшихся несломанных ледорубов. Последним шел Олесь, тоже с ледорубом. Его обязанностью было внимательно смотреть за всеми и, если кто вдруг провалится с карнизом, немедленно кричать, в какую сторону прыгать другим. Спуск прошел без подобных драматических осложнений, вот уже и ледник, а еще через пару-тройку часов мы вышли на траву Миссес-коша. Здесь остановились, посидели, помолчали, набрали цветов, украсили могилы ребят — и прощай, Шхара, прощайте навек и простите нас, друзья наши.
Ну вот и все, счета закрыты, сезон закончен, теперь мы можем покинуть горы.
Кавказ, Безенги и Адылсу, 1959 год
В те «баснословные года» мы вообще не представляли себе жизни без гор и летом следующего года почти тем же составом снова оказались в Безенги. Первым делом нам предстояло поставить памятные доски на могилах Володи и Юры. Сделали, помянули… Знаю, что они там сохранились и по сей день, и никто из тех, кто проходит через Миссес-Кош, не забывает там положить цветы в память погибших.
В тот сезон нашей главной спортивной целью было прохождение северной стены Крумкола, одной из проблемных стен района. В предшествующий год мы просмотрели снизу этот маршрут и убедились в том, что он очень интересный и сложный. Ну, а мы считали себя уже достаточно опытными и сильными альпинистами, чтобы попытаться поспорить с горой. Даже мечталось, что, если мы сможем пройти эту стену, то посвятим восхождение памяти друзей, погибших в 1958 году на Шхаре.
На маршрут вышли впятером: Женя Тамм (руководитель), Боб Горячих, Олесь Миклевич, Олег Брагин и я. Перед этим сходили для разминки на Коштан-тау, тоже серьезный маршрут и еще раз убедились, насколько легко нам вместе ходить. Из базового лагеря вышли еще в темноте. Тут случился некий казус: дежурные, что взялись нас напоить с утра черным кофе, спутали кастрюли и заварили черный кофе в мясном бульоне для обеденного супа. Об ошибке они догадались слишком поздно, другого питья предложено не было и пришлось нам выпить этот странный напиток, предварительно спросив у Олеся: «А не будет ли нам от этого плохо?». Тот попробовал, поморщился, сплюнул и вспомнил, что где-то он читал, что подобным питьем под странным названием «эликсир викингов» потчевали конкистадоров в Перу перед дальними походами. Пойло оказалось очень питательным, и нам в тот день удивительно легко шлось.
Но погода нам явно не благоволила. Только мы «зацепились» за скалы и прошли первую сотню метров стены, как повалил снег, видимость пропала полностью, и нам пришлось срочно искать место для палатки. Расчистили площадку, набили крючьев, протянули веревки, сидим пьем чай, а снег все валит и валит. И так до вечера! С утра — все прояснилось, но идти вверх нельзя — лавиноопасно. Тогда начальник Тамм отправляет троих вниз — пополнить запас бензина и продуктов, а сам вместе с Олесем остается «сторожить маршрут». Да-да, именно сторожить — у нас есть конкуренты, команда из «Труда», и, хотя по жребию нам выпало идти первыми, но, если мы сойдем с маршрута, они немедленно выйдут нам на смену.
Через день мы снова все собрались наверху и началась серьезная работа. Первый бастион скал, метров 70, Женя и Олесь обработали и даже навесили веревки. По ним Боб и я быстро прошли и вышли на первый ключевой участок, метров 100 отвесных скал. Сначала здесь можно было идти свободным лазанием, забивая крючья и иногда навешивая двух-трех ступенчатые лесенки. Но вскоре характер скал изменился и пришлось забивать шлямбурные крючья, чтобы создавать искусственные точки опоры и для страховки. Здесь вперед запросился Олесь, говоря, что бить дырки в бетоне — его любимое занятие. Ну, что же раз человек хочет — пускай поработает. Смотреть на его работу было приятно: шлямбур зажат в кулаке, в другой руке айсбайль, и он без устали колотит по головке шлямбура — 15 минут и дырка в скале готова. Забит шлямбурный крюк, щелчок карабина, повешена ступенька и еще полметра-метр высоты отвоеваны. Пройдя таким образом веревки две, мы вышли к началу, казалось бы, более простого участка скал. Там собрались все на узенькой полочке и задумались.
И было от чего: перед нами было метров 300—350 не очень крутых скал (градусов 40—50), но сильно заглаженных и покрытых натечным льдом. Все выглядело как наклонный каток, и никаких выполаживаний или хотя бы островков, свободных от льда. Как это все пройти — не очень понятно. Но делать нечего — надели кошки, и Брагин первым пошел вверх. Лед натечный, не нем кошки держат плохо — Олег начал было рубить ступеньки, а лед скалывается линзами, ступеньки толком не получаются. Прошел с полверевки и его завернули назад — не было никаких возможностей сделать надежную страховку. Вслед за ним попытку предпринял Олесь — он ушел метров на пятнадцать в сторону и попробовал прорубиться там, но с тем же результатом. К этому времени стало очевидным, что даже если мы как-то сможем продвинуться вверх, то нам не хватит светлого времени, чтобы добраться до места, подходящего хотя бы для сидячей ночевки. В довершение картины –погода совсем испортилась, повалил снег и полностью пропала видимость. Женя посмотрел-посмотрел на всю эту безнадегу и мудро изрек: «Ребята, очевидно, гора нас не хочет! С этим не поспоришь — уходим!»
По забитым крючьям быстро скатились вниз, до места прошлой ночевки, но там даже не остановились и еще через пару часов уже были на леднике. Да, это была неудача, но мы сделали все, что можно было сделать в пределах допустимого риска, а кто сказал, что удача всегда должна быть на нашей стороне!
В лагере нас сперва встретили восторженно, решивши, что мы быстро прошли маршрут, но, когда все разъяснилось, порадовались, что «на рожон» мы не поперли. Наши конкуренты из «Труда», конечно, обрадовались тому, что теперь у них появился шанс «сделать» стену Крумкола, а она явно могла принести победителям золотые медали на Чемпионате СССР. На следующий день они бросились с азартом наверх, но погода и их не пустила. Пару дней они провели на маршруте, прошли чуть выше нас, но им также пришлось признать свое поражение.
Через неделю наш сбор в Безенги кончился. Кто-то вернулся в Москву, кто-то отправился на черноморское побережье загорать, а те, кто не смог примириться с «поражением при Крумколе», решили, что им для самоутверждения нужно пройти какую-нибудь другую из приличных стен. Для чего и отправились на центральный Кавказ, в ущелье Адылсу.
Стенных маршрутов там немало. Но нам более всего приглянулась стена пика Щуровского по маршруту В. М. Абалакова. Маршрут недлинный, чисто скальный, не очень сложный, классическая пятерка, на которую ходил уже не один десяток групп. Забежали в альплагерь «Спартак», за консультацией к Абалакову. «Классик» нас одобрил, но посоветовал заточить как следует трикони на ботинках, а кошки вовсе не брать: на стене они не нужны, а Ушбинский ледопад на спуске можно проскочить и без них.
Хотели пойти впятером: Боб Горячих и его жена Наташа, Олесь Миклевич, Мика Бонгард и я. Но местный альпинистский начальник Боб Миненков своею властью отстранил Наташу от восхождения. В ответ Б. Горячих пообещал набить ему морду при первой встрече в Москве, но даже эта «радужная перспектива» делу не помогла, и вышли мы на восхождения вчетвером.
Мы быстро проскочили несложное начало маршрута, вышли на серьезные скалы и пошла привычная работа. Первая связка Боб и Олесь идут впереди, бьют крючья, организуют страховку, а за ними идем мы с Микой по уже обработанному маршруту. Так бы и прошли всю стену в состоянии легкой эйфории от того, что нам легко идется по классическому стенному маршруту, и, вообще, мы — молодцы! Но за такое настроение горы могут и наказать, в чем мы и смогли убедиться на своем опыте.
А было так: Олесь остановился выше меня метрах в десяти и кричит: «Страховка готова! Можешь идти!». Но только я двинулся, как услышал очень тревожный голос того же Олеся: «Ребята, внимание! Этот камень вот-вот пойдет вниз, и удержать его я не смогу». Посмотревши вверх, я увидел, как рядом с Олесем кусок скалы, размером в огромный чемодан, начинает медленно двигаться, а Олесь, стоя от него сбоку, пытается как-то его придержать. Мика и я, как зайцы, бросились в рассыпную, не разбирая дороги. В следующее мгновение я уже ничего не вижу, так как упал навзничь и покатился по камням, бессильный что-либо сделать. Потом я повис на веревке, а где-то далеко внизу раздался грохот камнепада, и на ледник, что был ниже нас метров на 300, просыпался дождь камней. Кричу: «Мика, как ты?» — «Я в порядке. А ты?» — «Я тоже». Мика выбирается ко мне — осматриваем друг друга: действительно, мы всерьез не пострадали и отделались всего лишь ушибами и кровоподтеками. Повезло нам безумно — падающая глыба пролетела, не зацепив нас, а только сдернув веревку. Если бы Олесь не подправил слегка траекторию ее падения, то она могла бы перебить веревку или попросту размазать нас по скале. Сверху показывается непривычно бледное лицо Олеся, спускающегося к нам. Он даже заикается от волнения: «Как вы там? Нужна ли помощь?» — «Нет, у нас все в порядке, мы сейчас подойдем к тебе сами». Откуда-то сверху свешивается голова Боба: «Ну, что вы там все застряли? Зачем-то камнепад на горе устроили! Я закрепил веревку, давайте все поскорее поднимайтесь. Вечером со всем разберемся!» Как выяснилось, нам осталось еще часа три-четыре серьезной скальной работы, и вот уж мы на вершине.
Оттуда замечательные виды на могучий Чатын с его устрашающей стеной, на Ушбу, фантастически привлекательную во всех видах, на Шхельду, невысокую, но с зубьями, как в акульей челюсти, ну и заодно — на все прочие вершины Центрального Кавказа, знакомые нам не понаслышке — на большинстве из них мы уже успели побывать.
Палатка уже стоит, фырчит примус, а вот уже и чай нас ждет. Дневное происшествие вспоминается как дурной сон, не более того. Только Олесь время от времени скорбно покачивает головой, видимо, пытаясь в очередной раз убедить себя, что, действительно, он не мог удержать тот злополучный «чемодан». Напрасно я и Мика пытаемся донести до него самую очевидную мысль — если бы он чуть промедлил и не придержал камень, то тот бы пошел прямо вниз, и тогда мы бы не уцелели. Борька же никак не старается его успокоить, а только дразнит по обыкновению: «А что ему, Святому, стоило не допустить всего этого! Он же не один — с ним же вся эта небесная рать, всякие там серафимы и херувимы, да и сам святой Георгий! Они же этот камень запросто могли на место поставить, но, видно, решили нас немного проучить за самонадеянность. Чтоб знали свое место, а то вишь, владыки гор объявились!»
Наутро мы стали спозаранку и вниз через Ушбинский ледопад — Абалаков оказался прав, кошки нам не понадобились, весь путь был хорошо проторен отрядом альпинистов, что прошли его накануне. Обед у нас был на травяной лужайке на немецких ночевках. Как же хорошо сбросить с себя снаряжение и всю теплую одежду, лежать, загорать и смотреть на нашу стену с благодарностью — она могла бы нас наказать, но только погрозила пальчиком и отпустила.
На том для нас и закончился сезон 1959 года. А про следующий, может быть самый душевный, сезон в горах в 1960 году я уже рассказал в начале своего очерка.
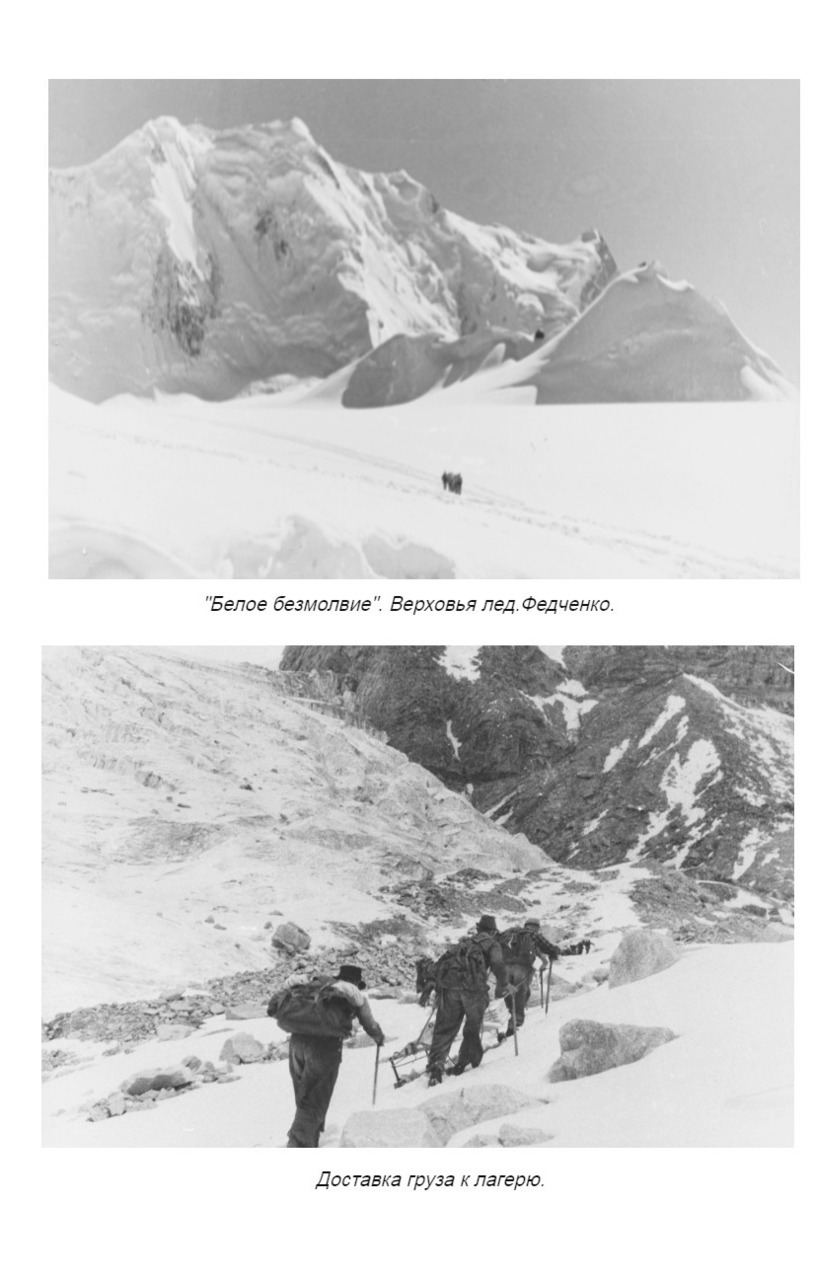
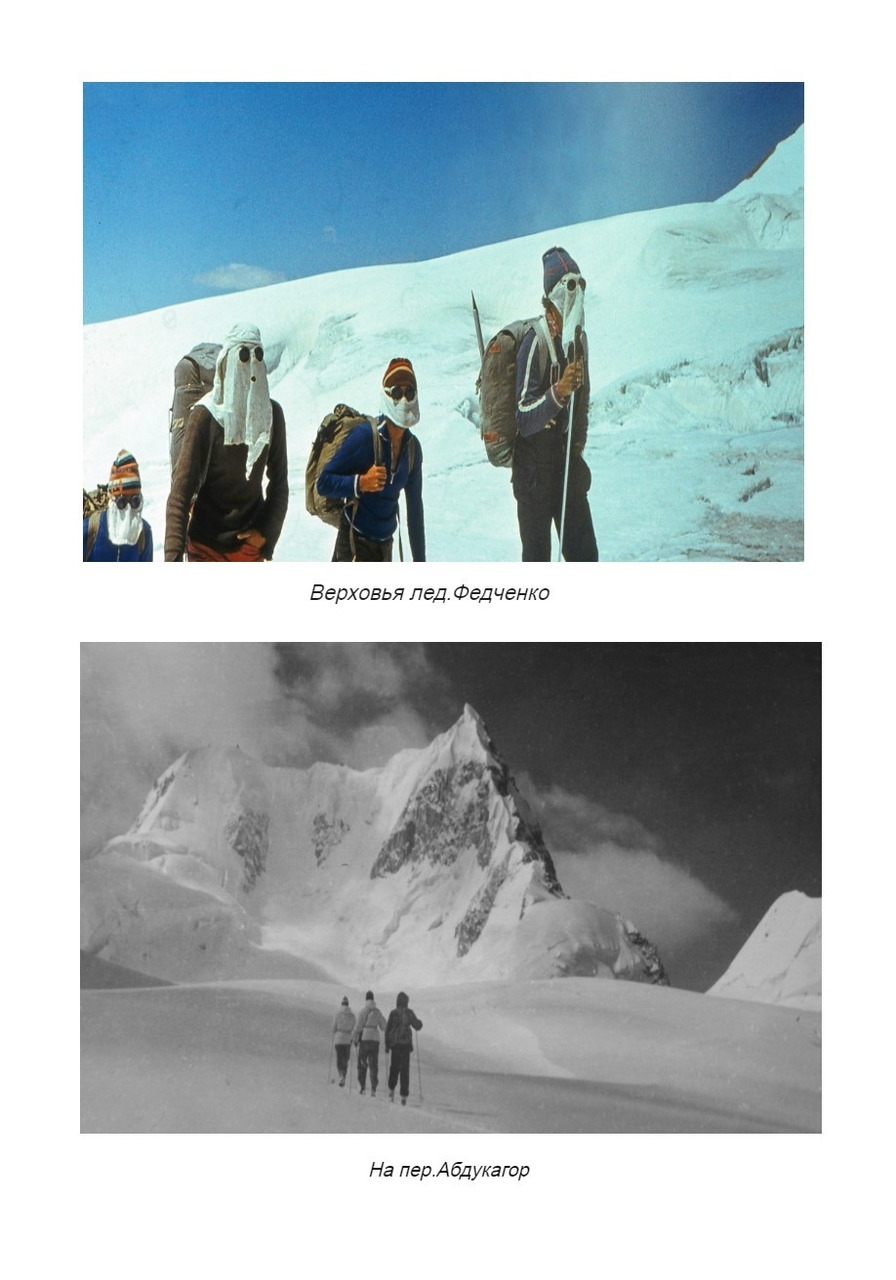
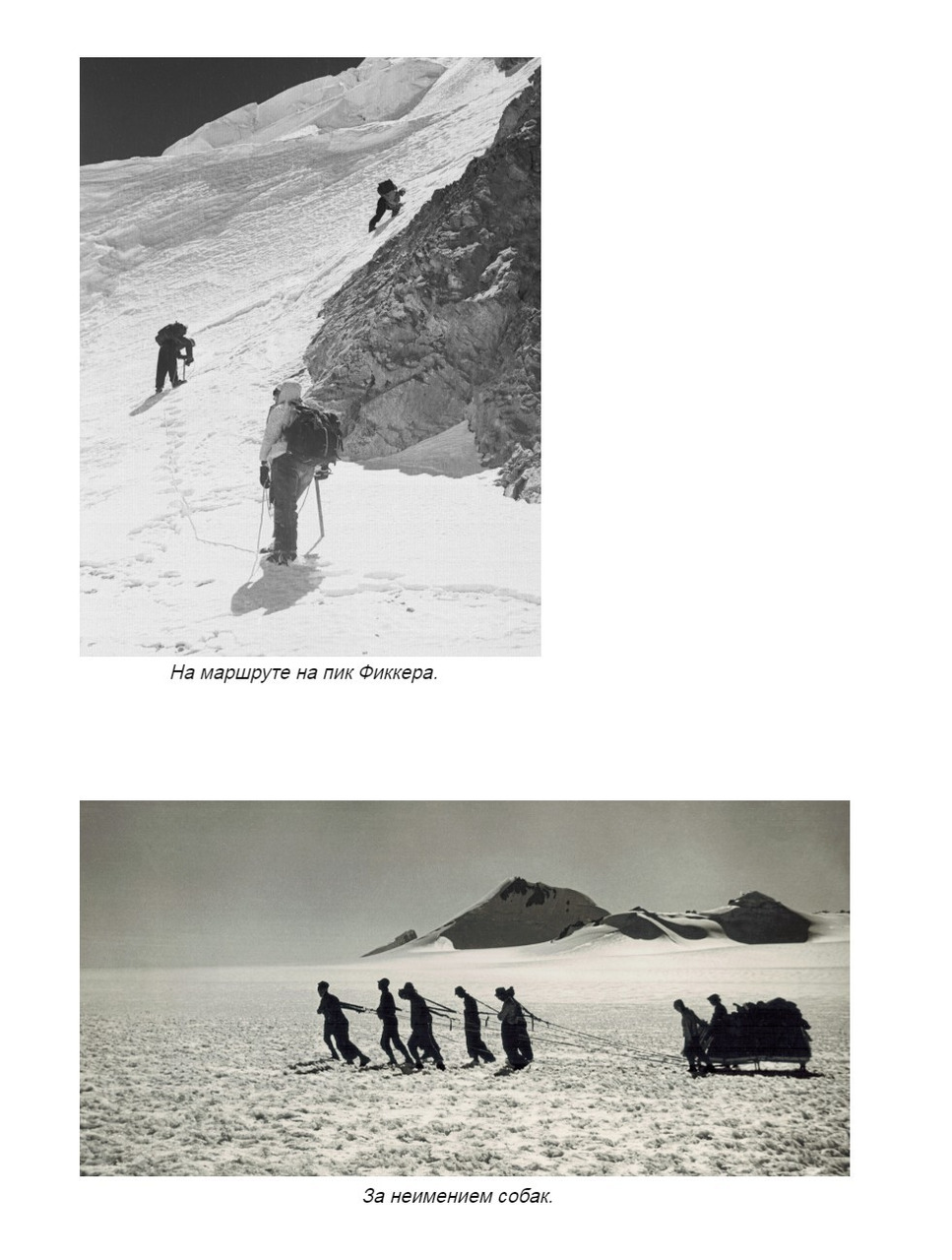
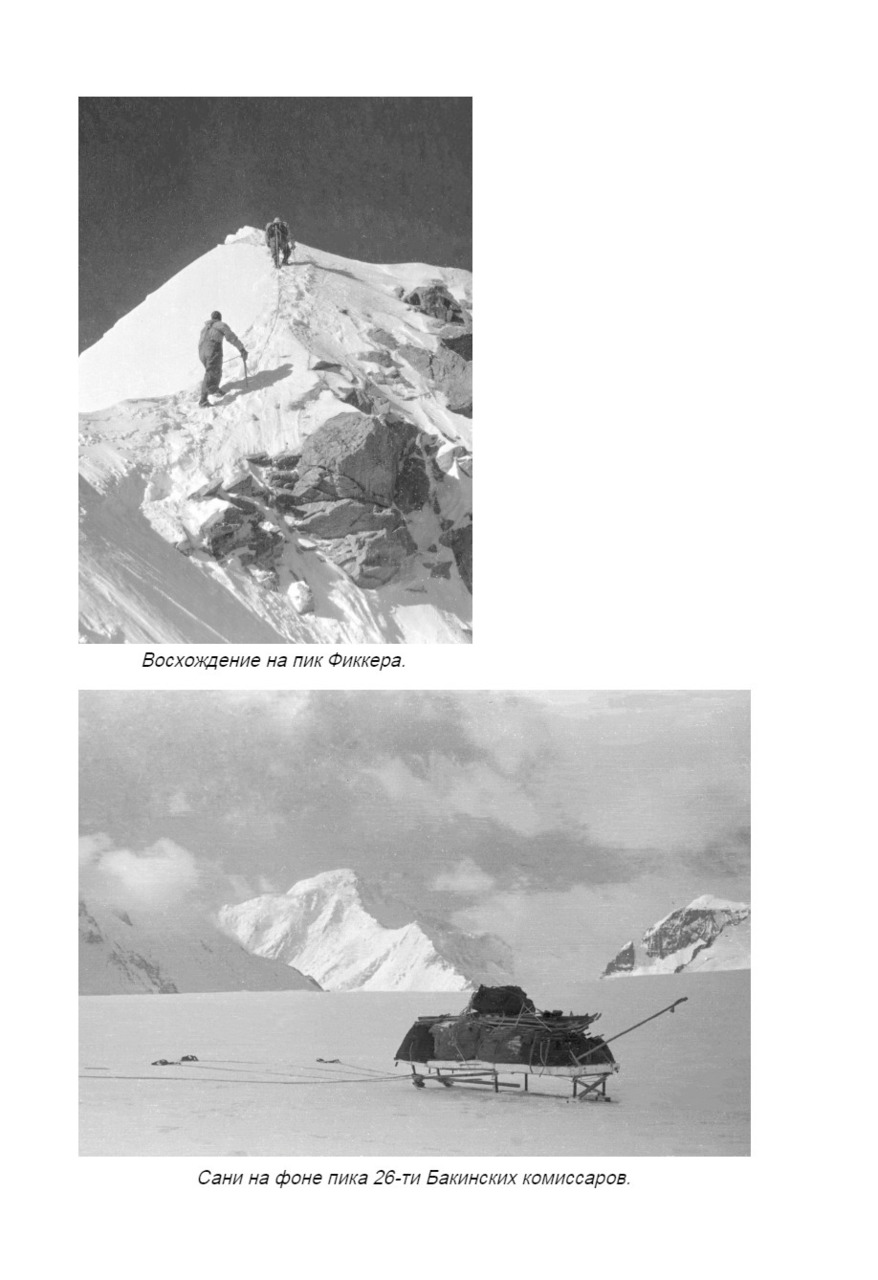
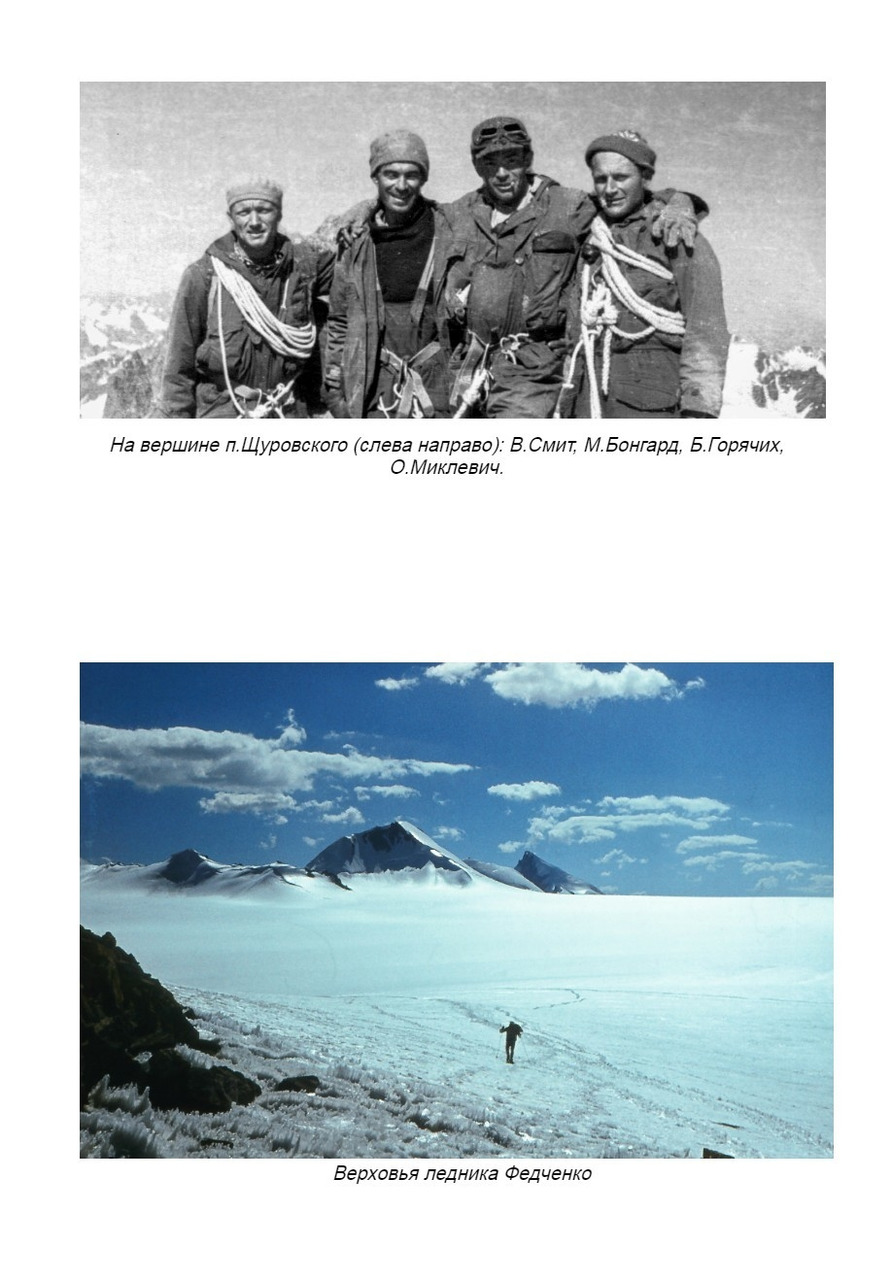
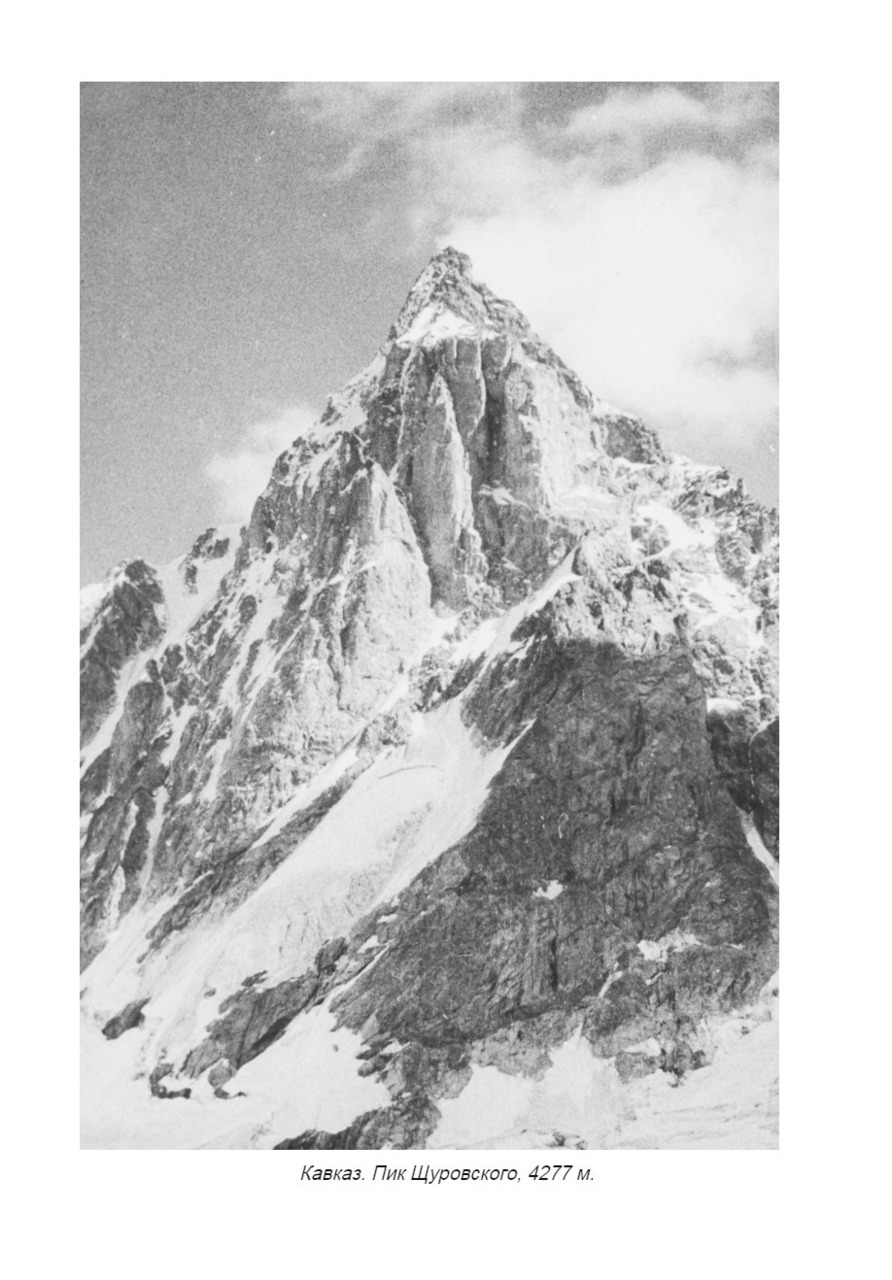
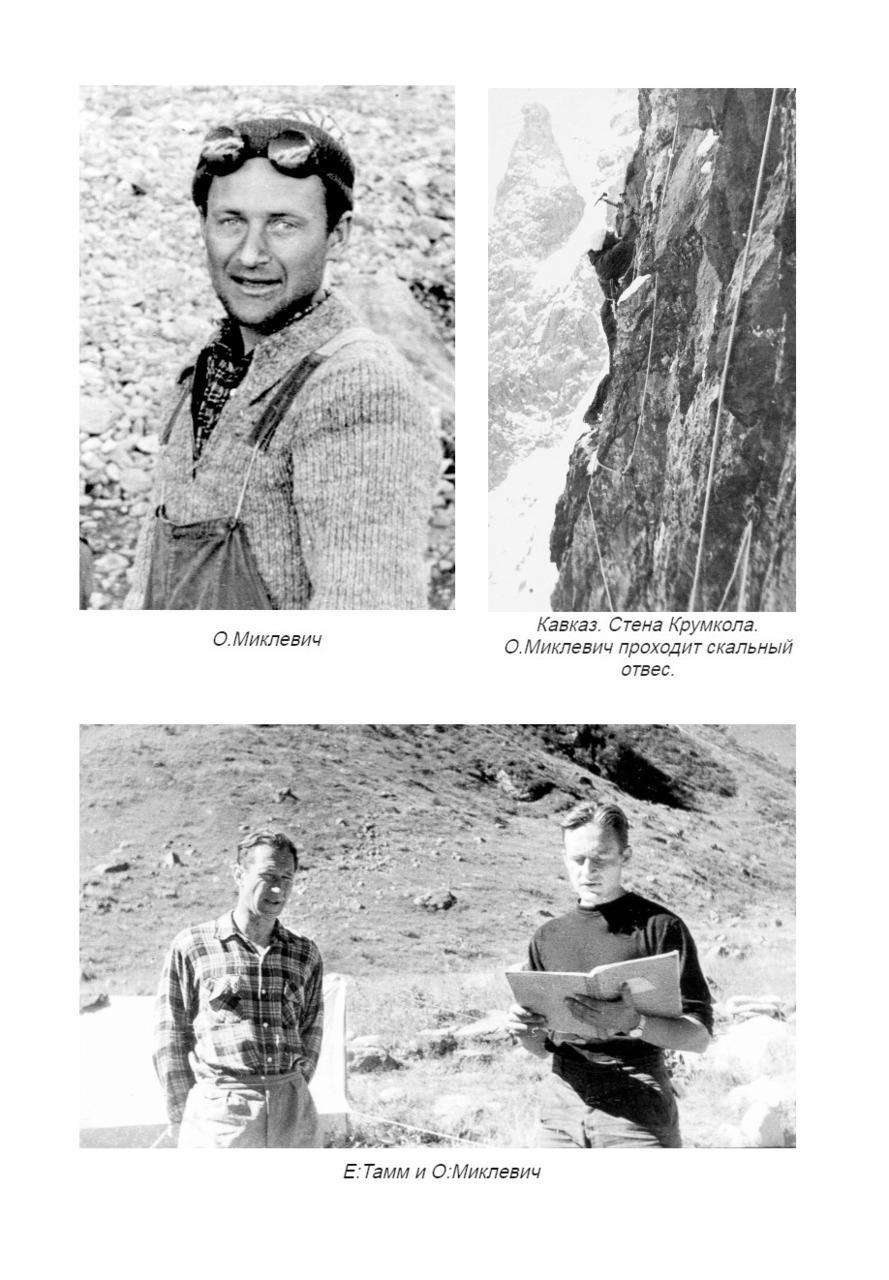
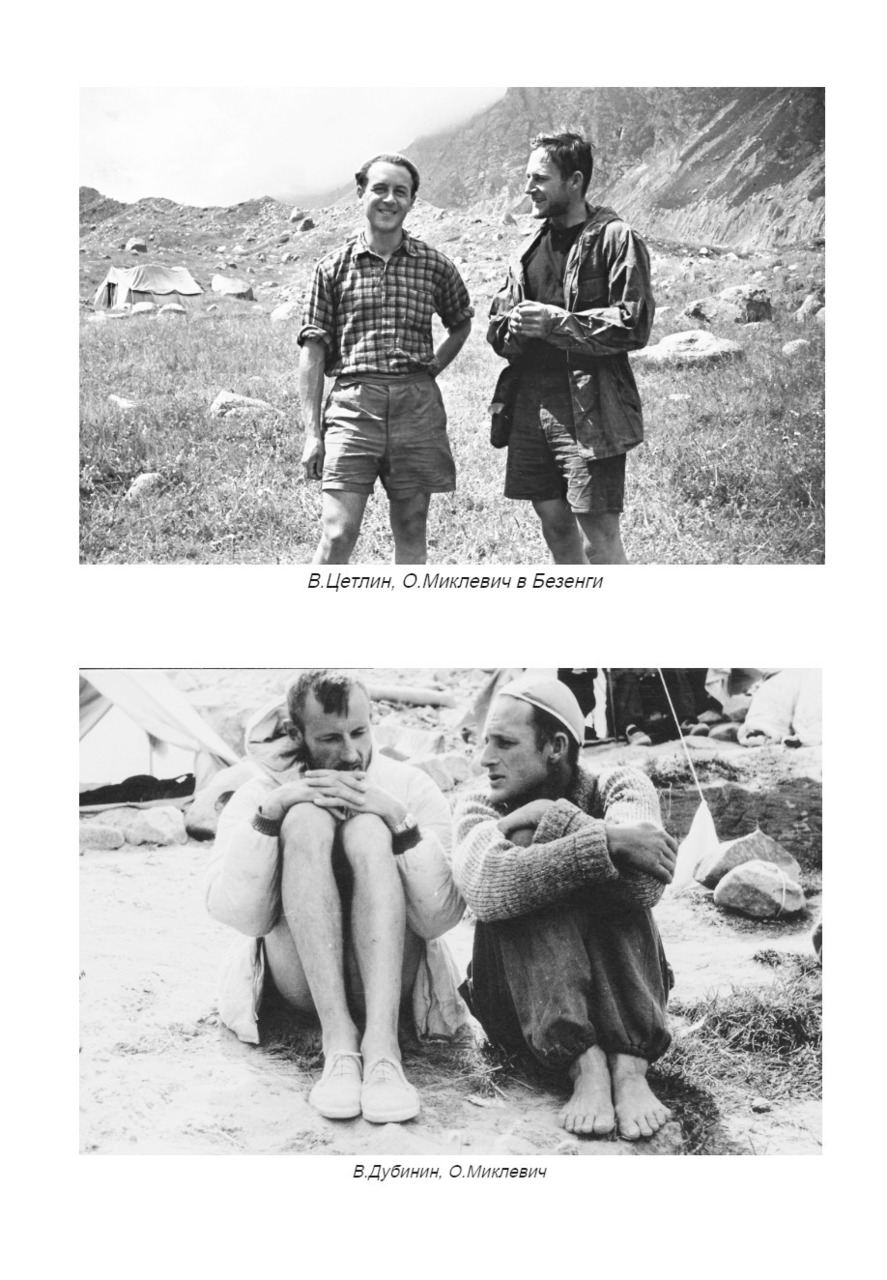


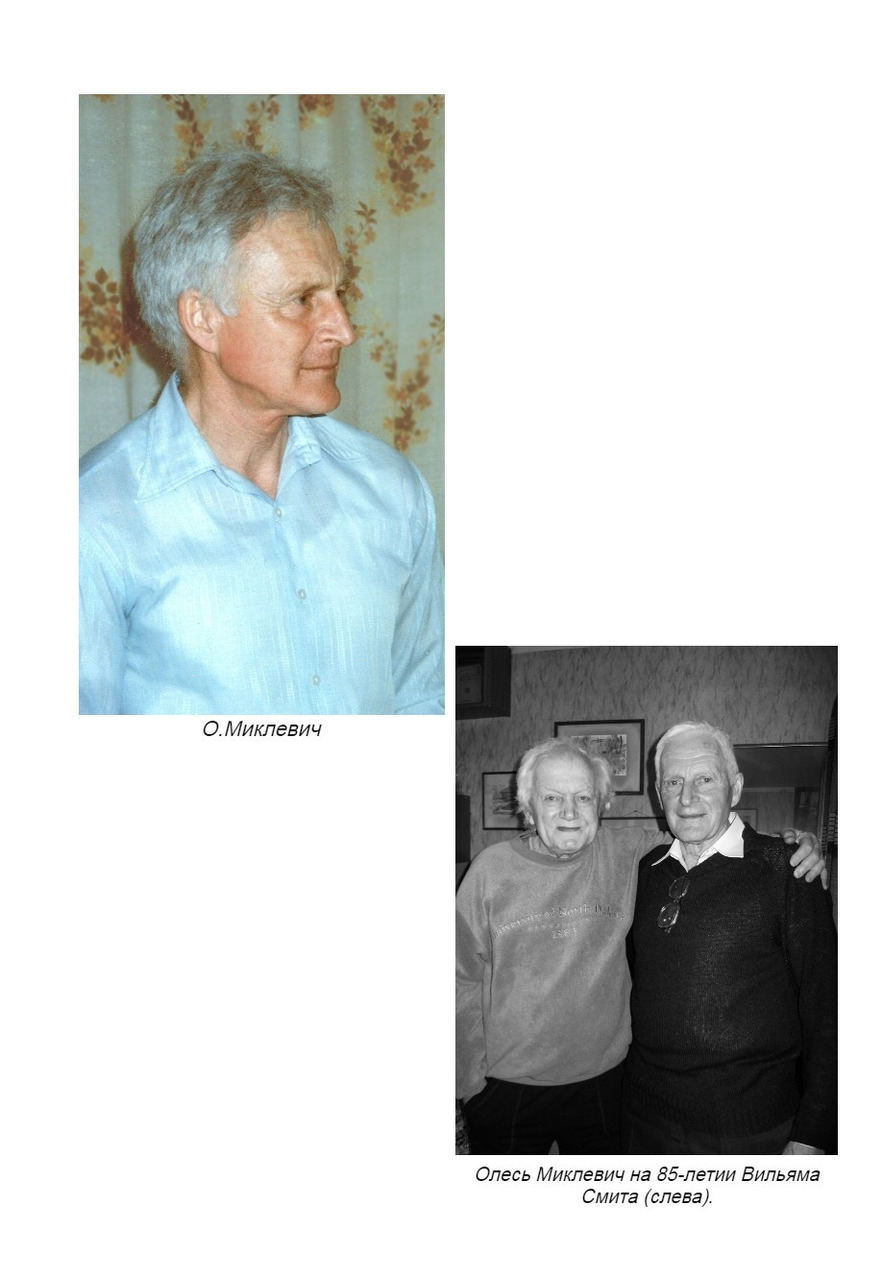
2. Борис Горячих! Кто такой? Откуда взялся и почему он здесь?
Само сочетание звуков в имени и фамилии Борис Горячих заставляет предполагать нечто неординарное в натуре этого человека, что-то выходящее за рамки качеств обыденных людей. Это то самое «благородство, которое обязывает» (во французском оригинале: noblesse oblige). Невозможно представить себе носителя такой фамилии посредственностью, заурядным трусом или прихлебателем. Все это могло бы восприниматься всего лишь как громкие слова, но было достаточно раз-два повстречаться с Борисом, хоть в горах, хоть на байдарке или на лыжах, или просто в дружеской компании, чтобы убедиться в том, что в его лице нам и представлен тот самый редкий случай крутого человека, который способен заразить кого угодно своей искренностью, азартом и темпераментом. Стоило ему где-нибудь появиться, как он становился центром внимания. Трудно сказать, отчего так происходило — ничего особо выдающегося в его внешности не было, да и манерой поведения он вовсе не походил на тех, кто старались быть всегда на первых ролях. Но, пожалуй, среди множества знакомых мне людей я затруднился бы назвать еще кого-нибудь, столь же колоритного и подкупающе привлекательного, как Боб Горячих. Я бы никогда не смог дать строгого определение «харизматичности», но в моем представлении это определение очень подходит именно к Борису. Стоит к этому добавить, что Боб попал к нам, когда наша команда альпинистов в основном уже сложилась, но довольно скоро выяснилось, что с ним мы почти идеально совместимы, и не только в горах, но и в московской жизни. Вот обо всем этом я и хотел бы рассказать дальше.
Для начала вспомню о нескольких эпизодах нашей совместной жизни в горах.
Кавказ, зимний Домбай, 1960 год
Восьмое марта 1960 г, в горах Западного Кавказа. В тот день наша команда, шестеро альпинистов Спортклуба Академии наук (сокращенно СКАН), руководимая Борисом Горячих, вышла на западную вершину гребня Большого Домбай-Ульгена. Это был пятый день нашего зимнего восхождения — траверса массива Домбая. Настроение у нас отличное. Мы в хорошей форме, что называется — «на подъеме». Еще бы — до нас никто не пытался пройти зимой этот технически сложный маршрут, а мы дерзнули и оказалось, что это вполне в наших силах. Большая часть пути уже позади, осталось не более одного-полутора дней, чтобы дойти по снежно-ледовому гребню до Главной вершины, а там спуск через седло Фишера на ледник и далее вниз по тропе к Домбайской поляне. Нашли на западной вершине тур, извлекли записку тех, кто был здесь до нас, заменили ее своим посланием, в котором не забыли посвятить свое восхождение нашим любимым женщинам (ведь, между прочим, женский праздник никто не отменял!).
Где-то неподалеку от тура должна была быть заброска продуктов, что Боб заложил прошедшим летом… Часа два мы вели ее поиски в снегу, перекидали гору снега, но — Увы!, безрезультатно. Боря очень переживал по этому поводу, пытаясь понять, как такое могло случиться, но это никак не могло повлиять на очевидный факт — продуктов у нас почти не оставалось. Утешало одно — траверс подходил к концу и можно было надеяться, что следующая заброска, уже на Главной вершине Домбая, нас все-таки дождется — авось, дотерпим. Ну, а пока в тот вечер еще есть время получше сделать площадку для палатки, закрепить как следует стойки, разместиться внутри поуютнее и, наконец, попить чайку вприкуску — по куску сахара на брата. Больше съестного у нас не оставалось. Ну и что с того? — завтра утром последний бросок, и мы на Главной!. Но в горах никогда не следует уж очень полагаться на свои ожидания — на самом деле у гор был припасен для нас совсем иной сценарий… Но об этом я расскажу немного позднее, а здесь мне самое время остановиться в своем повествовании, чтобы рассказать, как и почему мы оказались в это время на гребне Домбая и кто такие «мы».
Идея этого восхождения была предложена Бобом Горячих примерно за год до этого. Вот как высказался по поводу этой «задумки» один из нас, самый мудрый, Мика Бонгард: «В воздухе явственно запахло авантюрой». Действительно, в те времена на Кавказе зимой было принято просто кататься на горных лыжах, и никто даже не пытался сделать сколько-нибудь сложное восхождение. Траверс Домбая считался нелегким восхождением даже летом (5–А категории трудности). Поэтому никто не мог заранее сказать, насколько реально пройти этот маршрут в зимних условиях, когда многократно возрастает техническая сложность и объективная опасность маршрута. Подобный безумный замысел, конечно, уже смело можно было отнести к категории тех «вызовов», что таят бездну соблазнов для молодых фанатиков гор. Как тут не вспомнить слова поэта:
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.
Могу честно сказать, что в те далекие времена у никого из нас даже в мыслях не было уподоблять себя Вальсингаму из «Пира во время чумы», но почему бы сейчас, через 60 лет, не добавить щепотку высокой романтики к побудительным мотивам наших стремлений в молодом возрасте?
А если говорить по существу, то проблема прохождения сложного маршрута в зимних условиях в то время представлялась интереснейшей и совсем не тривиальной задачей. Ведь здесь к обычным сложностям пятерочного маршрута добавляются еще зимний холод, заснеженность скал, повышенная лавиноопасносность, и все это сопряжено с безумно тяжелыми рюкзаками из–за необходимости тащить теплую одежду и дополнительное снаряжение. Не забудем еще и неизбежно скудный рацион — примерно 300—350 г. на человека в день. И, конечно, хороший запас бензина для примусов.
Что же представляла собой наша команда? В нее входили научные сотрудники академических институтов: Евгений Тамм, Александр Балдин, Юрий Смирнов, Николай Алхутов и Вильям Смит, но нашим руководителем был Боб Горячих, который совсем недавно никакого отношения ни к науке, ни к нашему спортклубу не имел.
Начало всему было положено на одном из не очень значительных событий, что произошло в альпинистском мире зимой 57/58 года. В тот вечер на встрече в клубе в Москве решался животрепещущий вопрос: кто и куда поедет летом. В какой-то момент к нам — а это были Женя Тамм, Олег Брагин и я, подошел молодой и улыбчивый парень и спросил: «А не возьмете ли вы меня этим летом в свою альпиниаду в Безенги, на Кавказ?». Деталей разговора я, конечно, не помню, но своей тональностью он очень походил на разговор Бени Крика с главным налетчиком Одессы Фроимом Грачем из «Одесских рассказов» Бабеля.
Он (Боб) сказал Фроиму (Жене): «Возьми меня. Я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет в выигрыше».
Грач (Тамм) спросил его: «Кто ты, откуда ты идешь и чем ты дышишь?»
«Попробуй меня, Фроим (Женя) — ответил Беня (Боб), — и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу».
Все же кое-что о нашем новом знакомом мы узнали. Парня этого звали Борис Горячих, он — мастер спорта, прошел траверс Ушбы и еще ряд классных маршрутов. С ним вместе к нам примкнет его жена, Наташа, тоже мастер спорта, а еще Олесь Миклевич, альпинист из Минска и Аркадий Шкрабкин, из Москвы. Сам Боб производил впечатление удивительно жизнерадостного, открытого и сильного человека — отказать ему было просто невозможно. К тому же существовали и вполне прагматические соображения: заполучить в состав сбора еще одну четверку опытных альпинистов — от такого предложения не отказываются. Если снова обратиться к Бабелю, то ответ должен был бы прозвучать примерно так:
— «Перестанем размазывать кашу — ответил Грач (Женя), — я тебя попробую».
А если говорить не столь образным языком, то Бобу было сказано: «Конечно, возьмем, приходи на ближайшую тренировку на Воробьевы горы, там посмотрим». Но в ответ Женя услыхал слова, достойные Бени Крика: «Знаешь, это нам не подходит. Будем тренироваться по-отдельности!» Я уже довольно хорошо знал нашего начальника и полагал, что он вряд ли согласится на подобный «сепаратизм», но, к моему удивлению, Женя и не подумал возражать. Видимо, ему понравился открытый и независимый характер Бориса.
Ни Боб, ни Женя, ни мы с Олегом тогда даже не подозревали, насколько важными для всех нас была та встреча. Мы полагали, что просто усилили нашу команду, добавив в нее группу Бориса, а обнаружилось, что к нам прибились люди, близкие нам по духу и Боб не просто сделался членом команды альпинистов СКАН и нашим другом — он оказался тем самым центральным звеном, если хотите — тем «замковым камнем», что связал нашу любительскую постройку, типа клуба «дружных ребят», в нечто, подобное монолиту, что смогло просуществовать не один десяток лет, несмотря на все превратности жизни.
Как же складывались отношения «старожилов» с Борисом? Очень скоро выяснилось, что нам не потребовалось много времени, чтобы притереться друг к другу. Самое главное было то, что мы с ним одинаковыми глазами смотрим на горы. Ведь среди альпинистов немало спортсменов, для которых в восхождениях самоцелью бывает быстрота прохождения сложного маршрута. Я знал очень многих ребят из этой, чисто спортивной среды. Там было множество замечательных мужиков и упаси меня бог третировать их за подобный подход. Просто у нас сложился другой стиль — главное, с кем ты идешь на восхождение, а выбор вершины и маршрута не так уж и важны. Мы никогда не относили себя к разряду чистых спортсменов; горы для нас не стадион, где можно устанавливать рекорды скорости и удали, а нечто вроде святилища, куда мы допущены, чтобы очиститься от скверны городской жизни, насладиться чистотой горного воздуха, незамутненной красотой рисунка линий вершин… Звучит высокопарно, и я не припомню, чтобы мы когда-нибудь выражались в молодости такими словами, но пожалуй, не преувеличу, если скажу, что они довольно точно говорят о том, что мы искали и находили в горах. И в этом отношении Боб и его друзья от нас ничем не отличались — почти как у Киплинга: «мы с тобой одной крови, ты и я».
Кавказ, Безенги, лето 58 года. В то лето 58 г., в наш первый общий сезон в горах, приехали мы в Безенги, расселились, осмотрелись и поехала-понеслась наша горная жизнь. Для Бориса главной задачей в то время было найти четвертого человека в свою группу, поскольку с ним были только Олесь и Наташа; Шкрабкин приехать так и не смог. Боб присматривался ко всем нам, но колебался не долго — из всей компании «академиков» (так тогда нас называли) более всего ему понравился Игорь Щеголев. По-человечески это было более, чем понятно: Игорь Фомич был необыкновенно симпатичным человеком, с тонким чувством юмора и широчайшим кругозором. Но по своей конституции он выглядел немного тяжеловатым для прохождения сложных скальных маршрутов, и я, как один из тренеров сбора, не мог не поделиться этими сомнениями с Борисом. На что он ответил мне примерно в таком духе: «С таким душевным человеком, как Игорь, ходить в одной группе — это уже радость сама по себе, а где будет надо — я пролезу сам и всех вытяну». На том и порешили, и первым маршрутом для своей группы Боб избрал вершину Мижирги с перевала Селлы.
Описание маршрута, что досталось нам от прошлых лет, было предельно лаконичным: «Скалы трудные и очень трудные». Одна из групп нашего сбора пыталась сделать это восхождение, но они не очень серьезно отнеслись к словам своих предшественников, потратили неожиданно много времени на прохождение «очень трудных скал», схватили пару холодных ночевок; после чего вынуждены были вернуться — не успевали к контрольному сроку. Борис учел этот горький опыт и оказался гораздо удачливее — и скалы оказались не такими уж трудными, если к этому быть морально готовым. Он спланировал прохождение маршрута так, что они смогли обойтись без всякой «героики»: все три ночевки были в удобных местах и даже камнеопасный кулуар, о котором предупреждалось в описании маршрута, они успели проскочить по холодку ранним утром. Иными словами, все было сделано так, как надо. Но самое главное — Боб не ошибся в выборе Игоря, как члена своей группы. Конечно, для Игоря это был самый трудный маршрут из тех, что ему довелось проходить в прошлые года. Но он справился, что помогло ему обрести уверенность в себе, а это было как раз то, чего более всего ему не хватало. В последующие года Фомич уже смело ходил и на пик Коммунизма, и на Хан-Тенгри, и на пик Корженевский, да и на пик Щуровского по стене, и всегда он считался одним из сильнейших членов команды. Что же касается его первого восхождения с Бобом на Мижирги, то, пожалуй, не менее важным был совсем иной результат того восхождения — у Игоря на всю жизнь сложились необыкновенно близкие отношения с Борисом.
Игорь Фомич пользовался репутацией талантливого физика. Неудивительно было видеть, насколько успешно развивалась его карьера — от научного сотрудника, до заведующего лабораторией в Черноголовке и академика РАН. Но как бы занят он ни был, каждый раз, когда оказывался в Москве, он наведывался в лабораторию в МИСИ, где хозяином был Боб. Они вызванивали меня (я жил ближе всех) и еще пару ребят из нашей компании, и мы устраивали спонтанный и всегда радостный праздник. Со своей стороны, и все мы, те кто проживал в Москве, с готовностью приезжали в Черноголовку: посидеть за праздничным столом, покататься на лыжах зимой или просто прогуляться. И так было до безвременной кончины Игоря Фомича в 1995 году, которая нас всех просто поразила своей неожиданностью, а для Бориса так и осталась незаживающей травмой.
О том, как нам жилось во время нашего первого сбора в Безенги в 1958 г., о том, что нас окружало и чем были заполнены будни той экспедиции, подробно рассказано в моей книге «Мои друзья и горы», и я не буду здесь повторяться. Напомню только, что в горах надо быть всегда готовым к тому, что очень резко и неожиданно там может произойти переход от ощущения полноты и радости бытия к осознанию того, что случилась «черная беда». Именно такое и случилось у нас, когда в ночь на 28 июля в лагерь прибежала двойка с соседнего сбора, чтобы сообщить, что они приняли сигнал бедствия от нашей группы, что была на восхождении на вершину Шхара. Подойдя ближе к маршруту, они узнали, что сорвалась и разбилась двойка Спиридонов-Добрынин.
На том и закончилась почти идиллия нашей жизни в горах тем летом. Уже к утру мы были у подножия Шхары, сразу обнаружили тела погибших и к вечеру доставили их на Миссес-кош. О том, чем были заполнены наши последующие дни, я ранее уже писал. Для меня сейчас важнее всего подчеркнуть, что после всех переживаний, связанных с транспортировкой тел погибших друзей, похоронами, встречей и проводами их родителей, было почти невозможно представить себе возвращение к обыденной городской жизни. Конечно, ничего не было проще, чем собраться и уехать, но это было бы равносильно признанию поражения: получалось так, как будто Шхара нас сломала.
Как-то сама собой родилась задумка — мы должны выйти на Шхару и пройти маршрут ребят по северному ребру (маршрут Томашека-Мюллера). Сразу образовалась группа, во главе которой стал Борис. Он очень серьезно отнесся к подготовке восхождения. Прежде всего, он получил подробнейшую консультацию у Толи Кустовского, который недавно прошел этот маршрут как инструктор группы британских альпинистов. Главное, что мы от него узнали — это то, что основная сложность маршрута: сильно обледенелые и крутые скалы и почти полное отсутствие мест, подходящих для биваков. Поэтому мы отказались от всякой новомодной обуви, типа «Вибрамов», и как следует наточили трикони на наших видавших виды отриконенных ботинках. Ну, а принцип выбора места для бивуаков у Бориса был прост: даже если площадка попадалась среди бела дня, мы не проходили безучастно мимо, а там и ставили палатку. После чего до конца светового дня вели дальнейшую обработку маршрута, зная, что местом для ночлега мы уже обеспечены. А ближе к вечеру спуститься к палатке и на следующий день подняться по навешенным веревкам — не составляло особых проблем.
Вряд ли надо снова подробно рассказывать о том, как проходило это восхождение. Скажу только, что Шхара относится к числу не очень многих вершин, для характеристики которых так и хочется применить эпитеты типа «зловещая» или «угрожающая». Её северное ребро выглядит также угрожающе страшным, как, скажем, маршрут на пик Победы с севера на Тянь-Шане. Тем более важно было, что мы успешно справились со всеми вызовами сложнейшего маршрута и нас, что называется, «отпустило». Теперь мы могли покидать горы без унизительного чувства поражения.
Зимний Домбай, восьмое марта, кульминация, 1960 год. Напомню, что в тот день мы вышли на западную вершину Домбая, откуда было уже недалеко до Главной вершины, где заканчивался маршрут нашего траверса. Так мы планировали, но горы самым жестоким образом вынудили нас поменять наши планы.
Дело в том, что за нами с интервалом в один день по тому же маршруту шла очень сильная группа альпинистов МВТУ под руководством Игоря Ерохина. Поэтому мы не удивились, когда увидели, что ниже нас на гребне, примерно на том месте, где была наша ночевка в предыдущий день, появилась двойка Адика Белопухова и Валентина Божукова. Мы обрадовались и стали им кричать какие-то банальные приветствия, но через мгновение замолкли, услышав в ответ какой-то непривычный и очень напряженный голос Вали Божукова: «Слушайте нас внимательно: при подъёме по „психологической“ стене сорвались и разбились насмерть четверо: Игорь Ерохин, Ия Соколова, Геннадий Фещенко и Аркадий Цирюльников».
В такие моменты рвется непрерывность хода времени: все, что было «до того», исчезает, пропадают без следа все те намерения, что составляли программу действий на ближайшие дни. Очевидно, что не могло быть и речи о завершении траверса Домбая, как спортивной цели. Этот честолюбивый вызов перестал существовать для нас. С нуля начинался новый отсчет времени. Теперь наша ближайшая цель — соединиться с двойкой Белопухов–Божуков, а затем как можно скорее всем уходить вниз.
Наутро выслали Сашу Балдина и Юру Смирнова встречать Адика и Валентина, a сами тем временем собрались и попытались было пройти по гребню до Главной вершины просто по той причине, что это был самый очевидный путь ухода, и к тому же была надежда найти там следующую заброску продуктов. Был ясный день, солнечно и ветрено, холод пронизывал нас буквально до мозга костей, никакая одежда не спасала. В первой связке шли Коля Алхутов и я, и за два часа мы смогли преодолеть лишь метров сто гребня, сильно заснеженного и обильно украшенного карнизами на обе стороны. Здесь быстро не пойдешь, а мороз пощады не давал. Становилось ясно, что до вечера нам не успеть добраться до Главной, а на гребне нашу палатку просто сдует. Тут к нам подошла вторая связка Боб и Женя. Немного посовещались и решили, что путь через Главную для нас закрыт — он сопряжен с неоправданным риском. Надо возвращаться к месту ночевки на Западной с тем, чтобы спускаться кратчайшим путем на ледник, прямо по стене. Известно было, что там пройдено два маршрута: Макарова и Сасорова. Но все осложнялось тем, что: во-первых, никто из нас не знал этих маршрутов, да и явно маловато было крючьевого снаряжения для организации спуска по отвесным участкам, а во-вторых — у нас практически кончились продукты, а теперь нас было уже не шесть, а восемь человек. Хорошо хоть бензина было достаточно, и, стало быть, горячим питьем мы были обеспечены.
Дополнительная сложность была еще связана с тем, что наша рация окончательно вышла из строя, и спасатели внизу не знали толком, что произошло с нашими группами. Последнее, что наш радист Коля Алхутов смог передать вниз, было сообщение об аварии на траверсе Домбая. На всякий случай на КСП готовились к организации больших спасательных работ, для чего была вызвана из Москвы сборная команда Союза по альпинизму. Однако, мы слишком хорошо знали, с каким риском сопряжены спасательные работы, особенно в условиях зимней непогоды. К тому же с нашей группой все было более-менее благополучно, и нам спасатели не требовались. Поэтому просто необходимо было как можно скорее добраться до людей.
Спуск занял у нас три с половиной дня, и это была борьба полуголодных людей за выживание в экстремальных условиях. При этом мы просто обязаны были идти предельно аккуратно, не допуская никаких срывов из-за поспешности или усталости. Первым на спуске обычно шел Женя Тамм. Его главной задачей было прокладка подходящего маршрута для спуска дюльфером (так именуется способ спуска «по веревке сидя»), уборка всех ненадежных камней и нахождение более-менее подходящей площадки для организации страховки и налаживания следующего дюльфера. А замыкающим был Боб, который выбивал все лишние крючья и должен был следить за тем, чтобы веревка легла так, чтобы возможно было легко ее снизу выдернуть. Если здесь ошибешься, то может понадобиться лезть вверх почти без страховки, чтобы разложить веревку, как следует. И Женя, и Боб работали слаженно и четко. Все те 18 -20 дюльферов, что нам пришлось проделать за эти дни, прошли без единой осечки.
Удивительнее всего было то, что усталость тогда почти не ощущалась, хотя последние три дня никакой еды вообще не было. Казалось, что так мы можем идти бесконечно долго, как автоматы — таким было нервное напряжение. Вечерами наш начальник Боб Горячих раздавал нам по ложке коньяка из аварийного запаса, что и составляло вместе с кружкой кипятка наш ужин. Одна палатка на восемь человек — это означало, что поспать толком ни у кого не получалось. Хорошо хоть, что в палатке было тепло, даже когда на улице стоял двадцатиградусный мороз.
Слава богам, все обошлось, никаких ЧП не произошло, и мы смогли спуститься на ледник вполне благополучно. Прилетевшие из Москвы спасатели нам не понадобились. Они сразу отправились через гребень за телами погибших, отрядив нам навстречу в качестве «скорой помощи» Юру Каунова и Володю Безлюдного. Момент встречи с ними был волнующим, и мне запомнился надолго. Сначала был обжигающий сладкий чай — ну просто божественный нектар. За ним последовали апельсины, которые поедались прямо с кожурой, а вдогонку — «палка» копченой колбасы, также поглощенная вместе с оболочкой. Помню, что при этом чувство вкуса у меня совершенно атрофировалось — все это было просто «пища». Тут наши спасители всерьез обеспокоились такими чудовищными аппетитами и волевым образом прекратили это безобразие.
Немного дальше, уже на тропе, ведущей к Домбайской поляне, мы совершенно неожиданно увидели Игоря Евгеньевича Тамма. Он знал про наше восхождение и приехал из Москвы несколько дней назад, чтобы быть поближе к сыну, и заодно погулять в горах. Здесь он узнал об аварии, что случилась наверху, при чем никто не мог ему в точности сказать, что и с кем там произошло. Как он потом признавался сыну, он так разнервничался, что даже не мог работать!
Старший Тамм всех нас хорошо знал, как Жениных друзей, и мы частенько гостили у Таммов на даче в Ильинском. Припоминается забавная история, что случилась, когда в один из таких вечеров Игорь Евгеньевич, который был большим любителем шахмат, предложил сыграть с ним. Мы было застеснялись — все-таки академик, Нобелевский лауреат, как-то неудобно. Но Боб сразу согласился, и к общему удивлению, он выиграл первую партию, а вторую свел вничью. Было забавно наблюдать, как И.Е. почти по-детски огорчился из-за своих неудач, но с тех пор он всегда радовался видеть Борю среди гостей и не упускал возможности вызвать его: «К барьеру!». И вот здесь в горах он встречает своего сына и всю нашу команду во главе с Борисом, живых и невредимых после всех перенесенных испытаний. Он даже не старался скрыть своего радостного возбуждения, приветствуя нас, и особенно сердечно поздоровался с Бобом как с капитаном нашей команды.
В альплагере на Домбайской поляне нас встретили почти как выходцев с того света. Да и мы среди тепла и дружеской заботы первое время чувствовали себя кем-то вроде чужестранцев, пришельцев откуда-то из другого мира. Это ощущение еще более усилилось, когда мы ехали на машине из Домбая в Черкесск. В селеньях по дороге можно было видеть обычную рутину жизни: дым из труб, скотина на дворах, играющие дети, женщины с какими-то узлами, мужики на санях с дровами или углем, повсюду снег: на крышах изб белый, а на дороге грязный до слякотной черноты. А там в горах, откуда мы возвращались, не было ничего, что могло напоминать эту жизнь, там нигде не было ни души, и повсюду лежал девственно чистый снег… И самое ужасное то, чему разум отказывался верить, — всего лишь несколько дней назад в том кристально чистом снежном царстве, почти на наших глазах, четверо близких нам людей навсегда простились с жизнью!
Ну а потом, в Москве про наше настроение после похорон ерохинцев лучше всего было сказано в трагическом речитативе Юрия Визбора:
— Ну вот и поминки за нашим столом.
— Ты знаешь, приятель, давай о другом.
— Давай, если хочешь. Красивый закат.
— Закат то, что надо, красивый закат.
— А как на работе? — Нормально пока.
— А правда, как горы, стоят облака?
— Действительно, горы. Как сказочный сон.
— А сколько он падал? — Там метров шестьсот.
— А что ты глядишь там? — Картинки гляжу.
— А что ты там шепчешь? — Я песню твержу.
— Ту самую песню? — Какую ж ещё… Ту самую песню, про слёзы со щек.
— Так как же нам жить? Проклинать ли Кавказ? И верить ли в счастье?
— Ты знаешь — я пас. Лишь сердце прижало кинжалом к скале…
— Так выпьем, пожалуй,… — Пожалуй, налей…
Однако же, прошел месяц–другой московской жизни и вновь замаячило лето и снова надо было решать, что мы будем делать. Может быть, неискушенному читателю покажется, что теперь-то, после того, что случилось два года назад в Безенги и после только что пережитой трагедии на Домбае, здравый смысл возьмет верх, и мы, образумившись, прекратим, наконец, испытывать судьбу? Скажу сразу — этого не произошло. Снова и снова почти каждым летом мы отправлялись в горы — Кавказ, Памир, Тянь-Шань, Фанские горы или на худой конец — Памиро-Алай, Матча. И не было никакой возможности устоять перед соблазном еще раз хлебнуть морозного горного воздуха, умыться ледяной водой, почувствовать напряжение подъема по ледовому склону или крутым скалам, азарт спуска глиссером по снегу или, наконец, расслабиться у костра, наблюдая за тем, как луна медленно траверсирует вершины горного хребта. Позабыть обо всем этом, переключиться на что-либо иное было невозможно, невзирая на то, что время от времени с роковой неотвратимостью мы теряли в горах наших друзей.
Ну, и как же все-таки складывалась наша жизнь вне гор, на равнине?
В горах мы жили общей жизнью, нас объединяла общая цель — восхождения на вершины. Ты идешь в связке, и веревка — это не только способ обезопасить друг друга страховкой, это еще некий символ ответственности друг за друга. И это не просто слова-декларация, а суть суровых требований жизни в горах. Без чувства такой ответственности невозможно ходить в горах на серьезные маршруты.
А в городе на смену романтике гор приходила проза обыденной жизни, где у каждого есть своя семейная ячейка, дом, работа, встречи с приятелями, иногда какие-то развлечения, вроде театра или художественной выставки. Все это свое, близкое, и первые недели всем этим просто упиваешься. Но при всей насыщенности городской жизни трудно было избавиться от ощущения, что чего-то самого главного в ней не хватает. В глубине души еще сохранялось, почти как фантомное чувство, воспоминание о чем-то вроде «горного братства». Помнится, что некоторое время тогда нашим приветствием в городе был клич немецких горных егерей: «Берг хайль»!
Со временем все это неминуемо ослабевало, но не у всех, нет, не у всех! Борис всегда особенно остро ощущал переход от гор к равнинной жизни. Он просто не мог примириться с тем, что еще совсем недавно, в горах мы жили общей жизнью, как родные братья, а теперь? Что же получается: мы всего лишь хорошие знакомые, да? Против этого протестовала сама его натура. Он был слишком эмоциональным человеком и быть сегодня одним, а завтра, подчиняясь изменившимся требованиям жизни, совсем другим — это было не для него.
Хорошо известно высказывание Антуана де Сент-Экзюпери: «Единственная известная мне роскошь — это роскошь человеческого общения». Признаемся, что для большинства так называемых «взрослых людей» (термин Экзюпери!), это высказывание звучит всего лишь как романтическое пожелание, конкретного смысла не несущее. Как-то в разговоре с Борисом я, не помню по какому поводу, процитировал эту максиму Экзюпери, он хмыкнул и с искренним недоумением заметил: «А что же еще тогда прикажете считать роскошью?»
Боб вообще-то совсем не любил словоговорения на подобные темы — просто ему был свойственен особый дар, даже талант — пробуждать в людях чувство дружеской симпатии и потребность в деятельном (это — главное!) общении. Эта его способность, творческая по своей сути, позволяла ему сближаться и находить общий язык с самыми разными людьми — от шоферов до академиков. Но если говорить о Боре, как об одном из закоперщиков нашей команды «академиков» (так иногда называли команду СКАН), то главный, так сказать, нерв его жизни был в том, что он интуитивно и неутомимо стремился к тому, чтобы наша жизнь на равнине была, если не такой же, как в горах, то по крайней мере в чем-то главном, схожей с ней. Иными словами, жизнь в Москве для него должна была быть продолжением (да, именно так!), а не отрицанием жизни в горах.
Б.А. сделался хранителем такого настроя, поддерживая в каждом из нас ощущение ответственности не только за себя, но и за своих друзей. Благодаря этому, живя во вполне благополучной Москве, мы в некотором роде привыкли ощущать себя постоянно в готовности, почти как в спасотряде в горах — по первому сигналу бросать все свои дела и спешить на выручку. В свою очередь, это давало каждому из нас чувство защищенности от всяких невзгод, и конечно, явилось одной из основ существования нашего дружества. Не буду приводить все то множество конкретных дел, которые при этом нам приходилось сообща исполнять, чтобы мое повествование не стало походить на известную повесть А. Гайдара. Но о наиболее запомнившихся событиях, пожалуй, стоит рассказать.
Где-то в конце 1967 года тяжело заболел Игорь Евгеньевич Тамм. Вскоре его перевезли домой, где был организован постоянный круглосуточный медпункт с подключением больного к аппарату искусственного дыхания. Первые месяцы он еще активно работал за письменным столом, принимал сотрудников своего теоротдела, интересовался новостями в науке, политике, шахматами и творчеством бардов. Я с удовольствием вспоминаю, как по его просьбе мы устроили для него сольный концерт А. Дулова, которого он особенно выделял. Частенько к нему наведывался его старый спутник по горам и партнер по шахматам В. П. Сасоров, но И.Е. особенно загорался, когда его сын Женя из соседней квартиры приводил к нему Бориса, просто так, поздороваться. Этот «визит вежливости» немедленно превращался в любимый вызов И.Е. — «К барьеру!», и соперников, еще «дымящихся» от шахматного азарта, с трудом разводили часа через полтора-два.
Ну, а когда ближе к лету потребовался перевоз старшего Тамма на дачу, то было совершенно естественно, что в качестве вспомогательного персонала Женя привлек Бориса и еще нескольких ребят из нашей компании, чтобы помочь перевезти отца вместе с громоздким аппаратом искусственного дыхания, аккумуляторами и еще множеством всяких аксессуаров. Это был тот обряд, что мы исполняли на протяжении ряда лет, и всегда для нас была наградой возможность пообщаться с этим замечательным человеком.
Один из таких деловых визитов на дачу Таммов мне запомнился еще и тем, что в тот раз проведать Игоря Евгеньевича пришел АД. Сахаров, живший по соседству. Они о чем-то побеседовали, а потом, когда А.Д. ушел, Тамм сказал, ни к кому не обращаясь: «Какой замечательный человек Андрей Дмитриевич, но не сносить ему головы!». Потом уж я узнал от Жени, что отец обсуждал с гостем его известное письмо к руководителям нашей страны.
А случалось и совсем иное, как например, такое: как-то поздним вечером зимой у меня дома раздался звонок, и мой друг Олег Брагин сообщил мне, что один из детей наших друзей до сих пор не вернулся из лыжного похода. Не задавая лишних вопросов, я немедленно закончил все свои дела, собрал снаряжение, требуемое для ночного поиска в лесу, и помчался на Савеловский вокзал, где вместе с Борисом, Олегом и Димой Дубининым мы собрались ехать на станцию Лобня, откуда стартовали дети. От подобного «геройства» нас тогда уберегла только подъехавшая на вокзал в последний момент Надежда Куликова, сообщившая нам, что ее драгоценный Алеша все-таки появился, живой и здоровый. Дети были у всех, и время от времени подобного рода вызовы случались во все времена года, и нам приходилось еще не раз исполнять функции нынешней службы «Лиза Алерт».
Одним из самых запомнившихся случаев нашего общего деяния была работа по срочному исправлению системы ассенизации на 4-ой Тверской-Ямской в доме, где жили Дора Израиловна и Моисей Ильич, родители нашего погибшего друга Мики Бонгарда. Мы их не забывали, но, пожалуй, именно Боб более всех с ними сблизился. Он довольно часто к ним наведывался просто так, попить чайку и поговорить. У них было чего вспомнить: отца Бориса, бухгалтера иглоделательного завода под Можайском, арестовали в 37 г и вскоре расстреляли. Дору Израиловну, театральную актрису, арестовали в 41 году по обвинению в подготовке «покушения на вождей», но почему-то не расстреляли, а отправили в лагерь, откуда комиссовали по болезни через год. Мика в то время копал окопы под Можайском, а потом пребывал в лейтенантской школе где-то на Урале, после чего отправился на фронт. Что касается отца Мики, Моисея Ильича, то он был впервые арестован в начале 20-х за сионизм и с тех пор мотался в ссылках по разным, «не столь отдаленным местам».
Так вот, в один прекрасный день Моисей Ильич сам позвонил Бобу с просьбой о срочной помощи — где-то под землей лопнула канализационная труба, образовалась пробка, и нечистоты стали заполнять ванную в квартире Бонгардов (они жили на первом этаже). Боб немедленно к нему примчался, оценил ситуацию и назначил на следующее утро сбор всем, кто сможет. На такое святое дело, как уборка дерьма (что может быть чище и благороднее в авторитарном государстве! См. об этом подробнее у Генриха Белля), собралась неплохая бригада из «научников» разных специальностей. Среди нас были не только друзья Бори, но и волонтеры, так сказать, друзья друзей. К примеру, стоило мне только упомянуть у себя в ИОХе о предстоящих работах, как к нам в помощники записалось сразу несколько моих приятелей. Всего тогда нас собралось человек 12—13. Боб, как настоящий прораб, обеспечил нас всех инструментами, от лопаты до отбойного молотка с компрессором, а меня отрядил достать на какой-нибудь стройке трехметровый кусок асбоцементной сливной трубы. На мой вопрос: «Боря, а где же я тебе ее возьму?» — ответ был дан исчерпывающий, но не совсем приличный: «Где, где — в Караганде!». Скажу сразу — я с этим ответственным заданием смог справиться, но только благодаря наличию в кармане четвертинки спирта. Когда я притащился с трубой, был уже выбит бетон под порогом подъезда, выкопана траншея и добрались до лопнувшего слива. Еще пара часов и авария была ликвидирована. Жильцы того подъезда, проходя мимо нас, не могли поверить своим глазам, и все хотели выяснить, как же можно вызывать подобную срочную аварийную команду. На что Боб отвечал, что это бригада со стройки сверхсекретного объекта КГБ и спрашивающий немедленно ретировался.
Реакция стариков Бонгардов — мне трудно ее воспроизвести. Ничего подобного они не ожидали и было трогательно видеть, как они гордились перед соседями своими молодыми друзьями. Можно сказать, что они воспряли духом, более всего от ощущения чувства защищенности, а этого так не хватает старикам!
Но все же, все же — ведь подобными добрыми делами не исчерпывалась наша жизнь вне гор, та общая жизнь двух-трех десятков людей, что и по сей день вспоминается, как нечто абсолютно уникальное по своему духу всеохватывающей общности.
Конечно, первым делом я должен вспомнить про наши тренировки — ведь без этого невозможно поддерживать форму для восхождений в летний сезон. Они состояли из двух равноправных частей. Первая — это бег и всяческие упражнения на Ленинских горах. Это совершенно замечательное место и бег по склонам Воробьевки среди роскошного парка на вольном воздухе был на удивление приятным занятием. Правда, когда мы в один сезон позвали к нам в качестве профессионального тренера заслуженного мастера спорта Ивана Петровича Леонова, он быстро научил нас, что называется, «свободу любить». Назову лишь пару его любимых упражнений. Одно — это пробежка на полную скорость на 300 м с возвращением к старту легкой трусцой. И так 10 раз! Или проскакать на одной ножке, то на правой, то на левой — по крутой тропе снизу до верха Воробьевых гор, а потом вниз, в припрыжку на двух ногах до набережной. Обычно И. П. потом спрашивал: «Ну, а по второму разу будем?», что могло вызвать только нездоровый смех у всех нас. Но подобное «мучительство» (кстати, очень полезное!) продолжалось только месяца полтора-два, после чего Ивана Петровича призвали к более достойным спортсменам.
Боб только потешался, когда я пытался его затащить к нам на Ленгоры, рассказывая о том, как там здорово. Он лично был знаком с Леоновым и очень его уважал, но, насколько я припоминаю, ни разу «не унизился» настолько, чтобы принять участие в наших тренировках — видимо, ему не нравилась вся эта система искусственно создаваемых нагрузок. Он был сторонником тренировок другого типа, где польза сочеталась с удовольствием. Вот о них-то мне и хочется вспомнить.
В 50-е года среди альпинистов было принято зимою устраивать чуть ли каждые выходные лыжные гонки на трассах по 30, 40 или даже 50 км. Но нам как-то было не по душе подобное изнурительное и довольно безрадостное занятие. То ли дело подмосковные походы — вот это нам подходило, и Боб был одним из самых горячих их сторонников. Декабрь, январь, февраль — менялась только погода, от оттепелей до морозов, но постоянно, почти каждую субботу или воскресенье где-то в районе 9 часов утра у пригородных касс одного из северных вокзалов (Ленинградский, Ярославский или Савеловский) собиралось человек 8—10 из нашей компании с тем, чтобы пройти очередной из маршрутов «с дороги на дорогу».
Ничего героического в таких походах, о чем стоило бы рассказать, конечно, не было, если не считать того, что почти весь маршрут шли мы без лыжни, по целине, по азимуту, и в походы такие мы звали всех наших, независимо от их умения ходить на лыжах и тренированности.
Вот как, к примеру, выглядел один из наших воскресных походов от Солнечногорска до Туриста (ориентировочно 35—38 км). Шестеро мужиков во главе с Бобом, две дамы, Валя Горячева и Оксана Васильева. С Валюшей проблем никаких не было — она хорошо бегала на лыжах. Что касается Ксаны, то трудно было представить себе более неспортивной девушки, чем она, но человек она была очень веселый и компанейский, и ее хотелось взять с нами. Стало быть, весь ее груз распределили среди мужиков, а самый выносливый из нас, Юрочка Смирнов вызвался быть кем-то вроде поводыря, вытаскивая Ксану за палки на горки, съезжая с нею вниз и, конечно, извлекая ее время от времени из сугробов, куда она норовила зарыться. Но чтобы ему не было скучно самому, он придумал себе упражнение — первые километров 15 он шел без опоры на палки, а далее перешел на двухопорное хождение на руках. Говорил, что тренировка у него получилась вполне полноценная. Конечно, в таких походах соревновательный элемент полностью отсутствовал, но каждый вволю наработался, протаптывая лыжню, а все мы в полной мере могли насладиться красотой зимнего Подмосковья. Ну, а под конец, когда до станции Турист оставалось километров семь, Боб вышел, наконец, на приличную лыжню и рванул вперед полным ходом, а за ним ринулись еще несколько особо азартных товарищей. И так без остановки они бежали до самой Шукаловки, что рядом со станцией. Очень неплохим получился этот пробег, если не считать того минуса, что от станции пришлось отправить самого ходкого из нас (кажется, это был Дима Дубинин) назад на встречу с нашим «арьергардом». К концу похода бедная Ксаночка еле стояла на ногах, но буквально светилась от гордости — ведь для нее это было высшим спортивным достижением!
Но такие «однодневки», как они ни были сами по себе интересны, ни в какое сравнение не шли с главной зимней забавой — мартовским походом на несколько дней по Подмосковью. Насколько я помню, Боб был первый, кто предложил такую идею. Воспринята она была с энтузиазмом. Вспоминается, как в далеких 60–70-х годах, почти каждый год, примерно в одно и то же время в начале марта, повинуясь какому-то внутреннему зову, мы, компания друзей-альпинистов, забрасывали все свои самые неотложные дела и на 4–5 дней уезжали из Москвы, чтобы побродить по лесам и полям ближнего и дальнего Подмосковья.
В памяти одни картинки сменяются другими. С утра по морозцу скольжение идеальное, лыжи несутся сами, рюкзаки еще не намяли плечи, идется без напряжения; под ногами снежный наст, по которому можно идти в любую сторону. Вот темный лес, речка, небольшая горка. Опять тропа пошла по просеке среди деревьев, и вдруг из темноты леса мы попадаем на ослепительно сверкающее снежное поле, уставленное стогами сена. Какая удача — кстати, ведь уже полдень, пора бы и перекусить. Выбираем стог повыше и с солнечной стороны устраиваем лежанку. Разжигается примус, топим снег и завариваем чаек покрепче. Проходит час–другой, спешить никуда не надо, лежим, загораем, а солнце все ярче, а вокруг такая тишина и покой и так легко дышится, что хочется только одного, чтобы это никогда не кончалось.…
Расплата за такое безмятежное отдохновение наступает с первых шагов движения — взамен легкости утреннего скольжения приходит суровая необходимость тропить лыжню по глубокому и раскисшему снегу. Но организуется чередование лидера, и хоть и не очень быстро, но мы идем к цели. Кончается поле, снова лес и снова подмерзающий наст, что хорошо держит лыжи. Уже понемногу вечереет, но где-то близко должна быть деревня. Теперь надо спешить, чтобы попасть в нее засветло — в темноте в деревнях с неохотой открывают двери незнакомцам. В те времена у нас даже не возникало вопроса: как это так, что, на ночь глядя, вот такую компанию, 6–8 мужиков, вдруг возьмут и пустят переночевать. И ведь действительно, ночлег мы всегда находили, особенно, если выпускали вперед Боба в качестве главного постояльца. Ему никто не отказывал. Видимо, традиция давать кров странникам тогда еще была жива на Руси! Невозможно припомнить по именам всех этих гостеприимных людей — чаще всего это были одинокие старики и старухи, хорошо помнившие бедственные военные времена, но иногда и молодые многодетные бабы, которым была нелишней наша копеечка за ночлег. Все они от души радовались гостям, частенько даже угощали нас щами или картошкой и, уж конечно, квашеной капустой, а если повезет — то и солеными грибами. А у нас же всегда в достатке была тушенка и всякие там колбаса–сыр–конфеты, продукт, малодоступный в те времена в советской деревне. И естественно, к столу мы всегда выставляли бутылочку-другую той самой, «проклятой»… А потом допоздна засиживались, слушая немудреные рассказы хозяев о своей жизни. Раскладывались спать на полу в спальных мешках — тепло и не тесно. А с утра — самовар, чай, какие-то бутерброды и снова в снега, снега, снега (почти как у Гете: dahin, dahin…). Удивительно, насколько четко сохранились в памяти ощущения свежести и полноты бытия от таких походов. Теперь же, на склоне лет, я могу к этому добавить, что на самом деле это и были те самые мгновения, или, если хотите, те «кванты» счастья, которые выпали на мою (и нашу!) долю. Вот так и никак иначе!
А с наступлением апреля сезон лыж заканчивался, и что же ему приходило на смену? Вы угадали — сезон байдарок. Для нас он обычно открывался в первую декаду апреля, когда наступало половодье, и даже у самых незначительных речек просыпался инстинкт своенравных водных стремнин. Такой речкой для нас была Волгуша, что течет вдоль Клинско-Дмитровской гряды, неподалеку от станции Турист. Всего лишь 7—10 дней в начале апреля она бурлит и кипит, срывая мосточки, затопляя прибрежные рощицы и образуя завалы из упавших деревьев с тем, чтобы вскоре, буквально через неделю, угомонившись, превратиться почти в ручей, с берегами, украшенными всяким хламом от половодья. Это и было то временное окошко, когда нам было трудно устоять перед соблазном сплавиться по Волгуше, как если бы она была настоящей горной рекой.
«Покорение» Волгуши заняло у нас три сезона. Мне более всего запомнился второй «заезд». Тогда от начала маршрута у деревни Каменки вышло десять лодок. Договорились, что идем попарно и независимо, двумя лодками, чтобы друг друга подстраховывать. Первыми шли две лодки, моя и Мики Бонгарда. Мы как-то очень удачно прошли через все завалы и запруды, миновали лабиринты подтопленных деревьев и часам к восьми вечера добрались до деревни Муханки, где кончался маршрут. Здесь стали разбирать лодки, после чего мы с Микой прошли немного назад по берегу речки, надеясь встретить наших. Никого так и не обнаружили, но решили, что в отставшей команде достаточно мужиков, и они самостоятельно со всем справятся. С тем и уехали в Москву.
А на следующий день выяснилось, что мы совершили непростительную ошибку — оставили друзей, даже не попытавшись выяснить, что с ними. Нас несколько оправдывало то, что изначально не предполагалось ожидать друг друга. Но нам ничто не мешало, закончив маршрут, поставить палатку, оставить там с кем-то байдарки, отправиться по берегу вверх по течению Волгуши, бродить там хоть всю ночь, но найти отставших. Большого смысла в этом не было, поскольку своих мужиков у них было достаточно, и наша помощь не так уж была необходима. Но при полной неопределенности ситуации мы должны были в первую очередь руководствоваться чувством солидарности, а не какими-то доводами здравомыслия.
Мы были неправы, и потом в Москве мне пришлось вытерпеть несколько крайне неприятных для меня разговоров с друзьями, в особенности с Борькой. Он сам не был в том походе, но обо всем, конечно, узнал и мне сказал примерно следующее: «Слушай, старик, как ты мог так поступить? То, что ты говоришь в свое оправдание может быть и верно, но к делу не имеет ни малейшего отношения. Вы вернулись в Москву, даже не попытавшись узнать, что случилось с вашими друзьями там, на этой самой чертовой Волгуше! Даже не хочу слышать, чем вы тогда руководствовались. Это ничем оправдать нельзя, точка!». Но через какое-то время нас поняли и простили — все-таки мы с Микой не были такими уж закоренелыми эгоистами; просто неправильно оценили ситуацию.
Но апрельская Волгуша всегда была только присказкой, а сказкой оказывался майский поход на байдарках, где адмиралом неизменно был Боб. Все начиналось с того, что кто-нибудь — обычно это был Юра Садовников, Андрей Мигулин или Дима Дубинин, где-то с середины апреля погружался в изучение рек и озер ближнего и дальнего Подмосковья, чтобы выбрать наиболее подходящую речку для 4-5-дневного путешествия. После чего наступал черед Боба обеспечить нас транспортом. Для этой цели он обычно отправлялся в ближайшую автобазу, где у него происходил примерно следующий разговор с шоферами и механиками: «Ну что, Боря, опять повезешь своих евреев на воду? Ты у них наподобие главаря, что ли? Не надоело еще или они тебе хорошо платят?» На что Боб обычно не «заводился», а объявлял, как на аукционе: «В этот раз едем на Пру (или Угру). Расстояние 150 (или 200 км?), нужен ЛИАЗ на 25 человек с багажом (10 байдарок). Начальная цена 1300 рублей (сумма приблизительная, точно не помню). Кто меньше?» Торги быстро заканчивались ко всеобщему согласию; после чего распивалось принесенное Бобом пиво.
В назначенный день перед майскими праздниками во двор его лаборатории на Разгуляе въезжал автобус, и водитель с ужасом наблюдал нечто совершенно несуразное: толпа детей и взрослых всех возрастов, горы багажа и еще обязательно, так сказать, для комплекта 2—3 собаки, совершенно обезумевшие от всей суеты. На лице бедного водилы можно было прочесть явственное: «И все это я должен взять?» Но нам было не впервой решать подобные невозможные задачи. Через какие-нибудь 30—40 мин байдарки были сложены аккуратным штабелем на полу автобуса, рюкзаки превратились в дополнительные сидения, а каким образом разместился с десяток наших детей, никто даже не пытался разобраться.
В нашей истории было не один десяток майских походов и в каждом из них было что-то особенное, запоминающееся. Вряд ли возможно даже просто перечислить названия всех тех рек, по которым мы плавали. В этом списке будут: Истра и Клязьма, Воря и Держа, обе Нерли, Волжская и Клязьминская, Нара, Пахра и Снежеть, Гусь, Угра и Пра, Судогда и Нарма, Озерна и Жиздра и еще с десяток других, названия которых я не упомню.
Но мне трудно удержаться, чтобы не рассказать читателю пару историй про наши «путешествия», просто для того, чтобы лучше передать их дух.
Вспомню, к примеру, сплав по системе рек Бужа — озеро Святое — река Пра, который проходил по Мещерской стороне, где было все: моря разливанные озер с хорошо замаскированными соединительными протоками, заблокированными бобровыми хатками, топкие берега, где не поставишь палатку, а временами полная неясность, где искать главное русло. Зато имелись во множестве стога сена на маленьких островках, где было так приятно позагорать на солнце, пока разведчики выясняют, «куда ж нам плыть?». Наш адмирал Боб, казалось, поставил своей целью не пропустить ни одного места, где можно расслабиться, и нам всем это, конечно, нравилось. Не удивительно, что, когда на третий день похода он произвел несложные подсчеты, то выяснилось, что за оставшиеся один-полтора дня мы не сможем доплыть до Спас-Клепиков к месту встречи с нашим автобусом. В тот момент я оказался рядом с ним, и начальник немедленно принял решение, о чем мне и сообщил: «Старый, что ты скажешь насчет того, чтобы завтра ранним утречком рвануть по бережку до Спас-Клепиков и перехватить там машину? — Боря, а сколько там осталось? — Да не очень много, по карте километров 35—40. Справишься, если не будешь лениться».
Вышел я утром рано-рано и пошел-побежал по очень приятной дороге через сосновый бор и березовые перелески, но к полудню солнце стало очень жарко припекать, мучила жажда, да и желудок требовал пищи. Я, конечно, не собирался сдаваться, но осознавал, что явно опаздываю к назначенному сроку. И тут пришло спасение — сзади затарахтел мотоцикл, и через минуту я уже сидел на заднем сидении и мчался по своему назначению. Могу сказать, что страху я при этом натерпелся — хуже некуда; мотоциклист был лихим парнем и самые крутые виражи между деревьев проходил, не снижая скорости, а дорога-то была песчаная… Но в Спас-Клепиках мы оказались как раз в тот момент, когда наш шофер, не увидев встречающих его, решил, что встреча не состоится и можно уезжать в Москву. Мне он обрадовался, как родному, и его даже не огорчило известие, что придется ехать навстречу нашей группе еще километров 15—20. Мы немедленно пустились в путь. Примерно через час я увидел просеку, ведущую в сторону реки, и почему-то решил, что нам туда и надо.
И действительно, вскоре мы оказались на берегу, и в этот самый момент — ей-богу, не вру, из-за поворота показались наши байдарки. Это был тот редкий момент в моей жизни, когда я чувствовал себя почти триумфатором! «Старик, ну ты даешь!» — так Боб отметил мой «подвиг», и в его устах это была высшая похвала.
Но случался опыт и менее приятный, но довольно колоритный. Речка Угра настолько знакома всем водникам, что здесь мы менее всего ожидали каких-либо неприятностей. А между тем этот поход наш был с самого начала сопряжен с довольно серьезными рисками, но совсем иного свойства.
Так случилось, что в то время у меня в лаборатории работал мой старый друг, американский химик профессор Рон Кэйпл, и мне до смерти захотелось приобщить его к радостям байдарочного мая. Как и всем иностранцам, ему был запрещен выезд далее, чем на 30 км от Москвы, и я, как ответственный за его прием, обязался это правило свято соблюдать. Но авантюрный дух в нас всегда побеждал соображения здравого смысла, и стоило мне предложить нашему адмиралу Б. Горячих взять на Угру моего американца, как я услышал в ответ: «Или мы не джигиты! Работаем без сетки и главное — Не бззз…!» Так-то оно так, но из этого следовала необходимость соблюдения правил конспирации на всех этапах — от вывоза Рона из-под бдительного контроля гостиничных шпиков, до погрузки в автобус со строгим наказом ни в коем случае не говорить по-английски. Если же по дороге нас вдруг остановят гаишники, то он должен был сидеть тихо-тихо, притворяясь немым идиотом. Услышав от меня подобную рекомендацию, Рон обрадовался: «О, dumb idiot — это я смогу изобразить без особого труда!» Конспирация сработала вполне успешно, гаишники и КГБ нас упустили, и Рон оказался первым американцем, посетившим речку Угра — не исключено, что вообще первым иностранцем со времен Великого стояния на Угре Ивана III и ордынского хана Ахмата.
Первые три дня он был просто счастлив — еще бы он впервые увидел весеннее Подмосковье, оценил все прелести неторопливого путешествия по воде от одного великолепного пейзажа к другому и вечерних посиделок у костра. Единственно, о чем он сожалел — виски, что он захватил с собою, слишком быстро закончились. Да, я не ошибся в моем американском друге — он очень подходил для нашей компании. Особенно забавно было наблюдать, как оживленно он общался с Бобом — этому вовсе не мешало то, что Рон почти не говорил по-русски, а Боб — совсем не знал английского.
Но за все хорошее надо платить. В непреложности этого правила мы убедились, когда наступил последний, четвертый день того похода, а мы прошли всего лишь чуть более половины маршрута — слишком хорошо было расслабляться в пути и совсем не хотелось спешить. А между тем в тот день не позднее 5-ти вечера мы должны были быть у моста в районе Юхнова, где нас ожидал автобус. Чтобы как-то подстраховаться, Боб отправил самую легкую байдарку-двойку с Женей Строгановым и его женой Ниной, поручив им «Лечь костьми», но задержать автобус до нашего прибытия. Как потом нам рассказал Женя, сначала водитель и слышать не хотел, что нас надо дожидаться, но тон разговора резко изменился, когда он узнал про то, что Женя был фронтовиком и воевал где-то неподалеку от этих мест.
Мы бы, конечно, и сами не очень сильно опоздали к намеченному сроку, когда бы не погода, которая, видимо, решила наказать нас в тот день за легкомысленное поведение в дни предшествующие. И воздалось нам за все полной мерой! В тот день с самого утра выдалась погода, ну просто –мерзейшая. Единственно, что спасало — необходимость грести изо всех сил, чтобы успеть к автобусу. Но не прошло и двух часов, как мы вынуждены были остановиться и довольно надолго. Байдарка Женьки Булатова налетела на какой-то кол прямо посередине реки, а в лодке его дети, школьники Оля и Дима, а это значит спасательные работы: сначала детей на берег, потом туда же лодку, да еще надо выловить вещички, что быстро исчезали из вида. А на берегу, как назло, никакого сушняка или лесочка, где-то вдалеке виднеются березки, а дождь все сильнее и все более ледяной. Пришлось поставить пару палаток, развести, в конце концов, костер из выловленных бревен, заклеить булатовскую байду, обогреть и обсушить детей, немного отогреться самим (не более 50 г. водки на брата!) и снова вперед.
В моей лодке был Рон и моя дочка Катя. Она сжалась в незаметный комочек под брезент байдарки и ее почти не было видно. Бедняга Рон снял с себя все теплые вещи — раздал детям, а сам остался в бельишке и непромокаемой куртке. Как он потом признался: «Никогда в жизни я не попадал в подобный переплет». В Москве он не удержался и рассказал о своем прегрешении своему приятелю, атташе по науке в посольстве США. Тот ему очень позавидовал и предложил в качестве благодарности его русскому другу, то бишь мне, докфильм про полет и посадку Аполлона с Лунным Ровером, что разъезжал по поверхности нашего спутника, и плюс к тому проекционный аппарат для просмотра. В моем родном ИОХе этот показ прошел с большим успехом, и мне помнится, что у никого из моих коллег не возникало тогда и тени сомнения в подлинности показанного на экране.
Но так или иначе, наш тогдашний поход по Угре закончился благополучно. Автобус нас дождался и последнее, что потребовалось от нас — это перенести детей в автобус; сами они уже не могли идти и только тихонько скулили на наших руках. Много лет прошло с тех пор, все эти дети давно уже стали взрослыми дядями и тетями, но вряд ли из их памяти стерлись воспоминания об этом достопамятном приключении.
Но вот, что мне запомнилось, как самое яркое впечатление от всех наших путешествий: всегда это было общее житие на природе. Не общежитие или общага, а именно образ жизни, объединяющий всех и тем доставлявший всем радость. Симфония — слово из музыкального лексикона, но по своему точному смыслу оно более всего подходит для описания атмосферы, в которой обретались мы тогда.
Удивительно — а может быть, и вовсе не удивительно, как легко в те времена находились у нас поводы побыть вместе. Среди множества больших и малых дел, нас объединяющих в московской жизни, был еще один, очень специфический повод для встреч — День дежурного. Он был учрежден нами более полувека тому назад в 1961 г, когда в один из дней нашей экспедиции на пик Сталина (тогда он так назывался!), парочка наших достойнейших дежурных Дима Дубинин и Борис Баронов настолько вкусно всех нас накормили, что единогласно было решено увековечить их кулинарный подвиг, назначив 26-ое число каждого месяца Днем дежурного. Самое любопытное, что это не осталось просто забавным пожеланием — с тех пор прошло уже не одно десятилетие, но все это время, почти каждый месяц кто-нибудь из нашей компании объявлял себя дежурным и тогда все, кто мог, собирались просто для того, чтобы побыть вместе. Так случайный повод — запомнившееся дежурство в горах, стало предлогом для учреждения необычного и «долгоиграющего» ритуала.
Эти наши встречи не были просто застольями, подобием культурных салонов или чем-то вроде клубов по интересам. Все-таки мы были совсем разными людьми, но было нечто, что нас сближало почти необъяснимым образом — о чем, наверное, лучше всего выразился мой друг Олег Брагин, просто сказавший: «Или мы не родные?!» Поэтому как-то так оказывалось, что даже при столь частых встречах, я не припомню, чтобы они воспринималось, как обязательный и/или наскучивший обряд. Вовсе нет, всегда было, о чем поговорить — бывало и о политике, но главное было — убедиться, что у нас все в порядке, и, конечно, «потереться носами», чтобы почувствовать, что не ослабевает связывающие нас ощущения дружелюбия и симпатии. Мало-помалу такие встречи сделались частью нашей общей жизни, которая была как бы вынесена за скобки повседневного существования каждого из нас.
Боб очень скоро сделался одним из блюстителей обычая отмечать День дежурного. Здесь, конечно, и речи не было о какой-то дисциплине — боже упаси, конечно, нет. Но у всех нас случались моменты в жизни, когда совсем не хотелось появляться на публике, а настрой был залечь в какую-нибудь берлогу и никого не видеть вообще. Что-то в этом роде довелось испытать и мне где-то в конце 60-х. В то время Боря неожиданно заявился ко мне на работу, а на мой удивленный вопрос, чего он от меня хочет, ответил: «Просто на тебя посмотреть!». Я, конечно, бросил все свои дела, и мы с ним отправились в его лабораторию и провели там весь вечер и ночь. О чем мы говорили — я вспомнить сейчас не могу, разговор был очень личный, но в числе прочего речь шла и о том, что касалось всех нас. Сказал он примерно следующее: «Знаешь, у всех такое бывает. Перетерпи как-нибудь и тебя отпустит. А уходить в себя нельзя: ты уйдёшь, потом Женька, я или кто еще — проблемы ведь у всех бывают, и тогда конец нашему братству! И чем мы это сможем заменить? Вот то-то же!»». И надо сказать, разговор с Бобом возымел свое действие, и я как-то не впал в состояние эгоцентрической озабоченности, хотя и был к этому близок.
И здесь самое время снова взглянуть назад к началу истории нашей компании. Напомню, что все началось с совершенно рядового случая — в наш спортивный клуб добавился со стороны еще один опытный альпинист со своей группой. Ни он сам, ни мы ничего особенного от этого не ожидали — почти каждый сезон к нам кто-нибудь присоединялся, чтобы осенью навсегда уйти. Но все получилось совсем иначе в случае с Борисом. Пожалуй, я уже достаточно полно рассказал о том, что означало его включение в нашу команду и о том влиянии, которое он оказал на всю нашу жизнь, в горах и на равнине.
Чтобы попытаться понять, как все это могло получиться, следует рассказать, хотя бы вкратце, про личность Бориса Алексеевича.
Боб Горячих — откуда он такой взялся?
Школа его жизни была довольно суровой — безоблачное детство закончилось рано, с арестом отца в 37 году. Тот был главным бухгалтером игольного завода в Колюбакино, но кто-то донес о его якобы «антисоветских» настроениях, его взяли и за этим последовал приговор тройки к ВМН (высшая мера наказания). Семье было сказано, что отец «осужден на 10 лет без права переписки», что позволяло надеяться на его возвращение. Много позже выяснилось, что он был расстрелян на Бутовском полигоне вскоре после приговора.
Великая Отечественная война коснулась нас всех, но, пожалуй, Боря хлебнул более других. Немецкое наступление проходило с невероятной быстротой и не прошло и четырех месяцев с начала войны, как оно докатилось до дальних подступов к Москве. Уже в середине октября 41-го года немцы захватили Можайск. Немецкая оккупация продолжалась долгие четыре месяца. Все это время гражданское население города жило в условиях голода, холода и всяческой неустроенности.
Обо всем этом нам довелось услышать от Бориса в те дни, когда приходилось пережидать непогоду где-нибудь в горах. Вспоминал он об этой жизни не без лихости — фактически тогда не было никакой власти, кроме военной комендатуры. Полная свобода — так Боб говорил, рассказывая о перипетиях своей молодости. Оккупантам было не до них, и вскоре в Можайске организовались подростковые банды и бандочки, целью которых было добывание пропитания всеми доступными и не всегда законными средствами. Гришка, приятель Бори, откуда-то привел одноглазую лошадь, нашлась и телега, и первым делом они занялись заготовками: под снегом по полям было сколько хочешь сена, как и неубранных картошки и капусты. А потом принялись разъезжать по городку и соседним деревням, собирая всякое барахло среди развалин с тем, чтобы потом на базаре выменять его на какие-то продукты. Немцы не препятствовали подобному бизнесу, но если попадешься на воровстве, то наказывали безжалостно. Главное же было — отбиваться от конкурентов, но и Боря и его друг довольно быстро завоевали репутацию — с этими пацанами лучше не связываться, дерутся они отчаянно. Да, школа жизни была очень жесткая, но полезная (для тех, кто в ней уцелел!).
Вся эта «вольница» закончилась, когда в феврале 42-го немцев выбили из Можайска, но нормальная жизнь там восстановилась еще не скоро. В те трудные времена многие из Бориных друзей оказались вовлеченными в блатную жизнь и бесследно там рассеялись. Как вспоминал Боб, его от этой участи спасла мама, которую он привык слушаться беспрекословно. Семья Горячих жила очень бедно, и вся надежда была на Бориса. Тут было не до школы — семье необходим был кормилец, и он пошел в ремесленное. Потом для него нашлось место на авиазаводе в Москве, где и началась его взрослая жизнь. Ничего особенного там не случалось, если не считать его частых конфликтов с теми из цехового начальства, кто несправедливо придирался к молодым, оскорблял их, давал невыгодные заказы, стараясь обдурить при расчетах. Короче — очень неудобным был этот молодой рабочий паренек, Б. А. Горячих, слишком ершист, мало управляем и не склонен считаться с мнением начальства.
Неожиданные перемены случились в жизни Бори, когда на заводе образовалась альпсекция от спортобщества «Крылья Советов» («Крылышки»). Боб пару раз съездил с ними на тренировки в Царицыно. Там ему особенно понравилось лазать без страховки по развалинам Большого дворца, где-то на уровне второго и третьего этажа, издеваясь над «ментами», норовившими его отловить. В ответ на трели их свистков и грозное: «Ты как туда попал? Вот мы тебя! А ну-ка, быстро спускайся!», они слышали издевательское: «Работаем без сетки! Вверх — могу, а как здесь спускаться — пока не знаю! Давайте лучше вы ко мне!». А потом он просто прятался за какую-нибудь баженовскую лепнину на крыше и больше не появлялся. «Менты бесились», но сделать ничего не могли — разве что разгоняли его друзей, к развлечению прочей праздношатающейся публики.
Ну, а кроме уроков скалолазания в Царицыно, были походы альпсекции по Подмосковью, где хватало таких развлечений, как устройство биваков, работа с веревкой с подъемом на деревья на стременах и переправами через речку на карабине, а вечерами костры и альпинистские песни под гитару. Но лазание в Царицыне и подмосковные походы, наверное, остались бы всего лишь эпизодами в жизни Боба, если бы при этом не завязалась его дружба с Евгением Федоровичем Строгановым, тренером их альпсекции. Таких людей, как Строганов, Боб, по его собственным словам, ранее не встречал.
Для него, который всю жизнь страдал от безотцовщины, эта встреча стала одним из ключевых событий жизни. Чтобы понять это, нам надо немного познакомиться с Женей Строгановым, каким он был в те времена.
Е. Ф. Строганов, тренер альпинистов и президент коммуны в Менделеевке.
Начнем с того, что он добровольцем ушел на войну, несмотря на наличие у него брони, освобождавшей от призыва. Был ранен, потом снова вернулся в строй и довоевал до конца. Могу засвидетельствовать, что тогда к таким фронтовикам было подчеркнуто уважительное отношение, как к людям особого закала, выдержавшим самые суровые испытания.
В занятия альпинизмом Строганов втянулся еще до войны и ходил в команде легендарного альпиниста тех времен — Бориса Симагина. После войны он поступил в Менделеевку, а по ее окончании был принят в аспирантуру. В те послевоенные времена для всех нас нормой было полуголодное существование, но особенно бедствовали приезжие студенты, если им не могли помогать родители. Чтобы как-то легче было выживать, в студенческих общагах возникали коммуны. Подчас они легко появлялись, но и легко рассыпались. Однако, та коммуна в Менделеевке, во главе которой стоял президент Строганов, оказалась на удивление устойчивой. Здесь все было устроено по справедливости — все средства обобществлялись, и никто не считал, кто сколько дал. Общие средства тратились не только на еду, но и на обеспечение самых неотложных нужд: кому починить ботинки, кому выдать деньги на новую одежку или зимнюю шапку. Кончались деньги — шли разгружать вагоны или еще куда-нибудь, где требовался дешевый труд. Институтская жизнь коммунаров (так они сами себя называли) закончилась в середине 50-х, но еще более полувека сохранялись традиции их ежегодных встреч на днях рождения Е. Ф. в конце декабря и по множеству других поводов. Каждый раз, когда мне приходилось бывать на этих встречах, я мог только восторгаться тем, насколько близкими оставались отношения этих уже очень немолодых людей, несмотря на неизбежно разрушительную работу времени.
Конечно, Е. Ф. не мог не познакомить свою коммуну с альпсекцией, которую он тренировал. Среди его питомцев самой колоритной фигурой был Боб Горячих, и он очень скоро сделался своим человеком среди менделеевцев, одним из тех, кого они называли «довесками коммуны». Для Бори с юности была привычной жизнь, как борьба за существование — здесь она повернулась к нему другой стороной, где не было ни жлобства, ни зависти и, напротив, всегда можно было рассчитывать на сочувствие и помощь.
В свою очередь, и Е. Ф. Строганов, со свойственной ему интуицией, распознал за внешностью хулиганистого парня, типичного обитателя бараков Марьиной рощи (в ночи лучше не встречаться!), сильный характер незаурядного человека, бунтаря, не готового смириться со стезей типичного обывателя — работа, пивная, футбол, дом, домино, семья и медленное угасание. Е. Ф. приоткрыл для него совсем иную перспективу жизни, имеющую мало общего с рутиной городского существования, а именно — жизни среди альпинистов в горах. И он угадал — это и сделалось впоследствии стержневой основой судьбы для Б. А.
Как только наступило лето, Бобу выделили бесплатную путевку, и вот он в компании Строганова и его друзей из «Крылышек» оказался в качестве новичка в альплагере на Кавказе. В тех краях Боб и нашел для себя занятие, соответствующее его бесшабашному темпераменту, азарту, тому, что сейчас называется драйвом, требующим искать и находить самые дерзкие вызовы на грани возможности. Его просто нельзя было удержать в лагере — он при первом случае норовил уйти на восхождение и уже через два-три сезона набрался опыта и стал по справедливости считаться одним из самых перспективных молодых альпинистов. Очень скоро Боб смог собрать свою группу, в которой был Олесь Миклевич, что стал его ближайшим другом, Аркадий Шкрабкин, с кем вместе он начинал ходить еще в «Крылышках» и конечно, жена Наташа. С такой группой можно было идти на любую вершину по самым сложным маршрутам. Памятуя школу Строганова, Боб всерьез занялся инструкторской работой и вскоре приобрел репутацию великолепного инструктора. Вот так, всего лишь за несколько лет произошло нечто вроде метаморфозы: из почти дворовой шпаны получился не только мастер спорта СССР, но и старший инструктор, всеми уважаемый командир отряда в полудюжине альплагерей Кавказа и Памиро-Алая, Борис Алексеевич Горячих.
Что и говорить — жизненная карьера у него случилась головокружительная и, наверное, никто этому так не радовался как Строганов — ведь Боб был его питомцем. А тот никогда не забывал, что всей этой своей совершенно незаурядной судьбой для простого рабочего парня, он обязан своему старшему другу Е. Ф. Строганову. Как-то много позднее, вспоминая про начало своего пути, Борис сказал буквально следующее: «Если бы не горы, куда меня завлек Е.Ф., то такие, как я или Коля Исаев или Аркаша Шкрабкин, вероятнее всего, ушли бы в бандиты». И случиться это могло вовсе не в силу каких-то преступных наклонностей — просто для этих ребят, с их бурным темпераментом, неприемлемо скучной была перспектива обычной будничной жизни.
Как мне помнится, Борис впервые привел к нам Строгановых в один из байдарочных походов. Для Евгения Федоровича, как и для его жены — величавой Нины Строгановой, вся наша компания, дух легкости и радости от общения друг с другом и от неприхотливых удовольствий походного бытия — все это отвечало их пониманию того, что есть подлинные ценности жизни. В свою очередь, Строгановы не могли не понравиться нам. Евгений Федорович, несмотря на то, что он прошел войну, сохранил на редкость жизнерадостное отношение к жизни. Со стороны могло показаться, что в его отношениях с жизнью просто не было места всему тому мусору, что ее портит — вражде, злобе, зависти. Напротив, он был преисполнен доброжелательности, не знающей исключений. Если добавить к этому необыкновенное чувство юмора, то легко понять, почему к нему так тянулись самые разные люди. Что касается нас, то хотя нам ни разу не довелось быть со Строгановыми в горах, но с самого начала было ощущение, что они с нами вместе прошли через все испытания, что выпали на нашу долю.
Трагическая гибель Евгения Федоровича и Нины Степановны в 1996 году в автокатастрофе стала общим горем и для коммунаров, и для нас, «академиков». И, как я прознал недавно, после их смерти Боб еще несколько лет ежегодно передавал денежную помощь семье, никому об этом не говоря.
Еще одна немаловажная деталь: Е. Ф. всегда оставался искренне убежденным коммунистом, но он никогда не старался переубедить нас, противников социализма/коммунизма — просто в наших спорах он мудро помалкивал, всем своим видом подчеркивая, что еще неясно, каким будет окончательный приговор истории, скажем лет эдак, через сто. В свою очередь я не припомню, чтобы когда-нибудь мы на него враждебно нападали — просто старались в его присутствии обходить в разговорах уж очень чувствительные темы. На крайний случай, всегда был выход: «Давай-ка, Евгений Федорович, лучше споем». Эту просьбу повторять не требовалось. Гитара при нем и вот снова зазвучало «Прощание славянки», «Ночка-начинается, фонарики качаются» или, наконец Рудневская «Ушло наше время…». И почему-то все это не надоедало! Да и вообще я не припомню, чтобы было скучно в присутствии Е. Ф.
* * *
Закончил текст, перечитал и сам не могу поверить — неужели один человек так много успел сделать значимого в жизни десятков людей? Конечно, нет, не он один. Но вряд ли все это могло случиться без него, могу это засвидетельствовать вполне авторитетно. В этой связи хочу поговорить еще об одном.
Много ли я знаю людей среднего или пожилого возраста, у которых остались сколько-нибудь тесные связи с друзьями прошлых лет, с приятелями молодости, с теми, кто называется «одноклассники» или сослуживцы прошлых годов? Пожалуй, за пределами нашей компании я таких и не знаю вообще. Это не бахвальство — вот, мол, мы какие, особенные! Вовсе нет: просто так случилось, что когда-то давно, более полувека тому назад, среди нас возник Боб Горячих, и как-то сразу оказалось, что этот человек необыкновенно нам близок. И так получилось, что Б. А. явился тем самым мотором, что не давал нам закоснеть в повседневных реалиях будней, а всегда побуждал включаться в полнокровную человеческую жизнь, главным смыслом которой и было то самое общение, что, следуя Экзюпери, можно было назвать высшей роскошью. Видимо, благодаря этому и по сей день в наших встречах — увы, уже не очень частых, всегда присутствует мотив какой-то неразрушимой внутренней общности. Вот так и получилось, что уже более 60 лет существует наше содружество, что когда-то начиналось со случайной встречи собратьев по альпинизму.
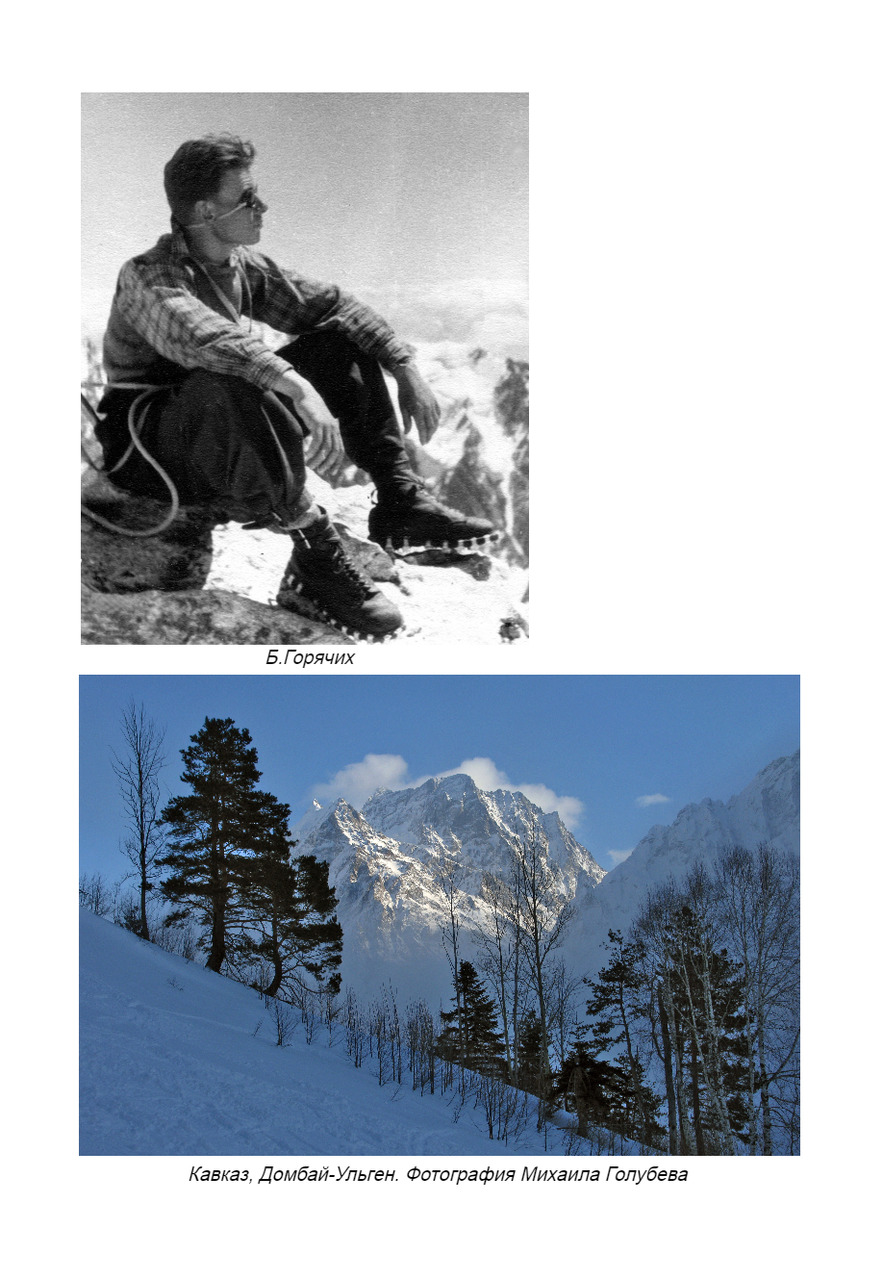


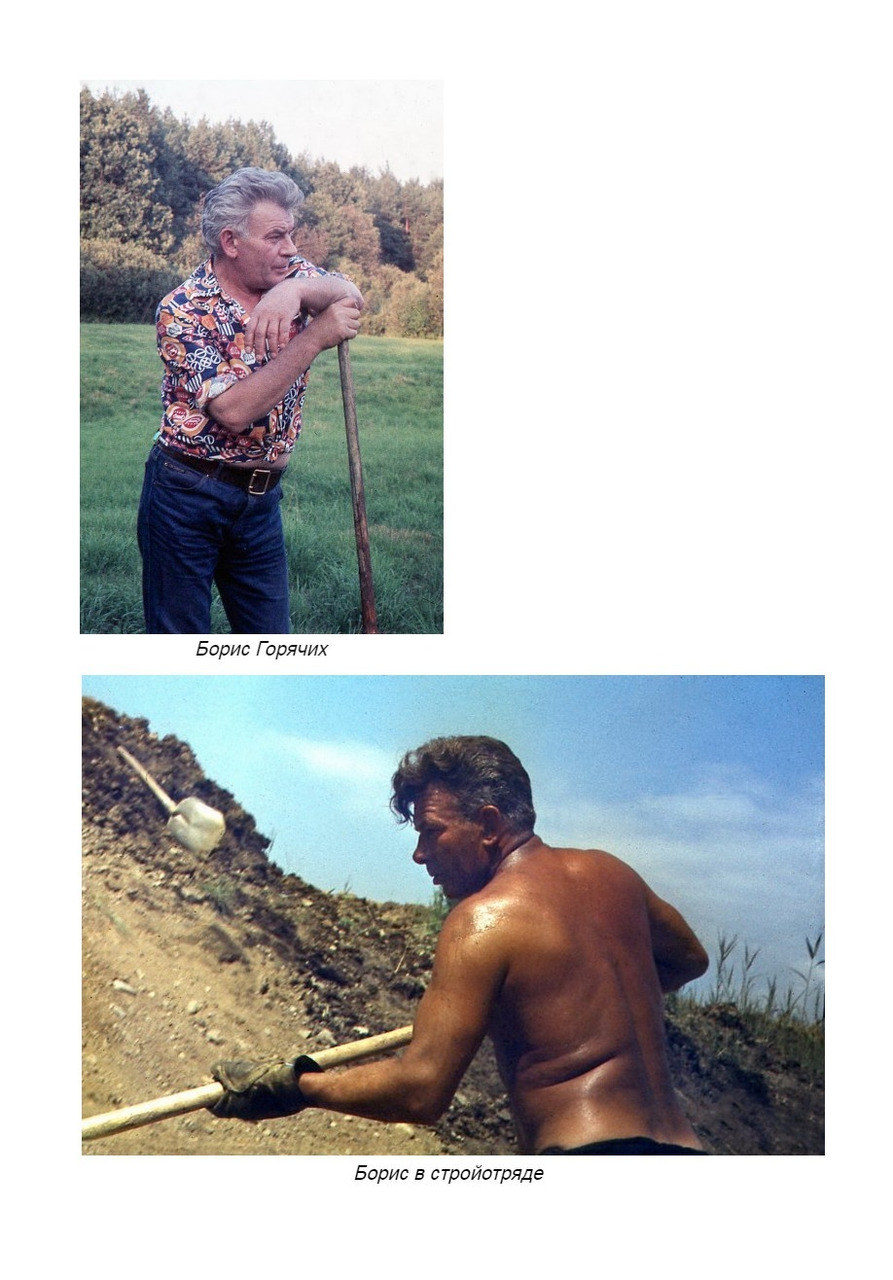

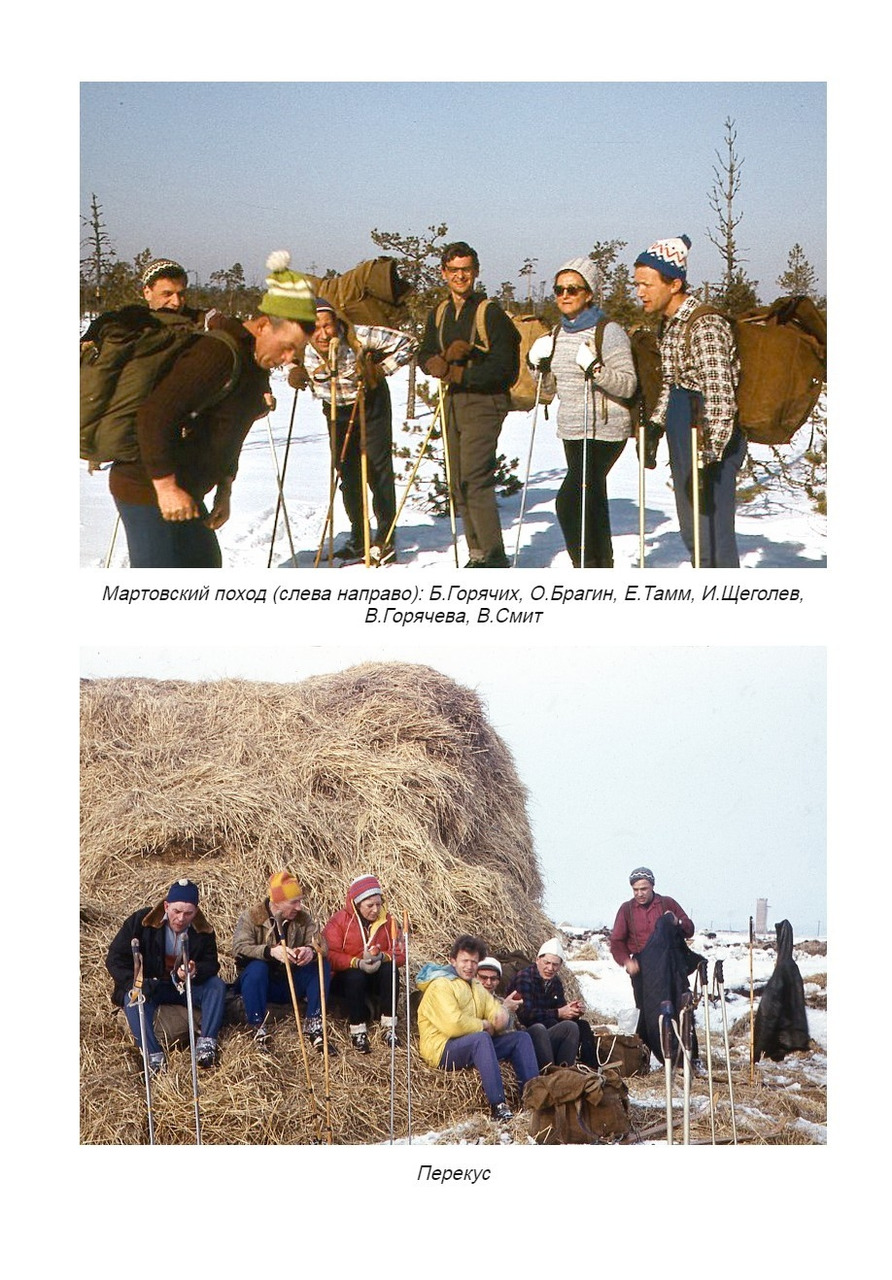
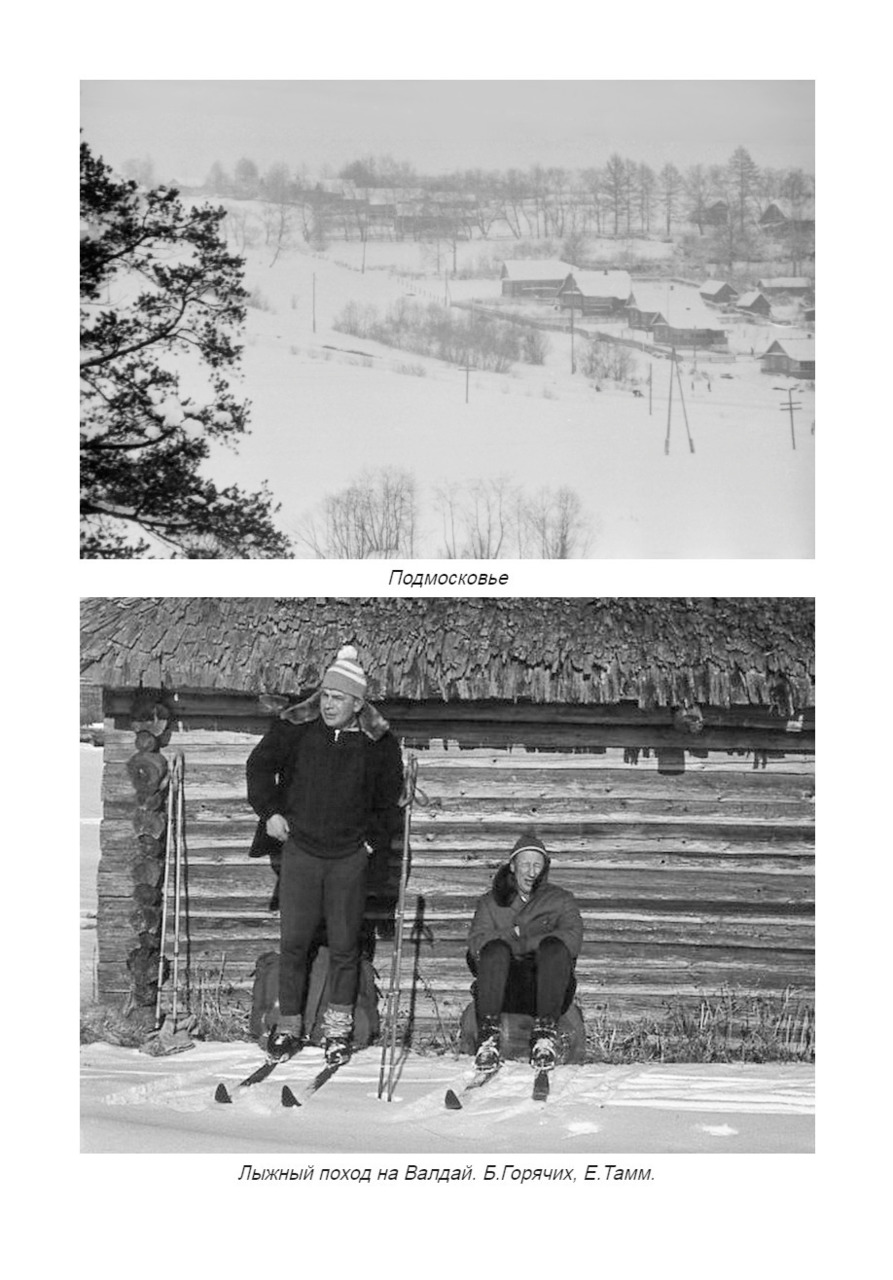









3.Евгений Тамм — начальник от бога, а еще альпинист и ученый, а еще и строитель общего Дома для всех нас
Полвека близкой дружбы — немалый срок и, казалось бы, за это время можно так хорошо узнать человека, что не должно составить труда рассказать о том, что он собой представлял. Но как понять чужую душу, если и со своей толком не разберешься? Выход один — по возможности полнее рассказать про наиболее запомнившиеся эпизоды нашей совместной жизни, оставляя за читателем право составлять из этих фрагментов паззл под названием «образ Е. И. Тамма».
О достижениях Е. И. в ядерной физике я не могу судить. Однако, сошлюсь на авторитетное мнение Ученого Совета ФИАН'а, который, заслушав диссертационный доклад Е. И. Тамма на присвоение ему ученой степени кандидата физических наук, единогласно решил присвоить ему степень доктора физических наук — очень редкий случай в академической практике. На том Совете мне довелось присутствовать и мне хорошо запомнилась царившая там приподнятая обстановка. Я знаю также, что на протяжении не одного десятка лет Женя «тянул лямку», исполняя обязанности заместителя П. Черенкова, заведующего лабораторией. Стоит также упомянуть, что в 1973 г Е. И. Тамму в составе авторского коллектива была присуждена Государственная премия.
Но в жизни Е. И., кроме науки существовали еще и горы, занимавшие место едва ли не большее, чем физика атомного ядра. Хорошо известно евангельское: «Никто не может служить двум господам… Богу и маммоне» (Мф. 6:24), но и наука, и горы были для Жени занятиями одинаковой чистоты и высоты, и ничто не могло помешать ему отдаваться им с почти одинаковой увлеченностью (пожалуй, горы все-таки пленяли его больше, по крайней мере, так мне казалось). Здесь уместно вспомнить, что страсть к горам ему передалась от отца, Игоря Евгеньевича Тамма. Тот был страстным любителем горных путешествий и немало побродил по горам Кавказа, Алтая и Памира. Сына он вытащил впервые на Кавказ в Домбай, когда тому было лет 12—13. Женя с немалым восторгом припоминал, как отец вместе с кем-то из инструкторов решили отправиться на траверс вершины Сулахат, одной из самых красивых вершин, похожей на скульптуру лежащей женщины. Маршрут этот выглядит обманчиво легким, но в нем есть одна неприятная особенность — там легко «запороться» и попасть на очень неприятные скалы. Именно это и случилось с группой Тамма, и они вынуждены были где-то наверху, в районе «шеи» Сулахат, устроиться на ночлег без палатки и спальных мешков. Классический случай — «схватили холодную ночевку» на Сулахат! Повезло, что ночь была не очень холодная и дождя тоже не случилось. Все обошлось благополучно, но для Жени это стало боевым крещением, в известном смысле, — посвящением в альпинизм.
Алтай, 1956 г.
Начало нашей истории. Есть старая полублатная песня — «Есть по Чуйскому тракту дорога» …Вот по этому тракту мы и ехали в конце августа 56 г, возвращаясь в Бийск из альпинистской экспедиции, работавшей в Шавлинском ущелье Северо-Чуйских белков. В тот год мы, группа молодых альпинистов вместе с Женей Таммом в качестве руководителя, провели три недели в редко посещаемом районе Алтая. За это время нами было сделано более дюжины первовосхождений самой разной сложности от 3-ей до 5–ой категории трудности. По праву первовосходителей всем этим вершинам мы дали свои названия («А места, в которых мы бывали, люди в картах мира отмечали» — так пелось в популярной тогда студенческой песенке «Глобус»). Настроение у нас было великолепное — еще бы, мы чувствовали себя первооткрывателями, казалось, что горы щедро открывали нам свои тайны, в некотором роде, — приняли нас, «а мы такие молодые!..», как говаривал поэт.
В той давней экспедиции все было странным, начиная с состава участников. Меня туда позвал мой друг Володька Спиридонов, с которым мне раньше довелось ходить в альпиниадах МГУ на Кавказе: «Давай поедем вместе с нами на Алтай. Края там дикие и бездна нехоженных маршрутов, которые просто ждут своих первопроходцев!». Долго уговаривать меня не пришлось. В свою очередь, я соблазнил Алтаем моего партнера по связке Олега Брагина, а тот — Игоря Щеголева, Бориса Говоркова и Севку Тарасова. Через Володю я познакомился с Женей Таммом и еще парой его знакомых по восхождениям прошлых лет. Всего набралось нас таких, «знакомых-знакомых», восемнадцать-двадцать человек.
Но вот наступило время, когда потребовались какие-то конкретные шаги по организации нашего сбора. Тогда выяснилась забавная подробность — среди тех, кто вознамерился поехать в экспедицию на Алтай не нашлось никого, кто хотел бы взять на себя бремя организации этой поездки. У всех нас был немалый опыт альпинистских восхождений, в основном на вершины средней сложности, но безусловного лидера не было. Самые опытные среди нас, мастера спорта Б. А. Гарф и А. М. Балдин, с самого начала определенно обозначили условия своего участия в нашем сборе — только рядовыми участниками. Как решать эту проблему было довольно непонятно — ясное дело, голосование здесь не подходило, да собственно, никто и не предлагал выдвигать кандидатов, обсуждать их и т. д. — честолюбцев среди нас не было.
Но все упростилось, когда кто-то вспомнил о том, что ведь именно от Жени Тамма исходила сама идея провести альпсбор в Шавлинском ущелье на Алтае. Родилась она от восторженных рассказов его отца, И. Е. Тамма, который за год до того побывал на Шавлинском озере в составе тургруппы Московского дома ученых. Стало быть, сам бог велел его сыну Е. И. Тамму стать начальником нашей экспедиции. Что думал на этот счет сам Женя, я не знаю, но, когда его напрямую спросили: «А ты возьмёшь на себя организацию подготовки и проведения этого сбора?», он, не колеблясь, ответил: «Да, конечно, но только при условии, что мы все будем работать вместе. В одиночку такой воз вытянуть невозможно!». Все вздохнули с облегчением — с этого момента первоначально безумная, но очень привлекательная идея обрела плоть.
О том, как проходила наша жизнь в Шавле на Алтае, я довольно подробно рассказал в книге «Мои друзья и горы» и еще в части 2 этой книги. Здесь добавлю лишь несколько дополнительных штрихов.
Наша экспедиция собиралась «с бору по сосенке». Собирал весь этот народ «под свои знамена» лично Женя Тамм, руководствуясь только одному ему известными соображениями. При этом, конечно, никто не мог поручиться, что ему удастся справиться со всей этой разношерстой публикой — ведь запросто могло случиться, что его не признают, как начальника, или мы сами переругаемся между собой уже при первых же трудностях.
Но все сложилось на редкость удачно, и с самого начала среди нас установилось полное взаимопонимание, что, конечно, более всего обеспечивалось удивительным стилем руководства нашего начальника. Здравый смысл — прежде всего, умение выслушивать другие мнения, не обижаться на критику и, конечно, уважение к собеседнику — все это не могло не бросаться в глаза любому, кто имел дело с Е. И. Таммом. Ему был совершенно чужд авторитарный стиль руководства, столь свойственный для многих спортивных команд. В нашей команде он быстро стал признанным лидером, оставаясь при этом, в первую очередь, просто товарищем и другом.
И еще очень важно, что случилось в тот сезон 1956 г. Итак, мы уезжали на Алтай, как стихийно возникшая группа любителей горовосхождений и приключений в горах, нечто вроде «сборной солянки», а возвратились в Москву сплоченной командой спортклуба Академии наук, СКАН'а. Более того, у нас определился начальник, который не сразу, но постепенно (полагаю, не без внутреннего удивления?) понял, что в этом и состоит его предназначение, то, что называется, — «на роду ему написано!» Ему и в голову, конечно, не могло прийти, что на самом деле тогда в Шавле он совершенно интуитивно, сделал свой первый шаг по карьерной лестнице спортивного альпинизма, которая меньше чем через тридцать лет привела его на высшую ступень — он сделался начальником первой (и очень успешной!) советской экспедиции на Эверест.
Как оно бывает, когда все хорошо кончается. Памир, ледник Бивачный, пик Сталина, 1961 год
Успех сезона 1960 года укрепил нас в уверенности, что наше призвание в альпинизме — открытие новых путей на высокие вершины. Естественно, хотелось и на будущий год найти подходящую цель. Сейчас уже и не вспомнишь, кто именно предложил нам в сезон 1961 года поехать на Памир, на ледник Бивачный с тем, чтобы попытаться найти оттуда новый путь восхождения на высочайшую вершину страны — пик Сталина (7495 м). Для нас, которые считали себя первооткрывателями, лучшего варианта тогда и быть не могло. Мы буквально «зажглись» от такой идеи, нас поддержали и в ДСО «Буревестник», и в Федерации альпинизма. Не мог не сработать авторитет команды и ее капитана, Е. И. Тамма — нас быстро утвердили, выделили необходимые деньги, но попросили включить в состав экспедиции несколько альпинистов из МЭИ и МВТУ, предложив также исключить из списка команды несколько женщин. Первое было с готовностью принято, насчет исключения женщин — Женя категорически заупрямился, сказавши, что их присутствие в экспедиции совершенно необходимо, как для поддержки теплоты отношений, так и просто для создания приподнятого спортивного настроения в команде. Таких женщин было у нас шестеро: Рая Затрутина, Валя Горячева, Оксана Васильева, Галя Кузнецова, Марина Макова и Тамара Тарасова. Потом злые языки говорили, что Евгений Тамм взял в свою экспедицию «на содержание» аж шесть женщин. То-то мы все веселились!
Наша экспедиция прошла необыкновенно успешно. Был найден и пройден новый маршрут на пик Сталина (маршрут Тамма). Мы заняли первое место в Чемпионате страны по альпинизму 1961 года, и все 14 восходителей получили золотые медали.
Всё это произошло много позже, а тогда в начале лета 1961 года мне казалось маловероятным, что в тот год я вообще попаду на Памир. Когда я сказал Жене, что вряд ли я смогу поехать, оставив здесь жену на четвертом месяце беременности, он понимающе хмыкнул, но не преминул добавить: «Но имей в виду, что, если все же надумаешь, можешь присоединиться к нам в любой момент!».
Не буду здесь объяснять, как это все получилось, но где-то в первых числах августа я уже шагал по гребню боковой морены ледника Бивачный, пытаясь разглядеть место базового лагеря нашей экспедиции. Еще пара поворотов — и вот уже виднеется дымок от костра, я прибавил шагу и, наконец, оказался на уютной поляне, уставленной палатками. Мне на встречу показался наш начальник. Женя никогда не отличался внешней эмоциональностью, но здесь он просто светился от радости. Конечно, я не могу текстуально воспроизвести состоявшегося тогда разговора, но звучал он примерно так: Женя: «Артурыч, где ты так долго пропадал? Мы еще вчера утром по связи узнали, что тебя перевезли через Сель-дару (это основная река, стекающая с языка ледника Федченко), и ты должен был к вечеру оказаться у нас! Сегодня с обеда начали всерьез беспокоиться, и я собирался завтра снять ребят с работы на маршруте и отправить на поиски тебя».
Мой ответ: «Жека, не виноватый я! Этот чертов киргиз действительно перевез меня через Сель-дару, но только через один проток! А когда он ускакал, я обнаружил, что мне надо перейти еще через три протоки, тоже довольно серьезные. Выбора у меня не было. Пришлось подзадержаться, соображая, где и когда это можно будет сделать наиболее безопасным образом. Поваляло меня в воде изрядно, но все же я как-то выкарабкался. Ну, а если бы я все-таки утоп, вы бы узнали о моей судьбе в записке, что я оставил в туре на том берегу».
Женя, обращаясь к врачу: «Тома, осмотри-ка его повнимательнее, видишь, как его измочалило: все руки-ноги, да и рожа в кровоподтеках». Через полчаса Тома доложила, что шкура моя вся покрыта мелкими и крупными синяками, как шкура леопарда, но, судя по всему, ноги-руки целы, да и внутри вроде бы ничего не повреждено.
Женя, ко мне, радостно: «Сейчас быстро подкрепись и собирай все, что нужно с тем, чтобы завтра в 6 утра выйти на восхождение вместе со мной и Димой Дубининым на пик Красной армии (высота порядка 6300 метров)». Я, ошеломленно и жалостливо: «Жека, какое восхождение, какая Красная армия, да еще шеститысячник! Дай хоть день передыху, ведь у меня все тело избитое! Я же едва стою на ногах! Тома, да скажи же ты, хоть что-нибудь!».
Тома только засмеялась в ответ. Женя же, без всяких эмоций: «Симулянт несчастный! Времени для передыха у тебя просто нет. Тебе нужна акклиматизация, не так ли? Так вот, если хочешь на пик Сталина, с утра идешь со мной и Димой на этот самый пик Красной Армии. Это твой единственный шанс!».
Деваться мне было некуда и ранним утром мы втроем отправились на восхождение. Оно оказалось не слишком трудным, но времени у нас было в обрез, и поэтому шли быстро и не всегда осторожно. Хуже всего нам пришлось, когда на второй день мы оказались на середине фирнового склона, где на нас со всех сторон пошли камни. Кое-как переждали это камнепадное безумие, но далее все проходило нормально, и к концу третьего дня я почувствовал, что набрал требуемую форму.
Когда мы вернулись, вся команда была уже в сборе, и без промедления мы вышли на свой основной маршрут. Как проходило наше восхождение, уже было рассказано раньше (см. к примеру, мою книгу «Мои друзья и горы»). Поэтому здесь я напомню лишь о некоторых, наиболее запомнившихся мне, моментах.
После отсидки непогоды на плато «Правды» (примерно 5700 м) мы вышли на довольно крутой фирновый склон, ведущий на гребень пика Сталина, там под каким-то увалом нашли защищенное место, чтобы поставить палатки, и удобно там расположились. Шел шестой (или седьмой?) день восхождения, высота была примерно 6400 метров. Было нас 14 человек, и в высотных палатках разместились мы вполне комфортно. В моей палатке кроме меня были еще Олег Брагин, Валя Цетлин и Женя Тамм.
В тот день дежурила палатка Адика Белопухова с Валентином Божуковым. Они, как и полагалось, обслужили нас по первому разряду, а под конец выступили с интересным предложением. «А что, парни, — начал Божуков — если завтра с раннего утречка мы оставим здесь палатки и спальники и налегке рванем вверх?». Адик продолжил: «Вообще-то осталось набрать всего лишь 1100 метров, на что должно уйти не более 5—6 часов. Больших технических трудностей здесь быть не должно, погода вроде хорошая, а как будет замечательно идти налегке!». Помнится, что моя первая реакция — чистой воды авантюра в стиле их прошлого начальника Игоря Ерохина (да будет ему земля пухом…). Валя Цетлин меня поддержал, но смотрю: Женя с Олегом призадумались. Видимо, их уже очень сильно достала необходимость тащить нелегкий груз — Женьке рацию, а Олегу высотную палатку. Наши молодцы-дежурные ушли, а у нас разгорелись дебаты. О плюсах их предложения нечего было и говорить — очень соблазнительное. А вот разумно ли это — трудно сказать. С одной стороны, у нас действительно очень сильная команда, и все мы в отличной форме. Путь наверх просматривается неплохо и похоже, что проблемных мест не должно быть. Но с другой стороны, нам предстоит подняться выше 7000 метров, кроме Божукова, никто не поднимался на такую высоту, и кто может гарантировать, что никто из нас «не капнет» (выражение Божукова) на этой высоте? А что, если вдобавок нас накроет непогода — что тогда? Но тут очень активно вмешался Олег: «Слушай, старик — это он мне, — Ты, что забыл, что мы с тобой с самого базового лагеря несем с собой отличные садовые лопаты для копания снежных пещер. Вот как раз и подвернулся тот случай, когда мы сможем воспользоваться этими лопатами — ведь снега здесь немерено». Все мы уже имели изрядный опыт копания снежных пещер и знали, насколько комфортно там ночевать. То, что изначально казалось авантюрой, стало приобретать черты реальности. Еще через какое-то время у нас в палатке собрались все 14 человек и вскорости выяснилось, что все настроены на то, чтобы поскорее закончить затянувшуюся «осаду» нашей вершины. Вариант пещеры, как альтернативы ночлега без палаток, всем показался вполне приемлемым.
Наступило утро, погода была отличная, и все вокруг вселяло надежду в успех нашего, вообще-то авантюрного, если не сказать, безумного плана. Но оказалось, что двигаемся мы совсем не так быстро, как бы хотелось, и к середине дня мы только-только вышли на вершинный гребень, где-то на высоте около 7000 метров. Становилось очевидным, что наш оптимистический план явно проваливается. В тот момент вперед вышла двойка Дубинин-Баронов. Они было начали с удвоенной энергией тропить дорогу для группы, но Женя их остановил, когда они проходили через здоровенный снежный нанос: «Все ребята, кончайте, ночуем здесь!» Послышались недоуменные возгласы: «Еще же рано, мы можем успеть…». Но Женя очень быстро все разъяснил: «Да, конечно, время еще есть, но совсем не для хождения наверх в неизвестность, а только для того чтобы вырыть здесь пещеру и спокойно провести ночь под защитой от холода и непогоды».
Неопределенность кончилась и все стало на свои места. Впрочем, не совсем сразу… Копать пещеру на высоте около 7000 м совсем не то, что делать то же самое на высоте 5000 м. Здесь даже у самых здоровых мужиков сил хватало лишь на 15—20 минут копки, а дальше человек просто падал, и лопату перехватывал следующий. И часа не прошло, как начальника вдруг «осенило»: «Слушай, Артурыч, а что, если мы с тобой сейчас отправимся наверх и постараемся дойти до вершины? Пещеру и без нас выкопают, а мы, по крайней мере, вершину „сделаем“, а завтра по нашим следам взойдут и все!». Я был настолько удивлен этим предложением, что даже не нашелся сразу, что возразить. Но стоявший рядом Мика Бонгард просто обомлел: «Жень, да ты в своем уме? Как это так пойти вдвоем без всякой подстраховки! А где мы вас потом искать будем?». Женя как-то пристыженно умолк. Впоследствии он очень не любил вспоминать про этот момент, а бывший с нами тогда Володя Колодин, прошедший суровую школу восхождения на пик Победы, утверждал, что подобные речи — всего лишь свидетельства специфической горной болезни, когда на высоте более 7000 м у человека расстраивается психика и начинают мерещиться всякие странные явления такие, как к примеру — раздвоение личности!
Про то, как мы все-таки выкопали и обустроили наш снежный дом, и как мы потом с утра добрались до вершины, и про те сюрпризы, что нас там ожидали, ранее уже рассказывалось. Но, странным образом, при том я упустил из виду один очень существенный момент. О нем мне сейчас и вспомнилось.
Спуск с вершины протекал легко и без напряжения. Дорога известная, не очень крутая… Вот дошли и до пещеры, но там незачем останавливаться, валим дальше… Но вдруг заминка — идущая первой связка Ткач-Винокуров-Флоринский остановилась — никто не помнит места, где надо уходить с гребня налево на фирновый склон, внизу которого находятся наши палатки. Подходят и остальные и также беспомощно оглядываются по сторонам. Видимо, когда мы шли наверх, драйв был такой мощный, что мы даже не задумались над тем, что хорошо бы обозначить на гребне то место, откуда нам потом надо будет спускаться к палаткам. Элементарный промах, который мог бы нам дорого стоить, если бы погода была хуже и пропала бы видимость. С гребня палаток было не видно, и где их искать на бескрайних просторах склонов огромной горы — было не очень ясно. Поэтому нам пришлось, разделившись по связкам, спускаться наугад с нескольких точек гребня. К счастью, поиск оказался успешным, и, не прошло и получаса, как самый удачливый из нас, Валька Божуков вдруг завопил счастливым голосом: «Парни, все ко мне, вижу палатки!» Еще какой-то час, и вот уж мы дома. Быстро кипятим чаек, наскоро чего-то съедаем и спать. Часа через два подъем, надо уходить, погода портится, все затягивается туманом. Напоследок я взглянул наверх и ужаснулся — если бы этот туман накрыл склон два часа назад, то мы ни за что не нашли бы дороги к палаткам. Только эти два часа и отделяли нас от роковой черты «невозврата». Вот тут-то и можно было до конца осознать, насколько авантюрным и непродуманным было наше решение идти на вершину налегке. Нам просто повезло, что, в конце концов, обстоятельства сложились благоприятным для нас образом. Но, как известно, победителей не судят, а зря — ведь было бы крайне полезно трезво проанализировать все наши действия в те критические моменты. Могло бы уберечь от повторения ошибок в дальнейшем!?
Золотые медали, которыми нас наградили за восхождение, конечно, не могли не льстить нашему тщеславию. Но в нашем достижении было еще нечто парадоксальное — оказалось, что мы были последними на пике Сталина. Абсолютный рекорд, который никто не в силах побить! Судьба пика Сталина оказалась печальной — сначала он стал пиком 7495 м (так было написано в наших справках), потом его переименовали в пик Коммунизма, а несколько позднее, (когда выяснилось, что с коммунизмом ничего не выходит, даже в отдаленной перспективе) он стал пиком Исмоила Сомони, таджикского поэта и философа, к сожалению, мало известного за пределами Таджикистана. При этом пик Сталина автоматически утратил имперский статус высочайшей вершины страны, ибо перестала существовать сама страна — СССР. Пик этот остался высочайшей вершиной, но всего лишь Таджикистана. Вот так, на наших глазах свершился извечный приговор латинян: Sic transit gloria mundi! (Так проходит мирская слава!). Кстати, а что сейчас есть самая высокая вершина России — неужели Эльбрус с его высотой 5642 м? Смешно-с, дамы и господа! Так и хочется организовать патриотическую акцию — «За возврат России пика Сталина, исконной русской территории!».
Тянь-Шань, Хан-Тенгри с севера, еще одно испытание на прочность. Урок мудрости, 1964 год
После экспедиции на пик Сталина нам было заявлено в Федерации альпинизма примерно следующее: «Хватит с вас экспедиций в далекие края. Следующую пару лет извольте отработать, как „все приличные люди“, инструкторами в альплагерях Кавказа». Так оно и получилось и вообще-то инструкторить было тоже интересно, особенно, если в лагерь приезжает сразу 5—7 человек своих. Однако же все это время нас не покидали мысли при первой возможности снова отправиться в очередное путешествие, в какой-нибудь малоизученный район, на этот раз на Тянь-Шань.
Сделать окончательный выбор нам помог случай. Поздней осенью 62 г я оказался в Алма-Ате на конференции по органической химии и там случайно повстречался с Сарымом Кудериным, одним из сильнейших альпинистов из команды Льва Мышляева. Он хорошо знал горы Тянь-Шаня и, когда я поделился с ним нашими планами, он категорически отсоветовал идти на Победу: «Гора страхолюдная, у нее даже вид зловещий. Там почти всегда непогода и крайне холодно. Очень лавиноопасно почти всюду. И трупов там не похороненных — не счесть. К тому же гора эта не слишком интересна для восхождения — в основном там предстоит тяжелая снежно-ледовая работа. То ли дело — Хан. С Юга он вполне освоен, а вот с Севера его вообще мало кто видел». И со словами: «Вот, можешь полюбоваться» — он протянул мне фотографию Хана, сделанную с перевала Пролетарской печати одной из предвоенных экспедиций. Фото было не очень четким, но на нем был запечатлен вид «лица» грандиозной вершины в форме почти равнобедренного треугольника. Угадывалось, что пирамида двуцветная: нижняя ее часть сложена из черных пород, верхняя, начиная с 6000 м — из более светлых, типа мраморов. Должен сказать, что не очень много есть у нас вершин, что имеют столь красивые очертания, — пожалуй, только Ушба может по этой части конкурировать с Ханом.
Все, чего я тогда захотел, это заполучить фотографию, чтобы показать ребятам в Москве. Сарым согласился, взяв с меня клятву вернуть ему картинку при первой встрече (что я и исполнил, естественно).
В Москве, когда мы собрались по какому-то поводу у Тамма на даче, я рассказал все, что знал про Северный Иныльчек и показал фотографию Хана. Абсолютно неизведанный район и ничего неизвестно о возможности восхождения на Хан-Тенгри с этой стороны. Более того, толком никто не может рассказать, как туда можно попасть. Вроде там были экспедиции в начале 30-х, но сохранились ли их отчеты и где их можно найти — загадка.
Итак, сплошная неизвестность! А что еще может быть более привлекательное для романтически настроенных молодых людей, уже ощутивших сладость открытия новых районов Алтая и Памира и вкус первопрохождения классных маршрутов на высокие вершины?
В тот раз наш начальник более остро, чем когда-либо еще, почувствовал, насколько серьезны вызовы предстоящего Дела. В самом деле, было известно, что проход на ледник Северный Иныльчек со стороны Южного ледника, от поляны Мерцбахера, перекрыт огромным ледниковым озером Мерцбахера и было неясно, каким образом возможно преодолеть это препятствие, особенно для тяжело снаряженной экспедиции. Ничего вообще не было известно о том, где могут быть установлены базовые лагеря, нижний — у языка ледника и верхний — у подножия вершины. Все могло бы упроститься с использованием вертолетов, но никто не знал, есть ли вообще где-нибудь на Северном Иныльчеке площадка, подходящая для их посадки. Ну, а главный вопрос заключался совсем в другом: никто не мог сказать, возможно ли вообще проложить реально проходимый маршрут на Хан-Тенгри со стороны Северного Иныльчека?
Обо всех этих сомнениях Женя не умолчал, когда доложил о планах проведения экспедиции на Федерации альпинизма. Естественно, что первая реакция была довольно скептической, — слишком много неизвестных. Но тут сработал авторитет Е. И. Тамма, а также то, что его поддержал Кирилл Константинович Кузьмин, один из самых опытных альпинистов того времени, заявивший, что Северный Иныльчек до сих пор остается белым пятном на карте страны. Поэтому экспедицию в этот район безусловно требуется поддержать. И добавил, что он сам готов принять в ней участие. Я не уверен, что в тот момент Женя был так уж счастлив от такой перспективы, но он возражать не стал, и, как потом выяснилось, участие К. К. Кузьмина оказалось крайне плодотворным для экспедиции (об этом далее).
Как протекала работа экспедиции во всех подробностях: обход озера Мерцбахера, организации лагерей, тренировочных восхождений, разведки маршрута и самого хода многодневного восхождения на вершину Хана — обо всем этом рассказано в отчете Е. И. Тамма и в моем очерке в уже цитированной книге «Мои друзья и горы». Здесь мне захотелось напомнить лишь о некоторых деталях самого критического момента восхождения, когда с высоты примерно 6600—6700 м, по настоятельному предложению Е. И., мы приняли решение уходить на спуск. Это произошло на седьмой (или то был восьмой?) день восхождения, но «отмотаем пленку» на несколько дней назад, чтобы лучше почувствовать обстановку.
Первые три-четыре дня восхождения шлось довольно легко, несмотря на двухпудовые рюкзаки и поганую погоду. Затем на подходе к верхнему плато разразилась снежная буря, заставившая нас сутки отсиживаться в палатках. Все бы ничего, но снега навалило столько, что весь следующий день мы не шли, а буквально плыли в снегу, пробивая не тропу, а траншею. Ну, а если надо было пробить тропу вверх на какой-нибудь увал, то чтобы хоть как-то продвигаться по грудь в снегу, приходилось сбрасывать рюкзак, чтобы потом за ним возвращаться. Тянь-шаньский снег — это какое-то особое состояние снега: он не слеживается и способен сохранять свою пушистую структуру довольно долгое время. Когда мы, наконец, преодолели эти километра полтора-два почти ровного пространства и поднялись на плечо, перед скальным бастионом, нас снова настигла непогода, уложившая нас в палатки более, чем на сутки. А напомню, что каждая отсидка на высоте, в тесной палатке, при недостатке питья и питания — это невосполнимая потеря сил и, разумеется, времени.
В тот день нам снизу из штурмового лагеря сообщили по рации, что мы находимся где-то в районе 6300—6400 метров, высота скального бастиона порядка 100 метров, за ним, похоже, будет какой-то разрыв в гребне, а далее уже пойдет предвершинный гребень. Саму вершину снизу не видно, но кажется, что она не слишком далеко и, по их прикидкам, прохождение предвершинного гребня не должно было занять более 3—4 часов.
После обеда слегка развиднелось, и Вадим Ткач с Димой Дубининым вызвались пройти, сколько удастся по скалам. Через два-три часа они вернулись и доложили, что скалы не очень сложные, они прошли веревки две, набили крючьев и похоже, что дальше будет тоже не очень сложно. Такова была диспозиция, и мы призадумались.
От всего того, что пришлось вытерпеть в предшествующие дни, мы, действительно, очень устали, причем и физически, и морально. Тот драйв, который всегда присутствует в начале пути, рассеялся. Осталась только инерция, и хотелось, чтобы все поскорее закончилось. Только этим я и объясняю тот поразительный факт, что тогда все единодушно решили, что наверх мы пойдем с одной палаткой, возьмем только четыре спальника, рацию не возьмем и вообще постараемся облегчиться. Палатка, обледенелая и с палками, весит килограмм 8—9, и она буквально ломала спину Олегу Брагину. Рация с питанием тоже была не подарок для Жени — килограмм 6—7. Оставить их — это, безусловно, хорошая идея. А как насчет того, что одна палатка на восемь человек, что определенно означает бессонную ночь? Но тут кто-то вспомнил, что и на пик Сталина мы шли без палаток и мешков, пересидели ночь в пещере, и все было ОК.
С тем и вышли. День выдался неплохой. Мы довольно быстро прошли бастион, потом еще несколько веревок по гребню, нашли и выровняли площадку и остановились на ночевку. Ужин был очень скуден, продукты на исходе, но горячего чая было достаточно. Однако ночь прошла как сплошной кошмар. В пещере на пике Сталина не было ветра, холода почти не чувствовалось и было довольно просторно. А здесь все продувалось так, что в палатке не хотелось ни разуваться, ни снимать рукавицы — и ноги, и руки мерзли. Так и просидели на рюкзаках всю ночь, без сна и без отдыха, и ожили только утром, когда напились горячего чаю. Еще с вечера решили, что палатку мы не берем и идем налегке — по прогнозам, полученным накануне от наблюдателей, светового дня должно было хватить на весь оставшийся путь.
Холод на улице был просто полярный — еще бы, ведь это Тянь-Шань, да и высота где-то около 6500—6600. Вышли не очень рано, но сначала все проходило нормально. Прежде всего предстояло преодолеть веревки две крутых и заснеженных скал, с которыми Валя Цетлин справился просто мастерски. Дальше он ушел за перегиб и почему-то остановился. Наладил страховку, и мы стали подходить к нему… И тоже останавливались, обескураженные увиденным…
Перед нами открылся снежно-ледовый склон, по профилю похожий на разрезанную большую воронку. Свежий нетронутый снег, крутизна градусов 30 (заметьте, что это крутизна эскалатора метро), и к низу воронки все заканчивается сужением, выводящим под ледовые сбросы со стены Хана. Обойти это место нельзя, надо пересекать этот склон. Игорь Щеголев забил для надёжности пару крючьев, и Валя, со всей мыслимой осторожностью, начал прокладывать путь. Сразу стало видно, насколько лавиноопасно это место. Каждый шаг вызывал схождение небольшой лавинки и казалось, что вот-вот из-под ног сдвинется с места огромный пласт снега, и это будет конец всему. Но тут Валя вышел на каменный островок и смог перевести дыхание. Еще полверевки по таким же снегам, и вот уж Цетлин зацепился за скалы и даже забил там крюк. Уф! — кажется, слегка полегчало. Следующей собралась было идти связка Ткач-Винокуров-Дубинин, но тут всех остановил Женя, который шел в последней связке вместе с Олегом Брагиным и мной и с большой тревогой смотрел на происходящее.
Конечно, в точности воспроизвести последовавший за этим разговор, я не смогу, но мы не раз потом к нему возвращались, и наиболее значимые, моменты мне хорошо запомнились.
«Ребята — начал Женя, — похоже, что мы попадаем в ловушку. Может, нам и удастся сейчас ее проскочить. Но только при условии, что не сойдет большая лавина, когда нас не спасут ни крючья, ни веревки — все окажемся вон там, далеко внизу. Тем не менее, можно было бы рискнуть: «авось пронесет». Услышав это, самые азартные из нас, Ткач с Дубининым оживились: «Ну так чего терять время, надо двигаться!» Но начальник продолжал: «Чуток подождите. Я еще не все сказал. Допустим, мы уже прошли «воронку» и выходим на предвершинный гребень. Насколько он сложен и сколько по нему идти до вершины, никто не представляет. Представим, что это займет 4—5 часов — это значит, что придется спускаться в темноте. Это уже не просто опасно — это смертельно опасно. А пересидеть ночь без палатки и без реальной возможности укрыться в пещере — тоже невозможно. Если не замерзнем совсем, то сильно пообморозимся, это — точно». И закончил: «Я определенно считаю, что мы должны прервать восхождение и уходить с маршрута».
На какое-то время все замолчали, как бы пытаясь осмыслить сказанное. Не так-то просто, после семи дней почти каторжной работы, отказаться от достижения цели, которая виднеется уже невдалеке, казалось — в пределах одного броска (within the grasp). Потом послышались не очень внятные предложения вроде того: «Почему бы все-таки не пройти „воронку“ и потом еще часок-другой по гребню, чтобы хотя бы пощупать, чего он стоит» — кажется, это был Дубинин. Но никто не поддержал это предложение. «Если уж идти, то до конца» — таков был комментарий Брагина, который всегда отличался упрямством. «Но, пожалуй, не в нашем случае — закончил он — я бы не хотел до такой крайней степени рисковать жизнью даже ради вершины, подобной Хан-Тенгри».
То был критический момент для всех нас. Женя смог трезво оценить ситуацию, и интуиция побудила его принять тогда единственно верное решение: «нельзя далее идти напролом»! Хотя в первый момент это показалось нам чем-то вроде обидного признания своей слабости, но, на самом деле, каждый из нас внутренне ощущал, что элементарное здравомыслие не допускало тогда иного решения. Больше не было никаких разговоров, все молча собрались, и связка за связкой устремились вниз. Помню, что в тот момент я неожиданно почувствовал нечто вроде облегчения, как будто меня освободили от обета, исполнять который я был уже не в состоянии, вот так!
Быстро вышли к палатке, там задерживаться не стали, просто все брошенное там раскидали по рюкзакам и вниз. Чуть далее встретили ребят из группы Божукова-Кузьмина, поднимавшихся вслед за нами. Они было начали нас поздравлять, но мы вынуждены были их разочаровать. «А что вы скажете — кажется, это были слова Вали Божукова, — если теперь мы, в свой черед, попытаем нашу удачу? Палатка с нами, горючки достаточно, если понадобится, сможем переждать денек-другой». Естественно, никто возражать не стал, но Женя счел необходимым предупредить его, что склон, с которого мы ушли, крайне лавиноопасен и, если с него не сойдет свежевыпавший снег, то на него лучше не соваться. Напоследок Валентин предложил мне и еще Диме Дубинину влиться в их группу. Но ответ был однозначный: «Нет, так делать не годится. Мы уходим вниз со своими».
Потом в лагере на леднике, где после спуска мы оставались три дня в качестве спасотряда для группы Кузьмина, мы снова и снова возвращались к обсуждению той ситуации, в которой мы оказались на маршруте на седьмой день восхождения. Наша главная ошибка в тот момент состояла в том, что накануне мы неправильно оценили протяженность пути до вершины, что побудило нас принять довольно авантюрное решение идти наверх только с одной палаткой и минимумом теплых вещей. Конечно, можно списать эту ошибку на ту оценку, что выдали нам наблюдатели, но признаемся, что никто нас не заставлял верить в достоверность этой оценки. Так или иначе, но в результате мы схватили «полу-холодную» ночевку на высоте 6400—6500 метров, что, конечно, сказалось на физическом состоянии группы. К тому же, задержка с прохождением лавиноопасного склона сделала реальной опасность повторения такой же рискованной ночевки, что уже было недопустимо.
В чем-то вся эта ситуация напоминала ту, что сложилась у нас во время восхождения на пик Сталина в 1961 году. Там мы тоже поступили очень легкомысленно, оставив палатки на 6500 и выйдя на штурм вершины налегке. Но в тот раз наша авантюра была хорошо подстрахована — мы могли хорошо просмотреть весь маршрут и точно знали, что на гребне есть немало мест для того, чтобы выкопать пещеру, а требуемый для этого инструмент — надежные садовые лопаты у нас имелись. Тогда мы единодушно решили, что мы вправе рискнуть — и сил и возможностей справиться с непредвиденными осложнениями у нас достаточно. На Хане все было гораздо хуже — оставшийся путь был невидим для нас, и было непонятно, найдется ли там снежный участок, подходящий для рытья пещеры, да и подходящего инструмента для этого у нас не было. К тому же, прохождение северного ребра Хана оказалось несравненно более трудоемким, чем путь на Сталина с Бивачного, и мы были измождены почти до предела. Мне кажется, что Женя, если не просчитал, то интуитивно почувствовал, что на Хане мы вот-вот выйдем за рамки допустимого риска, и вряд ли нам стоит снова полагаться на благосклонность Судьбы, той самой, которая определенным образом сработала в нашу пользу при восхождении на пик Сталина.
Потом в Москве на всяких альпинистских сборищах прозвучали самые полярные оценки истории неудачной попытки нашей группы взойти на вершину Хан-Тенгри. Все были согласны в том, что оставлять палатки, как мы это сделали, было чистой воды авантюризмом, но кто этого не делал? Но главное в подобных случаях — это вовремя остановиться, что и было нами сделано по настоянию Е. Тамма. Это решение безусловно одобрялось большинством альпинистов старшего поколения. Однако, было интересно услышать, особенно от «молодых волков», совершенно иное мнение: ваше отступление было признанием поражения, и настоящие спортсмены не должны так поступать. Ну что же, мы никогда не считали себя спортсменами и не считали, что главное мерило успеха — победа. Как-то нам был ближе Б. Л. Пастернак с его строчками: «Другие по живому следу//Пройдут твой путь за пядью пядь, //Но пораженье от победы//Ты сам не должен отличать».
Чтобы закончить с историей этой экспедиции, отмечу, что восхождение на Хан-Тенгри с Сев. Иныльчека удалось успешно завершить группе Кузьмина, благодаря, прежде всего, более продуманной тактике восхождении, а также тому, что прохождение лавиноопасного склона не вызвало у них особых сложностей — свежевыпавший снег, в основном уже сошел. Заслуженная награда группы в составе: Кирилл Кузьмин, Валентин Божуков, Вячеслав Цирельников, Олег Куликов, Николай Алхутов — первое место в Чемпионате СССР и пять золотых медалей. Справедливости ради отмечу, что вряд ли было корректным назвать маршрутом Кузьмина пройденный ими путь на Хан-Тенгри с севера; точнее было бы его именовать маршрутом Кузьмина-Тамма, поскольку до высоты 6500—6600 метров группа Кузьмина шла по уже проложенному нами пути Тамма.
Тот особый Дом, что выстроил Евгений Тамм для всех нас.
Вообще-то дом построить совсем несложно, если есть проект, материал и некоторые навыки плотницкого умения. Даже мне удавалось это сделать, правда лишь после того, как я прошел школу подмастерья у Боба Горячих. Но будем точны — на самом деле обычно мы строим при этом всего лишь жилище для семьи. И совсем иного рода усилия требуются, чтобы сотворить тот особый Дом, что станет своеобразным микромиром, для множества людей, связанных общим кровным делом.
Недалеко от платформы Ильинское, что на Белорусской железной дороге, есть деревня Жуковка, рядом с которой большой поселок дач, построенных для именитых ученых, музыкантов и других выдающихся деятелей 50—60 годов прошедшего века. Среди них была (и поныне существует!) дача знаменитого физика, академика и лауреата Нобелевской премии, Игоря Евгеньевича Тамма.
Впервые Женя позвал всю нашу альпинистскую компанию на дачу Таммов осенью 56-го года после нашей альпиниады на Алтае. Его жена, Наталья Сергеевна, немедленно ставшая просто Наташей, встретила нас настолько тепло и сердечно, что могло показаться, что мы дружны с незапамятных времен. Но гвоздем вечера стало появление старшего Тамма, Игоря Евгеньевича. Понятно, что первоначально это вызвало у нас некоторую оторопь, но неудобство это скоро рассеялось, благодаря непосредственности и сердечности этого замечательного человека, его живому интересу к людям и полному отсутствию в нем позы «важного человека». Все это очень подкупало нас, молодых научных сотрудников, не очень часто встречавшихся с учеными такого калибра, которые к тому же воспринимались, почти как небожители, недоступные для простых смертных.
С тех пор прошло уже более шестидесяти лет. Конец 50-х — середина 60-х остались в памяти более всего той остротой эмоций, которую мы ощущали от осознания того, насколько близко нас сплотила общая страсть — любовь к горам. Временами это ощущалось, как принадлежность к некоему Ордену или к своеобразному фронтовому братству.
Я не буду подробно рассказывать о той удивительной и, пожалуй, несколько странной жизни, что мы вели тогда в Москве в промежутках между упоительными сезонами в горах. Скажу только, что временами казалось, что все мы — члены одной большой семьи. Мы вместе ходили в театры и на выставки, в кино и на концерты, на встречи с интересными людьми и, конечно, не упускали случая отправиться в Турист, где в деревне Муханки у гостеприимной Анны Ивановны можно было переночевать на сеновале с тем, чтобы наутро укататься вусмерть на ближайшей горке. Но время от времени мы обязательно собирались в Ильинском у Таммов, по случаю праздников, дней рождений, а то и просто так — заваливались на зимние каникулы со всеми наличными детьми. Каким бы не был повод для встреч — нам всегда было весело и интересно друг с другом.
Как-то помнится, возник вопрос (кажется, у Боба Горячих), а не слишком ли мы надоедаем нашим любезным хозяевам, Наташе и Жене? Первое, что мы попытались сделать — снять пару комнат в деревне Жуковка, по соседству с академическим поселком. После некоторых усилий это удалось сделать, но не прошло и месяца, как Таммы возмутились такой жизнью на отшибе, и нам пришлось покаяться и вернуться под кров Нашего Дома. Чтобы лучше представить себе нашу тогдашнюю жизнь, напомню, что все, о чем я сейчас говорю, происходило во время, вошедшее в нашу историю под названием «хрущевская оттепель», когда страна, оцепеневшая от ужаса сталинских злодеяний, как-то начала постепенно возвращаться к нормальной человеческой жизни. Главное, что сделал тогда Никита Хрущев — это вернул из Гулага к жизни сотни тысяч людей, которые иначе там так и сгнили бы. Конечно, он не мог, да и не хотел, изменить сущность советского строя, но, как во время оттепели в саду появляются первоцветы, так и при Хрущеве начали пробиваться живые ростки буквально во всех областях нашей жизни. Тогда мы вдруг узнали про Пикассо (не «борца за Мир», а великого художника), нам открыли мир импрессионистов, Сезанна с Ван Гогом и замечательным Матиссом. В консерватории внезапно стали исполнять «невозвращенца» Рахманинова и зазвучали «Страсти по Матфею» Баха. В театрах вдруг проснулся интерес к пьесам Шварца, вроде: «Тени», «Голого короля» или «Дракона». На экранах можно было увидеть блистательные образцы итальянского неореализма, замечательные французские комедии и удивительные мультфильмы Уолта Диснея.
Однако же зачем я обо всем этом вспоминаю в своем очерке на совсем другую тему? Все эти перемены свершались у нас на глазах в течении каких-то 5—8 лет, и неудивительно, что это было время ожиданий еще большего просветления нашей жизни. В те далекие года мы все были отчаянными романтиками. Как я помню, тогда нас совершенно заворожила романтика Александра Грина, в особенности еще и потому, что наш бард (а какие романтики без бардов?) Ира Руднева написала целый цикл песен на темы Грина, и они тогда широко разошлись по всей «бродячей» Москве. Именно тогда она сочинила и такую, можно сказать, программную песню, которая нам особенно полюбилась:
Нам суждено не стариться с годами,
Нас от седин хранит морская соль.
Наш белый бриг алеет парусами,
И льется песня: «Жди меня, Ассоль!»
В дожде и дыме не видать лазури —
Что ж, паруса быстрее поднимай:
Ведь где-то там у синих вод Теллури,
Под синим небом ежедневно — май…
…
Но если нас уговорят поверить,
Что жизнь возможна без морей и гор,
Сорвем друг с друга голубые перья
И вновь рванемся в штормовой простор.
Никто из нас не станет знаменитым,
Но отчего ж не повидать во снах
Бомбей, Сантьяго, Санто-Доменико —
Мечту о джунглях, штормах и морях.
Тогда для нас удивительно манящим казался мир первооткрывателей, таких как Тур Хейердал, рассказавший о своем трансокеанском «Путешествии на Кон-Тики», Антуан Сент-Экзюпери с его возвышенной человечностью «Маленького принца» и «Ночного полета» и, конечно же, близкий нам Морис Эрцог, описавший в героической эпопее «Аннапурна — мать богов» первое восхождение на восьмитысячник в Гималаях. «Есть и другие Аннапурны в жизни людей…» — так заканчивалась эта книга, и слова эти были особенно близки для тех, кто прочел эту книгу в молодом возрасте, и для нас, в особенности.
Свидетельствуя обо всем этом, могу вспомнить, что в 1960 г во время экспедиции на Памир красивейшую вершину у перевала Абдукагор мы назвали пиком Экзюпери, а той же осенью во Францию в адрес Мориса Эрцога была отправлена коллекция камней, собранных в том районе. Не забыли мы в тот год и про Александра Грина, именем которого была названа одна из вершин высотой 6300 метров в самых верховьях ледника Федченко.
Почти каждое лето, на протяжении более 15 лет, команда альпинистов СКАН'а ездила в горы. Наши сборы представляли собой несколько особое явление и вот в каком отношении. Обычно при отборе участников альпсборов руководствовались принципом: «Горы для сильных!», что само по себе не могло вызывать особых возражений. Такой, чисто спортивный, подход был характерен, к примеру, для альпсекции МВТУ, где тренировки проводились с жесткой безжалостностью Дарвиновского естественного отбора. Мы, конечно, соглашались с необходимостью интенсивных тренировок и тщательного подхода к составу спортивной команды, но при этом никогда не было так, что на наши сборы допускались только избранные из СКАН'а, только те, которых можно было отнести к сильным спортсменам. Мы вовсе не возражали против принципа «горы для сильных», но нам был неприемлем его более категоричный вариант: «только для сильных!». Изначально мы все, во главе с нашим начальником Е. И. Таммом, исходили из того, что в наших экспедициях должно было найтись место не только для членов команды, но и еще для многих из круга наших друзей, с кем вместе мы проживали жизнь в городе и для кого немыслима была жизнь без гор. И кто сказал, что они не имеют права стремиться к этому?
Тем из них, у кого был альпинистский опыт, мы всегда старались дать возможность оттачивать свои умения у нас на сборах. Уровень их подготовки был самым разным и, соответственно, они могли походить на вершины самой разной сложности. Эту «вовлеченность» мы всячески поддерживали — ведь каждое такое восхождение, начиная от простейшей Чегет-Карабаши, всего лишь 2-ой к. тр. или траверса Ирикчата 3-ей к. тр. — это всегда было для них завоеванием своей «Аннапурны». Все это никак не могло отразиться на исполнении наших спортивных планов, но придавало нашим сборам особую атмосферу дружества, а это и было то самое ценное, что мы все находили в горах.
Я уже говорил о том, насколько случайно получилось, что изначально нашим руководителем сделался Е. И. Тамм. Но можно ли это называть случайностью, если вспомнить, что Женя стоял во главе альпинистской команды СКАН'а на протяжении пары десятков последующих лет? И со всей определенностью я берусь утверждать, что без Тамма вряд ли у нас появился бы Боб Горячих, а без этой пары «коренников» мы не продержались бы вместе так долго.
С самого первого дня, когда они встретились на альпсобрании — между ними проскочила какая-то искра дружелюбия. Хватило на 60 лет. Пожалуй, я не встречал на протяжении всей своей долгой жизни другого примера такой преданной Дружбы, буквально — до гроба. Всегда и везде, независимо от каких-либо перипетий судьбы.
Можно сказать и иначе: Женя мог и не состояться как незаурядный руководитель, если бы вокруг него, в силу действия неких центростремительных сил, не собралась наша дружина.
Но время шло и постепенно пришлось нам отказаться от серьезных восхождений и перейти на подсобные роли судей и представителей Федерации альпинизма, что позволяло не терять связь с альпинистским миром. Только один из нас — и это был Женя Тамм, смог сохранить свою репутацию альпиниста с огромным опытом руководства экспедициями. Эта репутация оказалась настолько прочной, что когда в 1978 г появились реальные шансы провести первую гималайскую экспедицию, то выбор пал на Е.И. как наиболее подходящего на роль начальника. Конечно, было немало других претендентов, и за каждым стояла какая-то группа активной поддержки. За Женей никто не стоял, кроме многолетнего опыта работы в Федерации альпинизма, где он проявил себя наилучшим образом. Поэтому можно было ожидать, что в роли начальника он не будет представлять какие-либо групповые интересы региональных секций альпинизма, а будет работать в интересах всех, заинтересованных в развитии советского альпинизма. Вот об этой-то работе я и постараюсь рассказать в последней главке моего очерка про Е. И.
Эверест — 82. Во главе экспедиции — Е. И. Тамм: вызовы и ответственность
И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только — до конца.
Б. Пастернак
Как известно, в 1982 году состоялась первая советская экспедиция на Эверест под руководством Е. И. Тамма. Успех ее был поистине впечатляющим — одиннадцать человек достигли вершины, проложивши новый маршрут восхождения. Наверное, для оценки результатов этой экспедиции правильнее всего будет обратиться к авторитету Эдмунда Хиллари, который вместе с шерпой Норгей Тенцингом был первым на вершине Эвереста в 1953 г. Вот его слова из интервью, данного Ю. Н. Росту: «…Экспедиция доктора Тамма, по-видимому, была прекрасно организована. Вы прошли, мне кажется, по одному из сложнейших, если на самому сложному, маршруту без потерь. В действиях альпинистов был риск, но не было авантюризма».
В день триумфальной встречи победителей все мы, СКАН'овцы, друзья и стародавние спутники Е.И., были в Шереметьеве. Прямо из аэропорта Женя забрал всех нас к себе домой, и там мы сидели до утра, выслушивая его рассказы.
А потом, через месяц-полтора, мы всей компанией отправились в недельный байдарочный поход по речке Молога. Было заметно, как здесь нашего начальника, наконец, совсем отпустило напряжение последних месяцев, и к нему вернулось настроение радостей простой походной жизни среди родных и друзей. По молчаливому согласию мы старались не приставать к нему с расспросами об Эвересте, но вечерами у костра сам собой возникал разговор о том многом, что было у него связано в последние месяцы с этой экспедицией.
Было бы нелепо пытаться пересказать все, что мы тогда услышали — тем более, что почти обо всем этом можно прочесть в опубликованных книгах, статьях и воспоминаниях участников. Всем интересующимся я могу посоветовать посмотреть книгу-отчет «Эверест 82», составленную Ю. Н. Ростом (1984 г), и краткую, но очень содержательную главку «Шесть дней в мае» в книжке Е. И. Тамма «Записки альпиниста (2001 г).
В предлагаемом очерке я вижу свою задачу в том, чтобы обрисовать, хотя бы в главном, что составляло основное содержание работы Е.И. как начальника этой экспедиции. Я не буду говорить о многочисленных хлопотах организационного периода с октября 79 и по март 82 года. Отмечу только, что за это время была проделана огромная работа по обеспечению материальной базы экспедиции, что включало закупку и изготовление всевозможного альпинистского снаряжения, а также кислородные аппараты и портативные радиостанции, разработку набора продуктов питания, и, наконец, разведка маршрута и составление подробнейшего плана его прохождения. В эту работу был вовлечен не один десяток людей, а координировал и направлял эту работу Тренерский совет экспедиции, в который входили Е. И. Тамм, А. Г. Овчинников, Б. Т. Романов и три «играющих тренера» — Е. Т. Ильинский, Э. В. Мысловский и В. А. Иванов.
Но помимо множества задач технического характера, существовали еще совсем другие, так сказать, «человеческие проблемы», среди которых следует назвать, прежде всего, следующую: каким образом сделать управляемую команду из пары десятков отобранных спортсменов, каждый из которых входил в элиту элит профессиональных альпинистов и с достаточным основанием мог считать и считал себя компетентным лидером. Эти сильные ребята в составе сборных команд привыкли быть индивидуалистами, что называется, «личниками», которые в первую очередь старались заботиться о себе и своих интересах, а здесь их надо было перенастроить на коллективную работу, где главное — это достижение общей цели и лишь во вторую очередь — удовлетворение собственных амбиций.
Изначально список кандидатов в экспедицию включал более 60 человек, из которых необходимо было отобрать 18—20 человек основного состава плюс несколько запасных. Сравнительно несложно было сделать селекцию на основании объективных показателей: к примеру, у кого больше восхождений по сложнейшим маршрутам на вершины высотой более 7000 м, что нетрудно было дополнить данными по состоянию здоровья и результатам многочисленных тестов на разнообразных стендах. Гораздо сложнее было ответить на вопросы о совместимости членов команды и об их способности исполнять работу, необходимую для успеха команды в целом, даже с ущербом для личных интересов. Формализовать эти вопросы невозможно в принципе и единственный путь получить более-менее адекватные ответы — это использовать критерии «гамбургского счета». Именно руководствуясь этими критериями, Тренерский совет на самой последней стадии подготовки отчислил из команды несколько сильнейших кандидатов, что вызывало немало недоуменных вопросов среди альпинистской общественности.
Хотя Евгений Игоревич был с самого начала утвержден Федерацией альпинизма в качестве начальника экспедиции, это вовсе не означало, что он пользовался единодушной поддержкой среди спортивного руководства. Интриги, подметные письма, прямая клевета — все это было и, конечно, затрудняло работу. Но Женя знал, на что шел, старался не отвлекаться на подковерные интриги, упорно делал свое дело, и к концу подготовительного периода он достиг главного — признания его безусловного авторитета и старшинства всеми участниками экспедиции.
«Шесть дней в мае», с 4-го по 9-ое мая — эти дни Е.И. выделил, как ключевые в своем рассказе об экспедиции. Что же реально происходило в это время?
С самого раннего утра 4-го мая в базовом лагере все напряженно следили за тем, что делается на самом верху Эвереста. По плану в этот день должна была состояться первая попытка достичь вершины Эвереста силами ударной двойки, Эдик Мысловский и Володя Балыбердин (Бэл). Их путь начался 27-го апреля, когда они вышли из базового лагеря на леднике Кхумбу с тем, чтобы через несколько дней добраться до лагеря IV на высоте 8300 м. Далее им предстояло проложить путь до выхода на Западный гребень и установить там последний лагерь V (8520 м), что и было выполнено 3-го мая. На следующий день на утренней связи Бэл сообщил Тамму, что они выходят наверх. После этого рация надолго замолчала, и в базовом лагере воцарилось тревожное ожидание.
Нам трудно себе представить, какие чувства испытывали те, кто был тогда, так сказать, на острие копья, приближаясь к заветной вершине Эвереста. По тем немногим словам, что сохранились в их записках, и главное, по их тону, можно судить, что они смертельно устали и не испытывали ничего похожего на эмоциональный подъем от мысли, что вот наступил последний решающий день, когда они вот-вот могут достичь цели своей альпинистской жизни. На самом деле, просто безумно хотелось, чтобы поскорее настал тот момент, когда им более не надо будет идти вверх и закончатся их затянувшиеся испытания Горой.
Но путь до вершины показался им невероятно длинным — слишком много было потрачено сил за предыдущую неделю. Временами казалось, что никогда не будет конца этому чертовому гребню. Почти восемь часов восходители не выходили на связь, но вот где-то около 14 часов по рации послышался голос Бэла, который звучал совершенно необычно: «Евгений Игоревич, идем и идем вверх, каждый пупырь принимаем за вершину, а за ним открывается новый. Когда же, наконец, все кончится?». И вдруг, через какие-то полчаса, тот же усталый голос Бэла запросил Тамма: «Впечатление такое, что дальше все идет вниз. Как Вы думаете, это Вершина?».
Вот так прозаично завершался этот невероятный по трудности путь Эдика и Володи, последний этап которого начался неделю назад, когда они вышли из базового лагеря, полные сил, надежд и решимости довести до конца многонедельную эпопею осады Эвереста. По признанию и Эдика, и Бэла, в этот долгожданный миг победы, они не испытывали никаких особых эмоций, разве что облегчение от того, что больше не надо идти вверх. Ну, а что Тамм? Женя — человек редкой выдержки, но в тот момент он бросился вон из палатки, чтобы как-то в одиночестве перебороть нахлынувшие разом эмоции. Потом он признавался, что в тот момент он ощутил нечто вроде освобождения от колоссального груза, что давил на него все последние недели.
Дело в том, что помимо обычного беспокойства руководителя за тех, кто был на Горе, для Е.И. все усугублялось еще одним и очень необычным обстоятельством. Так случилось, что в Москве на последнем этапе медицинского контроля врачи вдруг забраковали Мысловского. Как припоминал Тамм, этот запрет был какой-то половинчатый. Мысловскому не запрещалось участие в экспедиции, но руководству экспедиции была дана директива: не выпускать его выше 6000 метров. И Тамм, и Овчинников были категорически не согласны с подобным запретом. В течение всего начального периода работы экспедиции Эдик без устали участвовал в обработке маршрута, установке высотных лагерей и в грузовых ходках на высоту до 8000 метров и зарекомендовал себя, как один из лидеров команды. Но для Москвы это все выглядело неубедительно — ведь запрета никто не отменял!
И вот уже накануне последнего выхода связки Мысловский-Балыбердин в адрес Тамма от имени советского посла в Непале было передано требование «точно следовать приказу, запрещающему Мысловскому подниматься выше 6000 метров». В дополнение ко всему, в Катманду был командирован с особыми полномочиями Ильдар Азизович Калимулин, который, в свою очередь, напомнил о существовании такого запрета. Это заставило Тамма послать в адрес Калимулина радиограмму, с подробнейшим изложением состояния дел и обоснованием оправданности и необходимости полноценного включения Эдика в работу команды. Объясняя свое «неподчинение» требованиям центра, Е.И. сообщал: «…я должен был либо слепо, повторю слепо и трусливо руководствоваться директивой и снять с восхождения одного из выявившихся лидеров…, либо исходить из здравого смысла, условий на месте и интересов основной задачи. Я, естественно, выбрал второй путь и менять свое решение не могу. Не вижу для этого оснований. Очень прошу до конца экспедиции не возвращаться к этому вопросу». К чести Ильдара Азизовича, надо сказать, что он доверился аргументации Тамма и больше к этому вопросу не возвращался. Но ведь, на самом деле, этот вопрос не был снят и теперь, как вспоминал Тамм: «…этот пресловутый запрет висит над нами, как дамоклов меч, и мешает спокойно работать».
Но вернемся к ситуации, когда Эдик и Володя завершили свой путь на вершину и теперь им предстояло собраться с силами, чтобы благополучно спуститься до пятого лагеря. Вспомним, что им потребовалось восемь часов, чтобы дойти до вершины из этого лагеря. Путь вниз требовал не меньших усилий, а ведь уже не оставалось того «завода», что гнал их наверх, и организм, казалось, уже полностью выработал все свои ресурсы. К тому же, кислород был на исходе и светлого времени оставалось не более, чем на пару часов. Сначала Эдик и Бэл надеялись, что как-нибудь справятся сами, но постепенно стали осознавать критичность ситуации… Чтобы читатель почувствовал, насколько был исполнен драматизма конец дня 4-го мая, позволю себе привести довольно обширные цитаты из Таммовских «Шести дней в мае», с некоторыми неизбежными купюрами и дополнениями:
«Около 17 часов вновь заработала рация. Балыбердин вызывал Базу. Его слушала одновременно и группа Валентина Иванова, уже поднявшаяся к этому времени в лагерь V на высоте 8500. Володя информировал, что движение происходит чрезвычайно медленно.
Балыбердин: — Я думаю, что до 8500 мы не спустимся… хотя бы вышли навстречу с кислородом что ли, потому что исключительно медленно все. С кислородом, и если есть у вас возможность, то что-нибудь горячее, чай какой-нибудь.»
Тамм: «А где вы сейчас? Как ты, Володя, оцениваешь?..»
Балыбердин: «Я оцениваю высоту 8800 м».
Тамм: Как идет Эдик?
Балыбердин: «У него кончается кислород».
За два часа они спустились на 50 метров! На равнине это эквивалентно примерно одному шагу в минуту.»
Это уже был сигнал тревоги! При таком темпе спуска у двойки не было никаких шансов самостоятельно добраться засветло до лагеря V! Как вспоминал об этом Валентин Иванов: «Я просто оцепенел, мгновенно оценив всю сложность ситуации. Холодная ночевка в районе вершины двух вымотанных до предела людей — это конец». Об этом же свидетельствует запись в дневнике Бэла: «Пожалуй, никогда за всю альпинистскую карьеру я не был так близок к концу».
Спасти их могла только помощь от четверки Иванова, что уже была в лагере V, в ожидании своей очереди идти на вершину. Последовали короткие переговоры: Тамм-Балыбердин-Иванов, уточнение взаимодействия, и вот около 18 часов Сергей Бершов и Миша Туркевич, прихватив с собой по три баллона кислорода для Мысловского и Балыбердина, три фляги, наполненные горячим компотом и сухофрукты, рацию, а еще фонарь, исчезают из палатки. Далее из воспоминаний Е.И.: «С тех пор почти два часа ни звука. Я метаюсь по лагерю и не могу отвести глаз от далекого предвершинного гребня. Как и луна, он время от времени пропадает в жутком вихре несущихся там облаков»…
Наконец, шипение в эфире прекратилось и раздался голос Балыбердина. Он сообщал, что они встретились, получили горячее и кислород. Теперь они могут идти вниз сами. Потом неожиданно передал, что Бершов просит разрешить их двойке подняться на вершину — она здесь, рядом.
Здесь стоит еще привести диалог Бершов–Балыбердин в момент их встречи (по дневнику Бэла):
«–Ну, как самочувствие?
— Да я-то что! Вот как Эдик…
— Нормально — ответил Мысловский
— Сами спуститесь? Мы хотим пойти на вершину.
— Куда? — Не понял я.
— На вершину! А что? Светло, кислорода навалом. Если вы не против…
Будучи тугодумом, я пару секунд осваивал эту мысль.
— Ну что, давайте! Эдик, ты как?
— Пусть идут».
А теперь попробуем взглянуть на эту ситуацию глазами Евгения Тамма из базового лагеря (пофантазируем немного): «Бершов с Туркевичем встретили спустившихся с вершины Эдика и Володю — это, конечно, радикально изменило ситуацию! Но ведь этой двойке восходителей еще надо будет дойти до лагеря V… Хватит ли у них сил сделать это самостоятельно, без помощи Туркевича с Бершовым? Кто может это гарантировать? Какой тут может быть разговор о вершине! Тоже мне, придумали!». Почти на автомате, последовал категорический ответ «Нет!», прозвучавший почти, как приказ какого-нибудь из военачальников, не допускавший каких-либо возражений.
Но в отличие от них, армейских главкомов, не знавших и тени сомнений в своей правоте, Евгений Игоревич никогда не терял способности выслушивать доводы подчиненных и даже изменять принятые решения. В тот критический момент в разговор вмешался Сергей Бершов, выхвативший рацию у Балыбердина и закричавший: «Почему: Нет?! Сейчас луна светит и ветер стих. Мы быстро и догоним ребят». В его голосе нельзя было не услышать молодого задора и уверенности.
Снова цитата из воспоминаний Е. И.: «Действительно, почему «Нет»? Надо подумать, но все время мешает, просто давит мысль, что связь сейчас может прекратиться… Так почему же все-таки нет? Допустим, они спускаются в V-й лагерь вчетвером, а там еще двое. Шесть человек в маленькой палатке… Это не отдых перед тем, как одним продолжить долгий спуск, а другим идти на штурм. А кислород? Хватит ли его?…». Это и еще многое другое «варилось» в голове Е.И., и сам собой созрел вопрос Бершову: «А сколько у вас кислорода?». — «По триста атмосфер на каждого» — отвечал Сергей. И снова вопрос: «А сколько до вершины?» — «Часа два-три». Это означало, что на все это время кислорода им хватит с избытком.
Как хорошо было бы в такой критический момент взять тайм-аут и обдумать, взвесить не спеша все варианты, но такой возможности у Е.И. не было, и он, доверившись своей интуиции (или не знаю, чему еще?), дал добро двойке Бершов-Туркевич идти на вершину.
В тот момент вряд ли кто мог предполагать, насколько, на самом деле, правильным оказалось это решение: ребятам потребовался всего один час на подъем к вершине от места, где они встретились с двойкой Мысловский-Балыбердин, а затем всего сорок минут, чтобы спуститься с вершины к ним обратно! Зато можно легко себе представить, насколько были вдохновлены Сережа Бершов и Миша Туркевич тем, что исполнилась их мечта: они смогли достичь вершины высочайшей горы на планете, хотя, казалось бы, обстоятельства этому не очень благоприятствовали. Теперь они были готовы горы свернуть в буквальном смысле этих слов, а уж организовать надежный спуск Эдика и Володи и вовсе не было для них таким уж трудным делом…
А тем временем Валентин Иванов и Сергей Ефимов сидели в V-ом лагере без всякой связи (рация была у Бершова). Вот как вспоминает Иванов об этой ночи: «… Теперь мы слепы и глухи. Остается только ждать. Если все будет хорошо, то после встречи и оказания необходимой помощи Бершов и Туркевич готовы штурмовать вершину. Это единственный вариант, когда нам хватит кислорода. Второй попытки не будет. Если дела плохи, то экспедиции конец — спасательные работы затянут всех… Свой шанс на восхождение оцениваем, как один против ста. Столько лет тренировок, надежд, сборов, отборов, медицинских контролей, и вот… Мы под вершиной… Силы есть… Неужели придется идти вниз без вершины? Где-то все-таки теплится огонек: а вдруг…».
A вот еще одна лаконичная, но очень содержательная цитата из дневника Иванова про ту же ночь: «Луна зашла. Темень. Зажигаем примус. Решаем с рассветом выходить на помощь».
И тут, наконец, случилось то, во что они уже почти перестали верить, то самое: «а вдруг…». Едва рассвело, как в палатку сначала ввалился Сережа, а за ним Миша и оба спасенных, Эдик и Володя. Все они уже побывали на вершине Эвереста!
Теперь настал черед Валентина и Сергея идти наверх, с тем, чтобы исполнить свой завершающий бросок на Вершину Мира. Никаких промедлений — вышли в 6 утра, в 13.20 уже были на вершине Эвереста. И подъем, и спуск проходили гладко, как сказали бы англичане: «Uneventful» — английское слово, означающее, что не произошло никаких событий, заслуживающих упоминаний.
Следующая двойка «в очереди на Эверест» — Казбек Валиев и Валера Хрищатый. С ними, казалось бы, все было ясно изначально: сильнейшая пара друзей альпинистов, совершивших вместе более сотни восхождений, получили великолепную акклиматизацию в «грузовых» ходках, полностью обеспечены кислородом, хорошо отдохнули перед выходом из лагеря V… Однако не забудем, что эта гора называется Эверест и у нее всегда есть в запасе нечто неожиданное, способное опрокинуть любые планы.
Валера и Казбек вышли из палатки около 7 часов утра 7-го мая, полные решимости завершить, наконец, это затянувшееся приключение. Первым идет Валера, проходит метров 60, отделявших палатку от Западного гребня… Уже вроде бы вышел на гребень, но вдруг он как-то неуверенно там останавливается и, постояв немного, жестами показывает Казбеку, что надо возвращаться. Вот как вспоминает об этом Казбек:
«На Эвересте повернуть назад?! Ни за что! Не помню, как подскочил к нему. Поднимаюсь на гребень и от неожиданного сильного порыва ветра чуть не падаю на другую сторону… Да здесь стоять нельзя! На перегибе гребня ветер достигает максимальной скорости и жутко грохочет в ушах… Я лезу на четвереньках по фирновому гребешку, глубоко вбивая ледоруб, чтобы не скинуло ветром вниз… Меня душит бессильная злость. Я вижу, что технически гребень несложен, но в эту погоду — непроходим… Но еще не все потеряно… Мы переждем этот жуткий ветер и выйдем снова на штурм».
Решение принято: назад в палатку и там ждать, пока не успокоятся стихии. Постепенно отогрелись, развели примус, поели, попили чаю и стали потихоньку собираться на выход, понимая, что восхождение придется делать ночью. Вышли где-то около пяти часов вечера, когда ветер в основном стих. До вершины они добрались почти к двум часам ночи и спустились к палатке еще через семь часов, предельно обессиленные и полузамерзшие. Там их ожидала двойка Ильинский-Чепчев, которая, по идее, должна была в свой черед выходить на восхождение. Но тут что-то пошло не так, и об этом лучше всего сказано в воспоминаниях Тамма.
Как вспоминал Е.И., день 7-го мая был особенно насыщен событиями. Он начался со встречи первой четверки победителей Эвереста. Событие, безусловно, знаменательное, но омраченное видом рук Мысловского, забинтованных наподобие культей — Эверест не упустил случая получить жертвоприношение за допуск на вершину.
А днем состоялся разговор Тамма с Катманду, с представителем Центра А. Калимулиным, который, после приветствий и поздравлений с уже достигнутыми успехами, передал настойчивое пожелание — «хорошо все закончить». Женя ответил на это, что они уже отменили выход еще одной группы, а «что касается групп, которые уже на маршруте, то они продолжат восхождение и закончат начатое дело. Повторяю –закончат». Потом Калимулин передал сводку погоды на завтра (довольно тревожную!) и закончил все словами: «…по-видимому, ребятам будет тяжело. Поэтому подумайте еще раз, как быть с ними». И получил ответ от Тамма: «Ясно, ясно. Будет тяжело, ничего не поделаешь — это альпинизм».
В тот момент основное, что беспокоило Тамма, это не прогноз на завтра, а состояние погоды наверху, к вечеру 7-го. Тогда в 17.00 Казбек Валиев сообщил, что они с Хрищатым предприняли повторную попытку взойти на Эверест. И после этого эфир надолго затих и ни в один из обусловленных сеансов связи (в 21.00, 22.00, 23.00 и 1.00) ни единого звука от этой двойки вниз не доносилось. Около двух часов ночи, кто-то вызывал Базу, но слышимости не было. Так что, день был трудный, а ночка еще труднее!
Только под утро, в начале шестого на связь вышел Ильинский из пятого лагеря, сообщивший, что ребята еще не вернулись и связи с ними так и не было. С Ильинским условились, что его двойка собирается и выходит наверх. Сборы у них протекали довольно медленно (по мнению Тамма), и лишь к восьми Эрик сообщил, что они готовы выходить. И чуть позднее он же: «Да вот они, уже около палатки. Сейчас с ними чай попьем, да мы, наверное, наверх пойдем…». Но тут разговор приобрел совсем иную и несколько неожиданную окраску…
Тамм: — «Нет. Это вы подождите. Через полчаса, когда разберетесь в каком они состоянии, выходите на связь. Возможно им нужна будет Ваша помощь».
Ильинский: –«Ну конечно, если им надо помогать, то вопрос будет решен однозначно».
…
Тамм: — «А обморожения есть?
Ильинский: — «Есть, незначительные».
Тамм: — «Вот Свет Петрович спрашивает: обморожения чего? Пальцы на руках или ногах?».
Ильинский: — «Ну, пальцы на руках. Незначительные. Ну, волдыри есть. Изменения цвета нет».
Для Жени эта скупая информация как-то сама собой наложилась на картину последствий обморожений у Эдика, которую он видел накануне, дополненную рассказами о том, каково было ему спускаться с такими руками. Поэтому не приходится удивляться тому, что последовало за тем диалогом:
Тамм: — «Понял… Значит так, сейчас, после 16 часов работы сразу сваливать их вниз. Они сгоряча работать смогут, даже если у них там волдыри… По веревкам там перецепляться надо бесконечно… Так что, давайте сваливайте вниз вместе. Вы их сопровождаете».
Ильинский: — «Ну понял Вас, понял. Одним словом, мы больше уже не лезем на гору. Так?
Тамм: — «Да, да! Вы сопровождаете ребят вниз — это распоряжение… Понимаю, что Вы стремитесь наверх. Но ребят одних сейчас отпускать нельзя…»
Естественно, что Eрванд Тихонович Ильинский был очень раздосадован. Хотя и Казбек, и Валера пытались убедить Тамма в том, что им никакая помощь не требуется, и они вполне смогут спуститься самостоятельно, Е.И. остался непреклонным. Это выглядело так, как будто бы он осознал (точнее, интуитивно почувствовал), что уже выбрал всю меру допустимого риска для экспедиции, и настал тот самый случай, когда перестраховка была просто необходима! Честь и хвала Ерванду Тихоновичу, который нашел в себе мужество отказаться от уже близкой вершины Эвереста с тем, чтобы обеспечить полную безопасность спуска для своих друзей.
Итак, к полудню 8-го мая картина, казалось бы, полностью прояснилась: четверка Ильинский, Чепчев, Валиев, Хрищатый спускаются вниз, тройка Хомутова поднимается наверх в четвертый лагерь с тем, чтобы в следующие два дня завершить восхождение. Но эти планы пришлось кардинально поменять из-за вмешательства неких «Высших сил» (?).
Расскажу обо всем по порядку. Днем того же дня во время обычной радиосвязи с Катманду представитель Центра Калимулин передал телеграмму руководства персонально для Е. И. Тамма, в которой говорилось: «В связи с ухудшением погоды в районе Эвереста и полным выполнением задания экспедиции считаем необходимым исключить всякий риск и прекратить штурм вершины остальными спортсменами». Вот как описывается этот драматический момент Е. И. Таммом: «Попытки обсуждать целесообразность такого шага решительно пресекались Калимулиным ссылками на то, что решение принято руководством и его надо исполнять. На прямой вопрос, что же все-таки это за инстанции, он не ответил». Вопрос Жени был поразительно (или нарочито?) наивным: для всех советских людей такие анонимные слова, как «инстанции» или «руководство», могли означать лишь одно: Центральный комитет КПСС в лице кого-либо из его членов, распоряжения которых следовало исполнять беспрекословно.
Да, теперь Тамму предстояло решить очень непростую дилемму: потребовать от группы Хомутова немедленного спуска вниз во исполнение решения Центра или, на свой страх и риск, пренебречь указаниями руководства и дать ребятам возможность довершить начатое. Как обычно, в таких случаях, чтобы собраться с мыслями, Е. И. отправился побродить по леднику около базового лагеря. Вот его зарисовка впечатлений того момента:
«Вечерело. Свежий ледок потрескивал под ногами… Ветер несильный, большой красный флаг не бьется, а бессильно парит в воздухе… Ребята могут сегодня хорошо поработать и рано подняться в четвертый лагерь. Они еще ничего не знают о телеграмме… Но как можно было из Москвы оценивать складывающуюся у нас обстановку?.. Так надо ли возвращать тройку Хомутова?.. Когда я считал, что Эрику и Сереже надо сопровождать двойку вниз, не нужны были ничьи указания… Тройка работает спокойно, уверенно и надежно… Никаких сомнений за них не возникает. Пожалуй, все ясно… испытываю даже удовлетворение: в этой ситуации победил спортсмен, а не администратор».
Замечу, что, судя по воспоминаниям Жени (а они написаны очень откровенно), ему и в голову не приходило задуматься над тем, чье же решение он осмелился оспорить. Как будто для него не имело значения, что это был ЦК партии, по определению директивный орган для всех советских людей. Но для Евгения Тамма, важнее всего была суть дела и интересы людей, ему доверившихся. С его стороны было бы предательством сейчас, когда они отдали столько сил, чтобы обеспечить успех экспедиции, возвращать их в тот момент, когда до вершины оставалось всего несколько часов пути.
В 17.30 наступило время очередной связи с Хомутовым. Когда Е. И. передал им информацию от Калимулина, они не сразу поняли, о чем идет речь. Но уловили смысл заключительной фразы Тамма: «Но я не возражаю против того, чтобы ваша группа продолжала восхождение». Хомутов ответил, что ему все ясно — они сегодня же могут попытаться выйти в V-ый лагерь.
Но не все в руководстве экспедицией разделяли этот подход, далеко не все! Для начальника экспедиции всегда был надежной опорой Анатолий Георгиевич Овчинников, и в этот раз он полностью разделял позицию Е. И. Но оставался еще один член Тренерского совета, председатель Федерации альпинизма, Борис Тимофеевич Романов, который в течение всей экспедиции прилагал максимум усилий, чтобы ни во что не вмешиваться, и старался оставаться при своем мнении во всех тех случаях, что были сомнительны с его точки зрения. Узнав об «опасном решении» Тамма, Б.Т. решил, что настал его час отметиться, и попросил срочно собрать партийную группу.
Здесь я должен сделать небольшое отступление для тех, кто не жил при советской власти. Полагаю, что им трудно представить себе реальность этой абсурдной ситуации — за тысячи верст от Москвы, у подножья Эвереста, должна собраться партгруппа с тем, чтобы решить, прав или неправ был Е. И. Тамм, который вопреки прямым запретам из Центра, разрешил группе Хомутова (которая уже находилась на высоте 8300 метров!) продолжить восхождение. Вот как излагал Романов свою точку зрения: «Мы, члены партии, понимаем, что Центр — это ЦК КПСС — и не можем не исполнять указание». Как бы в дополнение к абсурдности самого факта созыва подобного собрания, на него были приглашены не только участники экспедиции, но и оказавшиеся в базовом лагере гости, вроде телевизионщика Ю. Сенкевича и других, представлявших печать, радио и телевидение и не имевших никакого отношения к альпинизму. Какой-то балаган, да и только!
На собрании даже не обсуждались такие вопросы, как состояние группы Хомутова, каков прогноз погоды и насколько рискованно продолжение восхождения. Обсуждалось только одно — вот запрет ЦК и мы должны его исполнять. И никому в голову не пришло задаться вопросом: А собственно говоря, почему? Только от того, что «Жираф большой, ему видней!»?
Стоит еще добавить к этому, что Е.И. поставил в известность почтенное собрание, что группу с маршрута он не вернул, и сейчас она уже на подходе к штурмовому лагерю. Было очевидно, что какое бы решение не приняло Собрание, оно никак не могло повлиять на решение начальника (он ведь беспартийный!) или на решимость хомутовцев взойти на Эверест. Все, что могли сделать собравшиеся — это зафиксировать свое особое мнение об ошибочности решения Тамма, пренебрегшего указаниями из Москвы.
Голосование показало, что большинство (восемь против четырех) поддержало «линию партии», что и было зафиксировано в протоколе собрания. Реально это могло означать только одно: случись что-либо (не приведи, господи!) с группой Хомутова, вина за это легла бы исключительно на Е.И. и его сторонников, а все, поддержавшие позицию Романова, оказались бы в «белых одеждах»: «А ведь мы предупреждали, а нас не послушали!» Мало симпатичная позиция, но зато очень комфортная — ведь они «проявили принципиальность» в исполнении решения ЦК партии!
Позднее, когда Женя рассказал нам об этой истории во время нашего байдарочного похода летом 82-го года, мы были просто сражены. Еще и потому, что многие из нас знали Б. Романова, как очень неплохого мужика и сильного альпиниста, неоднократно встречались с ним в горах, и мы не могли даже предположить, что он способен на подобный подловатый поступок. И уж совсем неожиданным было узнать, что в числе поддержавших резолюцию «не пущать» оказался и Эдик Мысловский, тот самый, что по возвращении в базовый лагерь обратился к Тамму со словами признательности: «Спасибо тебе, Женя, за Эверест!» Интересно, каково ему было на следующий день услышать от Тамма: «Эх, Эдя, Эдя…». А что касается реакции А. Г. Овчинникова, тренера и старшего друга Мысловского, тот ему ни слова не сказал, а просто, как пишет Тамм, «почернел от огорчения».
Надо сказать, что, рассказывая нам об этих прискорбных эпизодах, Женя, скорее сожалел о поступке Мысловского, чем осуждал его. Как сказано в его воспоминаниях: «Ну, как можно тебе Эдя, отдавшему так много Эвересту, не понимать ребят, не стремиться к полному успеху. Испугаться!». Но понятно, что дело было не в трусости, точнее — не в «биологическом» страхе. Все проще: вспомним, что конформизм был одним из условий более-менее благополучного выживания в советском обществе, и ему были подвержены даже люди, с мужеством прошедшие через сильнейшие испытания жизни.
Ну, а на Эвересте все происходило так, как и полагалось, вне всякой зависимости от абсурдных постановлений коммунистической ячейки в базовом лагере. В 17.00 вся тройка хомутовцев собралась в лагере 4. В 20.00, когда Е.И. довел до их сведения решение собрания и свое особое мнение, они не стали терять время даром и немедленно вышли к лагерю V, где и оказались к 22.00. Ранним утром 9-го мая они вышли с рассветом и уже в 11.30 смогли рапортовать Тамму, что достигли вершины.
Все в базовом лагере ликовали, услышав эти известия. Как говорится у классиков: «Гром победы раздавайся! Веселися, храбрый Росс!». Насколько я знаю, ни в тот момент, ни позднее никто из тех, кто голосовал за то, чтобы остановить группу Хомутова, даже не вспомнил, что эта победа была достигнута вопреки указаниям «высших инстанций» и решению местной парторганизации. Хорошо еще, что потом в Москве беспрецедентное упорство Тамма в отстаивании своего решения не подверглось публичному осуждению!
И в заключение, чтобы у читателя осталось правильное впечатление об отношении участников экспедиции к своему начальнику, приведу следующую пару отзывов из их мемуаров:
Валентин Иванов: «Все-таки молодец, Евгений Игоревич! Поднять такое
дело! Ему больше всех пришлось работать в Москве и здесь, в Непале. Колоссальная ответственность в принятии сложных, порой весьма неоднозначных решений. Такие перегрузки легли на его плечи, что просто приходится удивляться: как такое можно выдержать?».
Валерий Хрищатый: «Сейчас, оглядываясь назад, снова проигрываю мысленно все ситуации и ставя себя поочередно на место каждого, понимаешь позицию руководства в той или иной обстановке. Понятно, что не мы с Казбеком были основной причиной возвращения связки Ильинский–Чепчев, мы явились лишь дополнительной причиной. И приходится только удивляться смелости и душевной отваге Е. И. Тамма. В его душе воистину живет великий спортсмен».
За те двадцать с лишним лет, что я всерьез занимался альпинизмом, мне довелось перевидать в разных ситуациях с полдюжины разных начальников. Ни один из них даже близко не приближался к тем стандартам, что интуитивно были обозначены для себя Е. И. Таммом. В нем не было ничего от поведения альфа-самцов, что не было таким уж редким среди лидеров альпинистских команд. Похоже, что сызмальства в нем было заложено нечто вроде набора камертонов чести и достоинства, что на протяжении всей его жизни и определяли его поведение и выбор приемлемых решений.
Я достаточно хорошо знал Женю, чтобы утверждать, что он совершенно не переносил дифирамбов в свой адрес и вообще не любил патетики. И все же рискну предложить в качестве завершения своего очерка про Е. И. Тамма стихотворение Булата Шалвовича Окуджавы, поэта, которого Женя очень любил:
Совесть, Благородство и Достоинство —
вот оно святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
За него не страшно и в огонь.
Лик его высок и удивителен.
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем,
Но зато умрешь, как человек.
Б. Окуджава, 1988




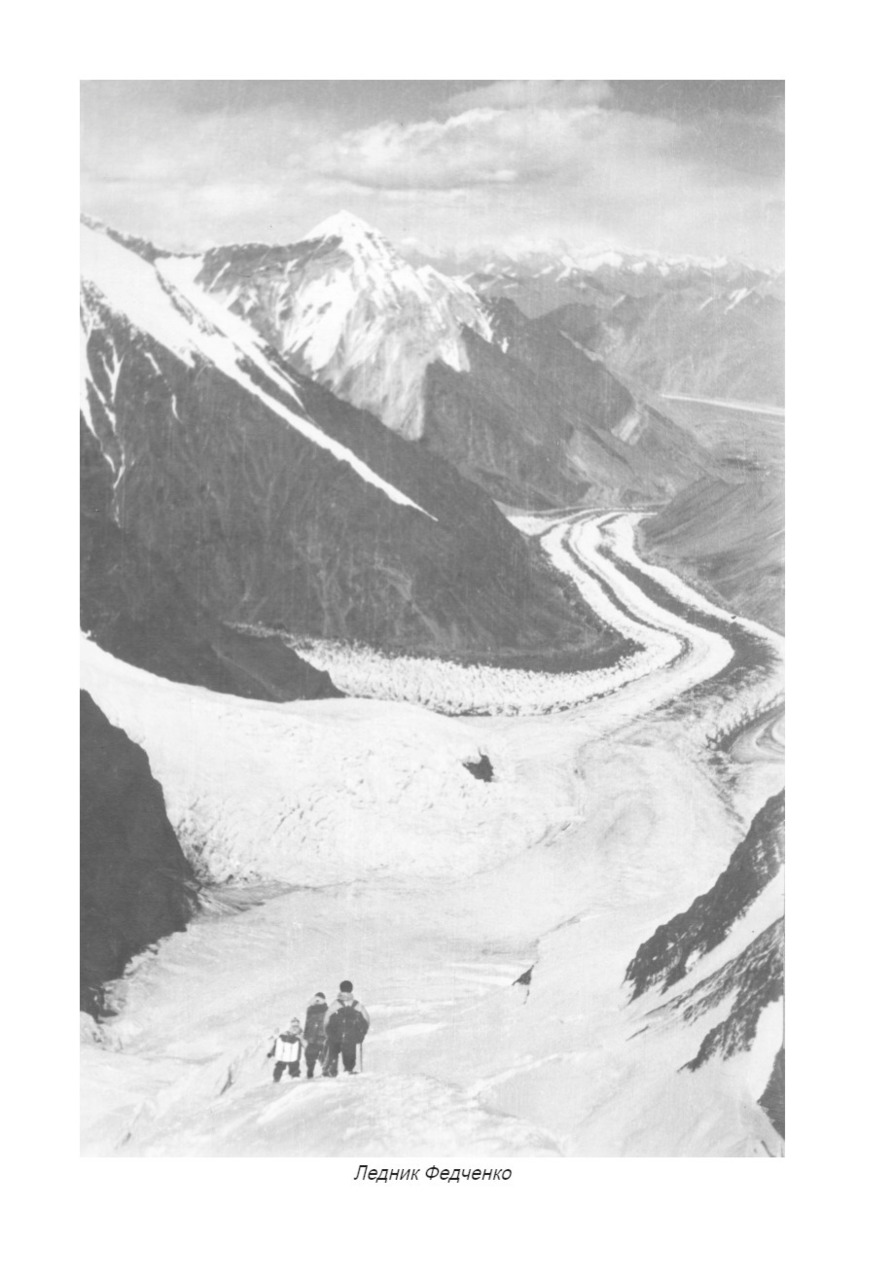

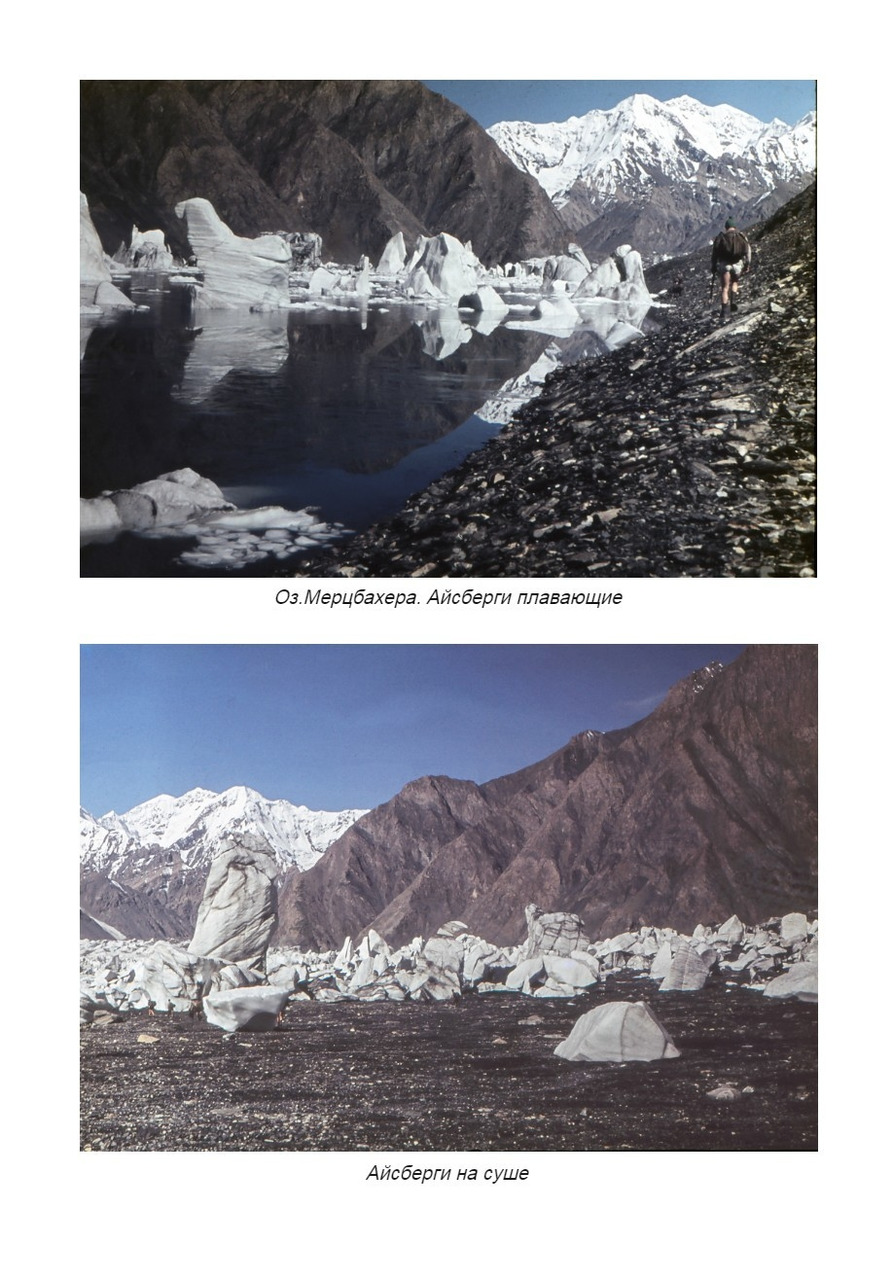
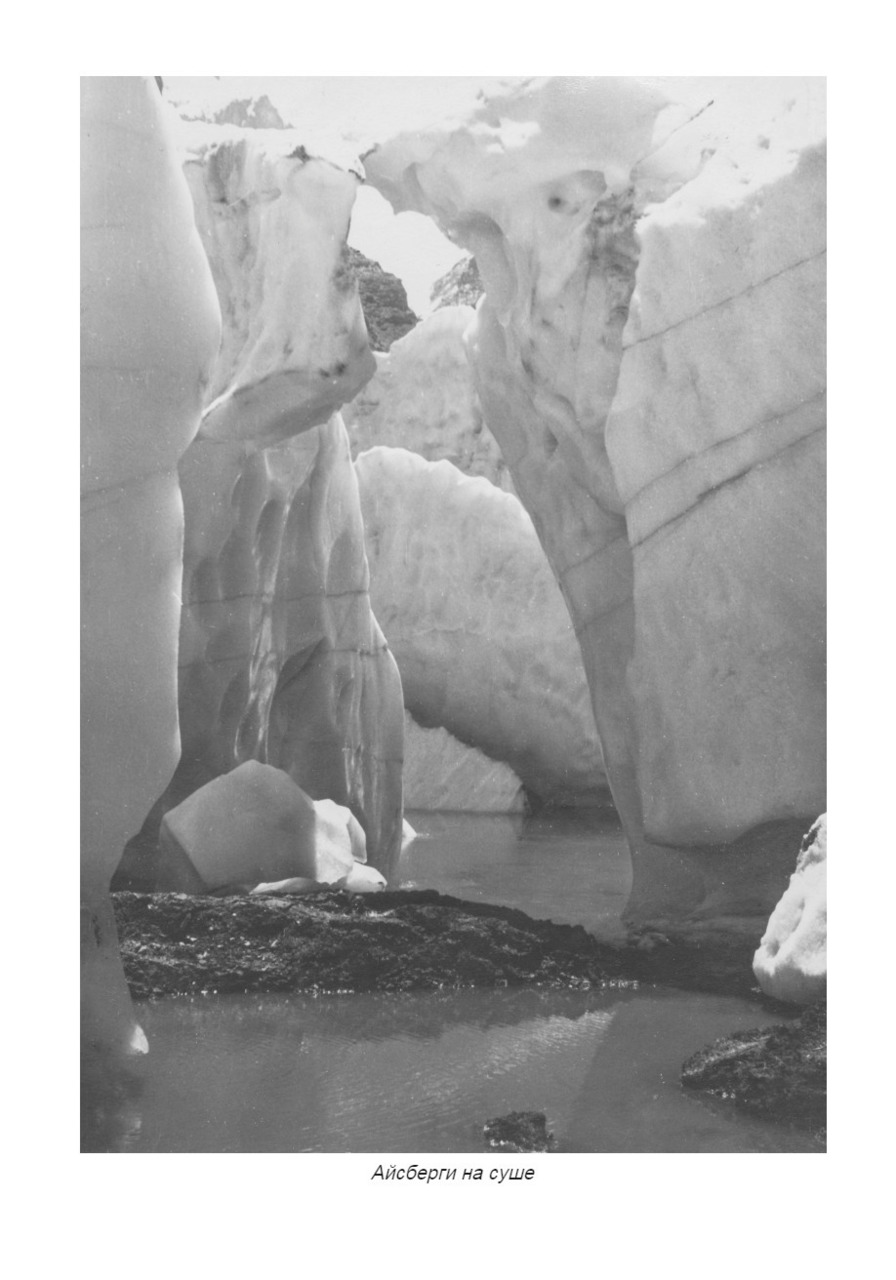
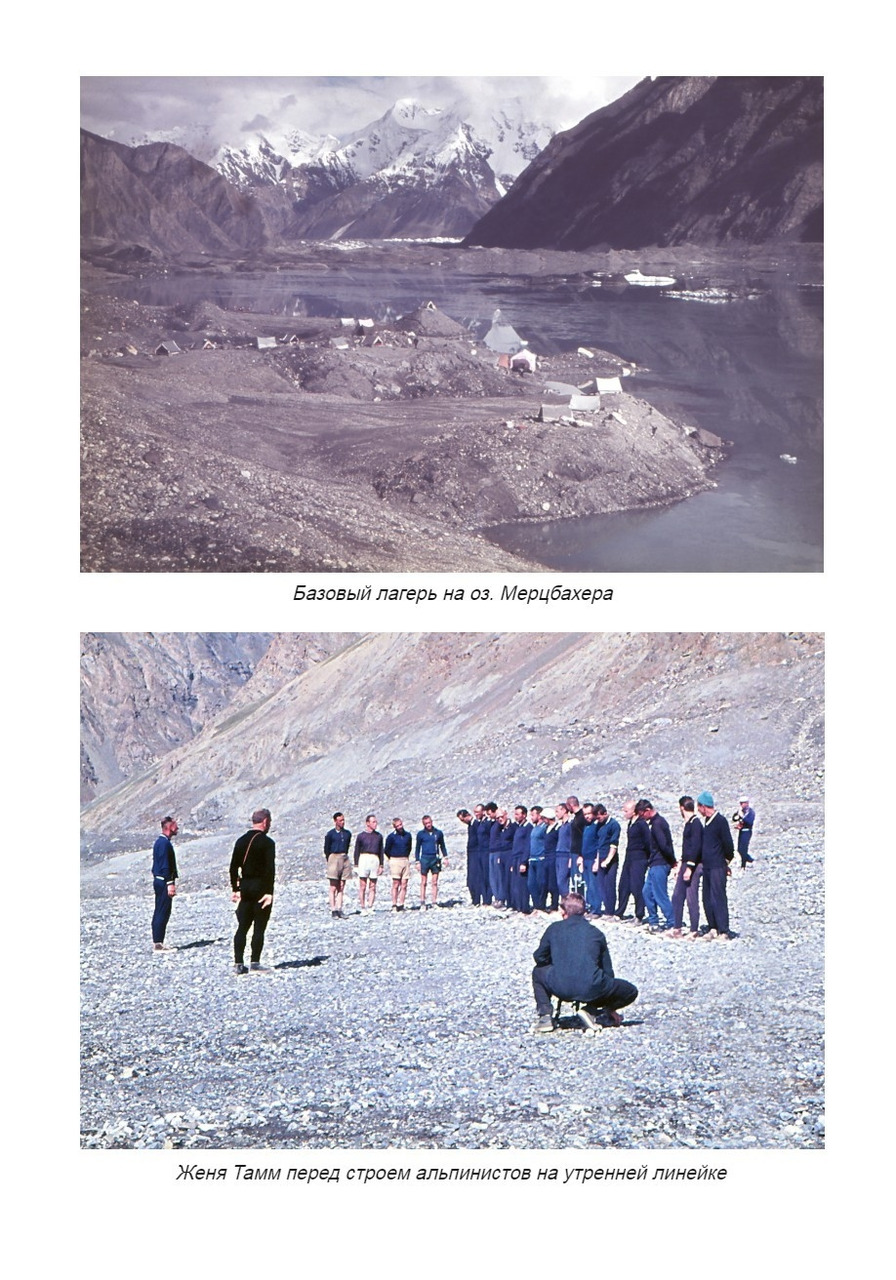
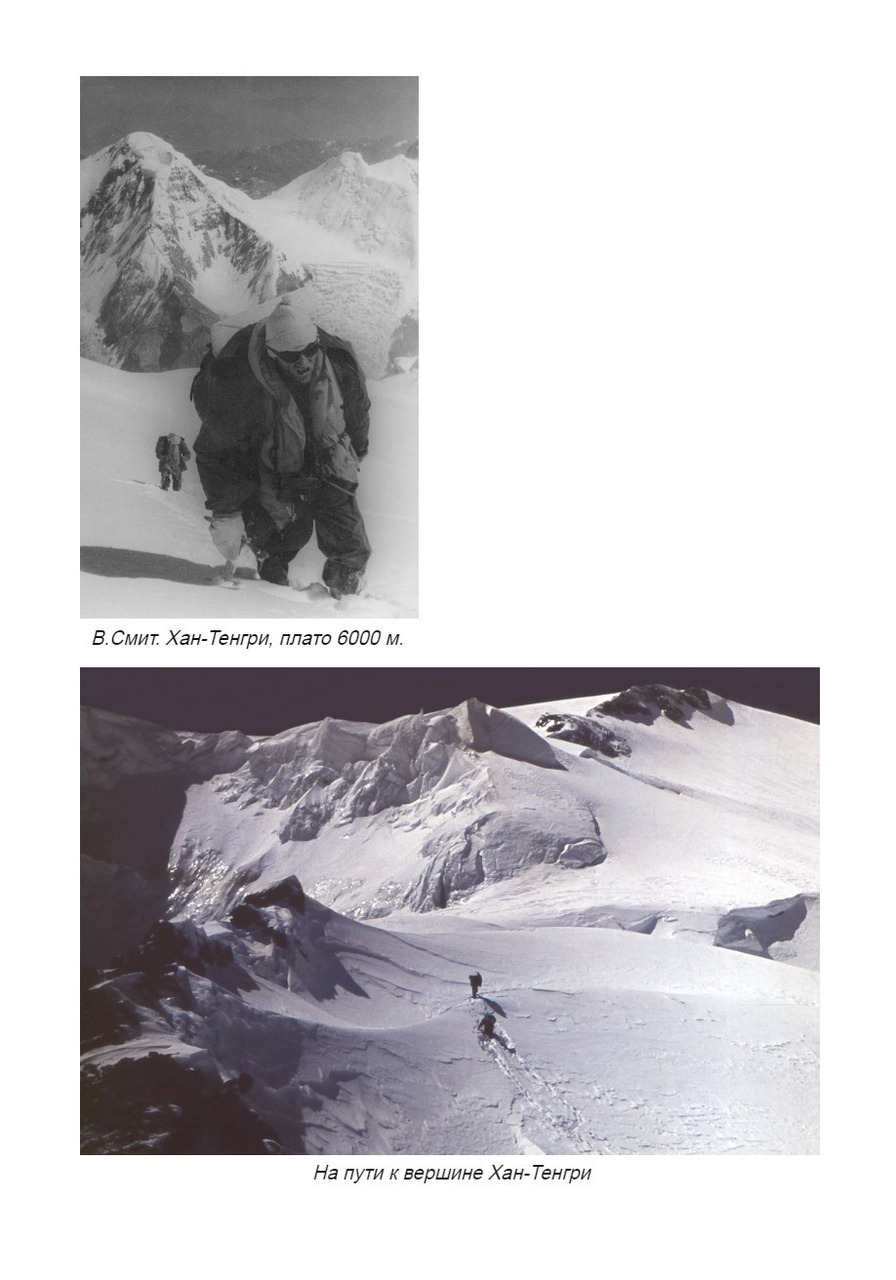

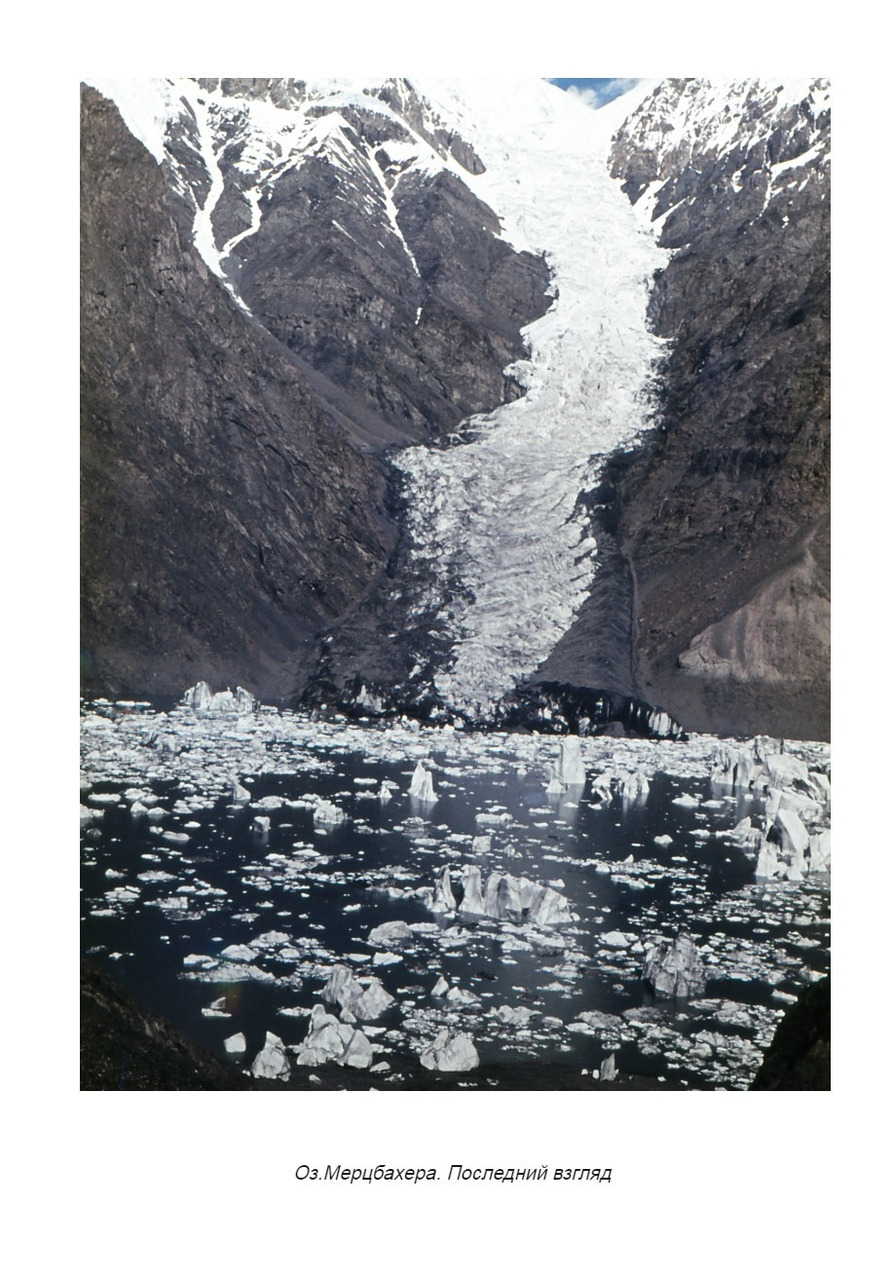





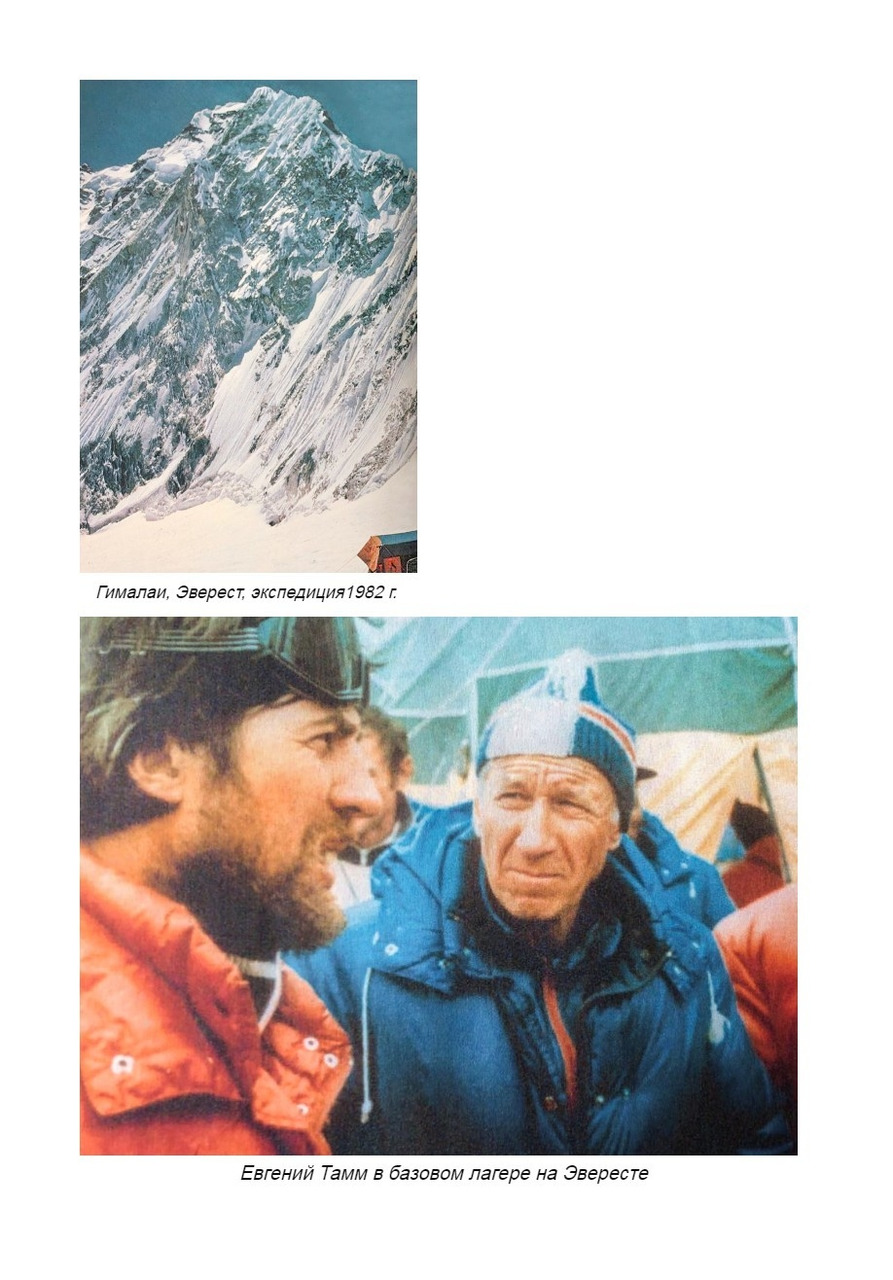
Часть вторая. Горы в моей жизни.
Каждый пишет, как он слышит,
Каждый слышит, как он дышит,
Как он дышит, так и пишет,
Не стараясь угодить!
Булат Окуджава
Всегда найдется повод разбирать «завалы» памяти
Конец зимы 2015—16 года… Вот я и на даче. Снега выпало в этом году — «по самоe некуда», как говаривал один мой знакомый. В этот раз я приехал сюда вместе с младшей дочкой Сашей и ее семейством. Едва добрались до крыльца, как восьмилетний внук Данька схватил лопату и с такой яростью пошел, пошел, пошел… — ну просто бульдозером, расчищать дорожки так, что уже через час все как-то стало приобретать обжитой вид, и я смог добраться до той кучи распиленных дров, что мне предстояло поколоть.
Весь день стояла великолепная погода начала февраля, всего 5 градусов мороза. Безветрие и временами даже голубое небо. Полная тишина кругом и даже не слышно пролетающего экспресса «Сапсана», хотя от нас до «железки» всего лишь километра полтора. Зимний лес стоит весь в снегу, как бы напоследок рисуясь своим роскошным нарядом. И, как всегда, во время свежего белоснежья все вокруг даже замызганное, заплёванное, загаженное Подмосковье, приобретает такой девственно чистый вид, что невозможно поверить, что на самом деле под этим покровом — омерзительная помойка почти на каждом шагу. Так что, любить Россию надо зимой, это как-то приятнее с чисто эстетической точки зрения!
Сейчас уже стемнело. Мое семейство затихло, и я сел за свой PowerBook, имея первоначально вполне благопристойную цель заняться обзорной статьей по химии, которая давно меня ожидает. Но эта идея мне почему-то перестала казаться привлекательной. Совершенно неожиданно для меня и, видимо, по случаю близкого окончания уже поднадоевшей зимы, захотелось чего-нибудь написать из воспоминаний о своей жизни. Преимущественно о светлых ее событиях, — ведь они всегда хранятся в запасниках памяти поверх темного слоя грустных эпизодов, в какой-то степени нейтрализуя их. Конечно, в жизни полно печалей и скорбей, забыть о которых невозможно. Но ведь, в конце концов, именно в памяти о счастливых моментах радости, что случались ранее (а если Бог даст — еще будут!), можно найти силу жить наперекор всему.
Двадцать с лишним лет я вместе со своими друзьями ходил в горах и очень значительная часть моих жизненных впечатлений, так или иначе связанных с горами, составила содержание моей книги «Мои друзья и горы». Эта книга была тепло встречена читателем и мне захотелось снова вернуться к этой важной для меня теме, дополнив сказанное ранее и несколько изменив ракурс повествования.
Памир, Гармо, 1953 г.
В моей биографии этот год отмечен тем, что я закончил химфак МГУ и по распределению должен был ехать на работу на Карагандинский завод синтетического каучука в город Темиртау. Как и почему получилось, что мне на распределении выпал такой, прямо скажем, не совсем банальный жребий — об этом можно прочесть в моей книге «Я воды Леты пью». Здесь скажу только, что в то время я был настолько увлечен перспективой участия в альпинистской экспедиции на Памир, что по сравнению с этим волнующим приключением, все остальное казалось мне не заслуживающим серьезного внимания.
Ну, а что же было потом, после распределения? Все, как обычно — защита диплома и госэкзамены. Но выпускного вечера, этого последнего и самого долгожданного события студенческой жизни я дожидаться не стал, поскольку мне было поручено ехать в Душанбе (тогда это был Сталинабад) во главе передовой группы нашей альпинистской экспедиции. Свидетельство об окончании МГУ (красный диплом, между прочим) мне друзья привезли в базовый лагерь в ущелье Гармо на Памире. Там же я узнал, что по месту моей работы в г. Темиртау мне надлежит быть не позднее первого августа. В противном случае против меня может быть возбуждено уголовное дело — уклонение от распределения ничуть не лучше уклонения от призыва в Советскую армию!
Не могу сказать, что все это меня тогда беспокоило — ведь я уже попал в горы Центрального Памира, а это и было для меня главным событием жизни в то лето. Тем более, что у нас в горах к первому августу только-только начинала разворачиваться спортивная работа: заброска снаряжения в верхние лагеря, разведка маршрутов, акклиматизационные выходы и, признаться, тогда я даже не вспоминал про то, что у меня также есть определенные обязательства перед родным государством.
Район Гармо в те времена был почти нехоженным, и было очень интересно просматривать маршруты на безымянные вершины-шеститысячники, планировать выходы и координировать работу сразу в нескольких ущельях. Первые восхождения — первые успехи, погода все время замечательная, настроение — отличное. А тут еще неожиданная находка — где-то в одном из верхних цирков ледника Беляева моя группа вдруг обнаружила крутой ледник, спадающий с Памирского фирнового плато, который казался вполне пригодным для подъема. Дело в том, что в то время это плато оставалось одной из немногих географических загадок Памира. Расположенное на высоте 5800—6000 метров и огромное по размерам (примерно 12 х 2 км), оно представляло центральный узел питания рек средней Азии, но точного описания его не было и было неясно, каким образом можно до него добраться?
Когда я рассказал о нашей неожиданной находке на тренерском совете, было решено, что необходимо детально разведать возможность подъема на плато. Если там действительно обнаружится выход, то тогда основной целью нашей экспедиции станет освоение этого маршрута. Для начала наверх была немедленно снаряжена разведгруппа в составе А. Балдина, К. Туманова и меня. Мы поднялись в верхний цирк ледника Беляева к началу предполагаемого подъема на плато, провели там пару дней, наблюдая за состоянием ледовых склонов и фирновых полей, убедились, что выход на Памирское плато там действительно просматривается и побежали вниз, чтобы сообщить о результатах разведки и более основательно подготовиться к основному выходу наверх.
Но всем этим планам не суждено было сбыться, так как горы приготовили для нас совсем иной сценарий событий. Мы уже подходили к базовому лагерю на Сурковой поляне, как вдруг увидели взлетевшую красную ракету, а следом — еще одну. Это могло означать только то, что произошел несчастный случай, и все должны спешить на помощь. Еще через час мы добрались до лагеря и узнали, что не вернулась к контрольному сроку группа Романович–Михайлов–Тищенко, которая делала восхождение на Пик Патриот (6300 м). Никакой связи с группой не было и, стало быть, спасотряду надлежало немедленно выходить наверх. Первая группа спасателей — восемь человек — должна была выходить немедленно, чтобы как можно быстрее подняться на высоту около 6000 м по гребню пика Патриот, где последний раз видели группу. Наша тройка, Туманов–Балдин–Смит была тут же включена в состав этого отряда. О последующих событиях, неожиданных и трагических, и о том, что дальше случилось со всеми нами, я подробно рассказал в первой главе своей книге «Мои друзья и горы. История одной команды». Здесь скажу только о некоторых особо запомнившихся эпизодах.
На четвертый день подъема по маршруту пропавшей группы, мы подошли к снежному склону, который вел к вершинному гребню пика Патриот. И где-то посредине этого склона мы вышли на след отрыва огромной лавины, оборвавшей полузаметенную цепочку следов группы, спускавшейся с гребня. Здесь нам все стало ясно: очевидно, наши друзья, Алексей Романович, Вадим Михайлов и Игорь Тищенко, спускаясь в условиях сильнейшей непогоды и отсутствия видимости, вышли на этот склон и там были сметены лавиной. След этой огромной лавины уходил куда-то далеко вниз на ледовые сбросы и далее в верхний цирк бокового притока ледника. Остаться в живых у них не было ни малейших шансов. Мы убедились и в том, что нет никакой возможности спуститься сверху к месту их предполагаемого падения.
В тот вечер в палатках не было вообще никаких разговоров и царило подавленное настроение. Хуже всего было Саше Балдину — дело в том, что Вадим Михайлов был его ближайшим другом: и в школе, и в Институте, и по жизни. Саша с трудом сдерживал рыдания и видно было, что происшедшее для него — не просто несчастный случай в горах, а личная трагедия.
А на следующий день, ближе к вечеру, когда мы, раздавленные и опустошенные спускались вниз, горы снова решили нас наказать: на крутом снежном склоне сорвался Леня Шанин, а за ним страховавший его через ледоруб Сергей Репин. У нас на глазах они покатились вниз за перегиб, туда, где нависал ледник с трещинами и ледопадом. Все происходило совершенно беззвучно и как-то заторможенно, как в замедленной съемке и от того казалось неправдоподобным.
Раньше всех опомнился Борис Арнольдович: «Немедленно собрать все наличные ледовые крючья и веревки. Туманов, Балдин, Смит спускаются по следу падения. Остальные ставят палатки и готовятся к выходу, если потребуется помощь». В наступающих сумерках наша тройка, Костя, Саша и я, вооружившись всем запасом ледовых крючьев, надевши кошки и взявши с собой все запасные веревки нашей группы, отправились вниз по следу падения двойки. Прошли с попеременной страховкой метров 300 и вышли к тому месту, где из-за крутизны склона передвигаться можно было только «лицом к склону», на передних зубьях кошек. В полной темноте невозможно было различить дальнейший путь. Чтобы хоть что-то понять, что там дальше, решили связать две веревки и отправить вниз Сашу Балдина. Мы с Котом обеспечим ему надежную страховку — вдвоем мы всегда сможем вытащить Сашу наверх, если понадобится.
У меня на всю жизнь осталась в памяти та ночь с 7-го на 8-ое августа 1953 года. Мы с Костей стояли у последнего крюка, страхуя Балдина, который ушел вниз на всю длину имевшихся веревок (метров на 70–80). Вокруг нас была абсолютная тьма безлунной августовской ночи с россыпями ярчайших звезд и бледной полосой Млечного пути. Почти как фонарь горел Юпитер, а еще было множество снопов ярких «падающих» звездочек. Как объяснил мне Туманов, в это время орбита земле пролегает через пояс Леонид, отчего и наблюдается этот метеоритный дождь («воробьиная ночь»). Сначала Саша довольно быстро уходил вниз, покрикивая, чтобы мы быстрее выдавали веревку. Потом темп движения замедлился. А затем от Балдина донеслось: «Иду наверх! Выбирайте веревку». Еще через какое-то время он поднялся к нам и, отдышавшись, рассказал, что он дошел по еле угадываемому следу падения ребят почти до края ледового сброса, под которым в десятках метров ниже угадывался хаос огромных ледяных глыб и трещин.
При такой глубине падения, крутизне склона и в отсутствии какого-либо пологого выноса у ребят практически не было шансов уцелеть. Больше мы ничего сделать не могли. Конечно, теоретически мог рассматриваться и другой вариант — продолжать спуск по сбросам, для того, чтобы выйти к телам погибших. Однако, само по себе это было крайне проблематично — при полном отсутствии видимости и крутизне ледового склона. Приходилось считаться и с тем, что даже если бы смогли как-то преодолеть ледовый сброс, то потом вряд ли мы были бы в состоянии сами выбраться наверх, в полной темноте, вконец обессиленные и замерзшие. При этом было также ясно, что нам вряд ли кто сможет помочь.
Уже начало светать, когда мы, наконец, поднялись к палаткам, где в тревоге провели бессонную ночь наши друзья. Вопросов нам не задавали, по лицам все было ясно. Помогли сбросить кошки и промерзшую обувь, оттерли пальцы на ногах и напоили горячим чаем. Пару часов погрелись-подремали и, как только чуть потеплело снаружи, стали собираться в путь.
Следующие два дня мы спускались по хорошо знакомому гребню. Шли медленно и предельно осторожно — нельзя было допустить ни одного неосторожного движения. Как мне помнится, в те дни во мне не оставалось никаких эмоций — все выгорело. Было совершенно невозможно осознать, что мы остались в живых, но уже никогда не увидим пятерых наших друзей, которые всего лишь несколько дней назад тоже были полны жизни. Все это было за гранью представлений привычного мира. При этом казалось, будто у меня в мозгу поставлен предохранитель, исключающий возможность представить в наглядности все, что произошло. Осталось только что-то вроде замкнутого на себя автомата, который диктовал мне: когда, что и как надо делать. Усталости я не ощущал вовсе и казалось, что могу идти без конца. Я мог только удивляться тому, как после всего происшедшего в предшествующие дни мы были в состоянии исполнять обычную работу альпинистов на маршруте. Как полагалось — поочередно топтались следы, где надо — забивались крючья и налаживалась страховка, подходило время связи — включалась рация. Время от времени приходилось останавливаться, чтобы перекусить или хотя бы попить чаю — все буднично и рутинно.
Наконец, мы спустились в лагерь на Сурковой поляне, где нас ожидали наши друзья, которые последние два дня только и делали, что в бинокли выискивали нас на гребне вверху и без конца подсчитывали — сколько их там осталось? Да еще пытались просмотреть внимательнее след на склоне от падения двойки Репин-Шанин и попытаться найти место, где они могли остановиться — безрезультатно.
В лагере, как только мы сбросили рюкзаки и пуховую одежду, возникло такое ощущение, будто мы возвратились в непривычно теплый мир откуда-то издалека, почти как из холодного и безжалостного космоса. Должен сказать, что сейчас, более, чем через 60 лет, когда я об этом пишу, мне не надо было ничего придумывать про подобные эмоции — достаточно было снова взглянуть на фотографии шестерки «спасателей», сделанные в момент нашего возвращения — там все написано на наших лицах, открытым текстом.
После нашего возвращения оставалось только помянуть погибших друзей, соорудить им обелиск из плитняка, сделать памятную надпись и сворачивать экспедицию — понятно, что в тот сезон ни о каких восхождениях речи быть не могло! Желание было только одно — поскорее домой.
Но не тут-то было — неожиданно из Москвы пришла радиограмма с предписанием от высочайшего начальства: «Всем оставаться на месте и готовиться снова к выходу наверх». Никто из нас ничего не понял, но приказ был категоричным. Еще примерно через неделю до нас добралась комиссия аж из самой Москвы, и нам, наконец, разъяснили, чего от нас ожидали высокие столичные инстанции. В полном изумлении мы узнали, что от нас требуется снова отправиться наверх с тем, чтобы найти доказательства гибели наших ребят. Комиссию возглавлял не кто-нибудь, а замминистра госбезопасности Таджикистан полковник Самиев, а из Москвы ей были приданы два гебиста Кульчев и Лупандин. Оба этих типа выглядели настолько омерзительно, что как-то не сговариваясь, мы их окрестили именами шекспировских персонажей, так сказать, «друзей Гамлета», Гильденстерна и Розенкранца.
Попытки объяснить, что с момента аварии прошло уже больше 10 дней и в принципе никто уже не мог остаться в живых, возымели только один эффект — было проведено собрание партийной ячейки экспедиции (среди участников оказалось три члена партии!), где те же два «гамлетовских друга» объявили, что в Москве им были дадены полномочия вплоть до расстрела на месте — «за саботаж спасательных работ». С такой постановкой вопроса никому из нас как-то не доводилось ранее сталкиваться ни в жизни, ни в горах. Понятное дело, после такого «объявления» все обсуждения прекратились.
На следующее утро мы снова потащились вверх. Сначала привычные два дня подходов под рюкзаками по осыпям и леднику, а потом еще три дня осмотра всех подозрительных неровностей в верхних цирках ледника с выходом на скальные гребни для лучшего обзора окрестностей. И все это на фоне понимания абсолютной бессмыслицы всего этого занятия!
Естественно, что никаких следов наших погибших товарищей обнаружить нам не удалось — нам-то изначально было ясно, что даже близко подойти к предполагаемым местам их падения было невозможно. Если быть более точным — это было бы сопряжено с риском, приемлемым лишь в тех случаях, когда речь идет о спасении людей. Наш случай был совсем иной: начальству нужны были доказательства гибели — ради этого никто из нас не собирался себя подвергать даже малейшему риску. В базовый лагерь мы вернулись в отвратительном настроении, но, что называется, «с чувством выполненного долга».
Там вскоре выяснились подлинные причины, почему в Москве были так обеспокоены несчастными случаями, произошедшими в нашей экспедиции. Дело в том, что бдительные товарищи в высоких кабинетах госбезопасности решили проверить, действительно ли Алексей Романович и Вадим Михайлов, эти два секретных сотрудника сверхсекретного ядерного учреждения, погибли в горах, как утверждалось в нашей радиограмме? А вдруг это все не так, а на самом деле они «смылись» в Афганистан, прихватив с собой все стратегические секреты? Ведь от ущелья Гармо до Афганистана было чуть более 70 км по прямой — «рукой подать» по московским меркам. Правда, по дороге надо было бы перевалить через три горных хребта, типа Главного Кавказского с высотами выше 5000 м, пройти километров 30—40 по изрезанным трещинами ледникам и переправиться через несколько бурных горных рек без каких-либо мостов. Естественно, никаких троп по этому пути проложено не было, но, видимо, в Москве все эти препятствия не посчитали серьезными.
По прибытии в лагерь в первый день же наши «гости» сгоряча даже заявили, что сами пойдут наверх с тем, чтобы добраться до места катастрофы. Особенно категоричен был полковник Самиев: «Если вы струсили и не хотите идти на поиски ваших товарищей, то я пойду туда сам со своими добровольцами (имелись в виду таджики из обслуги полковника)!» Можно представить, каково было нам это слышать! Но через пару дней их «благородный» порыв сам собой прошел, за пределы нашего лагеря в березовой роще у языка ледника они выходить не решились, а просто стали терпеливо дожидаться, пока мы сами проведем требуемые поиски.
Отчет об наших розыскных попытках был очень краток: искали как могли, искали всюду, не взирая на риск, но ничего не нашли. Этого оказалось достаточно. Комиссию совершенно не волновали судьбы конкретных людей — ведь было сделано главное: все меры во исполнение предписаний начальства уже были приняты. С немалым облегчением наши гости «закруглили» свою «работу» и убрались восвояси, забравши с собой всех караванных лошадей, которые были так нужны нам для эвакуации лагеря.
Следующие несколько дней до прихода каравана проходили для нас почти в праздности — мы не торопясь сворачивали лагерь и паковали снаряжение, бродили по окрестным ущельям, фотографировали все подряд, собирали коллекции красивых камней «на память», играли в волейбол или устраивали соревнования по стрельбе из лука. Как-то постепенно за всеми этими занятиями нас начало отпускать напряжение предыдущих недель. Потихоньку мы стали приходить в себя и осознавать трагизм пережитого. Мы не были новичками в альпинизме, и каждому уже приходилось встречаться с несчастными случаями в горах, но потерять за неделю пятерых друзей, первоклассных альпинистов — такого ни с кем из нас еще не случалось!
Естественно, что в наших вечерних «посиделках» у костра, в разговорах «за жизнь» с неизбежностью возникали главные вопросы: ради чего мы снова и снова лезем на вершины, хорошо осознавая риск этого занятия? Может ли быть какое-то оправдание жертвам, приносимым во имя спортивного азарта, который почти невозможно побороть, нечто вроде пристрастия к алкоголю или наркотикам? И вообще — не есть ли это чистый эгоцентризм в стремлении доказать всем окружающим и, в первую очередь самому себе, что «я могу»? А каково близким, родителям и детям?
Конечно, найти ответы на подобные «вечные» вопросы мы не могли — а кто бы смог? Согласие было, пожалуй, только в одном, может быть, самом главном — в нашей жизни горы играют особую роль, и здесь мало применимы обычные критерии здравомыслия и благоразумия. Об этом трудно говорить в абстрактном виде, но может быть, читателю будет проще понять, о чем идет речь, если я расскажу чуть подробнее о тех впечатлениях от жизни в горах, что оставили во мне два десятилетия занятия альпинизмом.
Наша экспедиция в Гармо оставила глубокий след в моей памяти не только всеми теми драматическими событиями, о которых я рассказал выше. Как это на самом деле бывает почти всегда, где-то совсем недалеко от драм и даже трагедий, происходят события совершенно другого плана — те самые, которые снова разворачивают человека «лицом к жизни». Вот об этом мне и хочется рассказать здесь чуть подробнее.
Нам потребовалось три дня, чтобы выбраться из гор на равнину, на трассу Душанбе-Хорог. Потом пару дней мы ехали на машинах до Душанбе. Там нас продержали зачем-то еще два дня, прежде чем загрузили в «пятьсот-веселый» поезд, что не торопясь, вне всякого расписания, тащился до Москвы аж 10 дней. Понятно, что за это время почти у всех закончилось время каникул или отпусков, но, как я помню, никого это особенно не волновало. Видимо, после перенесенных в горах трагических испытаний нам интуитивно хотелось как-то продлить сложившееся ощущение «почти фронтового братства» и замедлить неизбежное возвращение к суетным заботам атомизированной московской жизни.
Помнится, что наше путешествие на поезде проходило с какой-то дерзкой лихостью, которая, как было не раз замечено, бывает только в состоянии почти полного отчаяния. Наш поезд шел вне расписания и еле-еле тащился через пустыню. Тогда единственным спасением от среднеазиатской жары для нас мог служить лишь тендер нашего паровоза, и с утра до вечера мы бегали по крышам вагонов купаться в этом мобильном бассейне. Денег у нас почти не было, но нам повезло в том, что невероятно дешевые дыни продавались на каждом полустанке. Дежурные покупали дыни и затаскивали их к нам, на крышу вагона, где мы и пировали. Ах, как это было славно поедать после купания в тендере сахарно-сладкую и ароматную чарджуйскую дыню, бросая корки прямо в пустыню со всеми ее барханами, колючками и верблюдами! Но на станциях каждый раз появлялась милиция и тогда нас сгоняли с крыш и даже пытались задержать, но всех сразу — у них никак не могло получиться, а по одиночке мы «своих не сдавали». И, конечно, при первой возможности мы старались перехватить местных жителей, чтобы дали покататься на верблюдах. Кое-кому это даже удавалось, к полному восторгу остальных.
Ну, а по вечерам пели песни под гитару и разговоры, разговоры, разговоры… Про горы и, конечно, про науку. «Про горы» — это значит про первое успешное восхождение британцев на Эверест, что состоялось в мае 53-го года. Ну и, естественно, про новое в те времена и очень модное увлечение — прохождение маршрутов по отвесным стенам, как, например, вершины Пти-Дрю в Альпах. Что же касается науки, то сейчас я не берусь даже в общих чертах воспроизвести наши беседы, но четко запомнилось то ощущение восторга, с которым я слушал рассказы Саши Балдина о фантастических перспективах ядерной физики или Мики Бонгарда про недавние удивительные открытия тогда еще только нарождающейся науки — биофизики.
Однако для многих из нас совсем другое стало главным на пути в Москву. Почти каждый вечер, когда затихала общая жизнь, из купе начинали как-то незаметно исчезать пара за парой и занимать места в тамбурах. Да, вот так начинались романтические истории и складывались союзы, многие на всю жизнь, а иные — на год-два. Среди тех, что «на всю жизнь» был и роман Саши Балдина с Таней Левиной. Тогда мы с ним были, так сказать, «соседями»: он с Таней, а я со своей девушкой Нэлкой стояли у распахнутых дверей тамбура с разных сторон. Прямо к нам врывался горячий ветер пустыни с терпкими ароматами полыни и чабреца, мелькали загадочные огоньки редких полустанков, а сверху надо всем царствовала черная чаша южного неба, усыпанная бесчисленным множеством звездных огоньков. Конечно, совершенно бессмысленно пытаться воспроизвести наши тогдашние разговоры — дело ведь было не в словах, а в тех чистейших и искренних чувствах, для выражения которых никаких особых слов и не требовалось.
Почему я, собственно, решил упомянуть всю эту романтику, столь обычную, почти банальную, для юношей и девушек нашего возраста? Пожалуй, более всего из-за необычности обстоятельств, когда все это происходило. Напомню прежде всего, что та психологическая нагрузка, те испытания, которые выпали на нашу долю в горах, глубоко травмировали всех нас и, в особенности, членов спасательной команды. Нам нелегко давалось возвращение к нормальной живой жизни. В таком состоянии человек очень восприимчив ко всем проявлениям сочувствия и симпатии. Конечно, все старались нас всячески обихаживать, и это было действительно трогательно. Но совершенно по-особенному смотрели на уцелевших спасателей наши девушки, видимо, интуитивно понимавшие, насколько мы были внутренне опустошены всем происшедшим и с какой остротой нуждались в душевной теплоте и участии.
Я на всю жизнь запомнил самый момент возвращения нашего спасательного отряда в лагерь экспедиции. Тогда я ни с кем не мог общаться вообще и хотелось только одного — поскорее забраться в палатку и никого не видеть. Но в это самое время ко мне подошла одна из встречавших нас девушек, как-то по-особенному посмотрела мне в глаза, на мгновение задержала мою руку в своей, и меня, как будто ударило током, и это — не метафора, это почти физиологическое ощущение осталось во мне очень надолго. Девушку эту все звали Нэлкой. С ней мы были знакомы уже года два, ходили в походы в горах и по Подмосковью, доводилось даже спать вместе в общем спальном мешке, но не было при этом ничего, кроме товарищеских отношений. И тут такая мгновенная перемена! Поразительная для меня еще и потому, что я вообще считал себя черствым уродом, неспособным к подобного рода эмоциям. После того дня все последующие недели сворачивания работы экспедиции, возвращения в Душанбе и далее в Москву проходили для меня в каком-то полусне или сладком угаре возврата в жизнь.
В другом месте у меня еще будет возможность продолжить рассказ о том, как дальше протекал мой роман, а сейчас мне хотелось только сказать, что в тот сезон горы послужили не только первопричиной всех наших бед, но и источником высшей радости, сопряженной с необычайно высоким эмоциональным накалом.

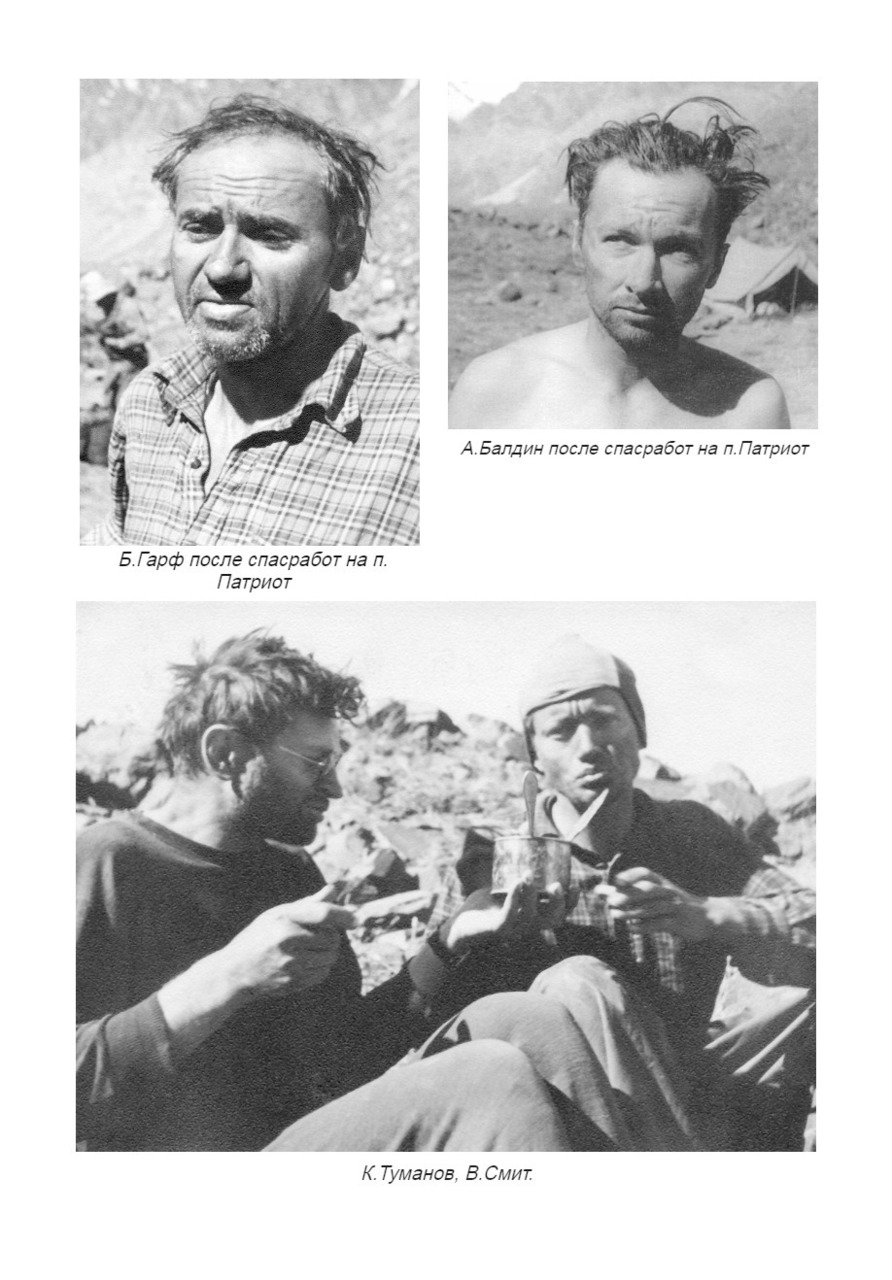
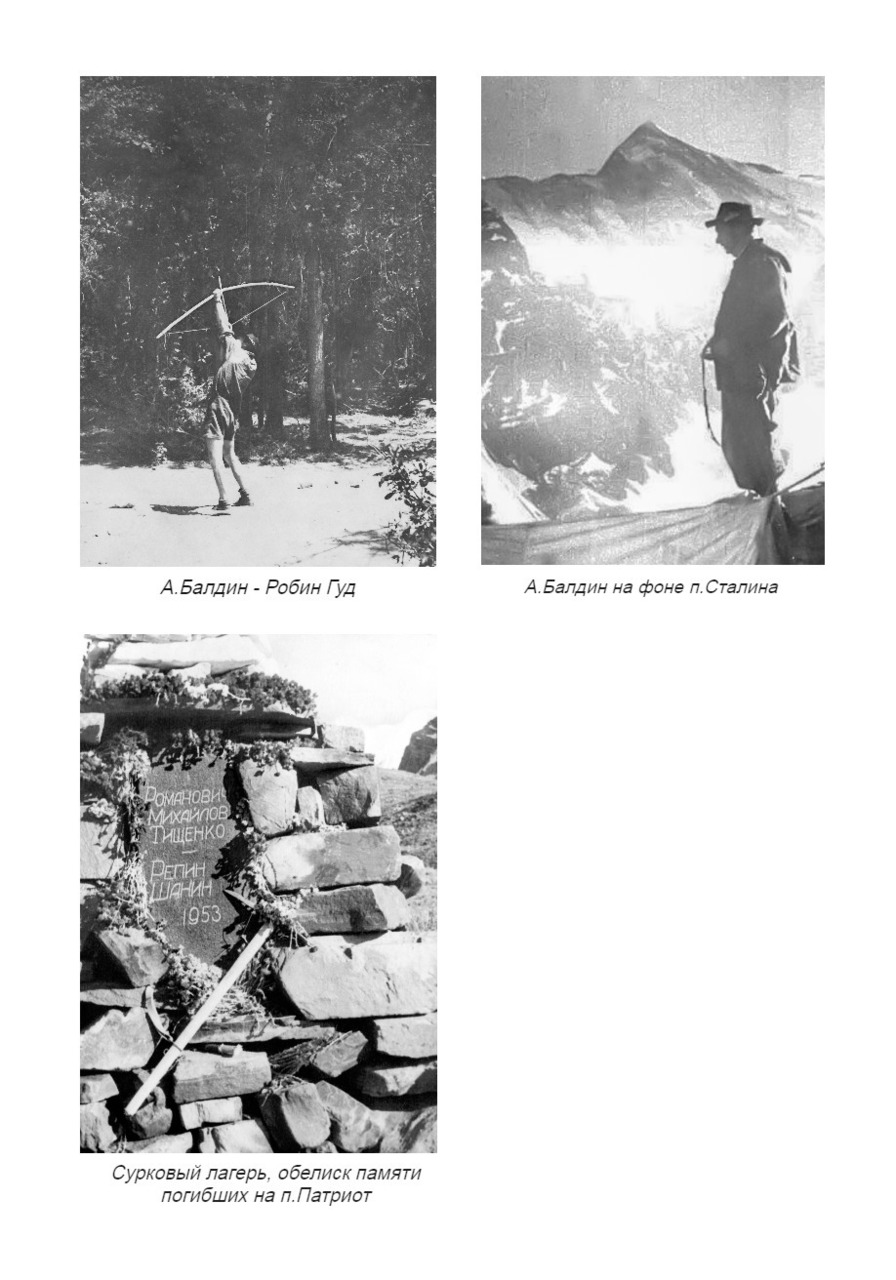
Горы — это активный отдых или часть нашей жизни?
Когда после первого курса университета я впервые оказался в горах в лагере «Алибек», мне даже в голову не могло прийти, насколько серьезным окажется этот шаг в моей жизни. Те двадцать дней, что я провел в альплагере как новичок, изначально казались просто прекрасным времяпрепровождением в кругу таких же юных балбесов на фоне волшебной панорамы гор. Но как-то совсем незаметно на меня начала действовать сама атмосфера вольной жизни в горах, какое-то состояние общей влюбленности в недоступный мир горных вершин, в фантастические краски рассветов и закатов, в морозную свежесть воздуха ранним утром и освежающую прохладу вечеров после жаркого дня — все это удивительным образом настраивало на особый душевный лад. Вот тогда-то я и понял, что мне мало быть просто гостем, получающим чисто эстетическое наслаждение от завораживающей привлекательности линий горных склонов, скал и ледников, голубизны озер и непрерывного шума горных потоков. Я должен стать допущенным в этот волшебный мир, стать здесь таким же своим, как те инструктора, полубоги в наших глазах, что обучали нас начальным премудростям горовосхождений.
Недолго пробыл я тогда в Алибеке, но это время было буквально насыщено отношениями веселья, свободы и добросердечия. Все это было абсолютно несравнимо с тем, что окружало нас в обыденной жизни «на равнине». Достаточно было два–три раза пожить в горах в обстановке такой теплоты, чтобы на всю жизнь «заболеть горами».
Со времен альплагеря «Алибек» особенно запомнился один вечер у костра, когда к нам в гости пришли ребята со спортивного сбора МГУ из соседнего ущелья Аксаут. Среди них: Костя Туманов (Кот), Юра Широков, Алексей Романович, Сергей Репин — это была элита, спортсмены, о восхождениях которых можно было прочитать в «Ежегоднике советского альпинизма». Они появились, как горные бродяги, одетые в живописнейшие лохмотья, с лицами сожженными немилосердным солнцем и разговорами, которые можно было слушать без конца: про то, как они схватили холодную ночевку при восхождении на Главный Аксаут, или про то, как Серега Репин сорвался при обходе какого-то жандарма, а Кот его удержал, услышав в качестве благодарности залихватское: «Кот, с меня пол-литра». Ну и конечно, эти мэтры не могли упустить случая нагнать страху на желторотых птенцов всякими рассказами о несчастных случаях в горах, дополненными россказнями о «Черном альпинисте», что появляется накануне несчастья или о «Горной Деве», что могла заманить неискушенного человека в пропасть. Кончились тогда эти посиделки ближе к утру, когда наши гости нагрузили на себя совершенно неподъемные рюкзаки и, согнувшись почти до земли, ушли в свой загадочный Аксаут, сопровождаемые нашими завистливыми взглядами.
Ещё вспоминается несколько эпизодов из более позднего времени альпиниады МГУ 1952 г. Там стали нашими лидерами корифеи, вроде: Кота Туманова и Сережи Репина, наряду с Сашей Балдиным и, конечно, Борисом Арнольдовичем Гарфом, мастером спорта еще с довоенным стажем. Вместе с Алексеем Романовичем и Вадимом Михайловым они прошли рекордную по сложности стену Чатына (1ое место в технике сложных восхождений на Чемпионате Союза), а затем подряд еще три стены: маршрут Абалакова на пик Щуровского, сложнейшее ребро Шмадерера на Шхельде и северное ребро Накры. Все это проходило у них с необыкновенной легкостью и даже веселостью, судя по тому, как обо всем этом они потом рассказывали нам, простым разрядникам у вечерних костров. Запомнился особо рассказ Кота про прохождение стены пика Щуровского, про сложность которой в описании В. М. Абалакова говорилось лишь в самой превосходной степени. Вот отрывки из этого разговора:
Кот — Сергею Репину:
— «Серега, сейчас ты подошел к ключевому участку стены. Здесь, согласно описанию Виталия Михайловича, ты должен повиснуть на правой руке и, свободно забросив свое тело налево, ухватиться там двумя пальцами левой руки за почти невидимую зацепку за перегибом. Понял?»
Серега:
— «Тело у меня одно и кидать я его никуда не буду. Просто в метре левее от меня прослеживаются зацепки и, похоже, по ним можно будет куда-нибудь пробраться без всякой героики. Так что трави веревку, но потихоньку.»
А еще через некоторое время: «Ура, вот и трещинка попалась, бью крюк!».
Кот–Репину:
— «А теперь ты должен ощутить горделивое чувство человека, способного преодолеть такие препятствия,» — примерно об этом нам напомнил В.М.
Репин в ответ с немалой досадой:
— «Эх, пивца бы сейчас, тогда бы и я чего-нибудь почувствовал возвышенное».
Конечно, все эти впечатления разнеслись потом по всему ущелью, к немалой досаде Абалакова, и с десяток команд немедленно записались в очередь, чтобы пройти стену на Щуровского.
Очень яркой фигурой в составе нашего сбора был Александр Христофорович Хргиан. Он считался очень немолодым — за сорок, но усердно работал как инструктор с молодежью, водил нас в горные походы и на всякие единички и двойки, просто заряжая всех своей любовью к горам. И вот у Сереги Репина возникла идея «подарить» А.Х. восхождение на настоящую вершину. Маршрут был избран довольно сложный, но короткий — на Восточную Шхельду, четвертой категории трудности. Кот, Широков и Балдин поддержали Сергея, и вот они отправились в путь. Обычно этот маршрут занимает два-три дня, но они не спешили и вернулись к концу четвертого дня. Рассказ об этом восхождении был очень живописным. Самое занимательное было услышать, каким образом они преодолели 20-метровую скальную стенку, ключевое место маршрута — А.Х. было уже тяжело проходить сложные скалы, поэтому по всей высоте стенки было проброшено два репшнура рыжего и белого цвета, с закрепленными на них стременами, и основная веревка, закрепленная на теле Хргиана. По команде: «Рыжий. Белый. Основной,» — Александр Христофорович ослаблял нагрузку поочередно на стремена, и натяжение основной веревки вытягивало его еще на полметра вверх. Так довольно быстро и абсолютно безопасно ребята довели-дотащила А.Х. до самой вершины, а там он так приободрился, что на спуски почти самостоятельно проделал спуск дюльфером (по веревке сидя). В лагере Хргиан появился совершенно счастливым. Был рад и Сергей — ведь А.Х. был руководителем дипломной работы Репина по атмосферной физике, и для него было очень важно отблагодарить А.Х. за тему, связанную с изучением особенностей этой самой физики в горах. Ну, а через пару недель, когда закончился наш сбор, и мы появились на море в Сухуми, к нам вскоре заявился Хргиан, чтобы зазвать всех на роскошный ужин в ресторан. Вечер запомнился еще и тем, что по пути домой парочка местных хулиганов вздумала привязаться к Коту, ошибочно посчитав его легкой добычей — очки, понятное дело, — интеллигентишко. Но Кот так врезал одному, что тот отлетел в сторону, а другой «интеллигент» в очках Славка Цирельников, между прочим, разрядник по самбо, едва не сломал руку второму, и тот был рад, что его отпустили в целом виде.
Здесь мне хочется еще вспомнить о Саше Балдине, с которым так много было пройдено маршрутов в одной группе, а иногда и в одной связке. Первый раз я увидел Сашу в 1951 году на Кавказе в Адылсу в альплагере «Локомотив». Крепкий, среднего роста, широкоплечий человек, инструктор отделения разрядников, то есть тех, кто уже не первый год в горах и кого надо учить уже не арифметике, а алгебре альпинизма. У него в отделении были парни из метростроевцев, отменная шпана, матершинники, не признававшие никаких правил дисциплины, и с которыми трудно было вообще совладать. Но Саша на удивление легко добился того, что вся эта публика признала его неоспоримое первенство и безропотно подчинялась всему, что он от них требовал.
А в тот год наша университетская команда стояла лагерем в том же ущелье. Мы частенько наведывались в «Локомотив», а тамошние инструктора — к нам. Как-то у костра, когда инструктора «травили» свои байки, Саша, в свой черед, поведал о том, как он укрощал всю свою полубандитскую вольницу.
Конечно, с самого начала его участники — работяги, здоровенные парни относились очень критически к своему инструктору — ведь, судя по разговору, он им показался каким-то интеллигентиком, из тех, кто «тяжелее стакана ничего в своей жизни не поднимал». Одним словом — слабак! Но уже на следующий день, когда Саша повел отделение вверх по травянистым склонам, почти никто из его ребят не смог за ним угнаться. А когда они, наконец, добрались до места скальных занятий, эти здоровяки еле стояли на ногах. Но здесь-то и начиналось самое главное — занятия в «скальной лаборатории». Саша выбирал среди учебных маршрутов самые трудные — ведь как никак, не «кисейные барышни», а могучие мужики, налаживал страховку и затем проходил маршрут один раз, чтобы показать, как это делается. Выглядело все это легко, непринужденно и быстро. Но почему-то ни один из участников не мог изобразить ничего хоть отдаленно похожего. У них все получалось медленно, почти как барахтанье, с постоянным поиском зацепок, когда пальцы «бегают по скале, как по клавишам пианино» (Сашино выражение!), а все мышцы напряжены, как при тяжелой работе.
Пара таких занятий на скалах, а потом еще два дня хождения и лазания в кошках на леднике, и вдруг оказалось, что Саша стал абсолютно непререкаемым авторитетом для своих молодцов. Во время походов его отделение всегда выполняло самую тяжелую работу, будь то прокладка тропы в снегу, организация перил для страховки на скалах или устройство переправы. Когда же во время одного из таких походов их прихватила свирепая непогода на леднике Джантуганского плато, инструктор Балдин не дал своим ребятам отсиживаться в палатках, а с утра, несмотря на метель, всех вытащил на зарядку, и добрые полчаса они занимались всякими упражнениями, как будто все происходило в спортивном зале. При этом он любил повторять: «Ты ему, окаянному (т.е. — своему организму!) пощады не давай!»
После всего этого вряд ли можно было удивляться, что эти мужики, которые попали в горы почти случайно, просто позарившись на дешевизну профсоюзных путевок в южные края, с удивлением обнаружили, что свой отпуск можно проводить вообще без выпивки, за «странным» занятием хождения вверх-вниз с перетаскиванием тяжеленных рюкзаков с места на место. Более того, неожиданно для самих себя, они как-то прониклись духом альпинизма, и впоследствии пара человек из Сашиных учеников втянулись в это дело вполне всерьез.
Инструктора альпинизма — это была особая каста, каста людей, чувствовавших себя ну почти, как «усмирители гор». Все они, конечно, страшные пижоны и воображалы, для которых почти не существовали прочие простые смертные, те, кто еще не испытал искус горовосхождений и особенно первовосхождений. Действительно, о чем говорить с человеком, кто даже представить себе не может, как проходится сложная скальная или ледовая стена, и что такое «спуск дюльфером», «холодная ночевка» или, наконец, что требуется от человека на «спасаловке!».
Саша, как и полагалось уважающему себя инструктору, ходил, что называется «фертом», в яркой ковбойке с заплатами, в шортах, которые почему-то назывались «тирольки» и в непременной фетровой шляпе с непонятным значком «траверс ГКХ» (означавшим всего лишь, что человек в данный сезон поднялся на одну из вершин Главного Кавказского хребта). Всем своим видом он напоминал облик «молодчиков каленых, что хаживали вполплеча в камзольчиках зеленых…» (О. Мандельштам).
Он, конечно, знал себе цену и любил быть в центре внимания. Один из коронных его трюков, который он с охотой исполнял для публики, состоял в хождении по репшнуру, натянутому от его инструкторской палатки к ближайшей сосне. Казалось, что для него это почти также естественно, как ходить по ровному месту. Дошел до сосны, повернулся пошёл назад, по дороге остановился, присел, выпрямился и вот уже у палатки. Потом он раскрыл тайну, как он добился такого результата: «Ничего особенного, просто месяца два, каждое утро, тренировал равновесие. Может получиться у каждого!». Но среди знакомых альпинистов мне как-то не довелось встречать тех, у кого это получалось с такой же легкостью.
Это было удивительное время, нашей молодости, когда казалось, что так будет всегда — наша вечная дружба между собой и с горами. Будущее казалось ясным — мы будем выбирать все более сложные маршруты — сначала «махнем» на Памир, а там, глядишь, и до Гималаев доберемся. Славное и веселое начало нашего пути в альпинизме!
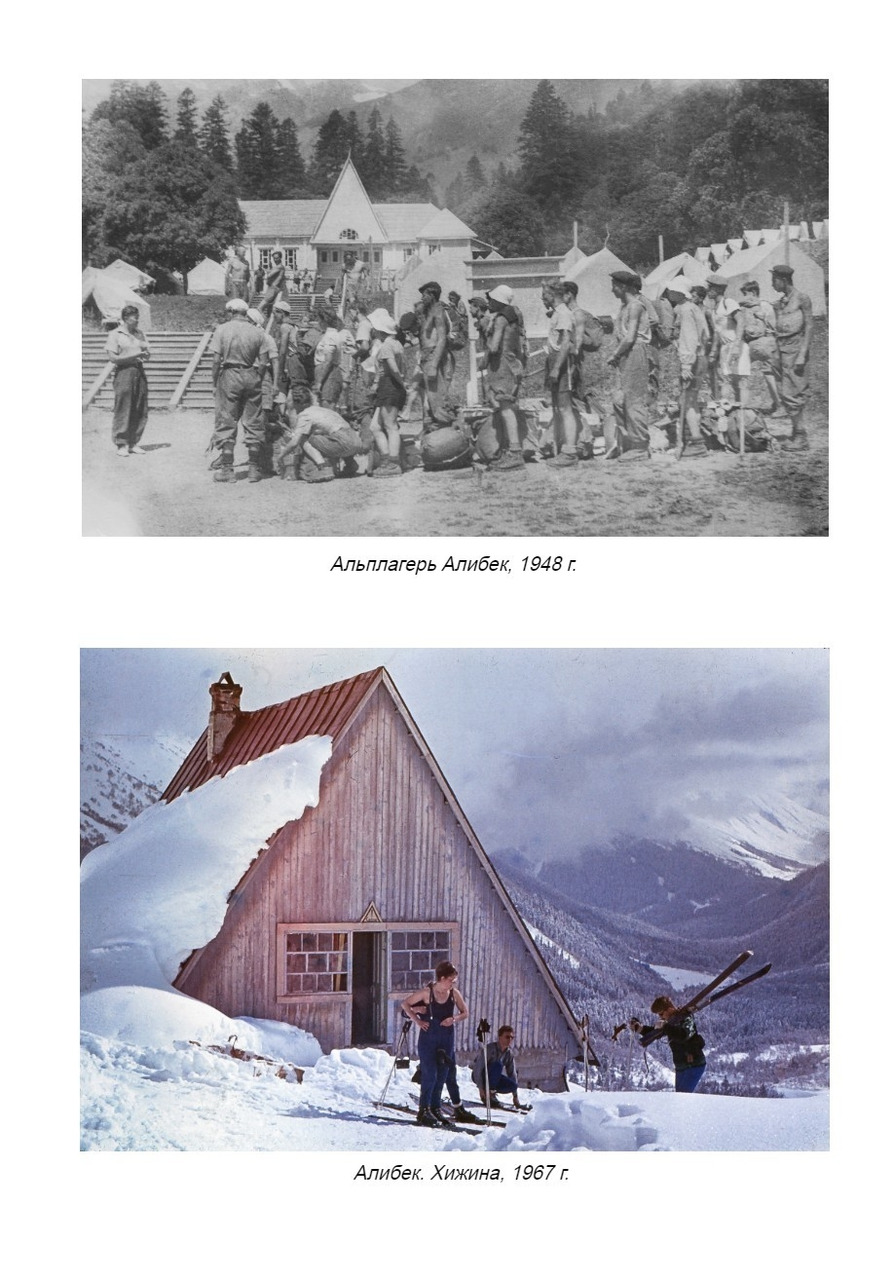

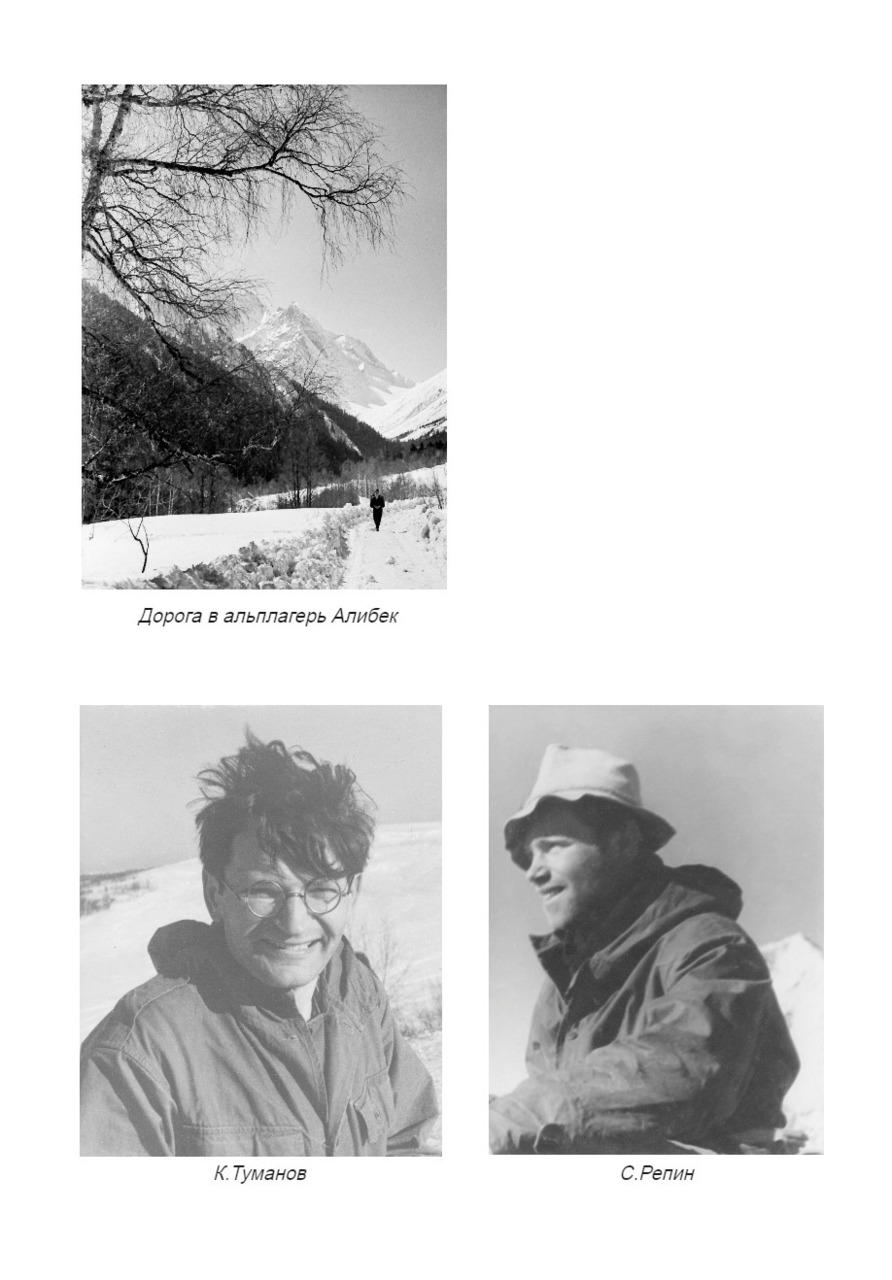

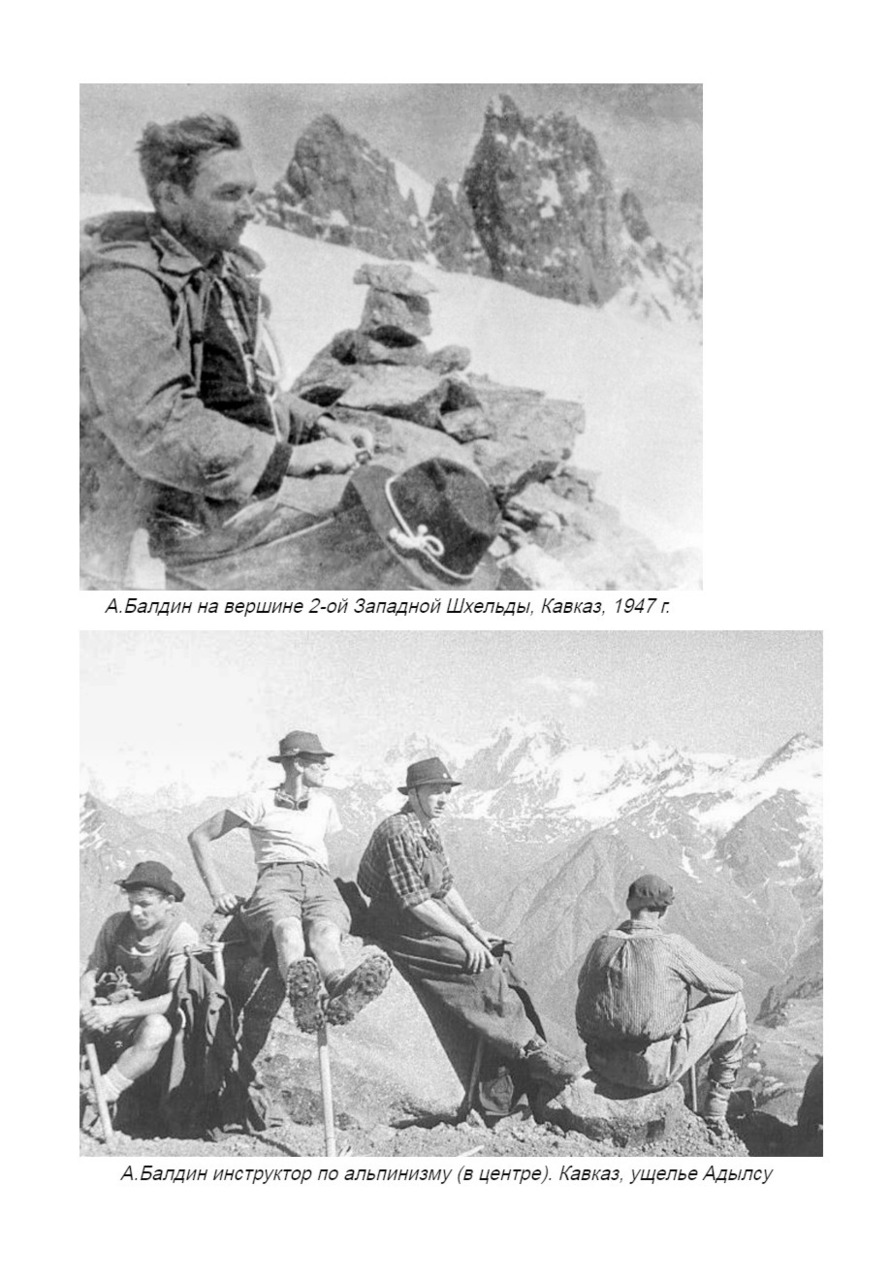
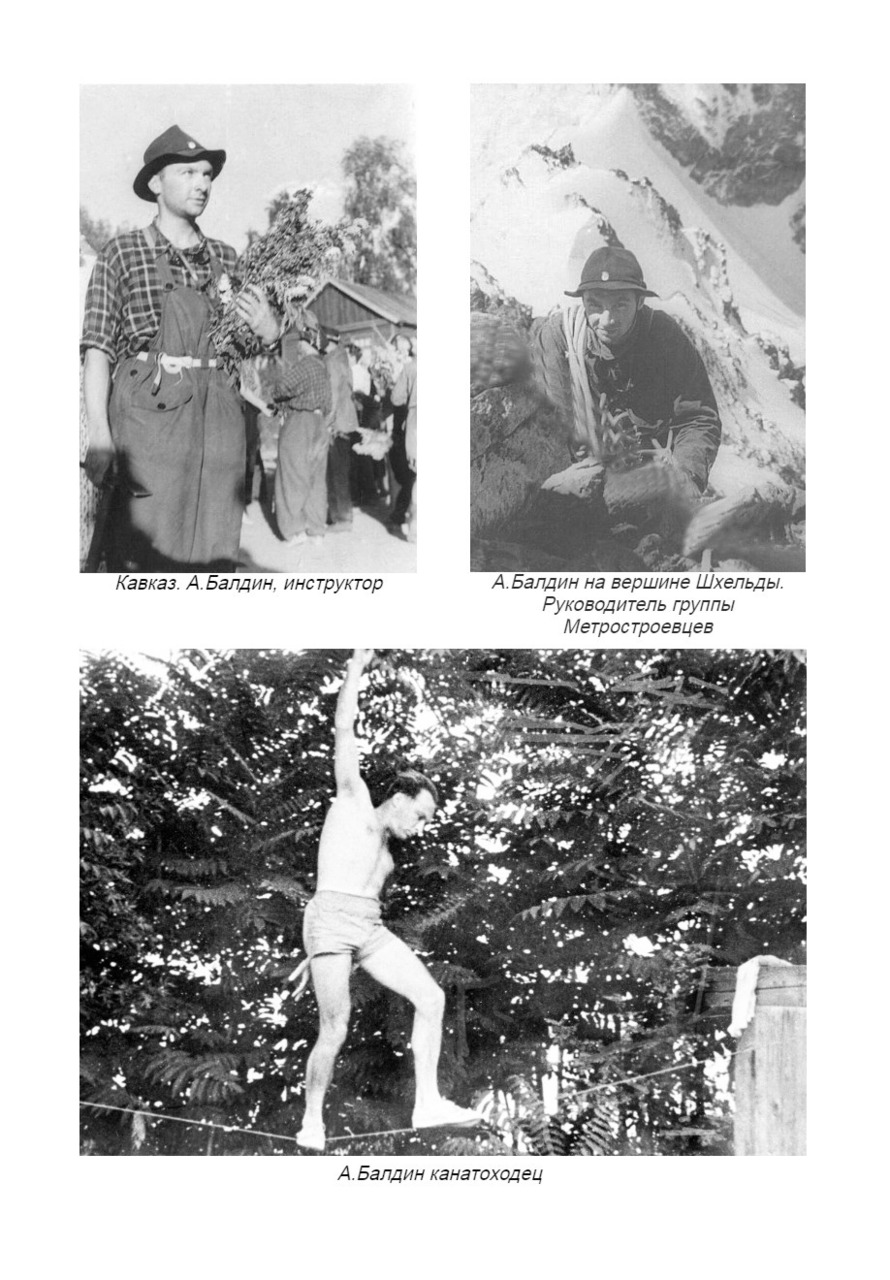
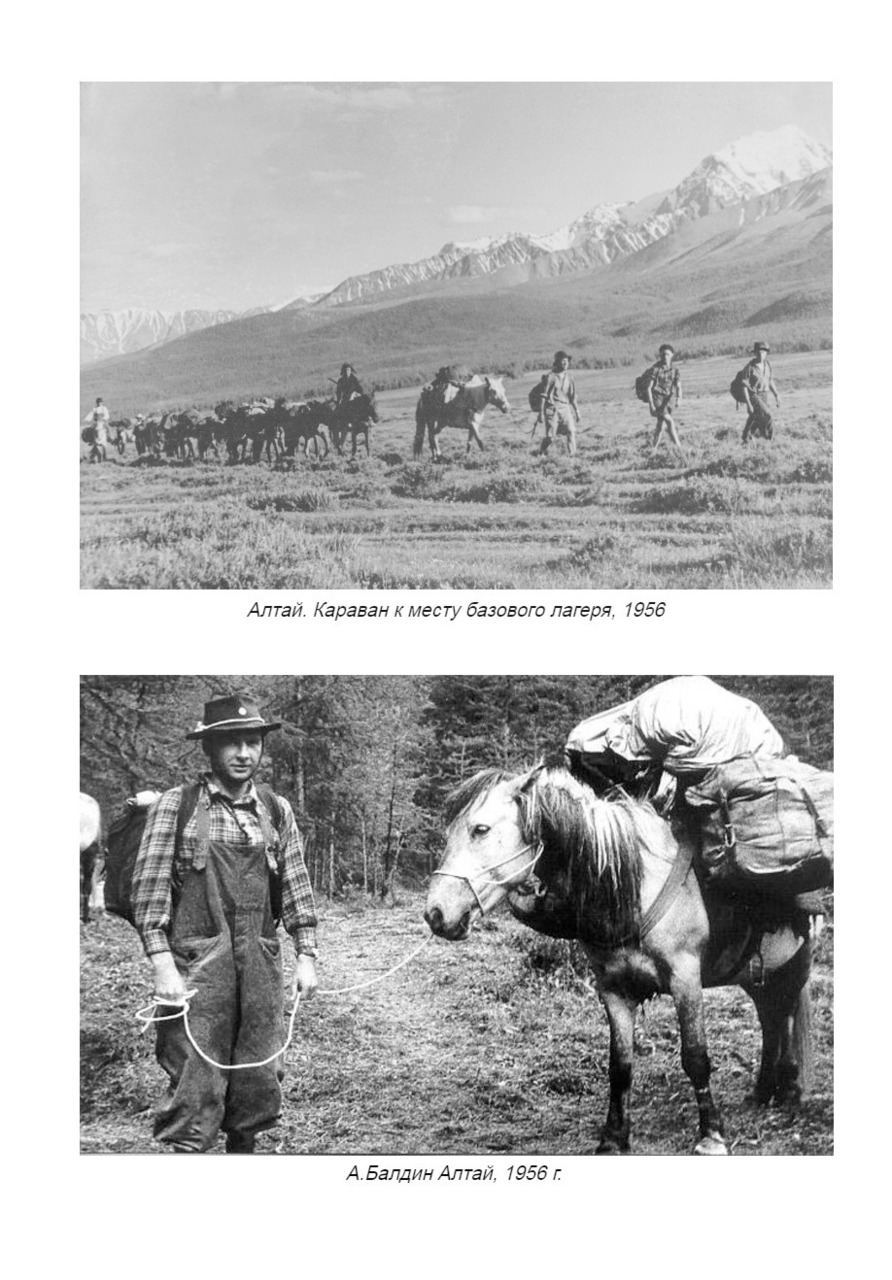
Почему же мы все-таки продолжали ходить в горах и после 1953-го года?
Казалось бы, что после всего, что мы пережили в Гармо, наиболее естественным было бы прекратить испытывать судьбу, остановиться и перестать так легко доверять свою жизнь капризам горной природы. Тем более, что многие из нас переженились, обзавелись детьми и, стало быть, на место молодой романтики должна была прийти благоразумная зрелость.
Чтобы было понятно, как это могло получиться, я расскажу поподробнее о наиболее запомнившихся экспедициях СКАН, что состоялись после 53-го года.
Тогда вся цивилизация кончилась для нас в г. Бийске. Дальше последовали два дня на грузовиках по бездорожью легендарного Чуйского тракта почти до монгольской границы, в альплагерь «Актру». Здесь нас снабдили снаряжением и продуктами и помогли в организации каравана лошадей. Картинка получилась такая: табун из 10 полудиких лошадей, отвыкших от вьюков, 18 альпинистов, не имеющих представления, не только как вьючить, но даже, как просто взнуздать лошадь, и 9–летний пацан Минька, приданный нам, чтобы следить за тем, как мы бережем колхозных лошадей. Минька как–то сразу «рассек», что эти взрослые дяди никогда в жизни близко к лошадям не подходили. Видно, это его страшно удивило. Он сразу почувствовал свое превосходство над нами и охотно стал учить нас премудростям общения с этими замечательными животными. Довольно быстро, на второй или третий день, азы этой науки мы освоили, не без труда разместили весь наш груз, частично на лошадях, частично на себе и пустились в дорогу.
Дальше последовал трехдневный путь по лесам и болотам, через лесные завалы и невысокий, но очень противный (из–за каменистого болота на самой «верхотуре») перевал. Потом мы оказались в совершенно глухом ущелье, где не было даже следов звериных троп, а неба не было видно вовсе из–за сомкнувшегося над головами мелколесья и стоящих стеной лиственниц, и только бурлящий поток горной речки обозначал направление движения. Но в тот момент, когда мы уже почти не держались на ногах от усталости, а кони наши то и дело норовили сбросить вьюки, вдруг тайга расступилась и перед нашими глазами открылась широкая поляна, а за ней озеро, необычайной голубизны. Здесь же на опушке нашлось место для лагеря, для костра и даже загон для лошадей. Но самое-то главное — стоило поднять глаза, как совсем недалеко, на расстоянии пары километров, был виден дальний берег нашего озера, а где–то там не очень далеко в него впадала речка, сбегающая среди проплешин осыпей. За ними угадывался довольно короткий, почти игрушечный ледник, а еще немного, и вот они, стеною стоят «наши горы», Северо-Чуйские белки. Тот первый вид так и запечатлелся в моей памяти как окно, распахнувшееся для первопроходцев в новый и прекрасный мир. Главное желание было — все бросить и побежать к этим горам, чтобы убедиться, что они настоящие, а не бутафория.
Конечно, в Шавле и раньше бывали туристы. За год до нас инструктора лагеря Актру сделали здесь пару восхождений. Но нам досталась завидная участь — мы «распечатали» этот рай для альпинистов. Почти три недели без передыха мы ходили по вершинам, и к концу нашей экспедиции здесь уже не оставалось вершин без названия — они все, общим числом одиннадцать штук, были «крещены» нами по праву первовосходителей.
То было, действительно, сказочное время и не только потому, что мы были молоды, тренированы и уверены в своих силах. Что-то было еще, видимо, в самой девственно чистой природе Шавлинского озера, окружавших его гор и лиственничной тайги, нечто совершенно особое, располагавшее к абсолютному дружелюбию и восприятию жизни, как праздника.
В тот сезон горы были к нам особенно добры и снисходительны, почти как к малым детям. Восхождения следовали за восхождениями, простые тренировочные маршруты сменялись на довольно трудные, спортивные, но, несмотря ни на что, не было ни одной серьезной травмы. Правда, не обошлось без эпизодов, когда чистая случайность спасала нас от серьезных последствий.
Хорошо запомнилось, как Борис Арнольдович Гарф, один из известнейших альпинистов еще с довоенных времен, и мой друг Володя Спиридонов пошли в двойке на первовосхождение на пик Кржижановского по довольно сложному скальному маршруту. Поскольку тогда у нас не было портативных раций, то для обеспечения безопасности обычно неподалеку от маршрута размещалась группа наблюдателей.
В тот раз в этой роли были Женя Тамм, Саша Балдин и я. Мы пришли «под маршрут» где-то к обеду, и в бинокли довольно быстро разглядели нашу двойку на гребне уже неподалеку от самой вершины. Вскорости мы с удивлением увидели, что, взойдя на вершину, наши друзья вместо того, чтобы спускаться назад по пути подъема (как было обозначено у них в маршрутном листе), зачем-то двинулись дальше по гребню. Похоже было, что они намеревались напрямую спускаться с гребня по крутому ледово-снежному склону и висячему леднику прямо к нам на ледник. Видимо, сверху этот путь показался им соблазнительно коротким, но нам-то снизу было совершенно ясно, что безопасного пути спуска здесь нет, поскольку склон лавиноопасен, ледник — сплошь в трещинах, а выбрать сверху безопасный путь — задача очень трудная. Но сделать мы ничего не могли — поэтому просто устроились, как зрители в партере театра, напряженно наблюдая за действиями наших «актеров», стараясь угадать, куда их может снести какой-нибудь случайно рухнувший ледовый сброс. На спуске им предстояло сначала уйти вниз по крутому снежному склону метров на 150–200 до начала ледопада с тем, чтобы потом пройти траверсом налево метров 200 по довольно крутому ледовому склону на другой снежный склон, по которому можно спуститься на ледник. Главная опасность их подстерегала как раз на этом траверсе, который проходил под нависающим ледовым сбросом, способным обрушиться в любой момент. Наши друзья довольно быстро проскочили крутой снег, даже особенно не утруждая себя страховкой — снег хорошо держал и обошлось без срывов и без лавины. Но потом они оказались на ледовом склоне прямо под сбросом — здесь темп движения резко замедлился, поскольку надо было забивать ледовые крючья и идти с попеременной страховкой. А мы, беспомощные зрители, могли только смотреть и молиться «горному Богу», чтобы он попридержал этот «клятый» сброс и не дал ему рухнуть прямо сейчас. Действо это продолжалось часа полтора, и я не удивился бы, если б узнал, что именно тогда я и начал седеть. Ну все-таки наши молитвы оказались не напрасными, и вот уже Борис Арнольдович и Володька вышли из-под сброса и глиссируют по снежному склону, по-пижонски лавируя между трещин и лихо их перепрыгивая. «Веселые ребята!» — мрачно заметил Женька, глядя на это «полное безобразие», а Балдин только и смог заметить, что он немало ходил в одной группе с Б. А., но ничего подобного он просто не мог и вообразить, хотя и немало наслышан о его почти юношеском авантюризме. Все остались живы и слава Богу!
Уже потом в лагере мы узнали, что наши друзья не из-за «гусарской» лихости сменили путь спуска — просто у них не осталось скальных крючьев, чтобы обеспечить возвращение по крутым скалам пути подъема, а насколько рискованным был избранный ими вариант пути по снежно-ледовому склону — они действительно не могли себе даже представить.
Да я и сам однажды чуть не стал жертвой собственного легкомыслия и склонности полагаться «на авось». А было так: во время восхождения по стене пика «Сказка» я шел с Балдиным в одной связке. На одном из ключевых участков маршрута Саша совершенно мастерски прошел метров двадцать пять почти отвесных скал, а дальше надо было выходить вверх по крутому кулуару, забитому снегом и льдом. Саша обеспечил мне надежную крючьевую страховку, а я надел кошки и принялся за работу. Первые 12—15 метров все шло гладко, снег хорошо держал, правда, мест для организации промежуточной страховки не было. Сашу это очень беспокоило, и он все время меня теребил: «Остановись, забей крюк». Но как я ни искал, мне не удалось найти места, куда можно было бы вбить крюк. К тому же казалось, вот-вот еще совсем немного и я подберусь к скалам, а там уж не будет проблем закрепиться. Еще через пару метров как-то незаметно обнаружилось, что ступеньки в снегу уже не держат — под ними лед, к тому же натечный, так что вырубать в нем ступеньки — чистая мука. Да и крючьев не забьешь — лед слишком тонкий. До спасительных скал, где могут быть подходящие трещины для забивки крючьев, вроде недалеко, всего 4–5 метров подъема. Но попробовал еще порубить ступеньки — дело почти безнадежное, лед скалывается линзами, кошки еле держат. Вот так, незаметно для самого себя попал в ситуацию, когда назад уже не спустишься, а впереди, похоже, будет еще хуже. Слышу спасительный совет Саши: «Постарайся уйти вправо, там за перегибом угадывается нечто вроде глубокой промоины, где, наверное, можно закрепиться».
Другого варианта у меня нет, и вот стою я на передних зубьях кошек, которые еще кое-как цепляются за склон, левой рукой придерживаюсь за какие-то еле видимые неровности склона, а в правой у меня ледоруб, которым я стараюсь прорубить хотя бы какую-то бороздку, чтобы продвинуться в нужную сторону. Никаких резких движений, все надо делать плавно и под контролем. Саша на страховке следит за каждым моим движением и выдает веревку ровно настолько, насколько требуется. Вторая двойка — Женя Тамм и Олег Брагин страхуют дополнительно Сашу. Все знают, что в таких случаях никакие советы не нужны и даже вредны — надо просто молчать. Прошло, наверное, с полчаса, прежде чем я смог добраться до перегиба и там, — о радость, обнаружил скальный выход с трещиной, подходящей для крюка. Еще немного терпения, чтобы подойти к этой спасительной трещине, теперь, не торопясь, достать молоток, проверить камень, подобрать крюк, затем сначала легким постукиванием, а потом все более сильными ударами загнать его по самую проушину, повесить карабин, защелкнуть веревку — уфф, все!!!
Через 10—15 минут Саша подошел ко мне, очень сурово на меня взглянул, но не сказал ни слова, а только перещелкнул веревку и пошел вверх. Зато вечером в палатке я получил от своего друга Балдина такую головомойку, что мне не забыть ее до конца жизни. Меня даже не спасло то, что я и сам осознал, насколько глупо и непродуманно действовал для того, чтобы попасть в почти безвыходное положение. Саша же мне просто сказал, что, если я и дальше не смогу побороть в себе подобный авантюризм, то для меня честнее всего будет забыть о серьезных восхождениях навсегда. Много воды утекло с того времени и много чего случалось со мной в горах, но ничего подобного той глупости, что я допустил тогда на Алтае больше не было. Однако же, если не считать случаев, о которых я написал выше, наша жизнь в Шавлe протекала на редкость беззаботно.
Хочется сказать еще несколько слов про Сашу Балдина, одного из моих друзей того стародавнего времени. Конечно, он запомнился многим как один из сильнейших альпинистов. При этом его всегда отличало чувство азарта по отношению к любой проблеме, что могла появиться на пути. Вид отвесной скалы всегда вызывал в нем непреодолимое желание залезть наверх и в скалолазании он был не просто мастером, но еще и по-настоящему артистичным. Талантливый физик-теоретик он сделал блестящую научную карьеру, благодаря своей интуиции в поиске и нахождении оригинальных решений сложнейших проблем и, конечно, незаурядным организаторским способностям. Он рано защитил докторскую диссертацию, в 1968 году стал директором лаборатории высоких энергий в Объединенном Институте Ядерных исследований в Дубне, а в 1981 году его избрали в академики Российской Академии наук.
Я уже говорил о том, какой личной трагедией обернулась для Саши гибель в Гармо в 1953 году его близкого друга Вадима Михайлова. Казалось, что это должно было навсегда отвратить его от альпинизма, но совсем отказаться от гор он не смог и ограничил себя лишь тем, что перестал ходить на предельно сложные маршруты. И все же, здесь на Алтае в ущелье Шавло Саша оказался главным «закоперщиком», для которого было мало просто взойти на вершину, где никто никогда не был, но при этом он всегда старался проложить трудный и эстетически красивый маршрут.
Вспоминая 1956-й год, нельзя не сказать о том насколько необычным было то время для истории нашей страны. Ведь это было время ХХ съезда КПСС и доклада Хрущева с разоблачением сталинщины, время надежд, когда казалось, что вся жуть сталинских репрессий навсегда канула в прошлое и страна получила шанс на нормальную жизнь. Тогда хотелось верить в то, что вот оно наступило — время совершенно непривычной для нас свободы. В эти представления великолепно вписывалась наша вольная жизнь на природе, жизнь людей, соединенных общими интересами, азартом первопроходителей в горах, не стесненных казарменными рамками обыденной жизни Страны Советов. Неожиданно оказалось, что вечерами у костра нам интересно не только петь песни и слушать альпинистские байки, но и как-то пытаться понять, а что дальше будет делаться у нас в стране, да и во всем мире. Никогда и нигде раньше нам не случалось слушать подобные свободные разговоры «о политике». Такой откровенный характер разговоров был абсолютно непривычным для нас, и это и было конкретным проявлением того, что впоследствии было названо «оттепелью».
Но все-таки не политика была главным содержанием наших вечеров у костра. Самым главным были концерты разного репертуара. Если гитару брал в руки Игорь Щёголев, то это был Вертинский и классика русских романсов, если Севка Тарасов — то преимущественно звучала блатная лирика. Популярными были тогда: «Я помню тот Ванинский порт…», «По тундре, по железной дороге…», или более лиричные, такие как «Укрыта льдом зеленая вода…» или «Миленький ты мой, возьми меня с собой…». Иногда колориту добавлял Борис Арнольдович Гарф, вспоминая богатую нэпмановскую лирику 20-х годов. Одна из таких песенок, можно сказать, его коронная, помнится мне до сих пор:
По перрону ходит фраер
Вся рожа в муке,
Сам он в белом балахоне
С папироской в зубе.
Как увидел он Маруську,
Сразу весь задрожал,
Затрусился, как индюшка
И такую речь сказал:
Ах Маруся, ви Маруся,
Ах убей меня бог,
Положить готов я душу
У твоих белых ног.
А в ответ ему Маруська:
Не могу я, милый фраер,
Стать вашей верной женой
— меня любит Яшка Черный
И Алешка Божежмой.
Они смелые ребяты
Нас повсюду найдут
Тебе выпустят все кишки,
А мне морду набьют!
В той экспедиции мы сделали 11 первовосхождений, из них два по серьезным стенным маршрутам. Но, пожалуй, главное было в другом — все в тот год было пронизано особой теплотой. Казалось даже, что и с Духами гор у нас установились особо душевные отношения: они нас приютили и приняли!
Осенью 56-го в Жуковке на академической даче Игоря Евгеньевича Тамма собралась вся наша команда на «закрытие сезона». Дело в том, что где-то в начале 50-х годов именно «старший» Тамм с туристской группой Дома ученых, прошел маршрут по Алтаю через ущелье Шавлы и увидел там уникальную возможность открыть новый район для альпинистов, сравнимый с Домбаем по красоте и спортивному интересу. Собственно, именно по наводке И. Е. и была организована наша экспедиция в Шавлу.
Мы с удовольствием рассказали Тамму-старшему о наших впечатлениях от необычайной дикой красоты алтайской природы, о пройденных маршрутах первовосхождений. Он, в свою очередь, со всей непосредственностью порадовался тому, что его «разведданные» про новый и перспективный альпинистский район полностью подтвердились. И тогда же мы услышали от Игоря Евгеньевича рассказ об еще одном совершенно поразительном месте, где ему довелось побывать пару лет назад. Это — Памир, верховья самого крупного ледника Федченко, в верхнем цирке которого стоят десятка два шеститысячников. Из всего сонма вершин, окаймляющих ледник, лишь три имеют названия, данные им альпинистами еще в далеких 30-х годах. Игорь Евгеньевич, хотя он и был физиком-теоретиком, человеком строгой науки, но рассказывал он о верховьях Федченко с энтузиазмом и эмоциями, более свойственными молодым романтикам горных странствий.
Памир, верховья ледника Федченко, 1957 год
Неудивительно, что в тот вечер на даче И. Е. Тамма мы в буквальном смысле слова «заболели» идеей: устроить на будущий год экспедицию на ледник Федченко.
Ну что же, теперь наша цель была определена — высотные первовосхождения на Памире и нашим ближайшим объектом будет одна из самых высоких вершин района, пик 26-ти Бакинских комиссаров (6834 м), который венчает самое изголовье ледника Федченко. В тех местах никого не было, начиная с 30-х годов, но дорогу туда мы знаем со слов И. Е. Тамма. Команда у нас есть, капитан — тоже, но почти ни у кого нет опыта высотных восхождений, нет ни подходящей одежды, ни требуемого снаряжения, ни малейшего понятия об опасностях, связанных с высотой, но зато есть страстное желание все это преодолеть. Ведь на наших глазах в Гималаях происходит форменная революция: альпинисты уже побывали на вершинах восьмитысячников — Аннапурны, Эвереста, К-2; осталось всего восемь не взятых восьмитысячников, а мы еще только просыпаемся!
Мобилизовались все: я, к примеру, отправился по всем комиссионкам Москвы и собрал неплохую коллекцию трофейного снаряжения типа немецких примусов «Арара» и портативных раций «Клайнфу», а также ленд-лизовских солдатских ботинок, большого размера, известных в народе, как студера или г-нодавы. Мика Бонгард, одному ему ведомыми путями, смог взять напрокат 15 пуховых спальных мешков (но никаких пуховых курток и штанов, ишь, чего захотели!), а знакомые с географического факультета нашли для нас с десяток пар шекльтонов, валеных сапог с кожаными головками. Конечно, никаких высотных палаток тогда и быть не могло — у нас их еще не производили. Зато благодаря усилиям Е. И. Тамма, на нас хорошо поработали мастерские ФИАН'а, обслуживающие ускоритель и водородную камеру. По эскизам Жени они изготовили с десяток кастрюль, автоклавов, что были необходимы для приготовления пищи на больших высотах, а также сделали пару сборных нарт, чтобы перевозить грузы по леднику. Но не менее важной была возможность использовать пенопласт.
Как поведал нам Женя Тамм, пенопласт относился к категории «фондируемого» стратегического материала, используемого для теплоизоляции водородных камер, и купить его было невозможно ни за какие деньги. Более того, все заявки его лаборатории на пенопласт на 1957 год были уже выбраны. В запасе не оставалось ни одного листа этого материала. Именно об этом сообщил Жене начальник отдела снабжения ФИАН’а, напоследок поинтересовавшись: а зачем собственно вдруг понадобился пенопласт накануне отпуска, когда никаких работ на ускорителе не будет? Жене ничего не оставалось делать, как признаться, что пенопласт был нужен нам в экспедицию, чтобы можно было спокойно спать на снегу. Ответ на это признание был совершенно неожиданным: «Так тебе, оказывается, пенопласт нужен не для работы, а для дела! Так бы сразу и сказал! Сколько листов тебе надо на все про все?» Все-таки жизнь при социализме имела немало уникальных преимуществ!
Ну, а на нас с Олегом Брагиным, как на химиках, лежала задача обеспечения горючим для примусов, удобным при работе на высоте. К тому же, именно нам пришлось собирать по всему Институту немереное количество спирта, требуемого для оплаты всего комплекса вышеперечисленных услуг.
Но на самом деле, все эти хлопоты оказались бы пустыми, если бы не была решена самая сложная задача: а кто возьмется оплатить все немалые расходы по проведению экспедиции? Почти как у Высоцкого: «Где деньги, Зин?». Отвечая на этот вопрос, я воспользуюсь случаем, чтобы рассказать еще об одной стороне деятельности Тамма как организатора — ему было свойственно умение (так и хочется сказать — врожденное) находить общий язык в общении с начальством любого уровня. В этом общении совершенно не чувствовалось подобострастия или заискивания, желания как-то польстить начальнику или, наоборот, пренебрежительного отношения к нему, как к мелкому чиновнику-исполнителю. Уточню, что на самом деле это не было чем-то вроде «ролевого» поведения, продиктованного необходимостью. Ничего подобного в его характере не имелось; просто в нем изначально было заложено уважение к личности каждого, с кем ему приходилось иметь дело, и этот «каждый» не мог этого не чувствовать. Отсюда и удивительный феномен — в какую бы контору: спортивную, профсоюзную или партийную, не обращался Е. И. Тамм, его принимали буквально, «как родного», и, как правило, он получал, чего хотел. Не был исключением и тот год: Центральный Совет добровольного спортобщества «Буревестник» очень сочувственно отнесся к идее проведения экспедиции СКАН на Памир и требуемые для этого средства были выделены Е. И. Тамму без особых проблем.
Что такое верховья ледника Федченко? Это огромное почти ровное поле ледника, раскинувшееся в длину почти на 15 километров вверх от перевала Абдукагор и достигающее в самом верховье ширины в 5—7 км. Справа и слева от ледника толпятся вершины, десятки вершин высотой от 5500 до 6800 метров. Верхний цирк ледника лежит на высоте 5100—5200 метров. Здесь горные цепи, ограничивающие его чашу, размыкаются, и в прорыв между ними до горизонта простирается бескрайнее снежное плато, упирающееся прямо в тёмно-фиолетовый свод неба.
Масштаб открывшейся нашим глазам картины был абсолютно неправдоподобным: все казалось обманчиво близким, почти рядом. В самом деле, казалось бы, чего стоит пройти по почти ровной поверхности ледника, практически лишенной трещин, километров 12—15, чтобы добраться до его верхних полей? Ведь весь путь хорошо просматривается, и он совсем не кажется длинным — навскидку не более, чем на 2—3 часа работы. Правда он пролегает на высоте 5100—5200 метров, но ведь это никак не может повлиять на протяженность пути, не так ли? Но вот прошло и три, и четыре часа, но почти ничего не меняется вокруг. По-прежнему далеки гиганты, «почти семитысячники», пик Революции и пик «26-ти Бакинских комиссаров», у подножья которых нам предстоит устроить штурмовой лагерь. Почти неизменным остается окружающий нас ландшафт, и лишь немного сдвинулись назад по ходу цепи гор по краям ледника. А под ногами все более раскисающий снег, а над головой тёмно-фиолетовый купол неба и безжалостное и все обжигающее солнце стратосферы.
Ни звука, ни ветерка. Изнуряющая и неправдоподобная жара, когда хочется сбросить с себя все одежды. И все тяжелее кажутся самодельные нарты, которые мы тянем, как на Клондайке, и ненавистнее ощущаются лямки, почти перетирающие плечи. И как же хочется услышать желанное: «Привал!» — чтобы просто повалиться в снег, наподобие ездовых собак героев Джека Лондона! Единственное от них отличие — нам не требовалось при этом выкусывать льдинки, застрявшие в когтистых лапах.
А стоило солнцу уйти за хребет, с ним ушла и жара, и вскоре в свои права вступил полярный холод, не хуже, чем на Аляске. Но мы уже добрались до места нашего лагеря, поставили палатки, запалили примуса и расселись на листах пенопласта, попивая чаек, перекусывая, «чем бог послал», и наслаждаясь фантастическим и никогда ранее нами невиданным зрелищем красочного заката в Высоких горах. Удивительно, но несмотря на высоту (5200 м) никакой горной болезни не ощущалось — видимо, мы получили отличную акклиматизацию в предшествующие три дня, когда надо было в несколько приемов затащить почти полтонны экспедиционного груза через перевал Абдукагор к началу пути по леднику. Очевидно, что в этом отношении не менее полезной была и последующая транспортировка всего этого барахла на нартах в «собачьих упряжках».
Конечно, литературные картинки «Белого безмолвия» выглядят очень романтично и привлекательно, но реальная жизнь в подобной обстановке не слишком комфортна. Хотя у нас были неплохие палатки, но если надо не просто переночевать, а прожить некоторое время в этом абсолютно безжизненном и безжалостном царстве снега и льда, то в таком случае единственным приемлемым местом обитания может служить снежная пещера.
В прошлой практике нам никогда не приходилось копать снежные пещеры. Но нужда, как известно, лучший учитель, и азы науки «пещерокопания» мы освоили довольно быстро: за один световой день была выкопана пещера на 16 спальных мест плюс кухня и небольшое пространство для складирования снаряжения. Новоселье было вполне торжественным — стены пещеры были украшены светильниками, выполненными из свечек в алюминиевых ложках, черенки которых втыкались в живописном порядке в снежные стенки. Пол пещеры был выстлан пенопластовыми плитами, обеспечивающими полную теплоизоляцию.
Конечно, высота потолка в нашем жилище была небольшая и стоять в нем в полный рост было никак невозможно. Но зато, когда через пару дней началась суровая непогода, то, оказалось, что нас совершенно не касалось, что там творится снаружи — в пещере было тихо и спокойно, мерно жужжали примуса, всегда был горячий чай и было светло от свечных «канделябров». Вся эта обстановка располагала к откровенным разговорам на самые неожиданные, но всегда интересные темы.
С нами были книжки про высотные восхождения в Гималаях: французов на «Аннапурну» в 1950 году и англичан на Эверест в 1953 году. Конечно, в верховьях ледника Федченко высоты вершин были далеко не гималайскими — самым высоким был пик Революции (6940 м). Однако до нас никто не делал восхождений в этом районе, и мы в полной мере чувствовали себя почти как открыватели новых земель, наподобие «капитанов» из великолепной поэмы Н. Гумилева. То было сказочное время нашей молодости, когда нами в буквальном смысле слова овладели чары Памира, почти как малых Гималаев. Тогда с каждым днем, проведенным в горах, все крепче казались сложившиеся отношения дружбы и братства — а что может быть лучше для молодых и сильных романтиков!
Сезон 1957 года оказался очень удачным и радостным для нас. Мы сделали первовосхождение на пик 26-ти Бакинских комиссаров, что принесло нам серебряные медали Чемпионата СССР по альпинизму и прошли новым маршрутом на другой шеститысячник — пик Парижской коммуны. За весь сезон на Памире у нас не было ни единого срыва или какого-либо происшествия. Но едва мы спустились в долину, к поляне у теплого озера и зеленой травы, как нас настигли скверные вести: на Кавказе в ущелье Безенги при спуске с вершины Дых-Тау сорвались и погибли наши друзья по Университету Костя (Кот) Туманов и Володя Бланк. Для меня особо тяжелой была гибель Кости, с которым меня связывали очень теплые личные отношения. Кот был интеллигентным человеком «высшей пробы» и к тому же необыкновенно сильным, грамотным и осторожным альпинистом. Его гибель казалась совершенно противоестественным событием. Как обычно бывает в таких случаях, конкретная причина срыва так и осталась невыясненной до конца. Но по всей видимости, глубинное объяснение следует искать в том, что в течение предшествующих двух лет альпинисты МГУ проводили необычайно успешные альпиниады. Самые сложные маршруты давались им с легкостью и могло показаться, что в горах для них нет ничего слишком трудного. Подобное ощущение своего всемогущества, а еще хуже — особого рода панибратства по отношению к горам, очень опасно для любого, даже очень сильного, альпиниста.
Кавказ, Безенги, 1958 год
Сказанное выше, конечно, не являлось откровением и обо всем этом было известно с давних пор. Удивительно другое — подобные ошибки в самооценке повторялись вновь и вновь с завидным постоянством.
Всего лишь через год в 1958 году нечто подобное случилось и с нами. После необычайно успешной Памирской экспедиции 57-го года на следующий сбор на Кавказ в район Безенги мы ехали с ощущением почти всесилия — «Мы все могем!» Наказание не заставило себя долго ждать. Прошло всего две недели работы сбора, и наше привычно безмятежное существование в горах было прервано самым жесточайшим образом. 29-го июля, глубокой ночью нас разбудили сообщением, что случилось несчастье с нашей четверкой при восхождении на Шхару, одну из главных вершин района.
Ребро Томашека-Мюллера — так назывался маршрут, избранный группой: В. Спиридонов (руководитель), Ю. Добрынин, В. Бенкин и Ю. Смирнов. Маршрут этот относится к числу сложнейших в том районе. Группа наших мастеров была достаточно сильной, и первую треть пути они прошли в хорошем темпе, без каких-либо особых сложностей. Но здесь их прихватила сильнейшая непогода — из разряда тех, что особенно характерна именно для этого, самого сурового района на Кавказе.
В этих условиях группа вынуждена была прервать восхождение. Стремясь как можно скорее уйти вниз, ребята решили идти не по пути подъёма, а спускаться по стене кратчайшим путем, прямо вниз на ледник. Подобное решение всегда опасно тем, что приходится спускаться в неизвестность и очень сложно проложить более-менее безопасный путь. Так случилось, что на одном из участков такого спуска им не хватило длины веревки, чтобы дойти до подходящей скальной полочки. Надвязали вторую веревку, Володя Спиридонов спустился на полку, но почему-то он не забил совершенно необходимого здесь страховочного крюка и «дал добро» на спуск Юры Добрынина. Несчастье случилось в тот момент, когда Юра не смог протащить схватывающий «прусик» через узел и попытался его перерезать. При этом по воле злого случая оказалась подсеченной и основная веревка. Последовал срыв, и двойка Спиридонов — Добрынин разбилась, пролетев по скалам все 150—200 метров, что оставались до ледника.
Наутро мы уже были под Шхарой, нашли тела ребят и принесли их в лагерь. Еще через два дня к нам приехали родители погибших: Нина Сергеевна Спиридонова и Павел Дмитриевич Добрынин. Первоначально они хотели везти тела в Москву, и, конечно, мы были готовы всячески этому способствовать. Но, пожив среди нас несколько дней, пообщавшись с друзьями их детей, они как-то прониклись духом жизни в горах и мало-помалу согласились с тем, что правильнее будет поступить иначе: пусть их дети, Володя и Юра, что с таким самозабвением и страстью стремились прожить свою жизнь в горах, здесь и обретут место своего последнего упокоения. Ребят мы похоронили на Миссес-коше, на поляне у моренной гряды, в том месте, откуда открывается панорама вершин Безенгийской стены.
И.Руднева. Миссес-Кош
В Миссес-Коше молчанье царит-
Глушит звуки цветочный ковер,
А за ним в отдаленье горит
Белизна ослепительных гор.
В Миссес-Коше три камня стоят,
А на них — имена, имена…
Это горы живым говорят
О тебе, Ледяная Стена.
Но упрямая чья-то рука
Незабудки кладет у могил:
Это новый призыв смельчакам,
Это вызов тебе, Безенги!
И пока не угаснет в сердцах
Гордый облик твоей высоты,
Будут летом на этих камнях
Голубеть незабудки-цветы.
Будут песни о смелых звучать,
Будут звать из уюта долин,
Будут вновь голоса нарушать
Ледяное безмолвье вершин.
В Миссес-Коше царит тишина,
Охраняют цветочный ковер
Безенгийская чудо-стена,
Да бездонного неба простор.
Но на этом не могла закончиться история нашей альпиниады 1958-го года. Не прошло и недели после похорон, как мы впятером: Боб Горячих, Олег Брагин, Олесь Миклевич, Мика Бонгард и я вышли на восхождение, чтобы пройти это злополучное ребро Томашека-Мюллера на Шхару, которое стало могилой для наших друзей. О том, как проходило наше восхождение на Шхару и об эмоциях, что были с этим связаны — подробно рассказано в моей книге «Мои друзья и горы».
Здесь же мне хочется сказать вот о чем: что же побудило нас, в свой черед, попытаться взойти на эту роковую вершину? Конечно, это не было попыткой довести до конца дело, начатое друзьями, так сказать, взять реванш за их неудачу, что ли? Просто было ясно, что уехать из Безенги, «не сделавши Шхару», для нас совершенно невозможно. Это тогда казалось чем-то вроде предательства друзей или — если хотите — капитуляцией перед приговором Высших сил. Ведь никто из нас никогда не забывал, на что идем, когда выходим на сложные маршруты. Это означало, в частности, и готовность рисковать жизнью — таковы были условия «контракта». Стало быть, как это не цинично звучит, но нами изначально, так сказать, по умолчанию должна была учитываться вполне всерьез возможность гибели любого из нас. В этом отношении катастрофа на Шхаре, произошедшая с нашими друзьями, изменить ничего не могла.
Такова оборотная сторона всей той романтики и опьяняющей атмосферы дружбы и свободы, о чем я не устаю напоминать, как о неотъемлемой особенности нашей жизни в горах. Итак, получается, что даже гибель друзей, нелегкая судьба оставшихся вдов и осиротевшие дети — все это нами переживалось в полной мере, но тем не менее, ничто на могло отвратить нас от пристрастия к занятию альпинизмом, несмотря на очевидность всех рисков, с этим связанных.



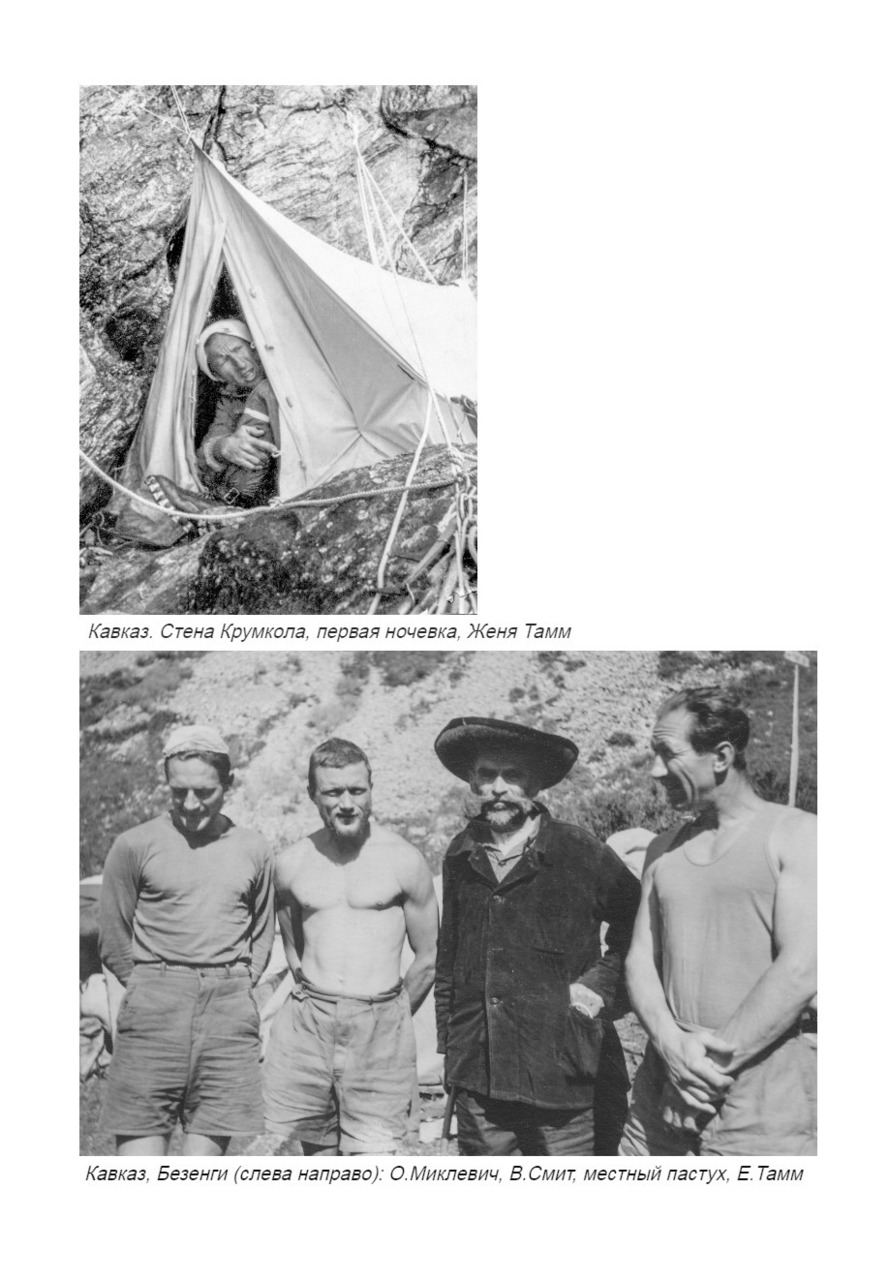
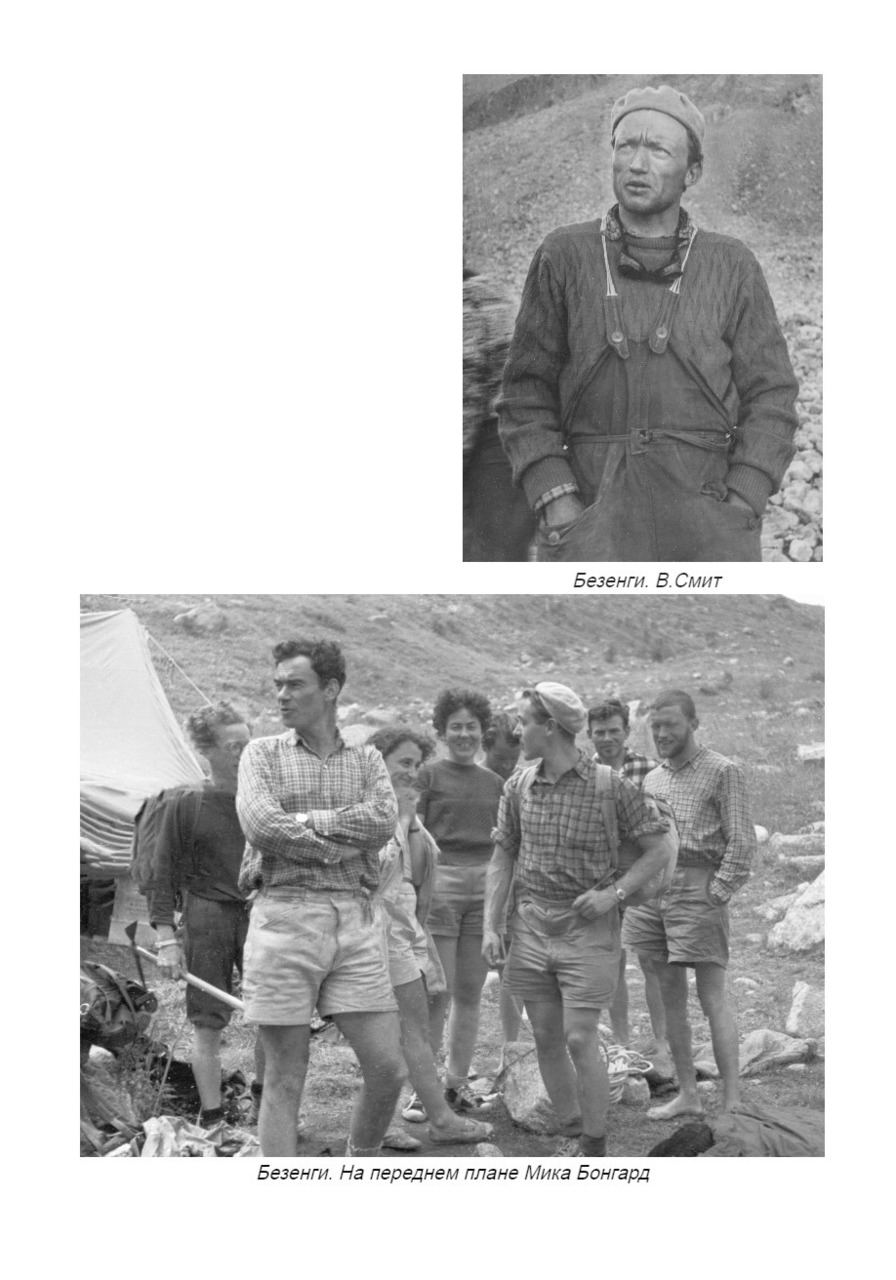
Клуб самоубийц или братство единомышленников?
Не раз и не два об этом заходили разговоры на наших встречах. Но более всего мне запомнился один такой разговор, что случился после трагедии в Безенги. Тогда Саша Балдин со свойственной ему горячностью обрушился на нас с обвинениями, что наше сообщество превращается во что-то вроде «Клуба самоубийц». «Для того, чтобы сойти с этого гибельного пути,» — убеждал нас он — «мы просто обязаны навсегда, и непременно все разом, забыть о спортивном альпинизме».
Деталей того давнего разговора я, естественно, не запомнил, кроме, пожалуй, общего смысла того, что тогда сказал Мика Бонгард, самый старший из нашей команды. Звучало это примерно так: «Все мы стали рабами своей прекрасной привычки — в компании самых лучших и самых преданных друзей проводить каждое лето в горах, в самой замечательной части нашей планеты. Да, мы рискуем — однажды не вернуться с очередной горы… Но так ли уж важно, сколько времени нам отведено на жизнь? По мне, так важнее, как и чем жить, а продолжительность жизни не так уж много значит».
Так говорил не юноша-романтик, а вполне взрослый мужчина, который хорошо знал цену человеческой жизни, поскольку два года провел рядовым в роте связи на фронте Отечественной войны. Сам Мика был вполне состоявшимся ученым-биофизиком, работы которого по проблемам узнавания образов до сих пор считаются фундаментальными в информатике. И конечно, он вовсе не стремился к тому, чтобы закончить жизнь в горах. Совсем нет! Просто он принимал возможность такого конца, как плату за дарованную ему (и всем нам!) возможность полнокровной жизни.
Тот давний разговор получился очень трудный. С одной стороны, конечно, невозможно было не услышать Сашины доводы — нам не надо было напоминать о гибельности нашей страсти, примеры были слишком живы в памяти у каждого. Но с другой — мало кто из нас мог представить себе, чем можно было бы заменить чудо человеческого общения и опьяняющего слияния с первобытной красотой мира гор — всего того, что создавало в каждом из нас ощущение необыкновенной полноты жизни и вовлеченности в общее дело. Про себя могу сказать, что в моей обычной городской жизни, довольно благополучной жизни научного работника Академии наук того времени — ничто не могло дать мне тот заряд эмоций, здоровья и душевной бодрости, сравнимый с тем, что я получал за то короткое время — не более 5—6 недель, что проводил с друзьями в горах.
Вот как мог бы тогда выглядеть воображаемый разговор с А. М. Балдиным: «Так что же, уважаемый Александр Михайлович, вы предлагаете нам взамен? Давайте, обсудим варианты!» И здесь оказывалось, что ничего, даже приблизительно сравнимого по эмоциональной привлекательности ни сам А. М. Балдин, ни кто-либо другой из нас предложить не может.
Более того, прошло совсем немного времени, и сам А.М., как будто позабыв о всех своих громких словах «про клуб самоубийц», не смог отказаться от «губительной страсти» и снова оказался в составе нашей группы в 1960 г.
Памир, верховья ледника Федченко, 1960 год
Еще с осени 59-го года у нас была запланирована на лето большая экспедиция на Памир, снова в верховья ледника Федченко. Пусть читатель не удивляется, но трагедия, случившаяся зимой на Домбае, совсем не повлияла на наши летние планы. Снова, как и всегда, не было отбоя от желающих примкнуть к нашей экспедиции и пришлось потратить немало усилий, чтобы отобрать самых достойных из множества подходящих кандидатов. А потом последовали полтора месяца сумасшедшей деятельности по организации экспедиции, изготовлению и/или раздобыванию снаряжения, закупке продуктов, отправке всего груза в Душанбе и далее в Ванч. Мне все это хорошо запомнилось, поскольку волею судеб я стал начальником той экспедиции — естественно, мне пришлось забыть о своих аспирантских делах и о всякой жизни вообще — остались только экспедиционные заботы и, конечно, неотменяемые тренировки. В это время наша жизнь протекала при абсолютной подчиненности совершенно конкретной цели. То, что по большому счету эта цель — почти фантом, и к тому же опасный — значения не имело, она прекрасна сама по себе, примерно также, как Прекрасная Дама Блока (кстати, тоже небезопасная особа в реальной жизни!).
Я мало могу добавить к тому, что мной было написано про эту экспедицию на Федченко в книге «Мои друзья и горы». Пожалуй, стоит только подчеркнуть, что в тот год вся наша жизнь в горах протекала с ощущением некой почти Благодати, коей нас почему-то одарило Провидение с особой щедростью.
Удивительно много осталось в памяти впечатлений чисто эстетического плана. Чего стоит одна картинка раннего рассвета в день эвакуации верхнего базового лагеря в верховьях Федченко!
Еще не рассеялся сумрак вокруг нас, только далеко-далеко на востоке из-за горизонта возникают, как копья яркие солнечные лучи. Светлеет небо,, и вместо тёмно-фиолетового оно раскрашивается во все цвета радуги. Где-то совсем высоко засвечиваются перистые облака, их очертания и окраска — все это меняется с каждой минутой наступающего рассвета. Создается такое живописное впечатление, что начинаешь понимать, насколько реалистичными были на самом деле гималайские пейзажи Рериха или гренландские картины Рокуэлла Кента.
Для нас тогда эта симфония света была, как прощальный привет от тех Сил, что, согласно вековой мудрости, обретаются в Высоких горах. Мы прожили там на высоте не очень долго — всего лишь чуть больше трех недель. Но этого хватило для того, чтобы проникнуться духом этих чудесных мест. Было очень грустно покидать их и возвращаться в городскую жизнь. Но все-таки вниз мы уходили, как победители — действительно, было сделано двенадцать первовосхождений, большая часть из них на вершины выше 6000 м, и не случилось ни одного несчастного случая или даже просто срыва.
Ну, конечно, тогда мы все были молоды, нас объединяла какая-то трудно объяснимая и неутолимая страсть (выражаясь сегодняшним языком — драйв) к восхождениям. Но не только этим определялось владевшее нами ощущение полноты жизни. Те несколько недель, что мы провели тогда в экспедиции, оставили незабываемое впечатление жизни в условиях полной личной свободы, вне всяких правил советской казармы, как будто действительно нам был шанс пожить в республике, в точном смысле этого слова (res publica, общее дело (лат.)).
Я хорошо помню, насколько легко тогда решались все проблемы с организацией экспедиции. Чего стоила одна проблема дороги до базового лагеря, точнее — временами почти полного отсутствия таковой. Здесь нам приходилось работать «по-черному»: то устраивать каменную кладку — подобие брода через разлившиеся речки, то толкать груженые машины через застывшие селевые потоки, а то просто перетаскивать их на веревках через овраги, не взирая на категорические отказы шоферов-таджиков довериться подобной, необычной для них тягловой силе. А на последнем этапе пути к месту лагеря нам необходим был еще и караван — а в реальности никто не мог нам обеспечить такой возможности. Дело казалось совершенно безнадежным, поскольку местных таджиков совершенно не интересовали деньги (на них там ничего нельзя было купить!). Но сработало дипломатическое искусство Игоря Щеголева и Вали Цетлина, и вот уже в нашем распоряжении 15 ишаков и три верблюда, и за все это мы расплачиваемся не какими-то бумажками — рублями, а твердой «валютой» — 20-литровыми жестяными контейнерами, в каких мы везли крупы, сахар, концентраты и прочие продукты. Оказалось, что подобная тара представляла особую ценность для таджиков и никакой другой оплаты им и не надо было.
И, конечно, нельзя забыть тот дух самоотверженности, с которым делалось все, что было необходимо для успеха экспедиции. Ведь прежде, чем мы смогли отправиться на восхождения, надо было занести не менее 300 кг груза на перевал Абдукагор, на высоту 5050 м, а потом его большую часть дотащить до самых верховьев ледника Федченко (еще 12—14 км). А через две с лишним недели, значительную часть всего этого груза надо было доставить вниз. Стоит также вспомнить, что, как и во всех подобных экспедициях, у нас была главная цель, а именно первовосхождение на вершину пик Фиккера (6750 м). Наши усилия были, в первую очередь, направлены на достижение этой цели. В команде первовосходителей было всего восемь человек, но конечно, все, кто был в экспедиции, помогали нам и в разведке пути, и в обработке маршрута, и в качестве носильщиков в подноске груза на начальном участке маршрута. Мы же, в свою очередь, выступали в роли спасотряда во время восхождений наших друзей и всячески способствовали их успехам. Все это делалось солидарными усилиями всех, и я могу поручиться, что обиженных при этом не было.
Давно забыты наши спортивные достижения тех далеких лет, но в памяти сохранилась картинка серебряной россыпи наших палаток на поляне за мореной ледника, озеро с ледяной водой, так бодрящей во время утренних купаний, костры по вечерам в немногие дни отдыха, когда так легко вилась нить общих разговоров обо всем: политике, науке и искусстве… А потом эти «интеллектуальные беседы» с легкостью сменялись на спонтанно возникавшее исполнение под гитару классики романсов, песенок современных бардов или нашей приятельницы Ирины Рудневой.

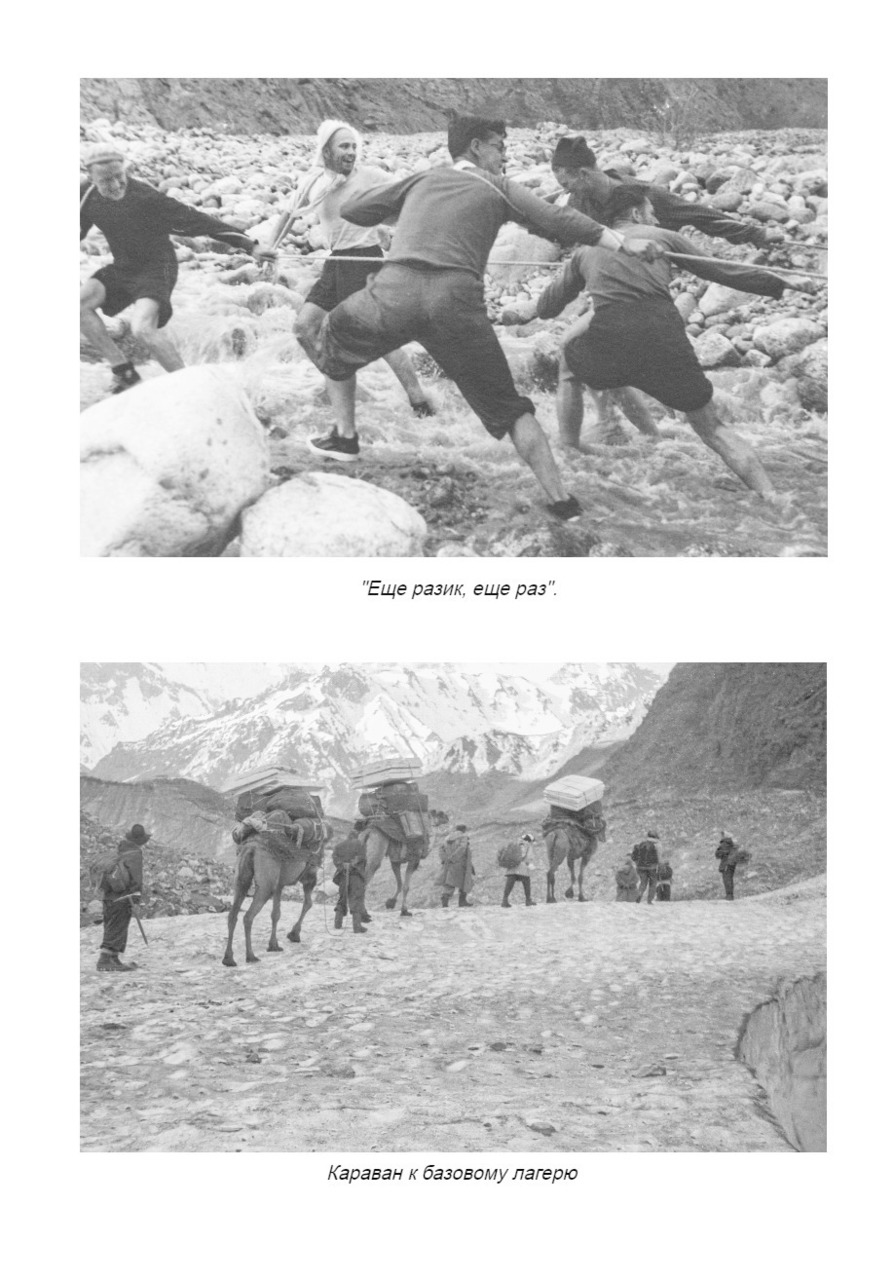
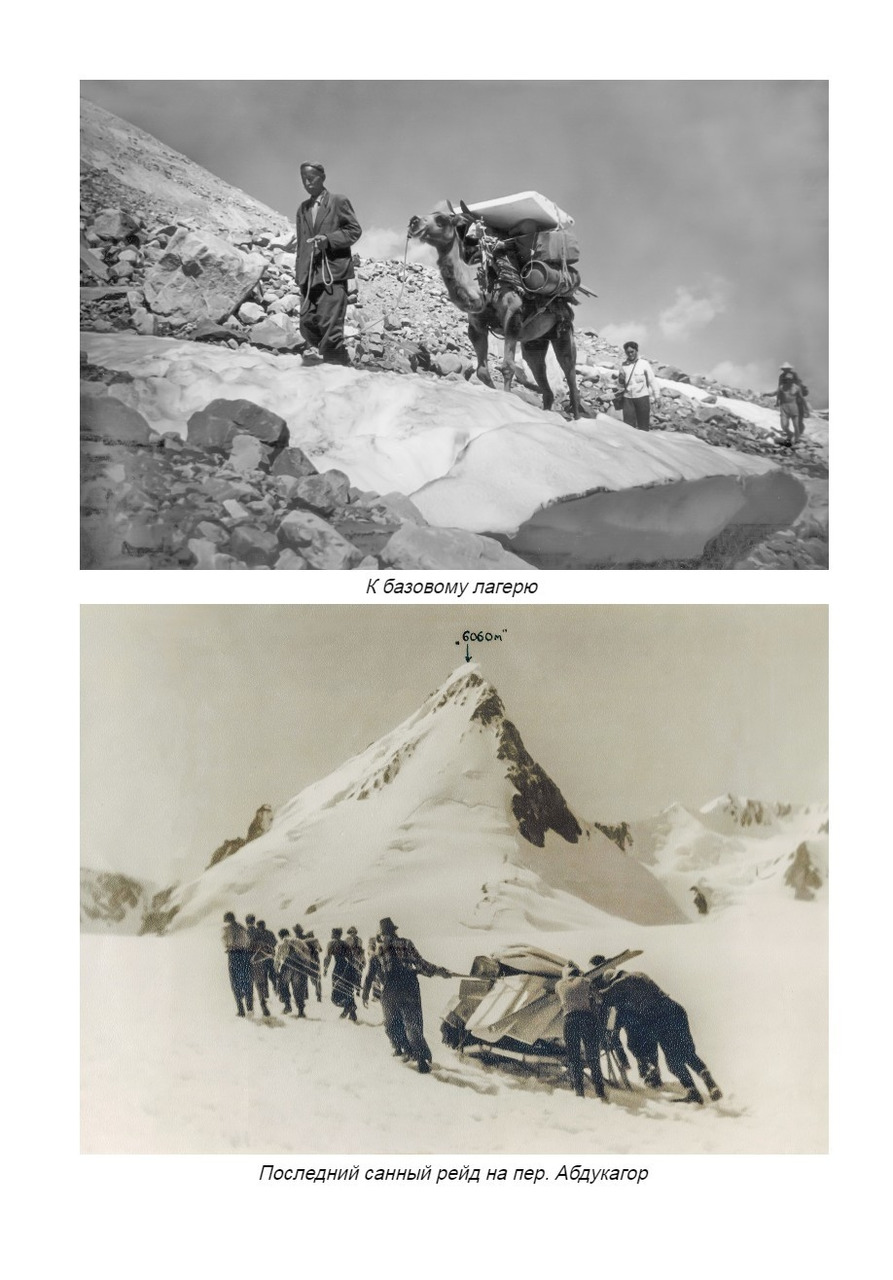
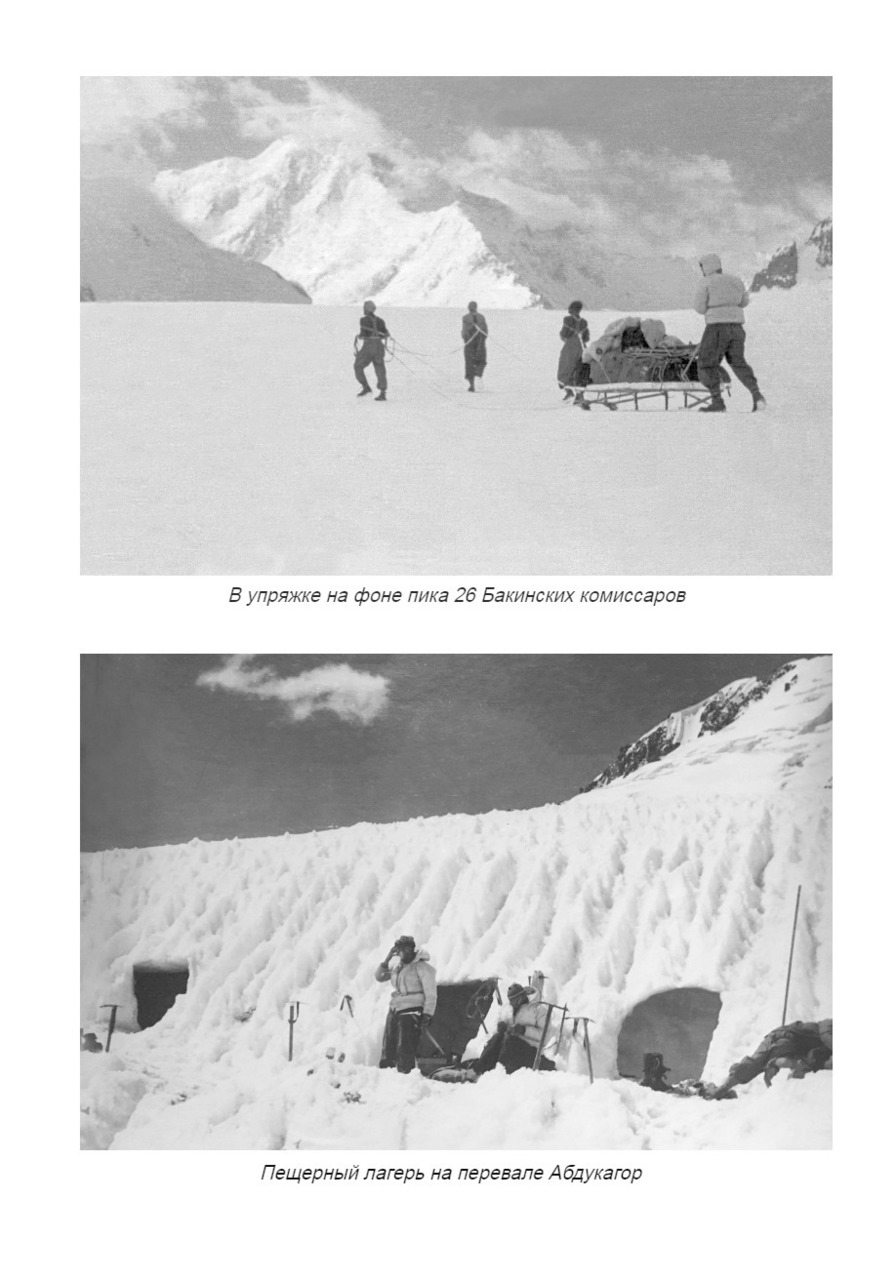
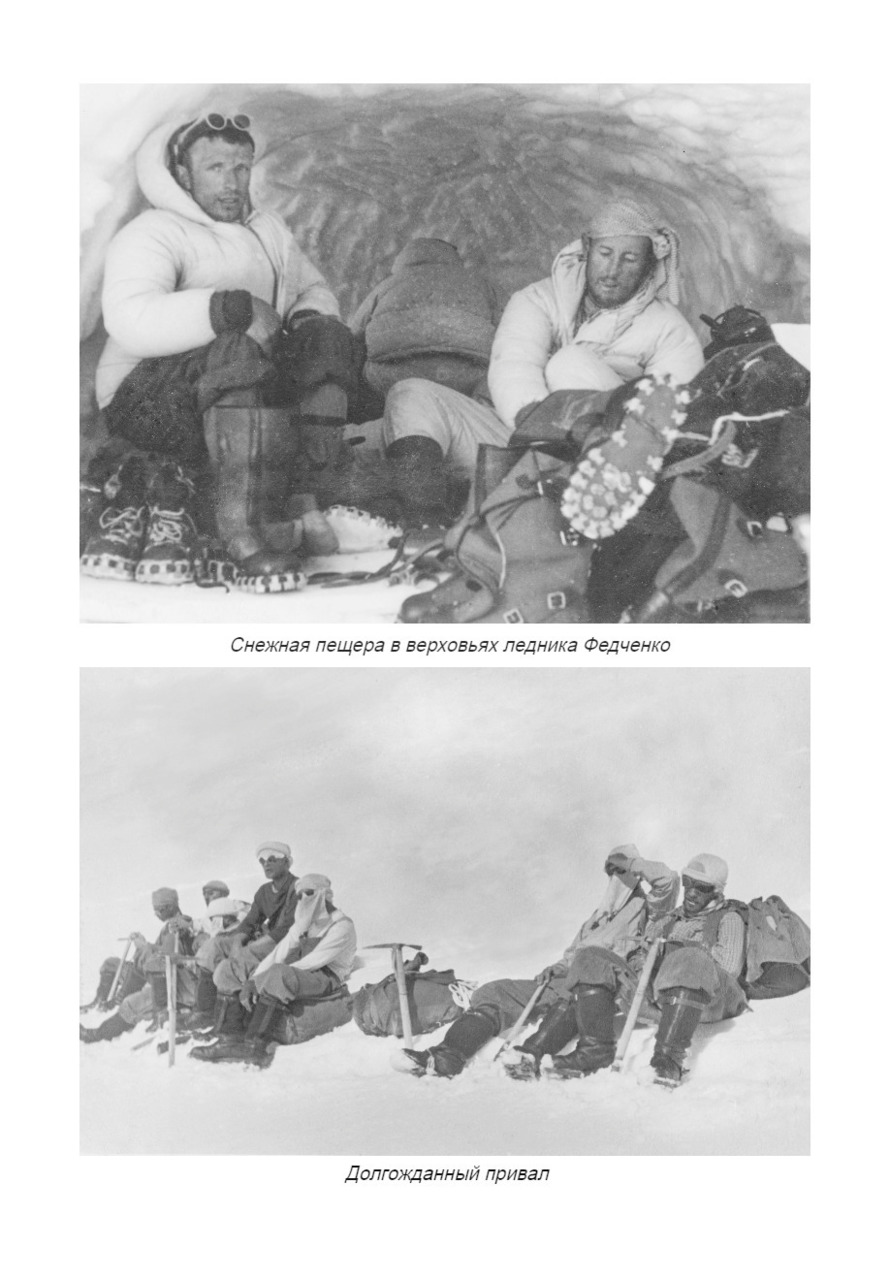

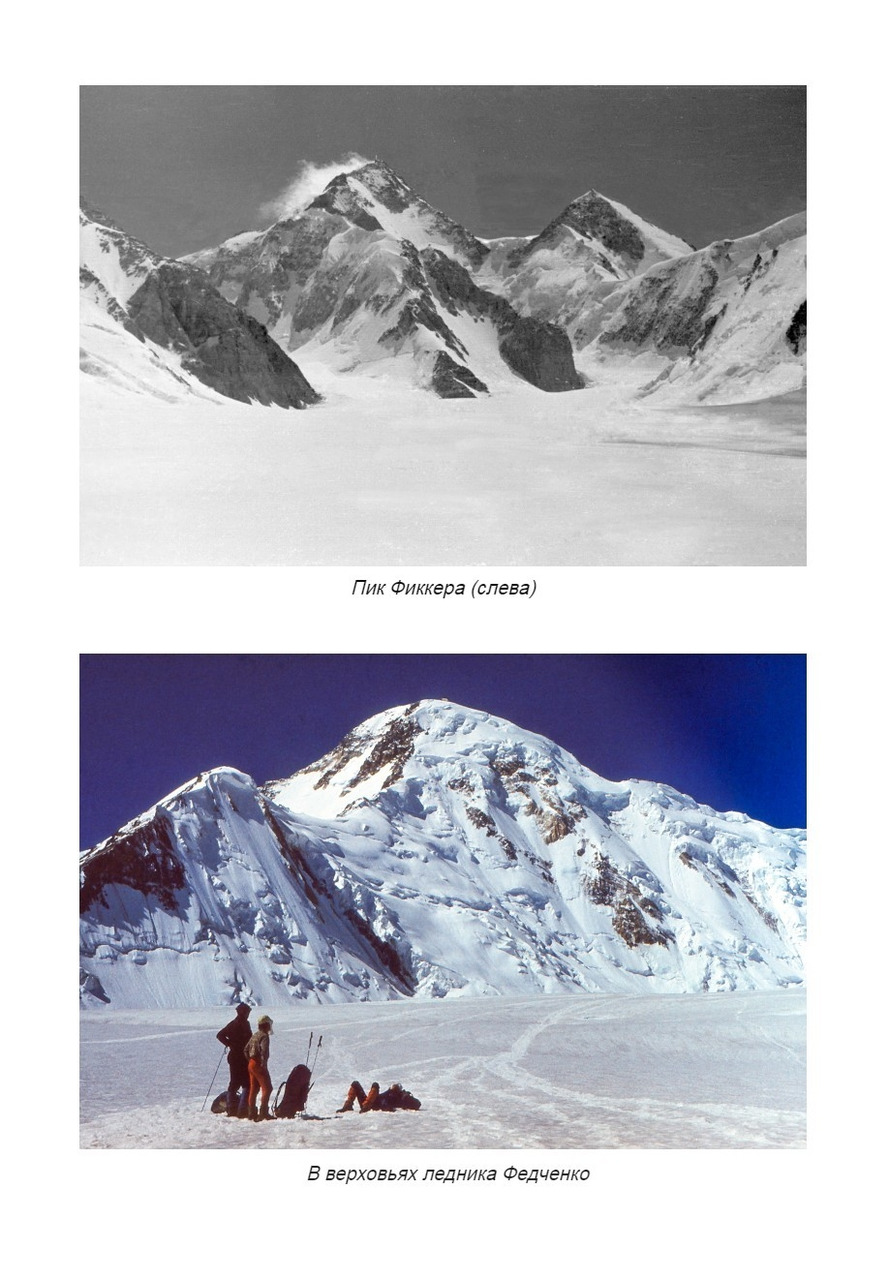
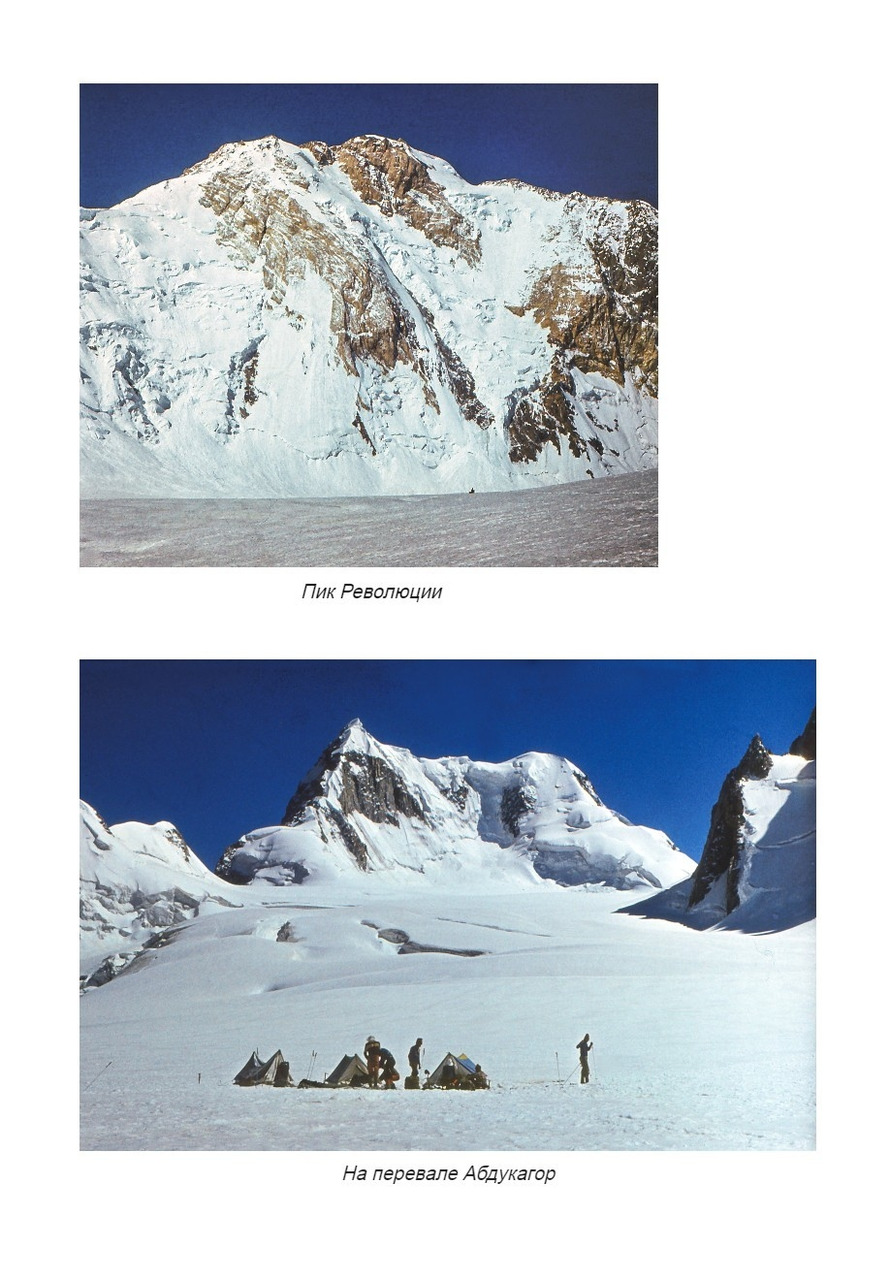
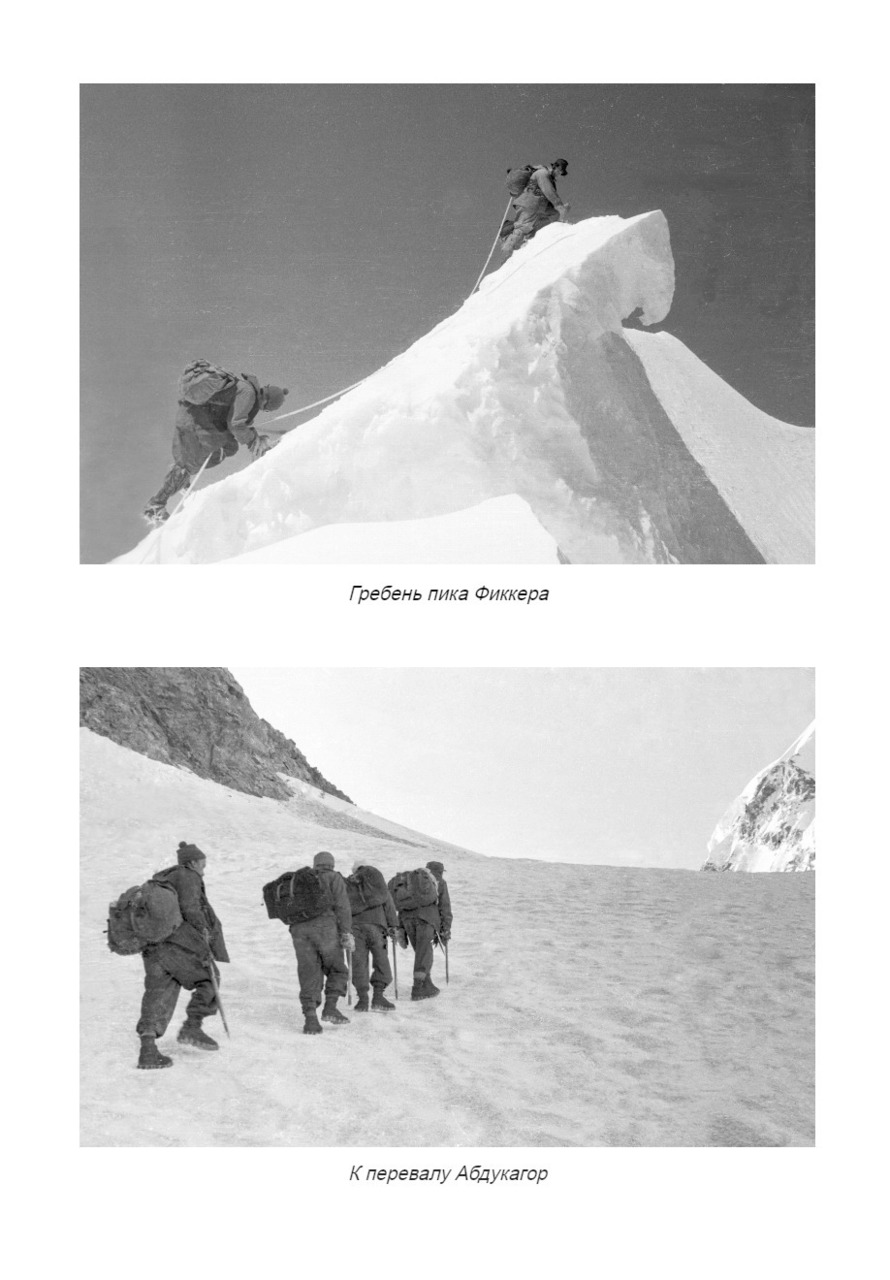
Что же еще сохранилось в памяти о нашей «губительной страсти»?
В то время мы ездили в горы каждый год, почти без пропуска, все той же дружной компанией. Бог мой, сколько же сохранилось в моей памяти ярчайших воспоминаний о тех днях, без преувеличения лучших днях моей (и не только моей!) жизни. Я рад, что смог хоть как-то рассказать в своей книге про такие блестящие до головокружения эпизоды наших общих дел, как восхождения на Хан-Тенгри или пик Корженевской (еще два семитысячника), пик Щуровского по северной стене, траверс Ушбы или маршруты в Фанских горах или в Матче.
Однако, что же Вы, уважаемый Вильям Артурович, исполняя с почти «шаманским» восторгом свои «романтические гимны», как будто бы снова забыли о том, сколько ваших друзей навсегда остались в горах — ведь за время всех «гусарских» похождений нашей команды погибло более одной трети от ее первоначального состава!?
Да, это было действительно так. Но было и другое — когда мы возвращались с гор в Москву, мы не разбегались по своим делам и заботам, что чаще всего случается после экспедиций разного рода. Как-то само собой вдруг получилось, что наша жизнь «на равнине» естественным образом становилась продолжением жизни в горах. Я прекрасно помню то замечательное время, когда наше стремление к общению было настолько сильным, что было почти невозможным представить себе, что ты пойдешь в театр или в кино, на стадион, концерт или на выставку сам по себе, а не в компании друзей-альпинистов. Добавим к этому совместные походы по Подмосковью (практически — каждую неделю), всяческого рода вечеринки по случаю дней рождения или защит диссертаций — и мы получим некоторое представление о необычайной насыщенности нашего общежития (в первоначальном смысле этого замечательного слова, т.е. общего жития!) во времена нашей молодости.
Скажу со всей серьезностью: никогда и ни о ком мы не забывали. Сейчас наша компания изрядно поредела — возраст берет свое, но тем не менее, до сих пор, почти каждый месяц, мы собираемся на «День дежурного» вместе с детьми и внуками, вспоминаем ушедших друзей с непременным третьим тостом в их память. Понятным образом, жизнь у всех нас сложилась по-разному, но наши встречи всегда бывают непринужденными и радостными, просто от возможности снова увидеть родные лица и, так сказать, «потереться носами.»
Более полувека сохранять память об ушедших друзьях — я вовсе не призываю считать это нашей заслугой. Это всего лишь еще одно наглядное свидетельство того, насколько прочными оказались те связи, что образовались между нами в горах много-много лет назад. И, конечно, я не могу обойти молчанием еще одну особенность нашей общей жизни — мы не только вспоминали об ушедших в своих застольях, но и не оставляли заботой их вдов и детей. Слишком часто бывает, что за подобными заявлениями «о заботе» редко стоят реально какие-либо дела. Но к нам это не относится — для нас такая забота в первую очередь означала, что ежемесячно каждый из нашей команды (в лучшие годы включавшей 15—18 человек) вносил определенную сумму (обычно в пределах 5—7% от зарплаты) в фонд, из которого выплачивались ежемесячно средства пострадавшим семьям. Естественно, никто никого к этому не понуждал и не было никакой «обязаловки» в таких доброхотных даяниях. Более того, когда мы начали ездить нашей компанией на летние заработки в стройотряды, в один из сезонов мы 10% от заработанных денег передали в этот фонд вспомоществования. Это все я знаю совершенно точно, поскольку мне и было поручено собирать деньги и передавать их по назначению. Такая система работала у нас лет 8—10, вплоть до совершеннолетия детей, оставшихся сиротами. Мне, конечно, могут напомнить, что слова из Евангелия: «Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая» — означают, что благотворительность должна вершиться без огласки. Именно так мы и делали в свое время, но сейчас, спустя несколько десятков лет, я открыто рассказал об этом просто как о немаловажном факте, характеризующем людские связи в нашем «Ордене».
Что же еще мне бы хотелось сказать в этом, может быть, слишком пространном очерке? Почти двадцать лет существовала команда спортклуба Академии наук. Я принимал участие практически во всех экспедициях и спортивных сборах. Естественно, меня не могли обойти все те риски, что неизбежны при спортивных восхождениях. Много чего при этом случалось. Наверное, не менее 4—5 раз я был, что называется, от «гибели на краю», когда вероятность летального исхода была более 50%. Что из того? Да ничего, только благодарность судьбе (или горному Богу?), что помогла мне выжить. Могла ли «карта лечь иначе»? Да запросто — но, как и все мы, я был к этому готов — в неявном виде, но это входило в условия этой странной «игры». На самом деле я не забывал об этом и никогда не уезжал в горы, не расплатившись со своими долгами и не выполнив весь набор лежащих на мне срочных дел на работе и дома.
А если снова вспомнить о том достопамятном разговоре, когда Саша Балдин был готов обвинить нас всех в том, что мы превращаемся в «клуб самоубийц», то мне представляется, что не так уж и важно, чем конкретно закончился тот разговор. Важно, что в результате довольно четко сложился простой вывод, что ощущение полноты жизни «здесь и сейчас», которое мы получаем, попадая в горы, на самом деле почти невозможно изведать в жизни на равнине. И, как мы неоднократно убеждались в дальнейшем, сам А. М. Балдин тоже никуда не делся от «явных самоубийц» (!), а продолжал вместе с ними ходить в горах.
И сейчас, чтобы как-то закончить повествование о нашей «горовосходительной» страсти, мне захотелось привести стихотворение известного французского поэта-символиста Рене Домаля (из сборника: Поэзия французского символизма, СПБ, Амфора, 2003, с.329–344, 450–456) (привожу английский оригинал и мой вариант вольного перевода):
Poem from «Mount Analogue’
One cannot stay on the summit forever
One has to come down again.
So why bother in the first place? Just this.
What is above knows what is below —
But what is below does not know what is above.
One climbs, one sees —
One descends and sees no longer
But one has seen!
There is an art of conducting one’s self in
The lower regions by the memory of
What one saw higher up.
When one can no longer see,
One does at least still know.
René Daumal, (1908–1944)
Никто не может оставаться на вершине вечно.
Всегда приходится спускаться вниз —
Тогда зачем же так стремиться наверх?
Ответ несложен:
Высота знает все про долину,
А долина ничего не ведает про высоту.
Поднимаешься и многое видишь,
Спускаешься и снова не видишь ничего.
Но что с того — ты уже видел!
Есть особое искусство: жить
На равнине, памятуя о том,
Что ты видел наверху.
Даже когда ты больше не сможешь этого видеть,
С тобой навсегда останется
Знание о том, что ты видел.
Рене Домаль имел свой опыт серьезных восхождений в Альпах — так что он знал, о чем писал.
Что-то вроде эпилога
Ушли в далекое прошлое все увлечения и страсти романтиков гор. Наступило время, когда можно оглянуться и оценить прожитое с трезвостью пожилого человека.
В те «баснословные года» нам было даровано нечто вроде тютчевского со-чувствия, как благодати и можно только радоваться тому, что это непреходящее ощущение не покидало нас до самой старости.
Друзьям альпинистам. И.Руднева.
Ушло наше время по синей лыжне,
По горным тропинкам, по пыльным проселкам,
И соль выступала порой на спине,
И все-таки было то время веселым.
Мы пели не в лад и острили, кто мог,
И нежность свою не доверили строкам,
И был не в чести ни венец, ни венок —
И все-таки было то время высоким.
Мы шли на закат, как уходят на взлет,
И числили рядом навечно ушедших,
И ветры смирялись, и плавился лед
Мечтой сумасшедшей, мечтой сумасшедшей…
И если беда выставляла рога,
И мчалась навстречу со злобою бычьей,
Победа была не куском пирога,
А кровной сестрой матадорской добычи.
Приходит признаний непрошенный срок:
Присягой на верность той солнечной лиге
Запретная нежность звучит между строк —
Зачитанных строк недочитанной книги.
Но, «перебирая наши даты…», пожалуй, стоит сказать еще вот о чем. Наверное, в памяти любого человека особенно бережно хранятся воспоминания о знакомствах с людьми незаурядными, выдающимися. Но в нашей будничной жизни редко происходят такие встречи. Как правило, они случаются один-два раза за всю жизнь и память о них сохраняется надолго.
А вот нам всем, всем, кто провел лучшие годы своей жизни в братстве-содружестве Спортклуба Академии наук, повезло просто сказочно: не сразу, но шаг за шагом, здесь собралось почти два десятка совершенно незаурядных личностей. Удивительно и, пожалуй, даже уникально то, что всем нам довелось на протяжении долгих лет жить в тесном общении с такими выдающимися (и я не побоюсь этого слова!) людьми как Евгений Тамм или Борис Горячих, Олесь Миклевич или Александр Балдин, Игорь Щеголев, Олег Брагин, Валентин Цетлин, Игорь Мильштейн, Мика Бонгард, Дима Дубинин, Андрей Симолин, Олег Куликов, Евгений Булатов, Андрей Мигулин и еще с добрым десятком людей того же «калибра».
Оглядываясь назад, я с трудом представляю, какой могла бы сложиться моя судьба, если бы по какой-либо причине мне пришлось исключить для себя участие в жизни нашего сообщества. Добавлю к этому и такое признание — когда временами со мной случались приступы глубочайшей депрессии, то меня более всего спасало от отчаяния простое соображение: если среди твоих друзей ты можешь числить таких замечательных людей, как к примеру, Женя Тамм, Боб Горячих или Игорь Щеголев — то стало быть, ты — не безнадежен и в тебе есть нечто, что заслуживает их уважение и дружбу. Вот это ощущение непреходящего чувства взаимного притяжения было всегда нашим общим достоянием и согревало всех нас.
Поэтому неудивительно, что каждый раз, когда случается встречаться тем немногим, кто дожил до наших дней, мы всегда вспоминаем ушедших друзей и радуемся, что нам было дано счастье прожить с ними вместе столь изрядный кусок нашей жизни.
А в заключение приведу великолепное стихотворение Давида Самойлова, которое, по моему мнению, вполне подходит в качестве завершающего аккорда на фоне всего того, о чем было сказано выше.
Да, мне повезло в этом мире
Прийти и обняться с людьми
И быть тамадою на пире
Ума, благородства, любви.
А злобы и хитросплетений
Почти что и не замечать.
И только высоких мгновений
На жизни увидеть печать.
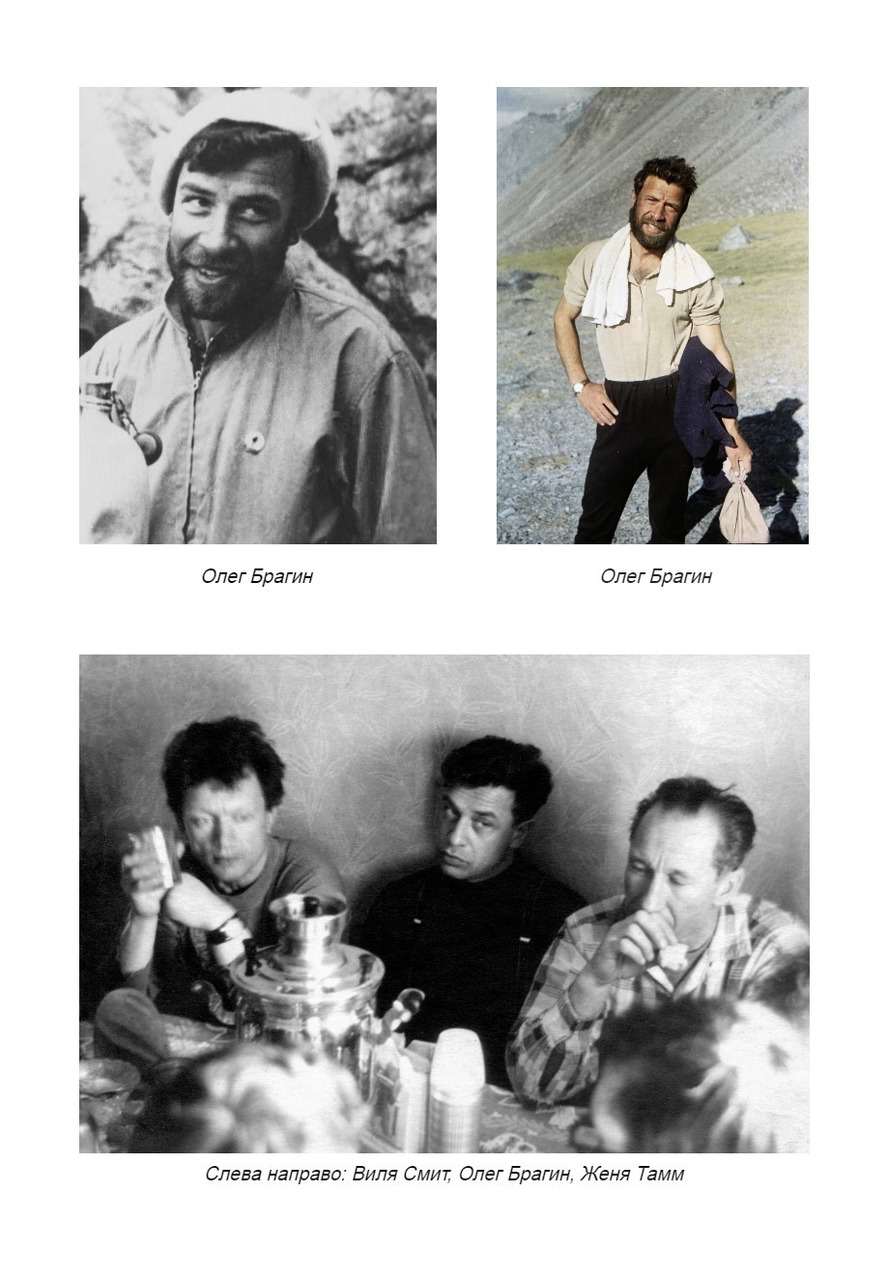


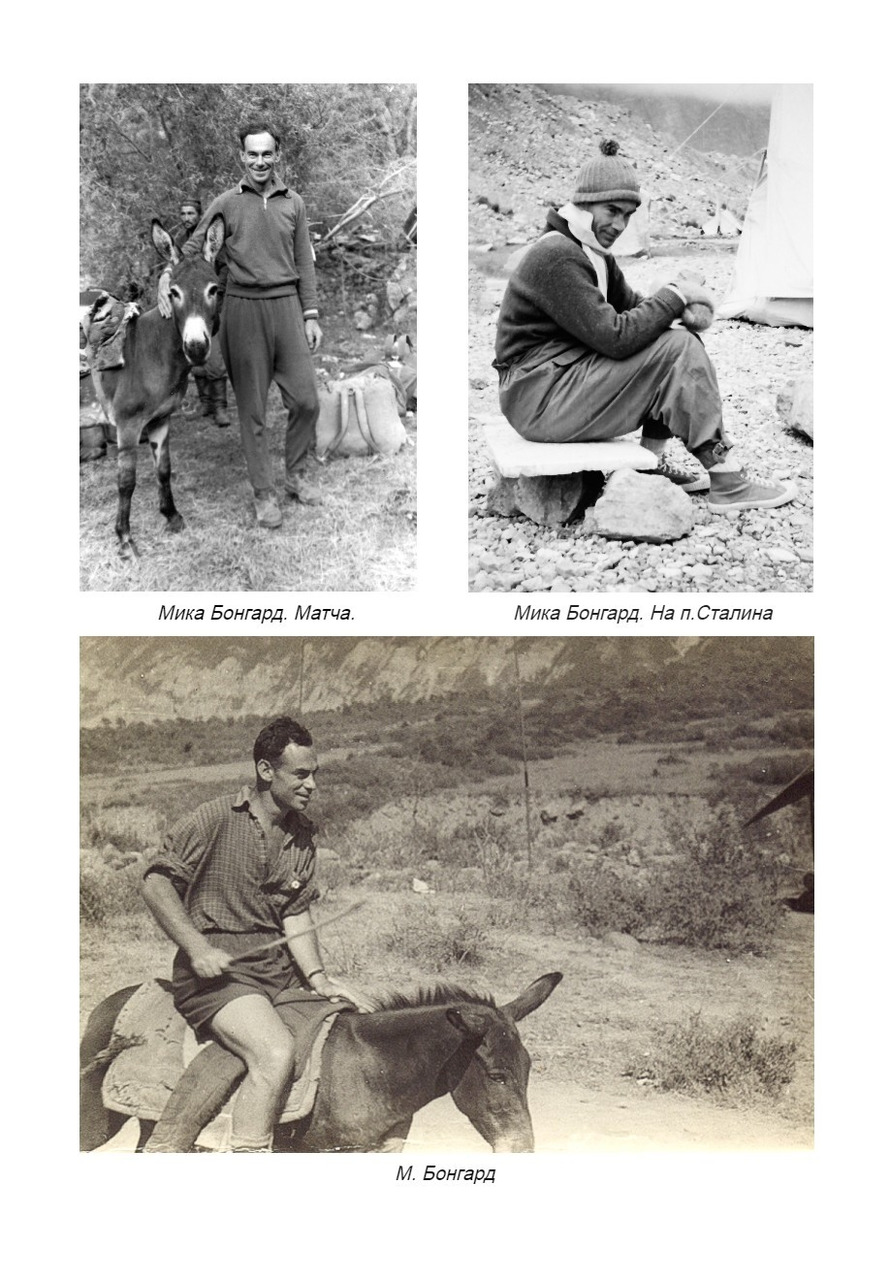
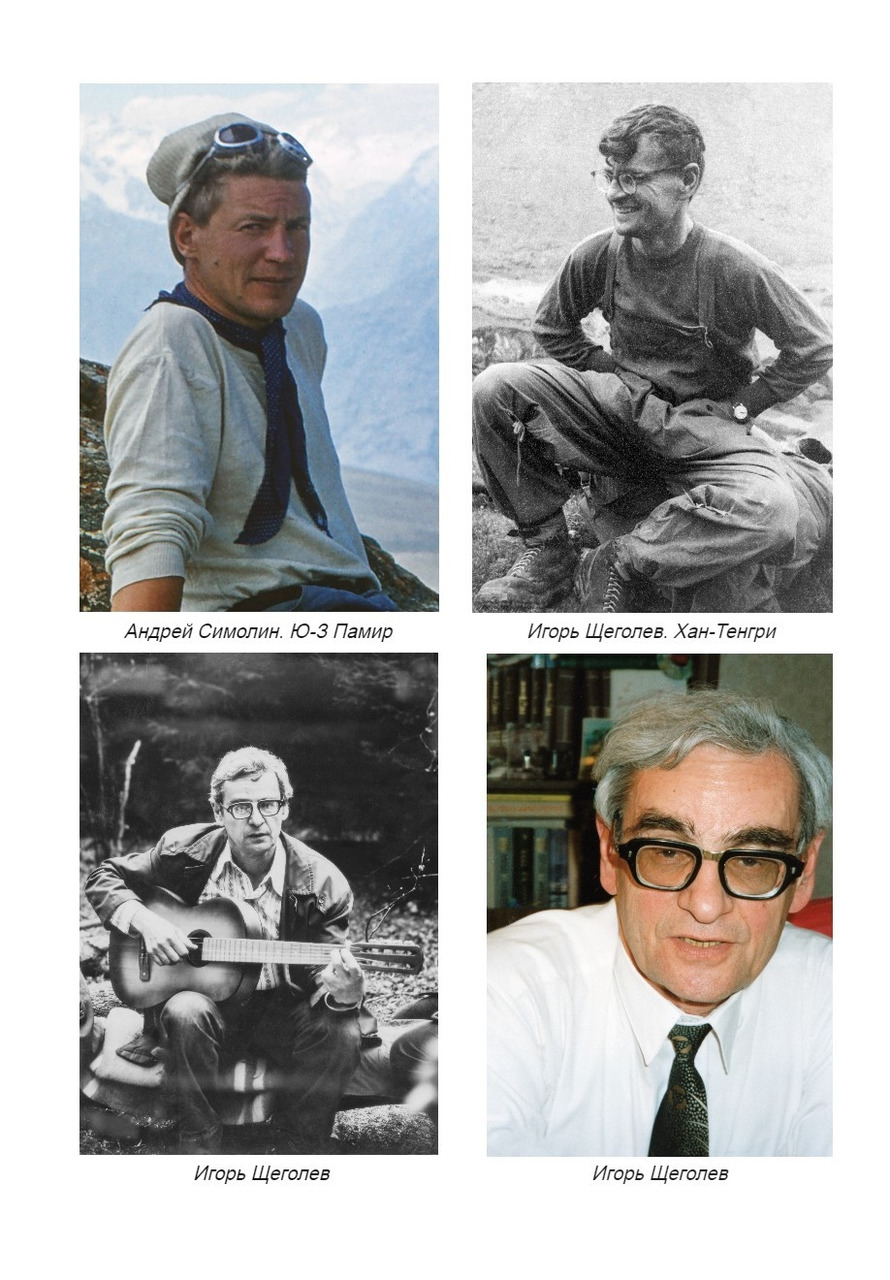

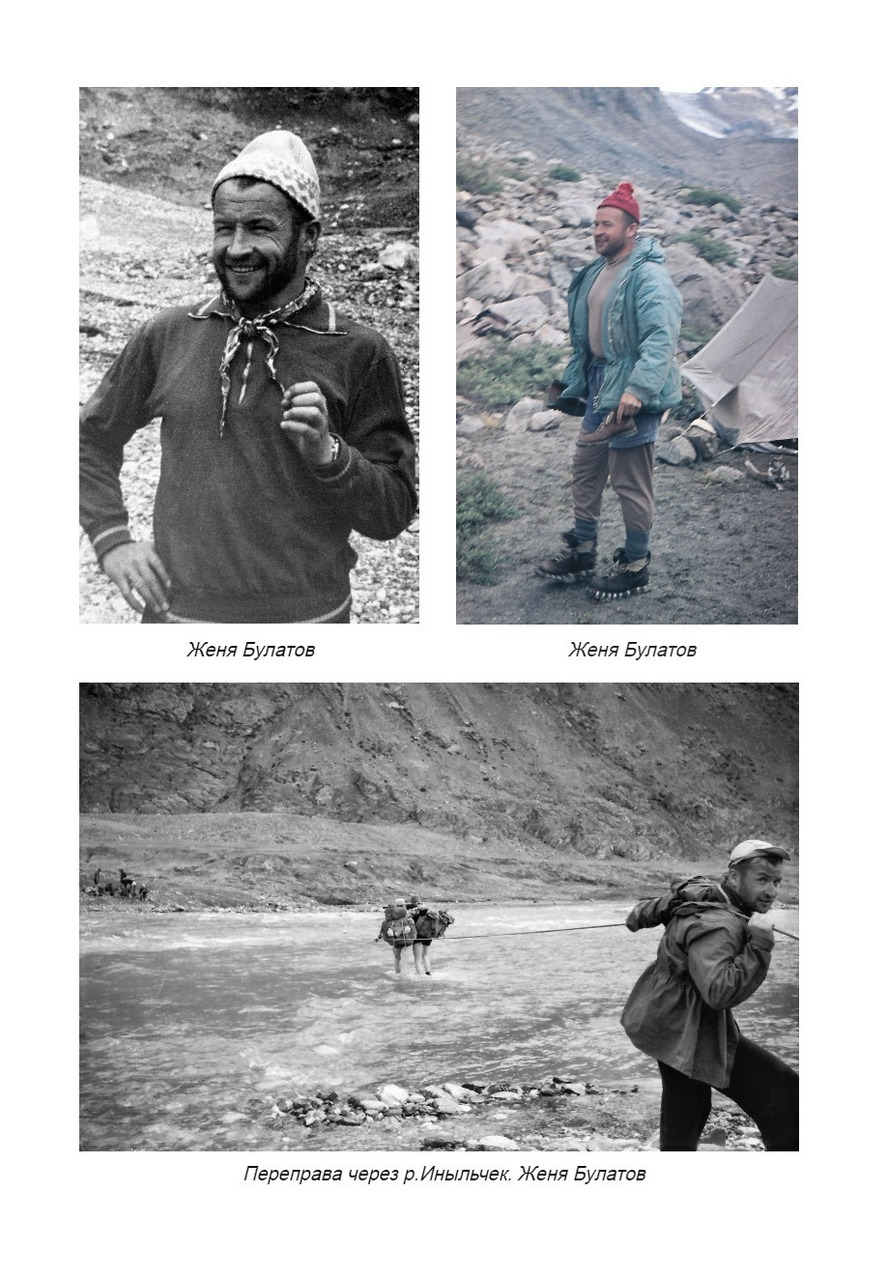



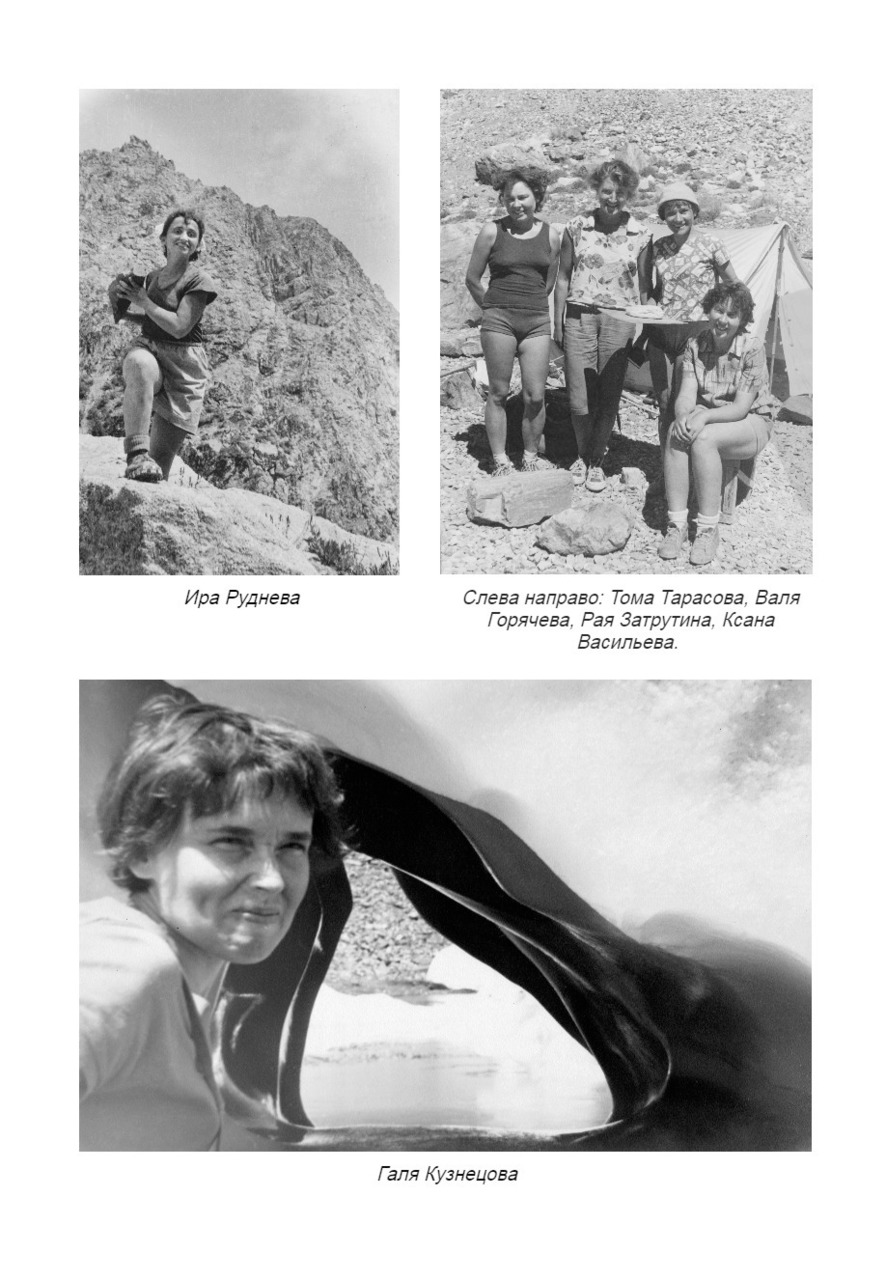

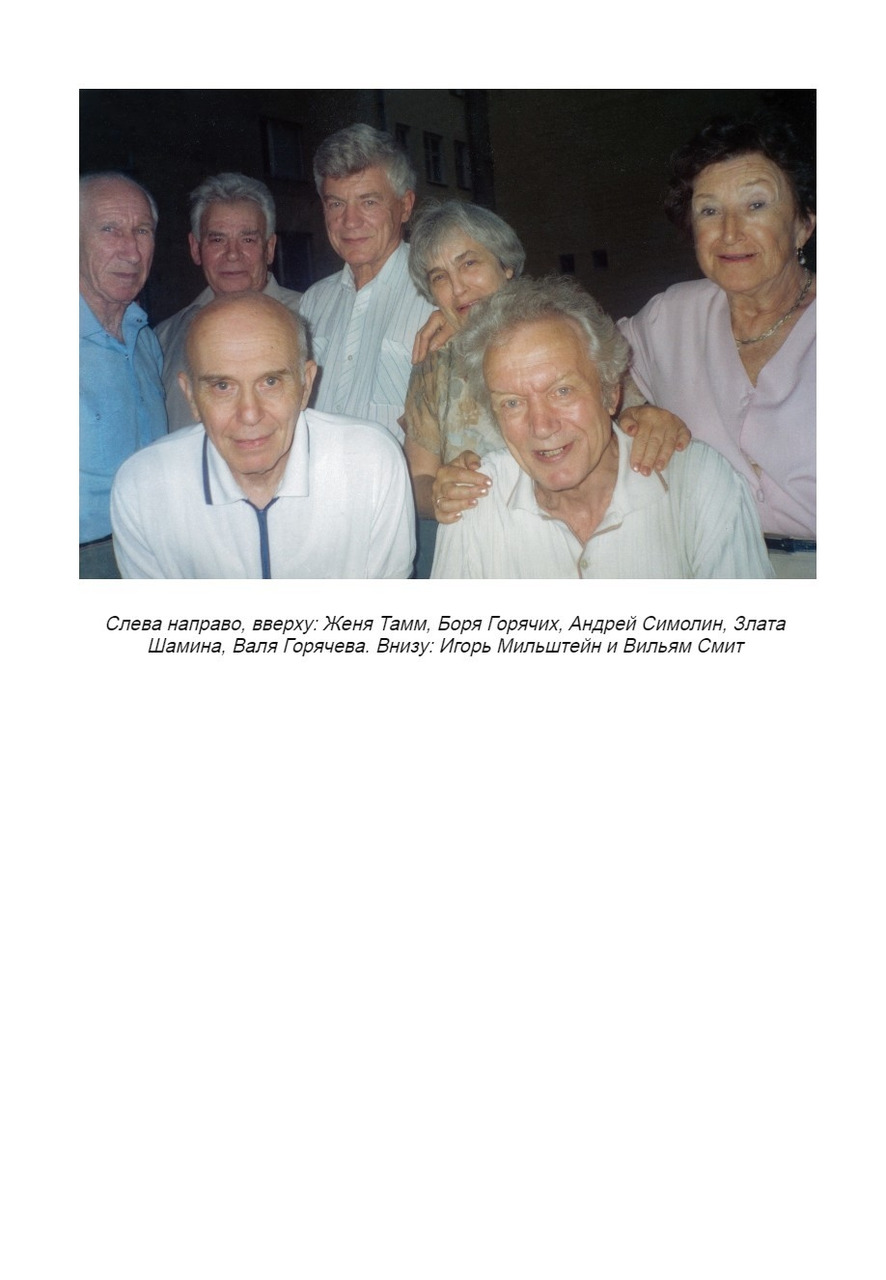
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.