
Бесплатный фрагмент - Моя ойкумена
Том второй. Поэмы
Поле Пелагеи
поэма
П.Х.
Пепел, пепел — то сильнее, то слабее —
По земле, земле, землице, по стерне.
Птица пепла, птица-память, Пелагея
Плачет-молится, наверно, обо мне.
I
За четырежды девятым окоёмом,
Где в Катунь сползает пепельный туман,
Где чешуйчатой гадюкой в три приёма
Путь выскальзывает на Чике-Таман,
По-над пропастью,
Над каменным завалом,
Над белёсою опаловой рекой
Каруселью, серпантином, перевалом
Распускается пространство под рукой,
Распускается, как горная фиалка…
Я уехал, я вернулся, я исчез…
Близко-близко, больно-больно,
жалко-жалко
Небо кинулось душе наперерез!
Всё открылось, словно не было разлуки,
Как пасхальное яичко из руки, —
В чистом поле от Кузнецка до Белухи
Колокольчики одни да васильки.
Вот она страна Муравия родная,
Лукоморья золотые берега —
В чистом небе от Урала до Алтая
Незабудок непочатые луга.
На четыре и на восемь направлений
Только воздуха пронзительная суть,
Вместо стен и человечьих поселений —
Тело беркута застыло навесу…
II
С перевала мы поедем к переправе
На стоянку под названьем Калбак-Таш.
Мы не все в саду каменья перебрали,
Нам не давит душу нажитый багаж.
Мы спускаемся в последнюю долину,
Где за Временем охотился герой,
Оленуха злоторогая молила
Здесь такою же весеннею порой:
Не пускать стрелы, не гнаться,
не тревожить
Ход времён, что заповедан испокон.
Но запела тетива, и у подножий
Трёх хребтов —
остановился ток времён.
Здесь за тыщу лет дождинки не упало.
Стал скалой гранитной
дерзостный Стрелец.
В древнем поле ожерелье из колец —
Всё курганы, всё курганы, всё курганы —
Тлен лишайника на серых валунах,
Да обглоданные ветром истуканы,
Да кочевник, что, привстав на стременах,
Долго смотрит за промчавшейся машиной…
А отвалится копыто у коня,
До пришествия Христова недвижимо
Пролежит…
И только жёлтая стерня
Стрелки пустит сквозь отверстья гвоздевые…
Старым трактом вдоль по Чуе полетим!
Пусть замкнут дозор хребты сторожевые.
Неба клок.
И ясный месяц-нелюдим.
III
Возле Чуи вечеруя и ночуя,
Буду слушать чужепамятную речь.
Шум воды.
И в этом шуме различу я
Путь души моей, что долог бесконеч…
Но…
но снова ворожит душа о тяжком
Часе!
Память, словно пламя, ожила.
И долина, словно выпитая чашка —
С каплей терпкого кумыса пиала.
Калбак-Таш, висячий камень в переводе,
Ты мне прошлое беспошлинно отдашь,
Ты такое помнишь о земном народе,
Что никто не знает верно, Калбак-Таш.
Как ушёл ледник, как вытаяло Слово,
Потекло по милой Азии тепло,
Вместо тёмного, кудлатого и злого
Светозарное сияние взошло,
Вместо мамонта — олень богоподобный,
Вместо сумрака — полуденный полёт.
Из пещер на белый свет послепотопный
Выходил немногочисленный народ.
Слышу, слышу как шумит поток зелёный,
Как грохочет в горле талая вода,
Человек по белу свету расселённый,
Эй, куда от счастья кинулся, куда?!
Луговые обнажилися террасы,
Потекли по ним весёлые стада,
Племена не разделённые на классы
Стали по миру бродить туда-сюда.
Калбак-Таш, отдохновенье у дороги,
Тишина, душе уже ни до чего,
Сколь языков, это знают только боги,
Брали воду у подножья твоего.
IV
Тишина здесь непонятная такая,
Шум порога тише этой тишины,
Камни живы, слышу в посвистке сурка я
Заунывное звучание струны.
Камни дышат, и наскальные рисунки,
Словно звёздный повторяя гороскоп,
Подставляют солнцу холмики и лунки,
Луч ловя то по касательной, то в лоб.
От волков-собак уносятся олени,
Козы скачут по отвесной крутизне,
И скрипят телеги всех переселений,
И мычат волы в удушливом ремне
И в ярме тяжёлом выйдя к водопою.
Воины стали на суровую тропу.
Остальной народ нестройною толпою
Тащит странствие земное на горбу.
Действо это не кончается поныне
И не кончится, наверно, никогда.
Я один в небесно-каменной пустыне,
Там внизу шумит, шумит, шумит вода.
V
Дом не знает духов скорби и разора,
Дом не пустит эти страхи на порог…
Но брезент палатки тонок, словно штора,
За которой я и мал и одинок.
Я на стойбище пустынной ойкумены,
С перевала и опять на перевал,
Не помогут мне ни руны, ни дольмены,
Ни любовь моя, на кою уповал.
Ветер давит, ветер рвёт тяжёлый полог,
Под полотнище чернильное ползёт,
Со скалы столкнёт невидимый осколок,
Вниз по осыпи кёрмёсов понесёт,
Над палаткой ветер тополь раскачает,
Ветки сыплются, как мелкая шрапнель,
Атмосфера всё густеет, всё дичает,
Мир скрипит, как будто севшая на мель
Баржа ветхого подвыпившего Ноя…
Время кончилось. Я выпал из него.
Я в провале, где у мрака за спиною
Нерождённое клубится вещество.
Только голос меня держит, только голос
Средь мучения, средь шума, средь борьбы,
Словно света нить иль Василисы волос
В лабиринте полупрожитой судьбы.
Голос близкий и родной,
и древний-древний,
Ниоткуда, то ли песня, то ли зов,
Ни жена, ни мать, ни ангел, ни царевна,
Ни тревоги, ни желания, ни слов —
Лишь покой и только сила всепрощенья…
Я вдруг вспомнил деревянное тепло,
Старой бабкиной деревни посещенье,
Молоко, что из кастрюльки утекло:
— Дверь прикрой, чтоб не сбежало,
Вова, слыш-ка!..
Баба Поля, Пелагеюшка моя,
Я в трикушке, я беспачпортный мальчишка
На пороге первобытного жилья.
В позаветном, изначальном, патриаршьем
Доме-облаке я вызнал всё как есть,
И не стать уже ни опытней, ни старше,
Не удобрить, не посеять, не отцвесть,
Коль не ведаешь кровей и вешек Рода…
А окликнул тебя атом дорогой,
И смиряется звериная природа,
Распускается пространство под рукой,
Распускается, как горная фиалка,
Словно царство из пасхального яйца,
И уже и жизни прожитой не жалко,
Знаешь точно — нет у ней конца.
Эпилог
Город Энск
меня вернул к страстям и прозе,
К деньгам, деятельности, словом ко всему,
Что у клушки, копошашейся в навозе
Почитается по серцу и уму
За достойное и доблестное дело.
Я о ночи той, когда прибой времён
Стал стирать меня,
как слабый очерк мела,
Как никчёмный и почти забытый сон,
Я о ночи той не больно-то старался
Вспоминать.
Но в самый раз пришло письмо —
Мама пишет, что покуда я мотался
По раскопкам, в доме треснуло трюмо,
Из Кузнецка получили телеграмму,
Что поделать, баба Поля померла,
Вижу дату похорон, о Боже, мама,
В эту ночь она сама ко мне пришла,
И звала, и помогла пройти по кручам,
Показала бездну крови и родства,
Я, распластанный на камне бел-горючем,
Я, поверивший в могущие слова,
Был удержан, был оставлен,
был направлен
В том потоке, что теряется во мгле,
Что лишь в каменных рисунках чуть проявлен,
Что начало получил не на Земле,
А в каком-то нам не чуждом измереньи,
В чистом поле — бабы Поли зеленях…
О коровушке, о хлебе, о смиреньи,
Об июльским солнцем залитых сенях,
О простом и неизбывном чуде Рода!
Я уехал, я вернулся, я воскрес.
Есть одна — непобедимая свобода —
Слушать волю животворную Небес!
Никогда бы я о том стихом не вспомнил,
Сокровенный опыт дорог и сокрыт.
Звёзд,
ни лирика, разбитая о быт
Ни архангелы поющие,
Ни сонмы
Не тревожат во мне смутного стремленья
К стихотворчеству,
к маранию листов.
Но недавно…
Это было проявленье
Тех же сил,
и знало этот же исток.
Пела девочка.
И голос был всё тот же,
Только чище и сильнее, и древней.
Девяти годов.
Опять!
Мороз по коже…
Пелагея.
И всё прежнее — при ней.
апрель 1996, г.
Новосибирск
Булавка
Грез завсегдатаи —
Мы и не знали закона,
Мы заклинали судьбу о продлении сна.
Вдруг я очнулся:
Взяла зажигалку икона,
Газ запылал,
она факел к глазам поднесла.
Вспыхнули очи.
Младенца огнем затянуло.
Он только крепче прижался к родимой щеке.
Пламя по алой порфире
на грудь соскользнуло
И запле-
пля-
пле-плясало на белой руке.
Стой, Богоматерь!
Отдай мне мою зажигалку.
Господи-Боже,
ну, кто ж теперь крест понесет?
Сон обратился
в гнилую чадящую свалку.
Стол задрожал
от предчувствия желчных икот.
Звякнули ложки.
И рюмка скатилась под лавку.
Черную доску
заткали в углу пауки.
Все что нашел —
на полу золотую булавку
Да белоснежный дымок непорочной руки.
Выстыла печь.
За окном одиноко и мглисто.
На чердаке домовой непохмельно мычит.
Высохла килька,
испортился «Завтрак туриста»,
Помер Гефест,
продырявился ядерный щит…
В левом углу
сквозь экран гомункулус плешивый
Что-то бубнит
и пытается цифрой замкнуть
Вечный пожар…
Но мы живы, поганец, мы живы!
И сквозь огонь
наш последний единственный путь.
Пусть твои дьяки
навыворот Слово читают,
И говорит о добре механический гроб.
Вот заикнись лишь о совести,
выкормыш стаи,
С бранью бутылкою бросит в тебя протопоп.
Уж Аввакуму на полке аукнулся Клюев,
С тихим смиреньем зарей занялась купина.
Игорев лебедь
несет землю Родины в клюве,
чтоб в океане ином возродилась она…
Никнет сирень под росой.
Отсырело полено.
Даже две мухи уснули в стакане на дне.
Только булавка
горит на ладони нетленно
Напоминаньем
о нашей нетленной вине.
Что же мне делать?
Убог я и деда не помню.
Может быть, за море сгинуть,
а дом подпалить?
Может, зарыть золотинку в ограде у комля
серебристого тополя?..
Или же проще пропить?
Справа ломбард.
Напрямую живет участковый.
Слева Хазанов — известный в народе дантист.
Что же мне делать
с булавкой твоей лепестковой,
Капелькой неба,
упавшей на вянущий лист?
Благодарить?
и хранить?
и с любовью молиться?
Но для молитвы, как минимум, надо иметь
то, чем душа возгорится
и умилится —
Ту безоглядность,
которой не ведома смерть.
Мы, одичав,
без прививки уж не плодоносим.
В уши мамлюка
не дозваться родным голосам.
О, Матерь Божья,
обрежь свои девичьи косы,
Мы позабыли пути к золотым небесам.
Тихо в избе.
Баба Поля давно на погосте.
Серою поступью
тронулись в утро кусты.
За поворотом
стучат командорскою тростью.
Тихий скулеж
из соседской звучит темноты.
Пса кличут Фустом.
Он дрожит от соседского стука.
Страшно, кобель?
Так ползи же к хозяйским ногам.
Как мне знакомы
холодные руки испуга,
Лихо глядеться
в пустые глазницы векам.
Страшно, кобель.
Ты сегодня вдвойне одинокий:
Не разделю
я твоих инфернальных скорбей.
Теплится весть
на последнем безумном пороге.
Катится жизнь,
как священный жучок-скарабей.
Бабушка Поля приходит,
садится на лавку,
Пальцем маячит, сквозит, улыбается мне.
И все глазами, лицом —
про святую булавку,
И все про деда,
чей профиль висит на стене.
Я посажу ту булавку
в горшок на оконце,
Охрой полью,
купоросом и горькой сурьмой,
Может быть, вырастет
синего неба иконка
С той, золотою по краю,
чеканной басмой.
Дервиш
поэма
I
В одной разрушенной мечети
Жил полудикой муэдзин,
Блаженный, словно божий сын,
Совсем один, совсем один…
Там в пыльной мгле дышали сети
Зеленоглазых пуков,
Жил шорох царственных песков,
И крики сов, и крики сов…
Ему служил седой тарантул,
Ему несли дары свои
И голуби, и муравьи,
И две змеи, и две змеи…
Как дивно змеи стих Корана,
Подвластны старческой руке,
Чертили вязью на песке!
А в том стихе —
ВСЕ в том стихе.
И длился зыбкой сон пустыни…
Как слюдяные витражи,
Дробились в далях миражи —
То бред души, то рай души.
А дервиш спал, одетый в иней,
А дервиш знал, как благ сей дар,
Вставал, шептал: «Ты жив, Омар.
Аллах акбар! Аллах акбар!»
II
О, было так.
Пока однажды
В сухую глушь, пустую тишь
Не пал беглец вражды и жажды:
Как пыльный шелест, сон-камыш
На месте озера былого,
Как перекати-поля куст,
Надтреснут,
высушен
и пуст —
То ль звон зурны,
То ль эхо слова —
Он был чужим в дому Аллаха…
Но хлеб,
Но чистая вода,
Но рис,
но теплая рубаха
Нашлись у дервиша…
Звезда
На шапке пришлого алела,
Пятном неведомой войны.
И зябло высохшее тело.
И обезумевшей страны
Свистящий бред услышал дервиш
Из уст обугленных и злых:
— Богов дрожишь…
Богатых терпишь…
К ответу их! К ответу их!
Я сам творец земли и неба.
Я сам велик, как Магомет.
На всех достанет жен и хлеба
На тыщу лет…
На тыщу лет…
Но змеи так же стих Корана
Чертили вязью на песке,
Плыл город-призрак вдалеке,
И дух эфедры и шафрана
Струился с каменных равнин
Сюда, в пустынную обитель,
Где бредил раб… или грабитель…
Герой,
безумец,
сукин сын…
Молился дервиш, клал поклоны,
Целуя нежный жар земли,
Стелился в прахе и в пыли,
Оплакав древние законы,
Оплакав «да»,
Оплакав «нет»,
Добро и зло:
— О, все смеркалось —
О серый дым, о сумрак-хаос!
Придет ли внове Магомет…
Господь велик, Господь велик
И милосерд, как дождь весенний!
Пусть
В полночь смут и средостений
Воскрикнет вороном кулик.
Пусть дэвы воют из огня,
Пусть скорпионы бьют хвостами
Из яда, бешенства и стали,
И, страхом землю накреня,
Пускай смеется и пирует
В крови дехканина шайтан.
Низринется земной султан,
Его бесстрастно поцелует,
Объяв крылами, Азраил.
Но только, Боже!
только, Боже!
Всех, кто безумней и ничтоже,
Прости, как Ноя ты простил!..
IV
ПРИШЕЛЕЦ
(приходит в себя и, открыв глаза,
снимает шапку):
Я жив, отец?..
ДЕРВИШ
(глядя в сторону, глухо)
— Шакал тебе отец.
— Я жив, отец, и даже силы чую.
— Ты помрачился разумом, пришлец,
И душу сжег гордыней…
Я тоскую.
Иса — пророк. И Мухаммад — пророк.
И оба были просто человеки.
И ты бы мог.
И я бы тоже мог.
И так должно быть присно и вовеки.
Свободны мы для счастья и любви.
Мы братья все — от Рима до Китая.
Что хочешь — строй!
Где хочешь, там живи…
— О, простота, воистину, — святая!
За что Аллахом изгнан был Иблис? —
За то, что не склонился пред Адамом.
А чем живет чинары юный лист? —
Молитвою о благодатном самом:
О солнце, об арыке у корней,
О песне птиц, о материнской ветке,
И чтобы (это осени страшней)
Душе не сгинуть в ураганном ветре.
Тебя ж давно сорвало и несет,
Ты позабыл о доме, как о дыме.
Ты знал рабов, но это не народ.
Бродяге ли мечтать о благостыне?
Ведь ты ни перс,
ни рус,
ни армянин!
Тебе не барс, а вошь худая служит…
— Но пробил час всемирных именин!
Старик, нас буря общая закружит.
Распустим вмиг мы Аль-Корана сеть,
Соткем стихи святей и веселее!
Мы разберем одряхлую мечеть
И будем строить чудо-мавзолеи.
V
ДЕРВИШ
(запрокидывает голову,
как от удара камчой по лицу)
Остановись, пришелец неверный,
Язык твой — скверна и хула.
Увы, грехи твои безмерны,
Безверье страшно… О, Алла!
Чего не знаете — не троньте.
Не бередите сон углей.
Очнутся демоны на троне,
Сорвутся страны с якорей.
От Индии до Гибралтара,
От эфиопов до Москвы
Такие вызреют удары,
Такие выроются рвы!..
Пусть у пророка в изголовье
Уснут библейские поля!
Ведь черной кровью, жирной кровью
Полна исламская земля.
Когда с раба содрали кожу
И расспросили о судьбе,
Он, весь объятый смертной дрожью,
Сказал, пришелец, о тебе —
Что ты придешь непобедимо
Разрушить времени мечеть.
Но мать в любом неизгладима.
Душа не в силах умереть.
Когда в сосуд с кунжутным маслом
Влез доброволец — растворить
Себя до мышц нагих и красных
И гайб таинственный узрить.
Он растворился…
Погибая,
Он вынут был, и начал зреть,
И зрел уже сквозь двери рая:
Земля — сгоревшая на треть.
Земля — покинутая Богом.
Земля — распятая тобой.
Он рассказать успел о многом:
«Не спорить, нет! — дружить с судьбой
Придется людям, чтобы строить
Град Добродетели Святой».
А сколько это будет стоить?
Вопрос пустой…
Вопрос пустой…
VI
Тот спор был короток ли, долог —
Не знаю: час или года.
Но дрогнул Полог, дрогнул Полог,
Такой незыблемый всегда.
Звезда полночная скатилась,
Задев ущербный минарет.
Волчица, словно спохватилась,
Завыла, потерявши след.
Змея ушла на дно колодца.
Ожили бабочки, цветы.
И можно было уколоться
О серп хрустальной чистоты.
В песок и в сон ушла беседа.
Но —
конский топот, храп и страх —
Бойцы ислама, моджахеды,
Во двор ворвались на рысях.
— Он здесь! —
воскликнул темный, тонкий,
Как ель тянь-шаньская джигит.
Упруго хрустнули постромки,
И жеребец уже хрипит,
И — на дыбы,
И — бьет копытом,
И сабля, описав дугу,
Как птица-чайка, с криком сытым
Вонзается в лицо врагу.
— Эй, дервиш, убери собаку!
Да закопай, чтоб не вонял…
И дай нам анаши и маку!..
Ты что как в рот воды набрал?..
VIII
Молчал монах.
Был нем осколок
Того, кто мнил, что он велик.
Что видел он, пройдя за Полог
В единый миг?..
В единый миг…
И из очей в раздумье странном
Струился в космос Божий дар.
И затихало за барханом:
«Аллах акбар! Аллах акбар!»
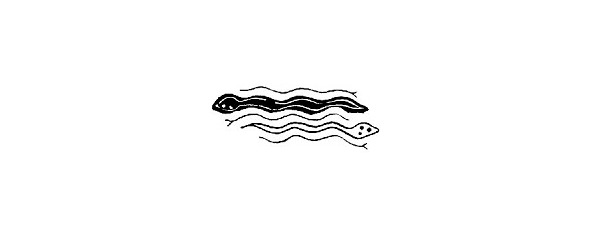
Свистульки
гуннская легенда
Шаньюй Тоумань не любил перелета фламинго,
Их странный призыв раздражал его грузный покой.
Он жен покидал для охоты лишь иль поединка.
А с кем он сражался?
И кто он, позвольте, такой?
Позволю, позволю!.. Далеко за дальнею далью,
На севере желтой, как море, империи Хань
Жил смуглый народ, воспевавший осанку маралью
И солнечный вымах рогов в поднебесную рань.
Когда это было?.. Цветами окуталась Гоби.
Жена увидала тамгу божества наяву.
И первенец князя светло ворохнулся в утробе,
И пал, словно сокол, из лона в степную траву.
Медлительно тая, зенит огибали фламинго.
И хриплою птицей в коленях младенец кричал.
И синею змейкой вилась по траве пуповина,
И камень горячий любовную мгу источал.
А мир кочевал по пологому скату вселенной.
И кони дышали. И овцы текли к озерцу.
Шаньюй Тоумань, будь же славен
сей вестью моленной!
Под клики родни быть отцом тебе нынче к лицу.
Ай, княжия кровь, словно свиток огня в катапульте:
Гарцуя, он вырвал — как стон из немотной души —
Из горла стрелы две на шелковой нитке свистульки
И бросил шаману: «Вот этим пупок завяжи!»
II
Свистульки-пустышки! — прозрение Рыжего Хунна—
Степь в белых костях, но познал лишь великий Ата
Начертан скелет, как всесильная гибели руна,
А в трубчатой тьме и в глазницах свистит пустота.
Свистит пустота на изломе в сухой камышине,
Свистит пустота за распущенным конским хвостом,
Свистит пустота между скал на безлюдной вершине,
В отверстье нетопленой юрты и в сердце пустом.
Есть в свисте безумье!
Поэтому темен и жуток
Свист мыши летучей и мах над поляной ночной.
Свист жизни дрожанье,
разлад,
свист — лихой
Как трещина неба — разъятье в хаос глубиной.
Он может сорвать с поднебесья седую лавину,
Гремящим драконом обрушить на дол камнепад,
Владеющий им перережет ножом пуповину,
И духов сразит, и врагов опрокинет назад.
Все это постиг в своем сердце божественный предок,
Сын Неба-Тэнгри, рыжекудрый премудрый Ата.
— Пусть свистом владеет кто воин, кто храбр и меток,
Пусть в жилах китайцев сквозит мертвецов пустота!..
Он кость просверлил, чтоб зияло безумие свиста,
И выточил шариков крохотные черепа,
К стреле привязал и пустил ее во поле чисто,
И в этом полете свершилась народа судьба.
III
Эгей, Маодунь!
Быстроногий порывистый княжич,
Зачем ты глядишь, как фламинго плывут в вышине?
Ты быстро подрос. Но тебе не уйти из-под стражи.
Ты должен погибнуть заложником в скорой войне.
Ты отдан посольству могучих и доблестных саков.
Ты предан отцом за неверный и призрачный мир.
Есть младше наследник…
Но, Боже, как мир одинаков!
И в стане врагов те же юрты, и овцы, и сыр,
И тот же кумыс.
Только люди светлы, белолицы,
С глазами, как небо..
Но Небо одно — тут и там.
Шаньюй здесь печален — вдруг выпало сына лишиться,
К отшельникам скрылся он. Звали его — Гаутам.
Эгей, Маодунь!
Птицы счастья на Западе тают.
Где стрелы твои? С костяными накладками лук?
Как сладко мечтать раздробить эту дивную стаю
И бросить добычу невесте на свадебный круг.
А розовый пух источает прохладу и негу,
Не роскошь китайскую, чистоту ледников.
Чьи стрелы пронзят птиц Востока
— так было от веку, —
Тот Степи предстанет первейшим из женихов.
Как томен напряг тетивы под коснеющим пальцем,
А лунный изгиб тонкой луки девически строг.
Неужели, княжич, остаться тебе постояльцем,
Чужим среди чуждых, холодным кострищем у ног
Грядущих кочевий?..
Какие несметные силы
В тебе и в земле, что упорно сжимаешь в горсти!
Ты вскормлен златым молоком полудикой кобылы!
Ты свистом повязан, свисти же, наследник, свисти!
IV
Так было у сизых предгорий на дальней стоянке.
Увидел во сне Маоудунь стаю белых собак,
Их круг замыкался на волке, на сером подранке,
Их пасти цвели, языки окунались во мрак.
И видел еще, как по краю вечерней долины
Зарезанный скот уносили на холках своих
Разбойные тени, сородичи волчьего сына…
И княжич очнулся:
— Тесна стала Степь для двоих!
Но рано, но рано, отец, нам с тобою прощаться.
Я слышу, как почву колышет твой верный тумен.
Мне тоже приспела пора в долгий путь собираться.
Кровавый набег твой — предвестье больших перемен.
Он в ночь ускользнул и коня прирученного свистнул.
(Чрез бездну веков так же Игорю свистнет Овлур)
Как лист пред травой!
И — верхом! — по дороге в Отчизну.
— Отец просчитался…
Но чур меня! Чур меня! Чур!..
Разделит добычу — кто доблестно саков ограбил.
А храбрый наследник получит под руку отряд.
Шаньюй Тоумань будет править,
как раньше он правил.
А княжич не рад?
Отчего же, по-моему, рад.
V
Чем тешится княжич с подручными воями ныне?
В горах, на охоте он мечет в засохшую ель
Свистящие стрелы. А после, на черной осине,
Подвесив козла, указует на новую цель.
— Вы видите, я вынимаю стрелу из колчана,
Из желтой бересты в узоре цветного шитья,
Ее острие, как тугое соцветье тюльпана.
Зажгите тюльпаны! Разбейте о кровь острия!
Лишь тот победитель, чья воля с полетом едина,
Лишь тот победитель, кто крепит дружины крыло,
Лишь тот победитель, кто бьется за Мать и за Сына,
Чтоб поле тюльпанов из тучной земли расцвело.
Стреляйте по звуку! Я начал. Стреляйте по звуку!
Туда, куда скажет родная свистулька моя.
А кто опоздает, тот сам пусть винит свою руку —
Он кисти лишится. И праведна кара сия…
VI
Так тешился княжич. А время из раны сочилось.
Луна кочевала, серебряной сбруей звеня.
В коротком походе однажды добыча случилась —
Ему привели в поводу золотого коня.
Он был как осенняя степь в переливах заката.
Он был как сияние славы на грозной броне.
А глаз оплывал всею тайною глубью агата.
А ноги — как стон тетивы в голубой вышине.
Крылатый Турана питомец, Дня Белого образ —
Достоин его Маодунь. Только чур его! Чур!
Вот сотник глядит на коня и темно и недобро…
— Эй, прочь жеребца! — крикнул княжич. —
Кто скучен и хмур?!
Лишь тот победитель, чья воля с полетом едина,
Лишь тот победитель, кто крепит дружины крыло,
Лишь тот победитель, кто бьется за Мать и за Сына,
Чтоб родины тело тучней и обильней цвело.
Стреляем по звуку! Я клятвы своей не нарушу!
Туда, куда скажет пустая свистулька моя.
А кто опоздает, пусть Богу несет свою душу —
Он жизни лишится. И праведна кара сия…
И прыснули стрелы! И духи над бубном запели!
Раздался состав воздухов. И в мертвящей тени
Заржал жеребец. И возжаждали плоти и цели
Трехпёрые жала, налитые свистом слепни.
Вонзились. Заплакал Туранец и хрипло забился…
Но были такие, кто лук натянуть не посмел:
Задумчивый сотник, и всяк из них, жизни лишился…
Над каждым курган.
А отряд по степи прогремел.
VII
Зима обступила без грома победы и клича.
Морозный туман пеленал молодую Луну.
В далеком походе случилась другая добыча —
Бойцы привели ему в дар полонянку-жену.
Она была вся как фламинго в полете высоком,
Казалось, взмахнет и уйдет, огибая зенит,
В заоблачный мир. А во взоре ее волооком,
Все чудилось — горный ручей колокольцем звенит.
Как томен шатра белоснежный напруженный полог!
А бисерный ток ожерелий меж лунных холмов
Вот-вот и размоет рассудка последний осколок,
Размякнет костяк от свистящего пламени слов.
И кто здесь кого полонил ли пленил — непонятно.
Снега пуховые упали на брачную Степь.
На стойбище зимнем, как шорох мышиный, невнятно
Вдруг ропот возник, и военная дрогнула крепь.
И волки дерутся во время весеннего гона.
И бьются маралы в горах на заре сентября.
Со страстью рифмуется кровь.
И лишь только ворона
Над трупом вещает свое богомерзкое: «Зря!»
Но княжич услышал разлад и дрожание стана.
На лисью охоту он кликнул поутру отряд
И вывел из юрты княжну, как луну из тумана.
Верхом — на просторы!
Там звезды над снегом горят
Почти до полудни… — Скачи же, жена молодая!
Веселье и снег так прекрасны на зимней заре.
Пух Неба растает… А ты, моя верная стая,
Воспомни, воспомни о прежней жестокой поре:
Лишь тот победитель, чья воля и вера едины,
Лишь тот победитель, кто крепит дружины крыло,
Лишь тот победитель, кто бьется за Мать и за Сына,
Чтоб родины тело тучней и обильней цвело.
По звуку стрелять! Я заклятья и здесь не нарушу!
Туда, куда скажет родная свистулька моя.
А кто опоздает, пусть сразу несет свою душу
К вратам подземелья. И праведна кара сия…
И прыснули стрелы! И духи над бубном запели!
Распался состав воздухов. И в безумной тени
Княжна обернулась… Не знали ни смысла, ни цели
Трехпёрые жала, налитые свистом слепни.
Вонзились!
С пробитым соском и растерзанным горлом
Она удивленно и тихо восплыла в зенит.
А лошадь кружилась,
кружилась и бегала во поле голом.
И беркут лишь видел,
как меч нерешительных воев казнит.
VIII
На крупных рысях проскакали еще одну главку:
Лишь камни да кровь,
конский топот да порох снегов.
Настала пора возвращаться в шаньюйскую ставку.
Настала пора окончания долгих стихов.
Отряд поредел, но клинок отковался на славу.
Лишь знак — и до дна рассекается надвое зга.
Такие мужи впятером сотрясают державу,
А дюжина их прожигает дружину врага.
Наметом, наметом! Ни жен, ни тяжелой поклажи…
Навстречу — табун. И табунщик ведет жеребца.
— Друг, чей это конь?
— вопрошает приветливо княжич.
— О, храбрый наследник, он твой, а точнее, отца.
— Он мой и не мой, словно соболь за пазухой вора.
Я сын и не сын, так, глядишь, не посадят к столу.
Не будем делить, разделенье — начало раздора…
И с мраком в очах Маодунь вынимает стрелу.
И все повторилось, как было с подарком Турана.
Под молнией свиста упал Тоуманя скакун.
Табунщик бежал, весь от страха белее тумана.
По древней террасе рассеялся рыжий табун.
Никто не замешкался. Птахи кровавые хором
Взошли и зарылись в горячие недра коня.
— Дождался! — вздохнул Маодунь.
И взглянул без укора.
— О, всадники славы! Сам Бог направляет меня!
IX
Час пробил! Час пробил! Судьба меня не зачурает,
Иначе от жадности сгинет держава моя.
Вы слышите, волк за оврагами зорю играет?
Пусть ложь истребится! И праведна кара сия…
…С колчаном распоротым схож серый труп Тоуманя,
А рядом, вповалку, — советники, мачеха, брат.
А новый шаньюй восприемлет присягу признанья,
И грозно молчит возле князя стосвистый отряд.
Но сказ не закончен.
Ревут и верблюды, и яки.
Тревога в стадах и кочевьях. Про смуту в орде
Узнали китайцы, дунху, и юэджи, и саки,
И волны захвата пошли, как круги по воде.
Отдай, Маодунь, две реки с побережьем Бай-коля.
Алтунскую чернь уступи или будешь разбит.
Пустыню отдай с выпасами и озером соли…
Посольства наглеют, и драка вот-вот закипит.
Война уже скалится. Даже на сходе старейшин
Седые мужи предлагают судьбы не пытать.
— Будь проклята трусость!
Так что же — земли будет меньше,
И вмиг на границах рассеется хищная рать?!
Земля — это плоть, это мышцы и кости народа,
Земля, словно вымя, сосуд присномлечной души,
И сумрак долин, и хребтов тишина и свобода,
И предков покой — нетревожим и несокрушим.
Земля — и тамга Божества, и основа Державы.
Уж лучше погибнуть, но землю и честь сохранить.
А вы — отдавать,
не хлебнувши ни крови, ни славы.
Всех, всех, кто хоть слово промолвил об этом —
Казнить!
…Полки уходили в поход, и колчаны скрипели
Десятками тыщ истекающих яростью жал.
А князь горевал: «Не избегнуть кровавой купели…»
Подумал и…
крепко свистульку к стреле привязал.
Лишь тот победитель, чья воля и вера едины,
Лишь тот победитель, кто крепит Державы крыло,
Лишь тот победитель, кто бьется за Мать и за Сына,
Чтоб Родины тело тучней, изобильней цвело…
X
Еще семь веков на земле было слышно о гуннах,
Но ветры изъели во прах Маодуня завет.
Его отголоски ищите в курганах и рунах,
Средь каменных книг тех
и большее сходит на нет.
Оленное солнце!..
Но старая мудрость забылась,
Не стало земли…
и сказаний,
и песен,
и снов.
Осталась жестокость,
что валом на Запад катилась,
Остался лишь свист,
что Европу прожег до основ.
Новосибирск
1990 год, декабрь

Исход
Одним Эней, десятым — Моисей,
А мне корнями не найти могилу:
Сухая глина, пепел да песок,
Да глыбы, что титанов задавили…
А, может быть… и так… и поделом.
Да будет снег на вымершие тундры,
Да будет гром и дождь на те поля
И рощи, что пустынны и безвидны
С каких-то пор…
С каких-то смутных пор.
Могилы нет…
Но с ужасом ромеи
Аттилы погребенье поминают.
Тогда-то реку обратили вспять
От крови обезумевшие гунны
И русло обнажили, и вождя,
Что был бичом вселенной просвященной,
На дно спустили…
Был ли человек?
А христиан, что рыли погребенье,
Прирезали, как жертвенных овец.
И хлынула волна реки безвестной,
И поглотила страшные дела.
Могилы нет…
Покоится вода.
Под толщей лет пороги Борисфена.
Что — Святослав?! хазарский каганат
Развеявший… Доныне иудеи
Проклятья шлют на голову его.
Но нет ни печенегов, ни хазаров.
А мы… мы пьем из черепа отца
Чужую кровь, похожую на правду,
Давно забывши предков имена.
Могилы нет…
Я помню черный день,
Как хоронили войны Темучина
В глухой степи, бесплодной, как такыр,
За десять переходов от стоянки
Уйгурских пастухов и за двенадцать
От белых юрт и алых кошм Орды.
Над телом, что вернулось в лоно Степи,
Три дня текли стада овец и яков,
Потом пошли верблюды Семиречья,
Потом быки Ирана и Китая
И, наконец, как грохот камнепада,
Помчались табуны коней любимых,
Коней монгольских, скакунов арабских,
Кавказских кобылиц и знаменитых
Угорских иноходцев… Было так.
От края и до края той пустыни
Земля стенала топотом и ржаньем,
И криками, и воплями животных,
И лишь спустя неделю после тризны
Сквозь траурную мглу пробилось солнце
И на помётом крытую равнину
Осела тихо шелковая пыль.
Могилы нет…
Ищите в чистом поле,
На дне морском,
Средь звезд на небосклоне.
Нигде, нигде ни знака, ни приметы.
А, может быть?..
Я с ужасом подумал —
И к лучшему, что не было и нету,
Что внук не знает, где зарыли деда:
Ни камня, ни плиты, ни поминанья,
Кресты погнили, холмики пропали,
А часто вовсе не было крестов.
Ну, жили. И прошли. И растворились.
Покуролесили, побушевали,
Но не хотели мертвого величья,
По ветру прах…
По ветру светлый прах.
И вот еще!
И вот еще, постойте:
Ведь нас не все под этим небом любят,
А коль уйдем, не замочив подошвы,
Рассеемся, как сонные созвездья,
И станем миром вновь,
тогда, быть может,
Уж не придет никто на место праха,
Чтобы гроба проклясть
и поглумиться,
И плюнуть, и покой наш
осквернить.
1990, Новосибирск
Знамя Чингиса
сказание о Чингис-хагане
Горе мне, горе мне, хан мой, покуда
Я раб этих лет!
Коршуны Корсуня, стая и смута…
Се — пепел побед.
Яшмовый перстень, нефритовый пояс мой,
Благослови!
Истою песнею, ратною повестью
Встань-оживи!
Хан мой, ты вызлочен солнцем Монголии,
Чудный пришлец.
Меч, пресекающий пламя агонии,
Сын и Отец.
Сын овдовевшей, обобранной матери,
О, Борджигин
Очи твои, как бессмертие, матовы
Синью вершин.
Взмыл твой родитель над распрями старыми —
Гром-Есугей!
Срезан в полете, отравлен татарами
Беркут степей.
Хан мой, создатель простора российского,
Божия твердь!
От солнцевосхода до брега Понтийского
Душу отверзь!
Хан мой, крещенный сиротскою волею,
С ликом огня!
Хан мой, Чингис, из пучины бездолия
Вырви меня!
Берег Онон
Где горы белее ветрил кораблей
Плывут на Востоке,
За светлой излукой реки Керулен,
За свистом осоки,
Где топот архара, где трепет и сон
Звериных владений,
В долине, где нитью сребрится Онон,
Родился младенец.
Откинули дымник у юрты большой,
Барана сварили,
Душистые смолы смешав с анашой,
Дымы воскурили,
Татарин-батыр закричал под мечом —
Приспела кончина —
Малыш его именем был наречен…
О, день Тэмуджина!
У лета в начале, в полуденный жар,
В год лошади черной
Родился младенец прекрасен и яр,
Как пламя из горна.
Когда его вымыли в белой реке
И клали в палатку,
Открыли ком крови зажат в кулаке,
Похожий на бабку.
И криком лебяжьим день после того
Повозки скрипели.
И были железными стенки его
Земной колыбели.
Вещая птица
Какие народы во тьме пронеслись,
Как бледные волны,
Пред тем как восстал августейший Чингис,
Величия полный?!..
Три тысячи лет пролетело, как миг,
О, Вечные Боги!
С той ночи, как Будда нирваны достиг
Под деревом бодхи.
Монгольское племя в таежной дали
Безвестно и сиро
Возникло, чтоб выносить в лоне земли
Держателя мира.
Праматерь Алун, молодая вдова
С повадкою лани
Узрела в ночи юный стан божества,
Утеху желаний.
Он падал, светясь пеной русых волос,
В отверстие юрты,
А в ранний туман ускользал желтый пес —
Сквозь двери и путы.
Три сын родилось от пламенных чар,
От русого света:
Бугу, Бугучи и простак-Бодончар.
Все истина это!
— Простак, не собьешь ли звезду кулаком? —
Смеялись тобгачи.
«Простак» — это значит, дурак — дураком.
Но вышло иначе.
Он звезды считал, он был гол как сокол —
Наставник соколий.
Знал верности цену он — первый монгол,
Сын Неба и Воли:
— Отец прилетал к нам с Воловьей Звезды,
Златой коновязи,
Наш род вознесется на крыльях орды
В нойоны и князи.
Брат брату поможет и воину вой,
Чего б не случилось.
А имя, каким будет назван герой,
Поведает чибис…
И вещая птица в назначенный час
На камень присела.
И вспыхнул тот камень, и, треснув, погас,
И черное тело
Его раскололось на три лепестка,
На равные части,
И в каждом, округлым сияньем зрачка,
Виднелись печати.
Златая печать, знак всевышних даров,
На небо предстала.
Печать серебра, знак полночных ветров,
В колодец упала.
И что ж Есугей с молодою женой
Увидели ясно?..
Знак власти небесной и власти земной —
Священная яшма!
Когда же в лампадах куренья зажглись,
Затеплились ало,
Над дымником птица пропела: «Чингис!
Чингис!..» И пропала.
У подножия Бурхан-Халдуна. Сиротство
Я жил уже в мире! Но где и когда?
Сквозь мрака разрывы —
Лишь смутные лица, кресты, города,
Да конские гривы!
Да вьется по ветру неведомый стяг.
Да крики навстречу.
Не помню, не помню — то друг или враг,
На пир или сечу?!..
Но помню, но помню, зачем я пришел,
И кто провожатый.
Куда я влеком и чего я лишен,
О чем — кровожадный
Неверный народ говорит у огня…
О том ли, что пламя
Кинжалом выходит из глаз у меня,
Что скоро делами
Я буду оправдывать Божью печать?!
О, воры и трусы!
Утробой и шкурой ли вам отличать
Ток огненно-русый.
Вы бросили мать мою на произвол
Осеннего Духа.
Угнали скотину под самый Бер-Гол,
Чтоб пламя потухло.
Сказали: «Зверёнка дав своре собак,
Не вырастим барса».
Родник Есугея заглох и иссяк,
Гром-посох распался!
О, души, ленивые, словно змея
В камнях солнцепека.
О, падали падаль — помет воронья!
Какого бы Бога
Вам не открывали в степных небесах
Волхвы и скитальцы,
Вы знаете только кумыс на усах,
Да жирные пальцы
Свои погружаете в полный котел…
Ни Вишну, ни Будда,
Ни Митра, ни светлый Христос не нашел
Здесь места для чуда.
Лишь бубен летучий звучит иногда,
Случаются, если
Рожденье и смерть, колдовство и вражда,
Напасти-болезни.
Вам боязен веры огонь. Оттого
В долине Онон я
Живу после смерти отца моего,
Как волк, потаенно.
Стыд, страх и бессилье! И горько до слез…
Лишь в дебрях Бурхана
Забудусь… Но чудится жесткий захлёст
Удавки аркана
Песня матушки Оэлэн-уджин
Подпояшусь крепко да коротко,
А ногам утром холодно, холодно.
Побегу вверх по берегу босая,
По туману сырому, как по снегу.
Соберу и боярку, и яблочки,
И смородины кислые ягодки.
Смоль-черемухи высушу на зиму…
Жертвы белый кумыс вылью на землю…
Сыновья мои, чтобы вас выкормить,
Чтоб души нищетою не вычернить,
Буду палкой пихтовою острою,
Иль бараньей обглоданной косточкой
Клубни сладкой саранки выкапывать.
Их зимою по дольке, по капельке
Вам отдам, мои барсы пригожие,
Вырастайте бойцами-вельможами.
Буду палкой ольховою острою,
Иль кобыльей расколотой косточкой
Горный лук собирать на прогалинах,
Чеснока стрелы в россыпях каменных.
Ешьте досыта. Древним обычаем,
Поделясь самой скромной добычею
С братом, с Небом, скотом и прислугою.
Собрала много сладкого лука я…
Буду девичьим бронзовым ножиком
Рвать колбу-черемшу у подножия,
У Халдуна-горы богорожденной,
По осинникам да по черемушникам.
Ешьте досыта клубни и ягоды,
Будьте краше нефрита и яхонта,
Багатурами станете, ханами,
Побораетесь с великанами.
На коврах сидя в роскоши Персии,
Помянете ли матушки песенку?..
Братоубийство
Да!
Тот, кто послушен чужим голосам,
Опаснее вора.
Лишь ракша бьет плетью коня по глазам —
Нет больше позора.
Куда поскачу, если кровью залит
Мой взор поднебесный?
Не видеть мне летних лугов хризолит,
Не ведать невесты.
Бектер, сродный брат, Сочихэл первый сын
Замыслил худое,
Он шепчет заклятья, он прячет кувшин
С дурною водою.
Он тайной тропинкою ходит, как тать
Лукавый и ловкий,
К родне, что оставила нас погибать,
Одних на зимовке.
Тэнгри солнцеликий, ты знаешь, что я
Не спорый в расправе.
Пусть лучше подоит кобылу змея,
Чем ядом отравит.
Пусть лучше я буду унижен, как лист
На глади озерной,
Чем выпью в рабах оскверненный кумыс
Из чаши позорной.
Нас несториане пытались крестить,
Чтоб жить с Благой Вестью,
Но можно ли, можно ль и брату простить
Предательство чести?!
Он брат мне, в нем дышит могучая плоть
И кровь Борджигина,
Нам злое, по-братски, перемолоть
Поможет могила.
Нам вместе не жить. Столкновение туч
Грозой разрешится.
Я властен от Бога, он — смел и могуч,
Никто не смирится.
Быть платным бойцом у богатой родни
Не дело монгола.
Тэнгри солнцеликий! Нас оборони
От срама такого.
Два сердца в груди одного скакуна —
Беда для похода.
Тьма тропок в тайге, но дорога одна —
То Степь и свобода.
Два тысячеперых огнистых крыла
Имеет Гаруда,
Но сердце одно, в нем ни страсти, ни зла,
В нем Небо и чудо.
И если родится двуглавый орел
Под ратные громы,
Он сможет взлететь на небесный престол,
Лишь сердцем влекомый.
Нам вместе не жить. Я молитву творю!
Пусть будет невинна
Смерть брата, приличная богатырю,
От стрел Тэмуджина.
Жалобы Хосара на Бектера
Когда мне попался на жирную мышь
Таймень толстолобый,
Я знал — ты как коршун его закогтишь,
Веселый от злобы.
Когда подстрелил не Бектер, а Хосар
Рябых куропаток,
Летел ты, как бы камышевый пожар,
На лакомство падок.
Ты вечный задира, насмешник, буян,
Ты хуже занозы!
Ты ездишь к родне, напиваешься пьян
И сыплешь угрозы.
Злоречье обидней, болезненней ран
И хуже отравы.
Мол, брат твой трусливый и глупый баран,
А ты самый правый.
Мол, нищая жизнь для таких вот растяп,
А не для батыров…
Посмотрим, кто меток, кто робок и слаб,
И чья шкура в дырах?!
Встречные стрелы
Как чайка кричала сынам Оэлэн,
Как сойка кричала:
— Накличете только набеги и плен!
Найдите сначала…
Найдите сначала себе нукеров,
Пусть верные стражи
Хранят ваш очаг, кобылиц и коров.
Пусть недруги ваши,
Пусть ваши завистники знают о том,
Что бодрствуют слуги…
Хвост бычий для мух лишь сослужит кнутом!
Тень — выйдет ли в други?!
Как после отмстите за гибель отца?
Смертельна свобода!
Кто брата убил, тот пропал до конца
Для Степи и Рода.
Но братья угрюмо и молча ушли…
И камень скатился
К пригорку, где в желтой цветочной пыли
Бектер угнездился.
Соловых, как знойная степь, кобылиц
Он пас в полудреме.
…В молчании темном двух каменных лиц
Открыл он, что кроме…
Что, кроме погибели, нечего ждать —
Мглой застланы лица.
И ноги скрестил он, и стал причитать,
Скорбеть и молиться:
— Когда убивает друг друга родня,
Земля загнивает.
Ведь легче не будет вам жить без меня,
Зло не убывает.
Услышь, Тэмуджин, и подумай о том —
Ты брата теряешь.
Хвост бычий для мух лишь послужит кнутом,
А бич — ты ломаешь.
Хвост бычий — не бич. И товарищей нет,
Вокруг только тени…
Не рушь мой очаг, не твори ему вред,
Не тронь Бельгутея!
Я нынче для вас как во рту шелуха,
Ресница — под веком.
Стреляйте. Пусть смерть моя будет легка,
Как с горки телега…
Вмиг стрелы пронзили и спину, и грудь,
И в сердце столкнулись…
К становью, замкнув свой отроческий путь,
Мужчины вернулись.
Плач-проклятье Оэлэн-уджин
Снег пал на гольцы, и сорвалась звезда…
По лицам сыновьим
Увидела мать, что случилась беда,
Что кончилось — кровью…
В зловещем мерцанье плыла под луной
Халдуна вершина.
И плач Оэлэн за пиалой хмельной
Настиг Тэмуджина:
— С куском черной крови, зажатой в горсти,
Из чрева ты вышел!
Но разве ты слов «пожалей и прости»
Не знал и не слышал?..
Как пес, что изведал медвежьи клыки,
С распоротым брюхом,
Ты жрешь, разъярившись, свои же кишки…
Ты телом и духом
Впитал по наследству рыгающий гнев.
Ты коготь салбара!
Ты — бьющий наотмашь оскаленный лев.
Безумье пожара.
Ты Танский удав, что глотает живьем
Застывшую жертву.
Ты демон, нависший над мирным жильем,
Ты — пропасти жерло.
Ты волк, нападающий в дождь и в буран.
Ты словно собака,
Что травит слепца, пламенея от ран,
Ты — выкидыш мрака!
Я древним заклятьем тебя закляну:
Умерь свою ярость!
Иначе совьют твои кости в плену
Короной архара.
Люди длинной воли
Когда поспевает кровавый раздор,
На снежной постели,
Месть крысой ползет сквозь Великий Простор,
Под свисты метели.
На право суда есть разбойный ухмыл
Толпы-росомахи.
На волю к победе — предательский пыл
И стадные страхи.
Дух стаи шакальей!.. Уж до дележа
Доходит держава.
А в юртах — угар, арака, анаша,
Вражда и расправа.
Лишь редкие воины живут вдалеке
Курений аилов:
Подвластны не княжей, не вражей руке,
А Степи, что силой,
Что клекотом битвы наполнила их
И сердце, и поле.
Прозвали тех воинов в селеньях родных
«Людьми длинной воли».
О, хищная воля, о, длинный полет
Над плавным безмолвьем!
В крови одиночек таится народ,
А в сердце сыновьем
Таится надежда, как семя горя
В суглинке незрячем:
Не сиры они и родились не зря
В молчании мрачном.
В крови одиночек таится народ…
Не лепо ли бяшет?!..
Не ведая брода, не лезьте в поход
За шубой лебяжьей.
Но правьте коня ради чести своей
И славы Отчизны.
Вы мать за курганом оставили, э-эй!
До свадьбы, до тризны…
До тризны, до свадьбы — не все ли равно —
Доскачемте, братья!
Пока не закисло в сосудах вино,
Пока без изъятья
Сквозь солнце проходят 12 гусей,
Как серые стрелы…
А Степь за курганами сгинула, э-эй!
Мы все еще целы.
Мы все еще целы, мы мальчики все,
Средь мглистого мира
Рассеяны, как по песчаной косе
Останки батыров.
Однажды, однажды промчится герой
Меж сопок окрестных,
Омоет останки водою живой…
И войско воскреснет!
* * *
Я начал нелегкую повесть сию.
Зачем? — непонятно.
Затем ли, что даже в себе узнаю
Родимые пятна.
Есть язвы на солнце, есть немочь борьбы
С отцом и страною…
И коль не уйти от мятежной судьбы,
То встану войною.
Да, встану войной встречь крамольной вражды,
Бесчестья и срама!..
А в прочем… прости меня, Боже. И ты
Прости меня, мама.
Наверное, вышел последний ресурс
Военного пыла.
Прости, приснолюбящий сын Иисус,
Россия простила
За все, что случилось, и все, что еще
Случится, быть может,
На муку был путь наш и в муках крещен,
Змей плоть нашу гложет,
А мы все сдираем наплывы корост
Раздоров и мести.
Берите! Всё ваше на тысячу верст!
Размерьте и взвесьте!
Вам надо Великий Курган раскопать,
Вы — Шлимана дети.
И вас легионы, готовых припасть
К усопшей планете,
К уснувшей планете березовых рек
И долгой метели.
Берите! Вам я говорю, имярек,
Вы нынче у цели.
Все ваше, что можно потрогать рукой,
Увидеть глазами…
А то, что очами, то, что душой,
Слезами, слезами?..
А то, что укрыто туманной фатой
В озерах и плесах?
А то, что за дальней зари полосой,
В злат-облачных косах?
В ласканиях травных, в печалях лесных,
В холмах лебединых?
А то, что во взорах до донца родных,
Родимых-родимых?..
Есть дивное диво пресветлое. Есть
Мерцание Слова…
Незрима невеста, что косу расплесть
Два века готова.
Невеста незрима, незрима она,
Как песня незрима,
Как город, чей колокол слышен со дна —
В ночь Третьего Рима.
Краса Ненаглядная!
Близости плеск…
Душа-Василиса…
В ней нега природы и образ Небес
В очах поселился.
Ей светом начертан таинственный путь
К венчанью с Владыкой.
Не дай Бог на это кому посягнуть
Средь Скифии дикой!..
Колодник
Дорогой сопутной поскачем, мой друг.
Пой, ветер дороги!
Пронзим и зари огневой полукруг,
И вечер пологий.
Гляди, позади обступает орда
Враждебных созвездий.
И где, не видать, голубая вода,
Да свежие вести?
Тот сыт, кто швырнет чуть подтлевшую сеть
С кривой ячеею.
Кто брата убил, тот не станет жалеть
О мире с роднею.
Один Тэмуджин. Только ветер и снег…
Бог Правды ни разу
Не встал за спиной. Ни коней, ни телег…
К скупому рассказу
Пора перейти от широких картин
Рожденья героя.
Один Тэмуджин. И чем дальше один,
Тем Небо суровей.
Узнав, что волчонок сменил на клыки
Молочные зубы,
Родня переправилась из-за реки
Для ловли-загубы.
Три дня и еще шесть провел Тэмуджин
В чащобах Бурхана,
В голодной тайге, при соседстве вершин,
Под шубой тумана.
У входа в долину и честь и родство
Дозоры забыли.
Гордец к ним попал, и на шее его
Колодку скрепили.
К седлу привязали… И в пору завыть
От гибельной скачки…
Свезли. Но в улусе поесть и попить
Без жалкой подачки
Не может колодник, что пес возле юрт.
И гонят повсюду.
А сами пируют, и песни поют,
И давят посуду.
Когда поутихла хмельная возня
В полночном селенье,
Распалась, багрово искрясь, головня,
Дотлела… А пленник,
А пленник все ждал, пока в дреме застыл
И страж его хилый…
Колодку ему на башку опустил
С отчаянной силой
И скрылся. Но берега только достиг —
Вслед топот стремится:
— Он вздумал, как пленный затравленный тигр,
О клетку разбиться!?
Сын крови, он хочет не славы — беды!
Не сказано разве:
Наш род вознесется на крыльях орды
В нойоны и князи.
Брат брату поможет и воину вой,
Чего б не случилось,
А имя, каким будет назван герой,
Поведает чибис.
И кто нам пророчит, что нищий беглец
И братоубийца
Поднимется выше, чем льдистый голец
Иль царская птица?
Он будет объедки у юрт собирать
От лета до лета!..
Умчались… Река продолжала сиять
Средь лунного света.
Умчались… Но ехал за ними один
Стрелок Сорган-Шира,
Себе и коню своему господин.
Ни хмеля, ни жира
Во взоре. Глядит — незнакомый валун,
Где отмель и тина.
Поближе… И что ж? — над водой не валун,
Лицо Тэмуджина.
— Ты скрылся в Онон, как бегун-стригунок
Под брюхо кобылы.
Ты чести искал. Но у змея ли ног
Где сыскано было?
Сожрут тебя родичи только за то,
Что резвый не в меру.
Их уж не загнать ни огнем, ни крестом
В могущую веру.
Как пыль под ступнею, ленивы они,
Заразны, как парша!
Лежи. Не продам. Ты повадкой сродни
Сынам моим старшим.
Скрывайся, несчастный, спасешься, дай Бог…
И тихо уехал.
Лишь цокот копытный над прахом дорог
Баюкало эхо.
Юрта Сорган-Шира
В предутреннем мраке, когда на тропе
Становится сыро,
Колодник возник, повинуясь судьбе,
В юрте Сорган-Шира.
Хозяйка застыла, сбивая кумыс
Широкой мутовкой.
А сам Сорган-Шира от страха прокис
И вымолвил только
Невнятное: «О-о». Лишь его сыновья
Чимбай и Чилаун
Вели себя как Тэмуджина друзья,
На долгую славу.
Колодка разбита, осколки в очаг…
Прояснели лица.
Сыр. Мясо. Кумыс. И ковер в головах
Смыкает ресницы.
Но вдруг да нагрянут и враз перебьют
Хозяев ночлега?..
Спасет беглеца не домашний уют,
А с шерстью телега.
В то черное облако шерсти густой
Нору прокопали.
В удушливом чреве, где мрак с пустотой
Супругами стали,
Три дня и три ночи прожил Тэмуджин,
Три дня и три ночи.
Он плакал, молился, мечтал, ворожил,
Терпел, что есть мочи.
А на день четвертый, в полуденный зной,
Ленивые стражи
К телеге добрались. Хозяин с женой
К ним вышли, и даже
Подумали — пробил их час роковой,
Сейчас обнаружат
В норе беглеца. И подымется вой,
Погибели ужас.
— И Боги не вспомнят такую жару!
В такую-то сушь я,
Когда бы залез в шерстяную нору,
То сдох от удушья. —
Сказал Сорган-Шира. — Хотите узнать,
Где скрылся колодник,
Велите по темным ущельям искать,
По рекам холодным.
И черную гору, как тучу с грозой,
Не тронули стражи.
Мечами потыкав, песчаной косой
Отправились дальше.
А бедный хозяин уже причитал:
— О, ветр ошалелый!
Ты угли костра моего разметал,
Ты лапою белой,
Ты снежным ударом едва не сгубил
Очаг моих предков.
Ты в пепел развеять готов мой аил,
Созрей же вдали от жилья моего,
Оставь нас в покое.
Ты так же, как пращур, не мира сего —
«Наставник соколий».
Лишь ловля иная тебе предстоит —
Не птиц перелетных —
Пусть дух твой под знамя свое закогтит
Батыров свободных.
Вот быстрая лошадь, вот лук и стрела,
Вот мясо в дорогу.
Узда. И вода в бурдюке. Но седла…
Кресала в подмогу
Не дам, потому что ни это, ни то
Не смог бы украсть ты…
Скачи…
И пускай тебя Кол Золотой
Спасет от напасти.
Певец-кайчи
Под вечер унялись полеты стрижей,
Тропа не пылится.
И месяц взошел промеж чутких ушей
Гнедой кобылицы.
Избег Тэмуджин и мечей и погонь.
Не взяли подранка
Паршивые псы…
Но откуда огонь?
Там чья-то стоянка!
Ветла под обрывом и хилый костер
Чуть теплит уголья.
Над мраком колышется млечный простор,
Алмазною солью
Присыпанный густо по краю небес.
И горы темнеют…
С кобылы беглец с осторожностью слез.
И ночь — каменеет…
Над жаром багровым кружит мошкара,
И стелется сладость
Кизячного дыма…
Старик у костра…
Нечаянна радость
Тепла и беседы в росистой ночи.
Затеяв беседу,
Узнал Тэмуджин, что алтаец-кайчи
Кочует по свету.
А песня кайчи словно горный ручей
И гром над полями!
А слог убаюкивал ярость мечей
И демонов пламя.
Кто знает десятки родных языков,
Чье имя — свобода?
Кто славит героев и помнит врагов
Степного народа?
Кто дышит, как дышит цветущий простор
В зеленом разбеге,
Кто даже с Богами ведет разговор
На песенном бреге?
То старец, пришедший от гор золотых,
Где хищные грифы
Оленей когтят, где хозяева их,
Могучие скифы,
Лежат под курганами черных камней
В огромных могилах,
К былому величью из мира теней
Подняться не в силах.
Где все проходили, и все пронеслось,
Как снежные залпы.
Где высится мира державная ось.
И царские залы
Поющих долин открывает Алтай
Незлобному взору.
Ты слышал? Ты видел?
Иди, передай,
Ту песню Простору.
Вопрошанья Тэмуджина
Скажи мне, Сказитель, любимец Богов,
В чем кривда и правда?
Зачем я родился и кто я таков?
Убийца ли брата?
Иль раб, обреченный без слуг и скота
Обгладывать годы?
Зачем оборванцу твоя красота
И песни свободы?
Прислушайся к ночи, того и гляди
Лисицы забрешут.
Ты едешь, не зная, что ждет впереди:
Разденут, зарежут,
Отнимут коня или плюнут в лицо
За то, что нездешний.
Вон — в ухе серьга, а на пальце кольцо,
Не худы одежды.
Где племя героев?..
Родня у родни
Скотину ворует!
Дух предков укрылся в орлиной тени,
А трусость жирует.
На душу уснувшую, душу земли,
Слетаются совы…
Скажи мне, Сказитель, как люди могли
Дойти до такого?
Отец говорил, что китайцы живут
По строгим законам,
Что есть император, и войско, и суд,
Вельможи под троном,
Что труд там искусен, сады словно рай,
Ни зноя, ни стужи…
Но ложью и рабством источен Китай,
И роскошью — души.
Там тесно и душно, там зависть кругом!..
Не в том наши беды,
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.