
Бесплатный фрагмент - Мама, не читай — 2
Cчастье, нарезанное кусочками
Электронная книга - Бесплатно
Хочется легкого, светлого, нежного,
раннего, хрупкого и пустопорожнего,
и безрассудного, и безмятежного,
напрочь забытого и невозможного.
Хочется рухнуть в траву непомятую,
в небо уставить глаза завидущие
и окунуться в цветочные запахи,
и без конца обожать все живущее.
Хочется видеть изгиб и течение
синей реки средь курчавых кустарников,
впитывать кожею солнца свечение,
в воду, как в детстве, сигать без купальников.
Хочется милой наивной мелодии,
воздух глотать, словно ягоды спелые,
чтоб сумасбродно душа колобродила
и чтобы сердце неслось ошалелое.
Хочется встретиться с тем, что утрачено,
хоть на мгновенье упасть в это дальнее…
Только за все, что промчалось, заплачено,
и остается расплата прощальная.
Эльдар Рязанов
«Дайте музыку, скорее музыку, скорее музыку, музыку, всё кувырком!» — эти слова незатейливой песенки 70-х лучше всего характеризуют натуру девочки, девушки, молодой женщины, старательно пытавшейся жить с радостью и удовольствием.
Нечто вроде эпиграфа
ПРЕДИСЛОВИЕ
Воспоминания-дубль 2, совершенно бессовестно занявшие место в мозгах не по рангу и заставляющие меня жить почти что в двух мирах одновременно, посвящу последней трети прошлого века и своему поколению, которому эти мемуары могут быть близки. Несмотря на то, что многие из сверстников меня так и не поняли, уже не поймут и никогда не найти нам общего языка, им тоже посвящаю эту книгу. Не было бы их, не было бы многих прозрений. А я, несмотря на все свои пороки, человек благодарный.
Общего, кроме мировоззрения, с огромным количеством людей моего времени, у меня, в сущности, очень много. И даже пусть теперь между нами пролегло нечто куда большее, чем всего лишь расстояние — нас навечно и космически далеко друг от друга развели слишком разные убеждения — но то, что было общим в прошлом, осталось и никуда не денется.
Наше детство. Наша юность. Тогдашняя наша страна.
Когда стану вспоминать иных, игравших важную роль в моей прошлой жизни, а теперь ставших чужими, непонятными, порой опасными, будто с другой планеты существами, то изменю их имена. Если же кто-то по-прежнему милый и близкий, свой-родной, то нечего и прятать хороших людей, правда?

Особенные сайты с ретрофотографиями заставляют сердце сжиматься.
Если бы эта книжка выходила в печатном варианте, я бы наполнила её огромным количеством ностальгических фотографий из детства и юности, коих теперь можно «нарыть» в сетях неимоверное количество и в созерцание которых я иногда погружаюсь на долгие часы. Это превратилось в особый род душевного мазохизма, потому что вызывает слёзы, боль от потери навсегда, но какое-то сладостное желание этой боли не отпускает, заставляя шмыгать носом и тоннами изводить бумажные салфетки. Изображения Москвы 70-х, наших дворов, тогдашнего быта… улиц, знакомых домов и исторических мест… широких проспектов, не заполненных автомобилями, кособоких скамеечек у беззащитно открытых подъездов… Разумеется, сотни комментариев в интернете к этим фотографиям от так называемых «совкодрочеров», ненавидящих весь мир и сегодняшний день по сравнению с «прекрасным СССР», пропускаю мимо мысленного взора и сознания. У этих людей другая болезнь, не моя. И тоскуем мы о разном. Нам друг друга сроду не понять.
Кто бы мне сказал ещё лет тридцать назад, что я буду плакать над этими картинками! Фыркнула, постучала пальцем по лбу и ни за что не поверила бы.
С ЧЕГО БЫ ЭТО ВСЁ?
Накатывает волнами — до ужаса банально, но именно так. Резкими, сильными волнами израильского Средиземного моря, капризного и не очень приветливого. Местное море умеет хлестать по щекам звонкими пощёчинами, раздражённо, даже зло. А иногда бывает впечатление, что оно плюёт тебе в лицо. Хотя и обидно, но безопасно, если, конечно, не лезть в стихию при волнах больше полутора метров. А если полез, как дурак, тяжёлая махина воды вдруг обрушивается сверху, сбивая с ног и безжалостной силой утягивая на дно, что смертельно опасно и для некоторых заканчивается фатально. Пару раз я попадала под эту беспощадность, и самый кошмар — это когда понимаешь, что больше не можешь дышать. Всё!
Примерно с той же мощью накатывают воспоминания. И в точности так же сбивается дыхание почти до паралича — от неожиданности, от удивительной реальности воспоминаний; кажется, что сходишь с ума, потому что, продолжая пребывать в сегодняшней минуте, всем телом ощущаешь прошлое, затягивающее, растворяющее в себе.
Должен быть особенный момент. Тихо, опущены жалюзи. Чувствую себя расслабленно, возможно, чуть-чуть сонно. Незаметно смежу веки и…
…И вот кажется, что сейчас я, словно в американском кино про путешествия во времени, растворюсь в настоящем, «всосусь» в прошлое и окажусь на московской улице, политой июньским ароматным дождём! И побегу на здоровых и юных ногах. Домой? К себе? Дальше моя фантазия проваливается в черноту, слышны искрящие тормоза, как от аварийной остановки поезда, с противным звуком — дзззззыыыыуууууушшшшшччччч! Потому что непонятно: либо, попавшая туда, юная и здоровая, я обладаю своим нынешним сознанием, знанием и пониманием, и что тогда мне делать со всем этим в молодом теле, рядом с тамошними, тогдашними людьми, глядя на них ещё пока что снизу вверх? Или я — опять та же, какой и была в тот момент, в тех же предлагаемых обстоятельствах, но в таком случае, какой в этом смысл? Всё опять повторится сначала — плохое в том числе. Зачем?
Непонятно. Есть о чём подумать, правда? Шучу, разумеется. Разве кто-то предлагает подобный выбор и есть такая возможность?
«Живите здесь и сейчас, живите в отсеке сегодняшнего дня!» — внушал мудрый Карнеги. Учил-внушал, а выхлоп нулевой. Живу где и когда угодно, только не сейчас.
И я просто погружаюсь в воспоминания…
…Шум листвы за окном — той дачной листвы из Подмосковья, а мне десять лет. Чириканье и крик тамошних птиц — сейчас таких не слышу, в Израиле водятся другие. Стук дятла по дереву. Шум поезда со станции, которая очень далеко, но почему-то поздним вечером всегда слышен перестук колёс — за долгие годы так и не удалось разгадать эту акустическую загадку. И вот опять будто доносится до меня — ту-дух-ту-дух, ту-дух-ту-дух — далеко-далеко, словно из тумана.
Гром и запах майской или июньской грозы. Звяканье трамвая по Вятской улице, куда выходили окна нашей квартиры. Трамвай шумный, звенящий, гремящий, но я была ещё слишком юна, чтобы мне это мешало.
Сумерки, которых совсем нет здесь, на юге. Длинные, мерцающие, завораживающие сумерки средней полосы. Лето… Девичьи грёзы в сумерках.
Отражения в огромных чистых лужах после первых гроз. В них, в обычных лужах, всё вокруг казалось загадочным и волшебным, а я всегда чувствовала себя немного Алисой, которая заглядывает в Зазеркалье. Иногда подолгу смотрела в лужи! Будто ждала чего-то или кого-то — кролика с часами, например. Или киношного перетекания своего тела в Королевство кривых зеркал. Лужи в детстве и юности не раздражали, не мешали, ведь они были частью некоего чуда, которого я всегда ждала.
Я всегда ждала волшебства, веря до последнего… До чего — последнего? Хороший вопрос, но без ответа. Не помню точно, когда я перестала верить и ждать. Нет, речь не о Деде Морозе и Бабе-Яге, мои чудеса (которые для меня безусловно существовали!) — это, к примеру, инопланетяне среди нас, путешествия во времени, встречи через века…
Когда я перестала верить во всё такое? И перестала ли?
Сильнее всего память смакует лето, и ещё конкретнее — дачный период. Вечерние кузнечики, от которых можно оглохнуть. А во время захода солнца вместе с наступающей темнотой, с музыкой, доносящийся из чужого магнитофона или радио, отчего-то приходит ощущение огромности жизни и нетерпеливое ожидание чудес, которые судьба мне приготовила и непременно подарит. Какой громадной казалась будущая жизнь, каким таинственным и удивительным представлялся мир!
«Лето, лето, лето, лето твоих рук, твоих глаз — па-пам! Па-па-па-пам!» — надрывался на чьей-то даче магнитофон: им там, наверное, было громко, они танцевали, но для меня звук за несколько сот метров от субботней подмосковной вечеринки был тихим, нормальным для того, чтобы прикрыть глаза, тихонько подпевать и мечтать о тех руках и глазах.
Всё это тривиально. Через такое проходит любой человек, и, возможно, каждого однажды настигают волны воспоминаний — до деталей, до маленьких нюансов, до запахов и, казалось бы, совершенно незаметных и пустяковых звуков вроде щелчка выключателя в комнате на даче. На веранде звук совсем другой, потому что там установлен выключатель иной системы: мягкий поворот пумпочки из вертикального положения в горизонтальное. До ощущений в пальцах помню. Поворачиваешь эту пумпочку, чтобы ложиться спать, и будто в театре переключается освещение сцены при смене декораций: помещение наполняется электрическим светом от уличного фонаря. Этот свет всегда казался немного пугающим. Приятно пугающим, как будто смотришь страшный японский мультфильм «Корабль-призрак». Я плотно задёргивала занавески, но они были слишком тонкие, электрический свет пробивал жалкую защиту. Сейчас ни за что не уснула бы — не от страха, просто слишком светло! Теперь даже в темноте приходится надевать специальную повязку на глаза. А тогда… Сон приходил быстро, был крепок, сладок и казался очень коротким: только закрыла глаза — опа! — а уже утро, бушует солнце, заливаются птицы.
Банально? У всех есть подобные воспоминания про лето, про дачу, да? Но ведь лишь своё собственное ёкает в груди, только тобой пережитое, только твоё! В то же время у людей одного поколения есть много общего, и по этой причине любые мемуары авторов твоих лет имеют огромную ценность, ибо каждый, читая, испытывает радость узнавания. Вспоминая при этом своё, ты прикасаешься к общему, что и делает прошлое не просто прошедшим временем, а нашим временем. Может, последним объединяющим нас фактором.
Больше между нами нет ничего общего и уже никогда не будет. Огромная трещина разделения человечества на два (три, четыре) подвида, имеющих не просто разные базовые установки и убеждения, но даже разные инстинкты (надеюсь, читающие это учёные мужи будут снисходительны ко мне), прошла и по моему поколению тоже. Ещё как хрястнуло.
Но сейчас не об этом.
Лучше о том, о чём вспоминая вместе, мы точно не передерёмся вусмерть, а наоборот — хотя бы на время примиримся и увидим своих бывших друзей-приятелей дорогими нам людьми из далёкого прошлого. А потом расстанемся навсегда, уйдя на противоположные стороны баррикад.
Из нашего общего… Запах книг, превращавших любой будний день в маленький праздник. Вы помните запах книг? Вернее, запахи, ведь книжки так по-разному пахли.
Например, изданные давно, в 50-60-е годы: у них был особенный пряный аромат, ассоциировавшийся для меня с чем-то незнакомым, совсем новым, но очень значимым, о чём я узнаю при чтении. До замирания сердца любопытно! Книжки 70-х годов издания — новенькие, яркие, пахли иначе. «Будет клёво!» — вот так я назвала бы тот запах. Или «Ожидание приключения». Переводные книги — фантастика, детективы — всегда имели нотку горчинки порочного западного парфюма. И так далее. Я всегда нюхала книги — обложку и странички отдельно. Жмурилась, получая от этого почти животное удовольствие.
Мне не нужна была общественная библиотека (в доме было огромное количество книг), но в первом классе нас всех строем повели туда (теперь я понимаю, что правильно сделали), велели записаться и что-нибудь выбрать почитать. Вы помните запах тех библиотек? Я бы сейчас год жизни отдала, лишь бы попасть на аттракцион: «Запахи книг разных эпох. Запах районных библиотек».
Недавно довелось понюхать книжку из моих ранних лет. У меня закружилась голова и горячо брызнули слёзы: книжка пахла детством.
Мои детские книжки! Помню каждую на ощупь.
Всё чаще замечаю, что мои глаза становятся совершенно мокрыми после накативших волн памяти. И в носу как-то простудно. Правильно: большие волны — это морская вода, должно быть мокро и солоно.
Интересно, почему в определённом возрасте за …сят (в «сятном» возрасте) начинается обострение воспоминаний? Почему всплывают мельчайшие детали и подробности прошлого, от которых охаешь и закрываешь лицо ладонями? Сорок лет не думала, не помнила, и вдруг… Наверное, слишком долго мы живём, нам уже, по мнению матери-природы, нечего тут делать, только чужое место занимаем, вот она и морочит нам голову дурацкими мыслями — дразнит, издевается, сживает со свету.
Для особо чувствительных читателей: это была шутка.
Не знаю, как у других, но рискну предположить, почему со мной так случилось. В социальных сетях или в разговорах с друзьями меня вдруг поймали на том, что я часто стала говорить о прошлом, вспоминая разные моменты жизни с неожиданной нежностью и любовью. И это после всего мною написанного? «А что случилось, Рина, откуда вдруг ностальгия, неужели тебе хочется вернуться ТУДА — в „совок“ и твоё невесёлое прошлое?»
Законное недоумение, когда знаешь, каким было это самое прошлое и что оно сделало со мной.
Задумалась. Поняла. Попыталась объяснять, но что-то у меня не очень ловко это вышло. Трудная задача оказалась — оправдаться за внезапную нежность к нелюбимому былому. Риску ещё раз.
РАЗБОР ЗАВАЛОВ
Это случилось в мои сорок с большим гаком. Прежде не было ничего похожего: я не любила вспоминать ни прошлое, ни детство с юностью, ни их приметы. Более того: старательно вымарывала из памяти, не разрешала себе погружаться в воспоминания, потому что любая картинка «оттуда» тянула за собой какую-нибудь боль. И неслабую такую, мешающую жить боль. Так зачем заниматься мазохизмом?
Не любила вспоминать школу и с бывшими одноклассниками бежала от этих разговоров. Бежала даже от самих компаний, не очень-то стараясь поддерживать отношения с детством и юностью через приятелей из прошлого. Сами того не желая, они причиняли мне боль.
Прошлое находилось под жёстким запретом самоцензуры. Почти до собственного полувекового юбилея детство, отрочество и юность были в моей памяти персонами нон-грата. Не любила думать о них.
А потом написала книгу. Вторую, третью («Мама, не читай», «Дочка, не пиши!», «Дневник моего страха»). Раскрылась и выговорилась, сто тысяч раз обсудив всё с друзьями по несчастью, а, главное, с моим мужем. И будто тонны гноя из меня вышли!
На это понадобилось несколько лет, иногда мучительных, изматывающих периодов. Были потоки слёз, десятки бессонных ночей и изводивших кошмаров, если удавалось уснуть, и тысячи гигабайтов (или чего там?) исписанных в Ворде страниц, сотни тысяч слов.
Именно после этого всё изменилось: будто отбросили тяжеленный, грязный, пропахший тленом и плесенью занавес, открыв далёкое прошлое совершенно по-новому и позволив мне, наконец, увидеть в нём множество и прекрасного, и милого, и трогательного — того, что там было. Было! Того, что приносило радость и помогало любить жизнь.


Внезапно пришло неожиданное, удивительное понимание: в детстве и юности мною были прожиты сразу две полужизни: одна — весёлого, оптимистичного, активного ребёнка, умеющего радоваться мелочам, жадно познающего мир и стремящегося ко всё большему познанию, и ещё одна — насмерть перепуганной и повязанной по рукам и ногам девочки, до обморока боящейся плохого отношения самых близких и обожаемых людей. Я понятия не имела, как это совместить.
Детско-юношеское счастье жило во мне отдельно от страха и тоски. Между ними будто бы стояла перегородка, не дававшая им пересекаться и сталкиваться.
Однако враги мои — страх и тоска — оказались сильнее, они победили, разрушив хилую загородку, и на долгие годы загнали всё хорошее и радостное в такие дебри подсознания, что я про них просто начисто забыла! Прошлое — слово и понятие — отзывалось лишь болью и страхом.
Но стоило этих врагов раскидать, пусть даже спустя целую эпоху, как затоптанное в пыль и прах былое вышло на первый план, оказалось целым и невредимым. Я всё вспомнила, всплакнула и… научилась радоваться детским воспоминаниям, как любой нормальный человек. И теперь мне ничто не мешает.
Страхи и боль побеждены. Осталась лишь печаль осознания: я могла быть счастлива тогда в полной мере, несмотря на «совок» и тиранию, коммунизм и убожество. Могла бы! Такова была моя натура, меня очень многое радовало и даже приводило в восторг (я это вспомнила). Если бы не домашний дурдом, если бы рядом жили умные взрослые, если бы было побольше юмора с иронией, поменьше пафосной дури с провинциально-актёрским заламыванием рук, но самое главное — если бы было мудрое (хорошо, не мудрое, просто умное) родительское отношение к ребёнку, всё сложилось бы в моей жизни по-другому. Но мудрости взрослых не существовало в том моём детском бытии в принципе, а ребёнок (я) не был любимым. Невозможное было невозможным, всё логично.
Зато теперь, спустя миллион лет, я могу радоваться, думая о прошлом, предаваться приятным, а не мучительным воспоминаниям. И ещё фантазировать, как иначе могла бы пойти моя жизнь — даже в условиях того же «совка» и тех же правил игры, но с некоторыми важными изменениями в моём личном мире и, соответственно, в сознании, в душе.
Так хотела бы я попасть туда, в прошлое? А вот да. Только непременно с нынешним пониманием, с сегодняшним отношением ко всему. В этом случае меня не пугает «совок», дефицит и прочая коммунистическая гадость. Дайте мне те мои годы, мои силы, мою натуру, уберите от меня фактор родителей-идиотов, и я, обещаю, что проживу счастливую, наполненную жизнь! Совсем иначе проживу. Даже при Брежневе и «развитом социализме». Буду очень счастлива!
Потому что родилась для счастья и созидания, разрывалась от жажды жизни, желания познать мир и сделать его лучше, непременно оставив свой след на этой планете. Старалась жить «на полную катушку». Мне просто не дали это сделать, обрезав крылья и сломав хребет — слишком рано, я не успела окрепнуть, защититься и убежать, исчезнуть, взлетев.
Любопытно, хоть кому-нибудь близко, понятно описанное мной? Без ответа пока что ощущаю себя в странном одиночестве.
Иногда развлекаюсь просмотром в интернете изображений со спутников: разглядываю те места, которые приносит волнами памяти. Вижу, какие они теперь. Часто уже совсем другие, всё изменилось, картинка для меня ни о чём. Но иногда вдруг до боли в сердце — вот же оно, то самое место! Такое же в точности, каким было тогда.
Может, нынче ночью мне опять приснится прошлое — «улучшенное, исправленное» — теперь оно часто приходит по ночам в моё сознание и зачем-то показывает вариант, «как всё могло бы быть». И потрясающе, и жестоко одновременно.
Сегодня были большие, очень большие волны. Штормило…
Детские страшилки помните? «На заброшенном чердаке чёрного-чёрного дома находилась чёрная-пречёрная комната, в которой хранилась чёрная-чёрная шкатулка. Эту чёрную шкатулку нельзя было открывать никогда, потому что в ней лежало…» Лежало, разумеется, что-то чудовищное, такое, от чего схватывает живот и бросает в дрожь. Например, отрезанная рука или лучше — голова.
А в хичкоковском фильме в момент открывания шкатулки истерично, взрывая мозг, верещат скрипки, и полицейской сиреной визжит женщина.
…И жизнь давно уже не была таким уж чёрным-чёрным домом, и чердак не заброшенный, а вполне обихоженный. Но шкатулка с запертым внутри ужасом всё-таки существовала. Она стояла в самом дальнем и тёмном углу, куда не мог достать ни единый луч света, прикрытая пледом, одеялом, подушкой и, чтоб уж наверняка, парочкой старых тяжёлых шуб. Дабы ни-ни — даже мысли не возникало добраться и открыть.
А хранилось в шкатулке далёкое прошлое — детство и ранняя юность. Я боялась их тревожить.
В шкатулочке всё было навалено вперемешку: хорошее, плохое, страшное, весёлое, ужасное. Одно с другим перепуталось и запуталось, как бывает с украшениями у нерадивой хозяюшки, нечасто приводящей в порядок свои сокровища: янтарь намертво сцепляется с кораллами, гранатовые бусы завязываются в морские узлы с серебряными браслетиками, а золотые изящные цепочки превращаются в одну толстую, устрашающего вида цепуру голдовую, будто только что снятую с бычьей шеи братка. Когда сие непотребство обнаруживается, нужны серьёзные усилия и время, чтобы всё размотать-распутать, привести в божеский вид, правильно разложить и снова пользоваться.
Именно так обстояло дело с прошлым. Интересно ещё и то, что счастье, нормальное детское счастье, оказалось «испорченным»: оно раскокалось на десятки небольших кусочков, и его осколки из шкатулки пришлось собирать аккуратно и не торопясь, так как при неосторожном обращении куски стекла до крови резали пальцы. Счастье резало до крови? О, ещё как! Вдруг пришедшее будто бы из ниоткуда воспоминание о чём-то милом и греющем, казалось, навсегда забытое, вспарывало душу, и начинала литься кровь. Вместе со слезами.
Потому что не надо было забывать, потому что не надо было прятать от себя на полвека! Но когда я так делала — запрятывала, запихивала, уминала и накрывала сверху, стоял вопрос тогдашнего выживания. Наверное, у меня не было выбора.
Пока не вывалила всё спрятанное на/за долгие десятилетия наружу, не распутала, не размотала, не разложила аккуратно, отделив драгоценное от дешёвки, пластик от золота и сломанное от целого, пока не получила кучу порезов и не перебинтовала раненые места, тема детства и юности была табуирована. Будто их — детства, юности — вообще не существовало. Будто жизнь началась примерно лет с двадцати двух, когда родилась дочь. Да и то не в полной мере началась: тогда я всего лишь стала чуточку прозревать, как десятидневный котёнок. А до этого… Что было до этого?
Категорически не хотелось думать и ворошить, потому нарочно забыла всё. Отличный был фильм лет тридцать назад под названием «Вспомнить всё», моё же личное кино называлось «Забыть всё».
Вернее, сделать вид, что забыла. Ведь через процедуру лоботомии я не проходила. Значит, куда бы делись воспоминания, как бы они аннигилировались, с какой стати? Прошлое существовало рядом и внутри, иногда взрываясь непонятными эмоциональными срывами или регулярно проявляясь всё более мучительными болячками.
А потом случилась Встреча, Любовь. И возлюбленный оказался самым неравнодушным и глубоким в мире человеком (принцем), увидевшим, что есть нечто неправильное и ужасное, мучающее его любимую (дракон). И он испугался, что может её, то есть меня потерять, когда объективно оценил бездну страха и отчаяния, наблюдая за моими отношениями с родными и всё сильнее осознавая, настолько дело плохо, а болезнь запущена. Надо было принимать меры и спасать меня, спасать нашу жизнь, вытаскивать меня из… Из чего? Он ещё не знал. И откуда бы знал? Я ему ничего не говорила.
Это он меня разговорил, заставил говорить, силой и даже грубо содрал скотч с моего рта. Ещё до врачей, до всех психологов и психиатров. Помню, как однажды, после очередных его упорных попыток достучаться до меня и заставить рассказывать, я почувствовала, будто внутри лопается гнойный пузырь: стало больно, горячо, я почти закричала… и заговорила. И говорила, и говорила, а он слушал несколько дней — с перерывами на еду и сон.
И когда удалось пройти через катарсис, разобраться со всем, что составляло гадкую часть содержимого шкатулки, вскрыть свой личный ящичек Пандоры и трясущимися руками перебрать всё в нём завалявшееся, назвав каждую вещь (событие, случай, происшествие) по имени и разглядев их суть, шкатулка перестала быть запрещённым и убранным в дальний угол чердака предметом. Она заняла своё законное место в моей комнате, как полноправный член обстановки. Нет, даже, пожалуй, намного более важный: ведь в ней хранились важнейшие события, всё плохое и хорошее, что со мной случилось пока что за бо'льшую часть жизни.
Годы и десятилетия со мной будто не было огромной части меня самой, словно первую треть жизни я провела в коме или анабиозе. Но это не так. Оказывается, вовсе нет! Теперь я могла с любовью и с ностальгией разглядывать артефакты памяти, научившись вспоминать детали, мелочи, сумев реконструировать былые чувства и ощущения, так долго и несправедливо пылившиеся под замком.
В таком режиме можно было дожить до самого конца. Вполне. Мне кажется, подобным образом живёт огромное количество людей, однажды принявших решение запереть своё прошлое и боль в темницу, подальше от глаз. И доживают до преклонных лет, смиряясь с тем, что значительной части их жизни, их души, будто бы нет. Они заполняют чем-то эти пустоты — придумками, ложью, чужими воспоминаниями, мифами и таким образом анестезируют себя.
Если это не мешает им жить счастливо и спокойно, то и ладно. Если прошлое не настигает и не бьёт с ноги в пах, то и хорошо. Увы, у меня так не получилось.
Прошлое — не что-то абстрактное и не последовательная совокупность событий. То есть, и это тоже, но, прежде всего, оно состоит из людей. И если люди в жизни остались на своих местах, если не поменялась массовка твоей реальности, то, значит, и прошлое с тобой рядом в полной мере. Ты можешь держать под замком конкретные события, случаи и чьи-то поступки, стараясь не помнить о них и не думать, но рядом продолжают находиться те, кто эти поступки совершил. И они, люди, не изменились. Они те же, такие же и между вами происходит всё то же, да и прошлое никуда не делось, как его ни прячь, ни упихивай в потайное место. Оно существует, его не отменить.
Поэтому муки продолжаются. И вы готовите новые шкатулки, куда уберёте под замок воспоминания за очередное десятилетие, чтобы закинуть на чердак и сделать вид, что «ничего такого» не было, и станете жить, как ни в чём ни бывало. Аллилуйя, если получается! И дай бог вам здоровья, особенно психического.
Не мой вариант. Что-то внутри меня ржавело, перекашивалось, ломалось, и пишу это не ради красного словца: здоровье подводило всё больше, чаще и сильнее. В основном именно по этой причине пришлось разбираться с прошлым.
Разобрались. Вскрыли шкатулку. И, помимо плохого, обнаружили там много замечательных вещей, незаслуженно забытых и заброшенных.
О них и хочу написать — ради справедливости, для равновесия, по-честному. Но это вовсе не означает, что я намерена сотворить сборник благостных и святочных рассказов про детство и отрочество. Нет! Просто на сей раз попробую посмотреть на картинку со всех сторон, объективно, не выборочно складывая пазлы прошлого, оставляя при этом незаполненные пустоты, дыры и, возможно, этим вызывая недоумение читателей, а закончить картинку полностью. В 3D, как сказали бы про кино. Объёмно, объективно. Теперь должно получиться!
Никаких новых событий не предвидится — было бы смешно надеяться, что в прошлом возникнут новые события, правда? Снова вспоминаю старое, но будто смотрю тот же самый фильм, снятый «с другой камеры» и для иных целей. Теперь главное — воспоминания о радости, разбитой на осколки горестями, а события, бывшие основными в прошлых мемуарах — фон, без которого никак не обойтись.
Попробую…
ОЧЕНЬ ДЛИННАЯ ЖИЗНЬ: МОЙ ДОМ, НАЧАЛО 70-Х
С чего же начать? Впрочем, нет для меня такого вопроса. Точка отсчёта, начало начал, ручеёк, обещающий огромную реку — крохотная часть жизни, прошедшая в Моём Доме. Всего лишь восемь лет. Восемь! Период, который во взрослости проскакивает, как самый короткий перегон в метро, пролетает неделей, вихрем; через восемь лет после какого-то события, о котором вдруг вспомнилось, поражённо замираешь и ахаешь: как это — восемь лет прошло, вы что? Это же случилось вчера, ну, в крайнем случае, месяц назад! И то не кокетство, не притворство — именно так ощущаешь и не можешь прийти в себя от удивления и ужаса скоротечности времени.
Но восемь лет, проведённые в Останкине — с моих трёх до одиннадцати — большая, длинная и важная жизнь. И вспоминается она, как минимум, Эпохой.
Все линии моей судьбы (наверное, отображённые на ладони, как утверждают хироманты) тянутся именно оттуда, из той точки, из тех лет. Из того самого Моего Дома, который я до сих пор слишком часто вижу во сне.
Надо попытаться разглядеть на ладонях моё Останкино, его не может не быть на этой карте Судьбы.
Наступает ночь, я закрываю глаза, но ещё долго не усну. Мысленно переношусь в прошлое, туда, в Мой Дом. И вот я уже рядом с хлипенькой, почти фанерной входной дверкой с одним замком — я вошла, достав ключик из-под входного коврика. И, видимо, как Алиса, откусившая от запретного пирожка, тут же начала уменьшаться в размерах. К примеру, справа от меня находится настенная вешалка с немногочисленными пальто и куртками, наверху которой, на «шляпном» месте, навалены шарфы, перчатки и береты. И теперь я не могу просто так дотянуться до них, рост не позволяет, нужно тащить из кухни табуретку. Шаткую белую табуреточку с деревянными круглыми, весьма ненадёжными ножками. Но под моим весом не развалится, мне в самый раз! Впрочем, зачем мне лезть за шарфами? Я не собираюсь сейчас играть или танцевать.
Двигаюсь по коридору с розово-голубыми квадратами линолеума. Иду тихонько, неспешно, старательно вспоминая все детали и предметы, что находились там, заглядываю в комнаты, захожу в них. Прикасаюсь к дивану, креслам, пальцами вспоминая ощущения чуть колючей ткани. И всё вдруг так ясно оживает картинкой и знакомо ощущается моими дрожащими от волнения руками! До трепета внутри и быстро намокающих закрытых глаз. Конечно, глаза закрыты, я же путешествую внутри своего сознания, брожу где-то по извилинам мозга.


И вдруг — бац! «Белое пятно». Не могу никак сообразить, на чём стоял телевизор или что громоздилось у этой стены, какой предмет мебели, ведь что-то тут точно было! Словно слепну на мгновение. Немного расстраиваюсь. Продолжаю путешествие. Ага, а вот этот комодик отлично помню — пальцы помнят ощущения. Да, чувствую — та самая трещина от ручки вниз и вбок. И вдруг опять — бац! — очередное белое пятно. Да что ж такое, ведь хочется «увидеть» всё до последней мелочи! Зато узоры обоев помнятся великолепно! Любуюсь на обои. Было бы на что любоваться, но дело не в этом. Любуюсь.
В точности так же я нередко путешествую по дому на Бутырской или по даче и всей её округе. С этими воспоминаниями-видениями легче, проще, помнится яснее — я же была постарше.
Кстати, виртуально «бывая» в останкинской квартире, пытаюсь мысленно изменить её масштаб, а также размеры предметов, сделав их реальными: я ведь жила там с трёх лет, наверняка в памяти всё запечатлелось намного крупнее, чем оно было на самом деле. Например, помню, что в красное кресло (из набора диван плюс два) я могла спокойно влезть с ногами и вертеться-шебуршиться в нём как угодно, читая книжки или разглядывая альбомы с репродукциями. А они, кресла, родом из 60-х, когда производилась модная мебель — нарочито маленькая и хрупкая. И диван-то был совсем небольшой, раз вольготно располагался в маленькой комнате, где ещё «жил» шкаф для одежды, телевизор, стоявший на чём-то, два креслица и что-то ещё, не помню. Комната же была метров двенадцать, не больше. Напрашивается вывод: мебель мелкая. И я была мелкой. Всё верно: тогда деревья были большими.
Как же я любила Мой Дом! Много позже осознала, что речь об убогой хрущовке-двушке, двадцать восемь квадратов. Пятый этаж без лифта и мусоропровода ребёнка ничем не смущали, что очевидно, но объективно говоря — ужас же. Понимание пришло потом-потом.
В снах до сих пор вижу именно ту квартирку. Иногда почему-то переделанную во что-то трудно узнаваемое, с евроремонтом, или наоборот — в элегантном антикварном исполнении. И снится, и снится… Те две комнатки, крохотная кухня пяти метров, оранжевый балкончик.
Мой Дом был большой и удивительный, вот так! В нём жили все сказки, которые я знала — они прятались в виниловых дисках, в книжках, в телевизоре. Ну, страшное обитало под кроватями, разумеется, а иногда шевелилось за шторами. Добрые волшебницы и феи нередко постукивали тонкими пальчиками в окно снаружи, пролетая мимо.
Дома можно было строить шалаш из стола и одеяла, а посреди большой комнаты сердитым и толстым, но нестрашным чудовищем громоздилось огромное (для меня маленькой) кресло-кровать, которое годилось для лазанья по нему, как по дереву. В коридоре, в «маминой тумбочке», жили несметные сокровища: бусы, клипсы и пара колец. Счастье, что мама ничего этого не носила! Сокровища полностью принадлежали мне для игр.
Самой большой радостью было остаться дома одной — в те годы маленьких детей часто оставляли одних, это не запрещалось законом, никто ничего не боялся. Это глупо, ну да бог с ним, таков был уклад жизни — и всё тут.
Вот я и одна, вся квартира принадлежала мне, и начиналась Большая Игра — в принцесс и цыганок. Места для игры было навалом — целых две комнаты, коридор и кухонька. На голову надевались колготки, «ноги» которых изображали две длинные косы, на шею вешались бусы, на талию цеплялся платок, вытащенный из груды невнятного тряпья, комом лежавшем на дне перекошенного шкафа, и случалось чудо, и длилось чудо. Пока не придут взрослые.

Ничего особенного, обычное, нормальное девчачье дошкольное детство. Безмятежное, если бы не одно «но». Детский сад. Я его терпеть не могла, но до школы отходила туда, как солдат на службу, раз положено.
По утрам мне до слёз не хотелось идти в садик, что не обсуждалось, понятное дело. «До слёз» в данном случае — фигура речи. Я не плакала по этому поводу, молча глотала свою горечь и не докучала родителям. Впрочем, в саду быстро успокаивалась и становилась, между прочим, вопреки всякой логике, одной из заводил и активной девочкой. Как так? Сей феномен мне до сих пор не очень понятен. Я бы хотела оставаться дома с игрушками и своими фантазиями, но в садике была абсолютно адаптирована и из «ведущих». Удивительно! Теперь, накачанная большим количеством знаний о психологии, нахожу объяснения. Если спорю чушь, пусть старшие товарищи меня поправят. Мне думается так…
Нынче я — абсолютный интроверт, чурающаяся толпы и незнакомцев, старательно избегающая компаний и любого скопления людей, ненавидящая повышенное к себе внимание. В детстве же была, по моим воспоминаниям, именно тем ребёнком, что изо всех сил старается обратить на себя внимание, лезет на сцену, стремится в лидеры, таки становится лидером и ещё любит покомандовать.
Всё куда сложнее, чем простая схема. Во мне с малолетства уживалось и то, и другое. Возможно, порой одно боролось с другим. Просто в зависимости от условий, настроения и состояния здоровья могло побеждать либо такое начало, либо прямо противоположное. Казалось бы, налицо некий внутренний раздрай. Или наоборот: это было чуть ли ни благословением, ведь мироздание подарило мне талант быть счастливой и чувствовать себя комфортно при любом раскладе — и в одиночестве, и среди людей.

Сейчас экстраверсия утеряна окончательно и бесповоротно, общаться со мной реально лишь виртуально, где я вполне могу это делать довольно активно, потому что писать — моя стихия. Но физически меня в таком общении нет (если не считать работу мозга). И это главное. С приложением к общению всей тушки ничего не получится: я уйду от физического контакта ногами и быстро.
Итак, скорее всего, жила-была маленькая Катя — счастливейший амбиверт, тот, кто всегда найдёт радость: и в одиночестве, и в коллективе.
И всё же идти по утрам в сад мне адски не хотелось! Манила перспектива играть одной в свои собственные игры и игрушки, не жить по расписанию и ловить кайф от Моего Дома, любимого!
Уже много позже, через годы, настигло удивление: почему, зачем меня отдали в детский сад? Мама же не ходила на работу! Стало обидно. Сначала мне объяснили, что мама работала дома. На долгое время такое объяснение прокатило. Но когда мне самой довелось долго работать фрилансером, воспитывая маленькую дочь, то я поняла, что это вполне совместимые вещи и без всякого детского сада. Тем более, при былой, мягко говоря, щадящей рабочей нагрузке моей матери. Просто ей было удобнее, ей так хотелось, я никогда не была приоритетом в её мире, в её делах, мыслях и потребностях. Если можно было от меня безболезненно избавиться, то так и тому и быть.
Зато меня не водили в садик по субботам! Мама гордилась этим и всем рассказывала, как они «жалеют ребёнка». Я радовалась, какие у меня добрые родители. Почти все другие дети и субботу проводили в казённом заведении, как же мне их было жалко! Чуть повзрослев, и эту загадку разгадала: жалели мама с папой исключительно себя. У отца по субботам был выходной, ему хотелось поспать подольше, а ведь именно он всегда отводил меня в садик, после чего ехал на службу. В субботнее утро никому из родителей этот геморрой не был нужен. Вот и всё. А у других детей в те годы, кстати, многие и папы, и мамы работали по субботним дням.
Нет у меня особенно хороших воспоминаний о детсаде, не любила я его. Особенно за то, что битых два с половиной часа должна была мучиться в постели — я не могла спать днем. Кажется, всего лишь раз мне удалось внезапно уснуть в садике. Помню, очень удивилась, проснувшись. Мечтала о школе, как о спасении от дневного кошмара лежания в кровати.
Но тех огромных снеговиков, которых нам лепили воспитательницы, не могу забыть! Они приводили меня в экстатический восторг! У них были по- особенному сделаны глаза и рот: использовалась какая-то краска, очень яркая и стойкая, ей ничего не делалось на морозе. Такое впечатление, что это была специальная краска для льда. Снеговикам делали огромные круглые тёмные глаза и улыбающийся красный рот. Большие снеговики, просто гигантские! Ужасно любопытно, какого же роста они были на самом деле?

И что же была за краска, так манившая, притягивавшая меня, почему-то казавшаяся волшебной. Нам её не давали даже поиграть. А я помню капли от неё на белом снегу и как я смотрю, не отрываясь, на застывание ярко-синего чуда в виде огромных, жирных капель. Синими были глазищи снеговика.
Зима в детском саду, пожалуй, была не так уж плоха. Тем более, что к Новому году всегда устраивались представления, для которых нам выдавали костюмы, а однажды меня, как самую активную, читающую и, видимо, развитую девочку, сделали Снегурочкой! Это было такое счастье, возможно, первое в моей жизни. Только парик Снегурочкин ужасно кололся (он был изготовлен из серебристого «дождика»), а потому Снегурочка постоянно чесала голову, будто у неё вошки. Обувью Снегурке послужили белые ботиночки для коньков: ботинки уже купили, коньки ещё не приделали. Повезло. Потому что белой зимней обуви маленького размера в детском садике не смогли отыскать, а у нас дома сроду такого не водилось. Вариант с босоножками не проходил…
Эх, детский сад! Пожалуй, если бы меня не заставляли днём спать и не подавали иногда гадкую еду, может, мы и подружились бы с тобой. Впрочем, с едой тоже не однозначно: я любила манную кашу, посредине которой аппетитно таял квадратный кусочек сливочного масла, обожала картофельное пюре с таким же квадратиком, а уж изредка подаваемая на завтрак тёртая морковка с сахаром вообще вспоминается изысканным десертом — я аж жмурилась и с наслаждением лопала! Не всё так однозначно плохо было с едой. Дневной сон — вот это враг-вражина, безусловный и ненавистный!
У нас не было воспиталок-садисток. Дуры были, как сейчас вспоминаю. Но не злобные.
— Личность неприкосновенна! — подняв палец вверх внушала мне одна из них. Будучи дежурной по сбору игрушек перед дневным сном, я стукнула девочку-вредину, которая строила мне рожицы, вертела попой и дразнила: «Не отдам куклу! Не отдам!» Я же была преисполнена важностью своей миссии надзирательницы за порядком, чувствовала большую ответственность и ужасно разгневалась на подобное неповиновение властям. Ну и… О, как орала та вредина! Неужели ей было так больно?
Меня наказали. Заставили накрывать столы перед полдником (как я была рада, что меня, неспящую и, как обычно, извертевшуюся под одеялом, подняли раньше для этой цели). Я с удовольствием «хозяйничала», нацепив, как положено, передничек.
А потом воспитательница решила со мной серьёзно побеседовать. Говорила она долго, я её плохо слушала, потому что мне всё давно стало ясно: бить никого нельзя даже если есть, за что. Да поняла я, поняла! Но лекция была внушительной и закончилась фразой «Запомни: личность неприкосновенна!» Ух ты! Мне так понравились эти слова, показались такими красивыми, потому что взрослыми, и я мысленно их повторила пару раз, чтобы не забыть ни в коем случае.
— Ты всё усвоила? — строго полюбопытствовала воспитательница.
Я очень убедительно кивнула и ещё разок молча попробовала на вкус удивительную фразу «личность неприкосновенна». Вот так на всю жизнь и запомнила, и, видимо, усвоила. Странная какая-то была воспитательница: во-первых, явно чему-то не тому учила советских детей, во-вторых, неужели она всерьёз полагала, что девчонка всё поняла про личность? В пять лет? Кажется, я ещё слово «личность» не вполне понимала. А тут ещё и «неприкосновенна»…
РАДОСТИ И ВОСТОРГИ
Зато Мой Дом был чистой беспримесной радостью!
Например, если поговорить… ну, скажем, о виниловых пластинках, то, будь я поэтом, написала бы благодарственную оду на многих страницах о моих «глампластинках», которые покупал папа. Какое же спасибо ему за это!
«Хмуриться не надо, Ла-а-ада! Хмуриться не надо, Ла-а-ада! Для меня твой смех награ-а-ада, Ла-да!» Смутные воспоминания щенячьего восторга от этой песни. И ещё от «Как хорошо быть генералом!». И от «В нашем доме поселился замечательный сосед». Это то время, когда всё вокруг ещё очень большое, взрослые такие огромные, а я пока не умею обращаться ни с проигрывателем, ни с мягкими белыми пластиночками из «Кругозора» — всё это делает папа. Я только слушаю, изо всех сил подпеваю и подтанцовываю, чем часто веселю взрослых. Рассказывали, как я года в четыре распевала «Как тепель не веселиться, не глустить от лазных бед…»
Понятное дело, те пластинки покупались не для меня. Но я их обожала.
Чуть позже «фанатела» от «Бременских музыкантов» — вот это уже было подарено лично мне. Так получилось, что сначала я познакомилась с аудиовариантом, а мультфильм увидела позже. «Музыкантов» на проигрыватель научилась ставить сама, безбожно царапая звукоснимателем чёрный винил.
Сказки, в основном музыкальные, воспитывали и развивали мою природную музыкальность и уносили в фантазиях далеко и надолго. Я с наслаждением заигрывалась под чуть шипящие звуки винилового чуда из радиолы под названием, кажется, «Латвия», и нехотя выходила из образа. Уже игра давно закончена, уже все взрослые дома, меня зовут ужинать, а я всё ещё где-то в сказочной стране. И потому прихожу за стол немного таинственной принцессой. Правда, этого никто не замечает.
С каким умилением много-много лет спустя увидела то же самое в подрастающей дочке, выходившей из своей комнаты на зов за стол в украшениях и нарядах, но, главное, с «выраженьем на лице»: она была кем угодно, но только не шестилетней Алиской, в её голосе сквозили взрослые интонации, она смотрела на меня сквозь полуприкрытые глаза, чуть презрительно, ведь она — Королева, а я мешаю.
Ещё до того, как сама стала читать книги, я научилась обращаться с пластинками и слушать сказки, полностью погружаясь в мир звуков — мне не нужен был видеоряд. Я всё себе представляла настолько ясно и ярко, что с пластинкой «Бременских музыкантов» и без мультика обходилась. Или, к примеру, «Звёздный мальчик» — страшная сказка, слушая которую каждый
раз — каждый! — я дрожала и забиралась с ногами на диван, чтобы никто из-под него не смог меня схватить! После этого даже фильм не произвёл должного впечатления. Грампластинка и моё воображение оставили куда более мощный по уровню страха след в воспоминаниях. Прямо «пластинка ужасов» получилась.

Оперы «Белоснежка» Колмановского и «Красная Шапочка» Раухвергера служили прекрасным поводом нарядиться в тряпки и танцевать до упаду, изображая главных героинь и просто наслаждаясь движением, танцем. Хорошо танцевать я умела с малолетства (в отличие от пения слабеньким голоском, хотя петь тоже ужас как любила и старалась). Я придумывала движения, подражая балету, но всегда внося нечто своё, понимая, что балет — это слишком «высоко» и прекрасно, я так не умею и упрощаю, порчу сложную балетную хореографию. Это безобразие необходимо было компенсировать интересными движениями, их сочетаниями и пониманием музыки. Маленькая Катя вполне справлялась с задачей, превращая балет немножко в диско-танец. Совмещая. Прямо как Барышников!


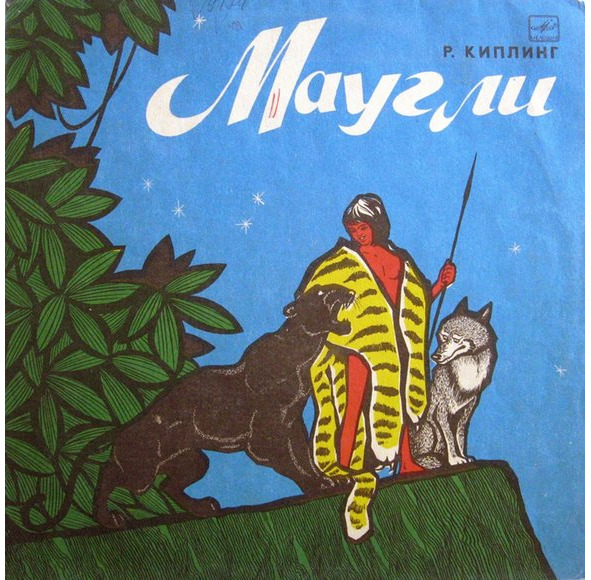
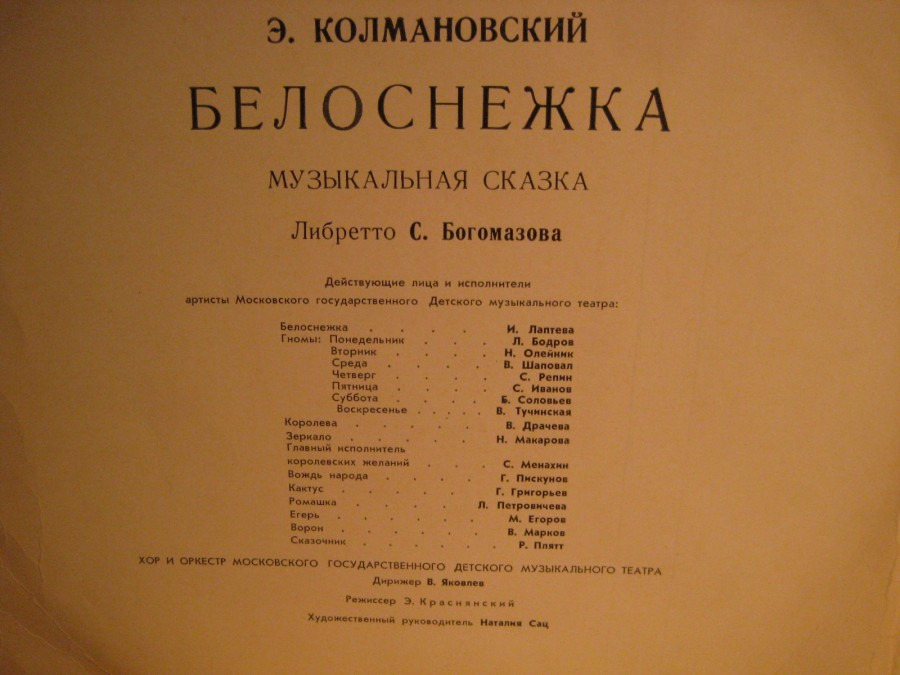
А уж когда в доме появились диски оркестра Поля Мориа, я окончательно поняла, что хочу стать танцовщицей и больше никем. Эта мечта так и осталась мечтой: для балета мои ноги не годились (сильное плоскостопие), поэтому балет не рекомендовали специалисты, а на меньшее моя мамочка была не согласна. Либо балет, либо ничего, ибо любые прочие танцы — «глупости». А вы как думаете!? Есть Большой театр, а есть дешёвые деревенские потанцульки, середины не предусмотрено. В крайнем случае, речь могла идти о фигурном катании, но там, как выяснилось, плоскостопие тоже мешает.
В мои девять или десять лет произошла история, врезавшаяся в память с невероятной силой — соответственно мощи того впечатления, которое я тогда получила. Расскажу, как я открыла для себя оркестр Поля Мориа и его музыку.
К брату пришли друзья (видимо, однокурсники), родителей не было дома, меня, разумеется, выставили из «гостиной». Я сидела на диване, что-то читала, в соседней комнате шумели парни и девушки. Они слушали музыку, наверно, танцевали. И вдруг…
Вдруг раздались звуки такой красоты, что я выронила книжку. По моей коже побежали огромные мурашки, дыхание перехватило. Это было необыкновенно! Никогда прежде не слышала ничего более прекрасного! Когда музыка закончилась, я тихонько расплакалась и ещё долго пребывала в ступоре.
Мне жизненно необходимо было узнать, что это, поэтому, когда друзья брата засобирались уходить, я вихрем ворвалась в ту комнату и бросилась к проигрывателю: рядом лежала пара неизвестных мне больших дисков.
— Что это было, что у вас играло? Какая из пластинок? Чьё это? Откуда? Как узнать? — я буквально вцепилась в брата, рискуя получить в ответ и хамство, и подзатыльники.
— Да пошла ты!
И неизменное брезгливое:
— Отвянь! Вот эти пластинки, они мои.
— Твои! — Я аж подскочила от радости.
Когда все ушли (и брат тоже), я тут же включила один из дисков — «Мелодии зарубежного экрана. Оркестр Поля Мориа». И — о чудо! — Та музыка оказалась самой первой! Мелодия из «Крёстного отца», волшебно аранжированная Полем Мориа. Поскольку сам фильм в СССР был под запретом, композиция называлась «Говорите тише», но из какого фильма не указано. Одно из сильнейших моих первых музыкальных потрясений. Ну, и оркестр, естественно, сделался любимым на всю жизнь.
С музыкой я всегда «дружила», даже с классической, настоящая любовь к которой началась тоже с шока. Поскольку я училась в музыкальной


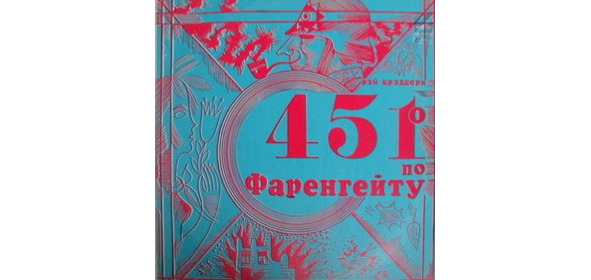
школе, нас, учеников, обязывали посещать специальные лекции-концерты в Большом Зале консерватории. В основном это было ужасно скучно, я ходила, как на голгофу и зевала. Но однажды…
Мне было восемь лет. В тот день исполняли «Болеро» Равеля. Ничто не предвещало бури, как говорится. Я, как обычно, пришла на «занятие» с понурым носом, собираясь отмучиться положенный час воскресным утром (воскресным утром! Ещё и ехать надо было в эту консерваторию!).
Внезапно началось что-то невероятное: сначала я удивилась — почему так тихо играют, почему надо прислушиваться, напрягаться? Что за странности? Но, прислушиваясь и напрягаясь, я сумела расслышать, какой причудливой красоты звуки льются со сцены. Прямо на моих глазах (вернее, на ушах) ткался удивительный музыкальный узор: инструменты по очереди повторяли дивные звуки, будто бы делясь друг с другом волшебной нитью, бережно передавая эстафетой изящную, хрупкую красоту. Ну, дальше вы знаете… Нарастание мощи, сильные, гордые, торжественные, совсем не нежные скрипки, искрящееся золото духовых и, разумеется, сумасшедшие ударные — от малого барабана до литавр. Крещендо, крещендо, невыносимое крещендо! И внезапный конец — на высоченной, сильнейшей ноте, на кульминации! Ох…
Я не понимала, что со мной происходит! Сидела, вжавшись в кресло и изо всех сил вцепившись в его ручки, тряслась-дрожала, как в ознобе. Оркестр видела плохо — почему-то слёзы застили глаза. Только б это не кончалось! Мне казалось, что ещё немножко — и я растворюсь в изумительном узоре, сама превращусь в звук, в музыку и мне страстно захотелось этого — навсегда поселиться в красоте музыки — только бы не кончалось! Я чуть не закричала «нет», когда всё же музыка умолкла — и ведь как умолкла, с каким эффектом! Тишина после мощнейшего финала показалась оглушительно мёртвой и ужасной. Верните музыку!
Пожалуй, именно с того дня я по-настоящему полюбила классику. При этом напрочь не помню ни одного другого посещения Большого Зала! То есть, в прочие разы не было никакого впечатления, выходит так. Но одного «Болеро» хватило, чтобы разбудить интерес к «скучной» музыке. Так что чтению на советских уроках литературы. Детям нужно слушать правильную музыку — соответственно возрасту, так мне кажется. К примеру, не надо их грузить Глинкой, Прокофьевым или Мусоргским (при всём уважении), если мы говорим об обычных детях, не о юных музыкальных дарованиях. Для «затравки» есть Моцарт, Вивальди, Равель… И так шаг за шагом, постепенно… впрочем, куда это меня понесло?
Вернёмся к пластинкам.
Я росла, мои пластинки тоже «взрослели», заставляли меня и думать, и плакать, и даже впадать в недолгую меланхолию: «Маленький принц» (удивлённая задумчивость и горький плач по Лису), «451 градус по Фаренгейту» (шок!), «Барон Мюнхгаузен» (хохот и восторг) … Прочитано всё будет чуть позже, а тогда, ещё в дошкольном возрасте и в первом классе, я раз за разом переслушивала любимые диски, пока не выучивала их наизусть полностью.
Что я могла понять из Брэдбери в шесть-семь лет? Наверно, не всё. Но главное ухватила — про ценности. Про то, что в книгах — мудрость. Про то, что будущее может быть вовсе не прекрасным, а, напротив, страшным и жестоким, если люди не задумаются и не одумаются. Именно такие мысли поселились в моей голове благодаря чудесному спектаклю, записанному на винил. Главные роли исполняли, между прочим, Юрий Яковлев и Мария Бабанова!
Всё это было огромным счастьем. Спокойным, тёплым, добрым и, казалось, бесконечным.
К первому классу я уже много и с наслаждением читала. Спасибо номенклатурному «пайку», книг в доме было очень много, в том числе детских, переводных — тех, которые вообще не появлялись в обычных книжных магазинах и даже в библиотеках редко.
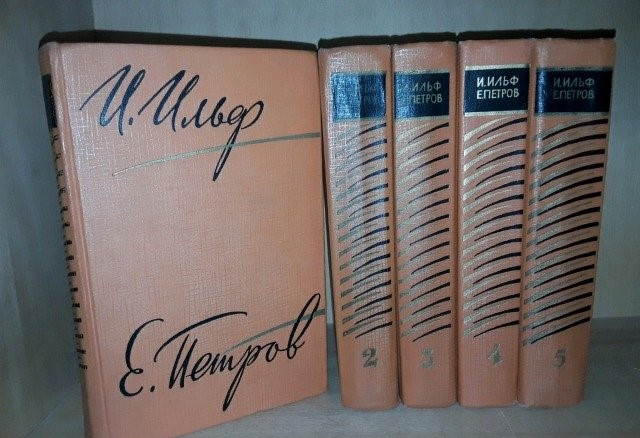


Наконец, я дозрела и дорвалась! Младшеклассница Катя Щербакова читала всё подряд, до чего дотягивалась на книжных полках. Никто не следил за моим развитием в этом смысле, поэтому ребёнок читал бессистемно и навалом. Вспоминаю и смеюсь: восьмилетняя девочка могла одновременно зачитываться утром Ильфом и Петровым, а вечером — «Урфином Джюсом и его деревянными солдатами», за обедом осторожно, стараясь не брызнуть на страницы супом, вчитываться в Алексина, а на ночь морщить лоб на Стендаля.
В интересе к Стендалю был «виноват» фильм «Красное и чёрное», где Сореля сыграл Николай Ерёменко. И я влюбилась. Впервые и по-настоящему. «По-настоящему» означает до тихого плача ночью в подушку. Но это мне уже одиннадцать, я немножко тороплю события.
Патриотическая литература, которой в советские времена были и завалены книжные полки в магазинах, и засорена школьная программа, и порядком загажены мозги подрастающего поколения, в нежном возрасте тоже оказывала на меня влияние — ещё пока оказывала. Я верила во многое из того, что нам внушали — просто верила, как в бога: без вопросов, не задумываясь, не рассуждая — что, собственно, и требовалось, как и при изучении Библии, Закона божьего и прочих религиозных способов воспитания. Время вопросов и рассуждений пока не пришло, хотя было на подходе. А пока что «Четвёртая высота» Елены Ильиной стала практически настольной книгой, а героиня — примером для восхищения и подражания. Лет до девяти так и было: я старалась быть похожей на Гулю Королёву, ну хоть в чём-нибудь, пока война не начнётся и я не погибну, совершив подвиг.

По телевизору смотрела любое кино и все спектакли. К счастью, сей процесс тоже никто не По той же причине у нас были все тогдашние доступные (вернее, не очень доступные) советским людям «комиксы». Жан Эффель, Херлуф Бидструп, Ленгрен… Любимое, обожаемое, засмотренное! Сладкое времяпрепровождение: забраться с ногами в кресло, обложившись книгами комиксов (некоторые фолианты были огромными и толстыми, как, например, тома Эффеля, но мы с ними чудесно помещались в небольшом кресле… чуть колючем, красном в чёрную крапинку). Или впиться взглядом в картины какого-нибудь художественного альбома. Иногда я начинала с лёгкой разминки в виде истории сотворения мира в сатирическом исполнении французского художника, а потом приступала к Рафаэлю, Микеланджело, Леонардо и Брюллову.

Угнездившись либо в кресле, либо на диване, я ловила кайф, несмотря на то, что многое разглядывала в тысячный раз. Не надоедало.
Пластинки, книги, кино. Прекрасный Мой Мир в Моём Доме! Теперь, вспоминая те годы, осознаю, что никого из моей семьи, никого из родных, в этих воспоминаниях почти нет. Есть Дом и самые близкие мои друзья: пластинки, книги, кино. Будто бы я жила одна, совсем и всегда одна. Счастливая маленькая девочка в своём волшебном и добром царстве.
Почти нет родни, в том смысле, в котором это принято понимать. Почти. Всё-таки папа ещё тогда был.
ПАПА И Я
«Мой добрый папа» — помните фильм по дивной книге Виктора Голявкина? Всё раннее детство именно словами названия фильма-книги я думала про своего отца. Мой добрый папа! Разумеется, он совершенно нулевой педагог и далеко не самый умный воспитатель, но в моём раннем детстве был заботливым папочкой, проводившим со мной немало времени, хотя работал с утра до вечера, приезжал поздно, потому что издательство «Правда» находилось от Останкина совсем не близко. Мама же, в основном сидевшая (работавшая, да-да, конечно, работавшая) дома, не торчавшая на службе от звонка до звонка и не зависящая от общественного транспорта, не тратила на меня ни минуты «лишней», никогда не гуляла со мной, не водила ни в кино, ни в театры. Не играла и не читала мне книг. Всё это делал папа.
…Сверкающий блёстками чуть голубоватый снег, хрустящий, лежащий высоченными сугробами по обе стороны протоптанной и накатанной сотнями ног и десятками санок дорожки. Мои санки сделаны из продольных тонких дощечек — розовыми и голубыми через одну. (Вот любопытно: линолеум в нашем коридоре был тех же цветов! У меня какой-то сбой памяти или так совпало? Кажется, совпало — уж слишком чётко я помню и пол, и саночки.) У большинства других детей санки сделаны из поперечных дощечек, а у меня вот такие. И мне это нравится!
Смеющийся, розовощёкий папа, постоянно поправляя сползающие по носу очки, везёт меня, довольную, на санках к огромной горке Звёздного бульвара, с которой катается малышня. Сейчас я помню ту гору-горищу как огромную. А какой она была на самом деле? Недавно увидела фотографию того места и того времени: ба, да она же небольшая, вовсе некрутая! Совсем детская.

Пока мы доезжаем до Звёздного, успеваем нахохотаться: папа играет со мной в «скидывание с санок». Бежит-бежит, потом резко поворачивает в сторону и дёргает за верёвку. Я с восторженным визгом вываливаюсь в мягкий и вкусный сугроб. Невозможно и сейчас не улыбаться, вспоминая.

Папа водил меня в кинотеатры на мультфильмы, в детские театры и на всякие утренники. Кстати, утренники, как и «ёлки», я терпеть не могла, но с папой ходила без капризов. Он же «доставал» билеты, я это ценила. Есть подозрение, что, будучи ещё совсем маленькой, боялась обидеть папу. Ведь он старался для меня! И это значило очень, очень много.
— Я принёс для тебя билет на «ёлку»! — радостно сообщал папа, войдя в дом.
— Ой, ура, спасибо, папочка! — непременно восклицала я, хотя про себя всегда думала, что лучше бы мы пошли в кино или в театр. Но никогда, ни разу не сказала этого вслух. Только благодарила.
Иногда вместе со мной папа слушал пластинки, и уж точно только он читал мне на ночь книжки.
Часто мы ходили гулять на ВДНХ, где моим самым любимым развлечением было катание на автопоезде. А ещё захаживали в усадьбу Шереметевых и однажды в сам музей (если честно, из того посещения помню только тапочки, которые нам выдали вместо уличной обуви, и красивый синий пол — больше ничего).
После отстаивали очередь к знаменитой пончиковой, что располагалась напротив, и потом за обе щёки лопали те самые вкуснейшие пончики в снежной-нежной сахарной пудре, о которых я до сих пор люто скучаю.
Один раз папа возил меня на Красную площадь, и мы посетили Храм Василия Блаженного. Однажды были в Третьяковке (видимо, рановато для меня, никакого впечатления не осталось), зато Пушкинский музей потряс. Кукольный театр, Театр мимики и жеста, Центральный Детский, Сатиры (о, моя родная, обожаемая Пеппи!), Уголок Дурова, зоопарк…

Без мамы. Всегда. И только в раннем детстве.
Папа, папа… Я тебя обожала! И точно знаю, что ты любил меня. Но, видимо, маме это не очень нравилось, а главным в доме, командиром и определяющим, к кому и как надо относиться, была всё-таки она. Помню время перелома. Он, перелом, оказался не резким, а постепенным, растянутым во времени. Скорее, медленное сгибание. Сначала папа один раз немножко предал меня. А потом, в тот трудный период, когда вся моя жизнь поменялась в странную сторону, он окончательно отступил и перестал был любящим добрым папой. Но про это позже, пока что мы всё ещё в Моём Доме…
Вспоминаю свой восторг, когда мы с папой гуляли и болтали про всякую ерунду. Когда играли в «недостойные глупости», как их сердито называла мама. Как весело дурачились с купленным папой магнитофоном с микрофоном, за что она нас обоих оборала. Кстати, вспоминается, что папа испугался её воплей не меньше меня. Вот ведь бесила её наша с ним совместная радость! Или радость сама по себе не могла ей угодить?
Даже когда я уже настороженно относилась к маме, побаивалась её и понимала, что являюсь некой помехой в её жизни, мне казалось, что папа всегда на моей стороне, навечно защитник и верный друг, и это никогда не кончится. Ведь он — мой добрый папа!
Недавно в России, окончательно сошедшей с ума и впавшей в слабоумие, младшеклассников заставили сочинить «письмо отцу на фронт». Мгновенно представила, что произошло бы, случись такая подлянка в моём детстве. Скорее всего, со мной приключилась бы страшная истерика. Дело в том, что, как и все советские дети, я до ужаса боялась войны. И прежде всего потому, что для меня война ассоциировалась со слишком вероятной гибелью папы. Все остальные военные страхи меркли и не имели ни малейшего значения по сравнению с этим кошмаром. Я боялась войны только и исключительно потому, что моего папу могли забрать на фронт, где убивают. И лишь от самой идеи о гипотетически возможной войне в моей голове всякий раз происходил адский взрыв от ужаса и невозможности выдержать подобную боль.
Какое счастье, что в наше детство до подобной тупости с «письмами» страна всё-таки не дошла! Напротив, нам внушали, что благодаря мудрой политике КПСС и СССР войны нет и не будет. «Миру — мир!» и всё такое прочее. И ни одна сволочь не заставляла детей представлять своих отцов на поле боя, на бойне.
Мне в детстве никогда не задавали идиотского вопроса, кого я люблю больше — маму или папу. А ведь я не смогла бы на него ответить, если б спросили. Маму я обожала «по определению», животной и бешеной любовью, а папу… Папу любила нежно и благодарно, будучи уверенной в том, что ближе и надёжнее друга и защитника у меня нет и не будет никогда.
Ошибалась и очень жестоко. Особенная жестокость, знаете, в чём? В том, что ребёнок не может, не в состоянии понять, за что его вдруг перестают любить, чем он провинился, при том, что никаких дурных поступков не совершал. Невозможно нормальному человеку понять и принять теорию моего отца, хвастливо изложенную в его мемуарах, о том, что выросшие дети — это уже совсем другое дело, их невозможно любить, как прежде. Тем более, что «выросшим» для папы оказался ребёнок лет одиннадцати-двенадцати.
Девочки иногда чересчур рано развиваются (к сожалению, именно мой случай), и, увидев свою располневшую, ещё недавно такую прелестную дочку, да с прыщами на лбу и вздувшимися полукружьями грудок, иные папочки испытывают обиду и досаду на судьбу, а главное — на собственного ребёнка: какого чёрта она выросла? Она ведь стала неприятной, как она смела? А дочь-то ещё совсем не выросла! Она всё та же малышка в душе, и ей до зарезу необходим её добрый папа! А его больше нет… И это трагедия. Не для папы. Папа изволит обижаться на природу, но никакой трагедии для него не происходит.
Впрочем, не исключаю, в том числе, успешного результата маминой работы над папиным сознанием и чувствами. Тем объяснимее его предательства. Два первых случились ещё в Моём Доме, надёжные стены которого именно после первого случая дали трещину, их как землетрясением поразило, и будто сквозь всю квартиру — по стенам, полу, потолку — проступила некрасивая, кривая линия разлома, вестник грядущей беды.
Первый раз в мои лет семь, когда я услышала мамино раздражённое, сказанное папе: «Опять она к Новому году нарисует нам в подарок свои каляки-маляки, чтобы отделаться!»
Я тогда немножко умерла, наверно, на несколько минут. Да, к каждому празднику я рисовала родителям свои бездарные картинки. Но ведь так старалась! А что ещё я могла им подарить? «Отделаться…» А что значило бы не отделаться, а сделать настоящий подарок, если речь идёт о семилетней девочке? Денег у меня не было вообще никаких. Чего мама ожидала, чего хотела, почему злилась?
Эти вопросы тогда обрушились на меня колючим и ядовитым дождём. И почему-то подумалось, что другие дети, видимо, делают что-то необыкновенное или у них есть деньги. Значит, им дают деньги (на подарки для родителей), им доверяют, а мне нет. Разболелась голова, хотелось плакать. Но я сдерживалась, потому что умела быть сильной и даже непроницаемой. Как будто ничего не произошло. Но никак, никак не находился ответ на вопрос, что я делаю не так, в чём моя вина, и это мучило.
Папино предательство заключалось в том, что он ничего маме не сказал в ответ на злые и глупые слова. Смолчал. Как и я (а я всё слышала). Только про то, что я всё слышала, он и она не знали, а про то, что отец прекрасно слышал слова, обращённые именно к нему, мы все были в курсе.
Второй раз папа предал меня, когда мать объявила мне новогодний бойкот. В мои десять лет. Не знаю даже, был ли он согласен с ней в том, что именно так меня следует проучить за «тройку» по труду, или просто не смел перечить — какая разница? Он промолчал, был со мной сух и неприветлив, хотя и не бойкотировал, как мама. Папа не вступился за свою маленькую дочку, когда она корчилась от горя и ужаса творящегося.
И будто слышался треск раздававшейся вширь трещины от того первого подземного толчка. Мой Дом становился всё менее безопасным и добрым, всё более уязвимым и ненадёжным.
Пожалуй, тогда и началось моё разрушение изнутри, поломка была слишком сильной, и никто, ни один взрослый на свете, не помог пережить момент, когда впервые за десять лет жизни девочке всерьёз захотелось умереть.
Я ведь очень любила-обожала их обоих. Их отвержение меня было самой страшной пыткой, какую только можно себе представить!
Два упомянутых события произошли, увы, в Моём Доме и здорово подкосили мою «уверенность в завтрашнем дне», детскую безмятежность и любовь к жизни. Но всё же, пока мы жили там, детство с его необыкновенными радостями продолжалось. И сомнений, что у меня самая лучшая семья и самый прекрасный Дом не появилось. Хотя зародились ранящие мысли о собственном несовершенстве и что я недостойна ни тех подарков судьбы, которые у меня есть, ни такой семьи, доставшейся мне не по рангу.
Я старалась быть хорошей и соответствовать. Мечтала стать достойной. Как Гуля Королёва.
Когда подрасту, папины мелкие (и не очень) предательства сделаются почти ежедневной рутиной. Я перестану на них реагировать, потому что это превратится в обыденность. Просто моя любовь к папе не выдержит таких испытаний. Она, мучительно агонизируя, медленно, но верно будет умирать.
А однажды, когда я стану почти совсем взрослой, он предаст меня по-крупному и навсегда. Навсегда — это значит, что будет пройдена точка невозврата, за которой уже нет возможности вернуться к тому состоянию, когда мы любили друг друга, были близки и… у меня был Мой Добрый Папа.
И всё же любовь к отцу — это огромное счастье, за которое я благодарна судьбе. Ибо оно у меня недолго, в самом младшем детском возрасте, но всё-таки было. И вспоминаю я его с теплотой, стараясь не думать в эти минуты об уже известном ужасном будущем, где любовь убивают, где она в слезах и крови умирает от предательства.
ДВОР МОЕГО СЧАСТЬЯ
Белая с весёленькими оранжевыми балконами хрущёвка окружена с трёх сторон кирпичными «небоскрёбами» — двумя девятиэтажками и одной двенадцатиэтажкой. А метрах в пятидесяти, прямо через двор, перпендикулярно нашем дому стоит жилой барак. Так его называли. Двухэтажное неказистое зданьице тёмно-красного цвета. Как в нём жили люди, понятия не имею, ни разу не была внутри. По-моему, у меня не было друзей, живших в таинственном для меня домике. Впрочем, ручаться не могу, может, кто-то там и обитал из дворовой нашей компании, но никогда к себе в гости не приглашал. Снесли барак примерно в середине 70-х, не раньше.
Барак бараком, зато зелени вокруг него было! И мой двор тоже этим радовал — много деревьев, кустов, и всё такое большое. Опять «когда деревья были большими»! Наверное, я сейчас очень удивилась бы, увидев то, что мне казалось почти лесом, в натуральную величину. Мой зелёный, уютный, прекрасный двор! Типичный, ничем непримечательный двор 70-х в неплохом районе Москвы.
Если по-честному, то мы были адски богаты — у нас было аж три двора: наш, небольшой и аккуратненький, куда «смотрела» оранжевыми балконами хрущёвка; огромный, роскошный дворище соседней кирпичной девятиэтажки — с прекрасными деревянными качелями, домиком Бабы-Яги и скульптурами, изображавшими дракона, Змея Горыныча, бегемота, гигантскую черепаху и прочих зверушек. В этом смысле, кстати, двор был не очень типичным — слишком хорошим, как сейчас сказали бы, «креативным», красивым, на совесть сделанным. Больше нигде в Москве не видела ничего подобного. И, наконец, ещё одно немаленькое местечко, находящееся как бы на задах хрущёвки и девятиэтажки: великолепная площадка с горками, турниками и маленькими карусельками плюс хоккейно-футбольная «коробка». В общем, если откровенно, то для периода «совка» весьма круто.
— Ка-а-атя-а-а! Выходи-и-и! — надрывались подружки внизу. И впрямь — не тащиться же им на пятый этаж, чтобы позвать меня гулять. Ребятня всегда орала, выкликая друзей на улицу. Удивительно, но не припомню, чтобы кто-то ругался и злился за это на детей. А вопили-то как резаные! Но так было принято.

Весна, асфальт подсох, солнышко слепит, аж искры из глаз. Я наконец-то в гольфах (боже, какое счастье, настоящий признак наступающего лета — можно надеть гольфы!) скатываюсь вниз с пятого этажа по пролётам, летя через две-три-четыре ступеньки. Ни разу не упала, не подвернула ногу, а ведь носилась, теперь понимаю, опасно, по-мальчишески, обожая ставить рекорды — пять ступенек пролетела! Пол-лестницы! Перила были мне в помощь.

В кармане юбочки брякают мелок и «битка» для классиков, сделанная из пустой баночки от сажи… или вокруг руки намотаны прыгалки… бывало, что и то, и другое сразу: нам с девчонками ещё предстояло решить, во что играть.
Иногда мы вытаскивали на улицу кукол. На дворовых скамейках расставлялась кукольная посуда, в которой варились суп и каша для наших пластиковых деточек. Хорошо! Суп, кстати, готовился из одуванчиков, чтоб вы знали.
Помните крохотных резиновых пупсиков с ладошку величиной? Иногда их продавали с целым набором младенческой одежды, чаще только в одном «костюмчике». Ещё полагались крохотные пластиковые ванночки, но это уже было невероятное богатство и везение — иметь такую. Не знаю, как для вас, девчонки, но эти мягкие резиновые крохотули были моими любимыми игрушками.
Зима… Снежки, снежные бабы, а на площадке за домом — отличные деревянные горки, с которых мы, визжа, катаемся на картонках — никто не забыл картонки, их ценность и предназначение?

Каток и коньки. Отдельная история особенного кайфа тех лет. Мы все немножко изображали Пахомову или Роднину, фигурное катание было страшно популярно. Девчонки старались повыше задрать ногу и сделать «ласточку», пыхтя, осваивали шаг «подсечка», часами тренируясь, чтобы научиться. У некоторых получалось потрясающе — при том, что они вовсе не занимались фигурным катанием. У меня выходило средненько. Зато я уверенно, быстро и хорошо просто каталась. Не падала. И умела резко разворачиваться, что тоже считалось круто. «Круто»… не было у нас тогда в обиходе этого слова. Какое же было? А, вспомнила: «зэкински»!
— Как покаталась на горке?
— Зэкински!
— Смотрела тот мультик? Понравился?
— З-з-зэкински! — и большой палец вверх.
Кстати, родители мечтали отдать меня если не в балет, то «хотя бы» в фигурное катание (только не «просто танцы», это — фу и несолидно!), но опять и снова помешали мои плоскостопные ноги. Уже тогда они у меня часто побаливали, порой бывало непросто бегать и скакать, но отказываться от радостей жизни даже в голову не приходило, потому я стойко терпела и, пожалуй, именно с той боли научилась искусству терпения до такой степени, что во взрослости это стало опасным для жизни.
Но вернёмся в снежные зимы 70-х.
Самым прекрасным в зимних радостях для меня было вот что: ввалиться домой совершенно мокрой до ушей и с ледяными ногами (и почему это ноги всегда были замёрзшие?), стянуть с себя всё, развесить сушиться, самой влезть в самые толстые носки, сесть на стул рядом с батареей, взгромоздив на неё полумёртвые ступни, и оттаивать их. Немного даже больно! Но в то же время я испытывала совершенно нечеловеческий, щенячий восторг! Будто сейчас вижу слегка облупленную батарею, лохматые серые носки и прямо ощущаю ту пищащую радость внутри, весьма болезненное покалывание в пальцах ног и разливающееся по телу тепло. Та радость была на самом деле щенячьей, потому что животной: восторг от тепла и безопасности после того, как зверёк нарезвился на морозе и укрылся греться в своей родной норе.
ШКОЛА. НАЧАЛО
Не помню своё первое 1 сентября. Ни минуты, ни детали какой-нибудь, ни чувств — ни-че-го. Будто не было его. Оно, разумеется, было, но мне рассказать нечего. Помню, что очень хотела в школу (потому что там не заставляют спать!), страха и в помине не было, зато распирало нетерпеливое любопытство. Но первый день в школе стёрся из памяти напрочь. Чудеса!

Первые три года школы были лёгкими и приятными, несмотря на то, что со второго класса в моей жизни надолго появилось ещё одно учебное заведение — музыкалка. Не сказать, чтобы я была в восторге, но особенной тягости не испытывала, потому что легко училась в основной школе — круглая отличница без всякого напряга, да и в музыкальной всё складывалось замечательно: у меня был абсолютный слух, сильные ладони, длинные пальцы. Никаких особых способностей, но вполне себе возможности для успешных занятий на уровне обычной районной музшколы.


Спокойно училась, получала «пятёрки» и редкие «четвёрки», и, честное слово, тогда я от жизни получала удовольствие. Настоящее. Даже несмотря на историю с «каляками-маляками, чтобы отделаться» и прочими, пока не смертельно ранившими «мелочами» странного маминого отношения. Наверное, всё было переживаемо именно потому, что у меня был любимый и любящий папа. Его наличие придавало спокойствия и уверенности: ничего плохого со мной не случится.
Ну, только если бы не брат…
БРАТ
Любила ли я его? Конечно. Брат! Старший! И самый лучший на свете парень — как часто подчёркивала мама. Не могла не любить, не умела не любить. Хотя именно с ним связан первый детский кошмар и даже психоз, про который я рассказывала в предыдущих книгах. Кто знает, тот помнит: речь о его сексуальных… не могу я написать слово «домогательства», чай не Вайнштейном он был! Как назвать ночной сексуальный интерес молодого парня к маленькой сестре, которая на восемь лет младше? Что-то нездоровое? Или просто распущенность?
Не знаю. Моё детское сознание старательно прятало от меня самой размышления на эту тему. Когда утром я просыпалась и вспоминала, что было ночью, то адский ужас, пронизывавший от макушки до пяток, очень быстро будто накрывался пеленой тумана, из которого я слышала спасительный и весьма убедительный шёпот: «Это был сон». Впрочем, про сон мне «сказали» всего пару раз, чаще сознание делало хитрый кульбит и убеждало так: «Он хотел поправить моё одеяло, он заботился обо мне». Бредятина, но срабатывало. Теперь-то понимаю: предусмотренный природой предохранитель знал своё дело и берёг рассудок, чтобы девочка не сошла с ума от ужаса.
Лишь став взрослой, узнала про психологические самозащиты «отрицание» и «вытеснение», осознав, что именно это со мной тогда и происходило.
Потом подобные штуки мозг проделывал ещё несколько раз за жизнь (а у кого такого не было?), случались показательные ситуации, когда я настолько не принимала творящееся, что изо всех сил избегала видеть, осознавать и говорить о неких событиях. Вот прямо находясь в положении «глаза в глаза», но продолжая делать вид, что ничего не происходит. Любой, думаю, может вспомнить хотя бы один такой разок из своей биографии. Из серии «не верится» и «не может быть, потому что не может быть никогда». А, значит, этого нет и ничего не происходит.


Мой первый раз (растянутый во времени) — ситуация с братом. Причём, как я поняла из науки психологии, та информация, которая отрицается, вообще не попадает в сознание и не остаётся в памяти. Поскольку я вспоминала, что было, то, выходит, в мозгу в то время на огромной скорости каждый раз случалась именно реакция вытеснения.
Впрочем, об этом даже страшно думать, вдруг что-то ушло в отрицание, и я не всё помню? Хотя разве лучше было бы помнить? Возможно, мой мозг изо всех сил защищал себя (то есть, меня) от того, чтобы все предохранители в одночасье не полетели к чертовой матери. Кое-что всё же перегрелось, но в основной части ему, мозгу, удалось спастись. Поэтому к природе, устроившей всё таким образом, нет претензий. Наверное, сработал наилучший способ выживания при условии, что я, совсем маленькой, оказалась совершенно одна против превосходящих сил противника.
Но полностью блокировать мысли «об этом» не получилось. Поэтому удар по нервной системе нанесён был чувствительный. Первые тягостные муки совести связаны у меня именно с теми событиями.
Помню: летом в Одессе мы всей семьёй едем в автобусе. Мне семь. И вдруг меня накрывает липкий кошмар! Внезапно вспоминается вот это всё и хочется кричать, орать, бить себя кулаками по лицу, по голове. Меня трясёт, я чувствую, что если немедленно не признаюсь маме в «преступлении», если не расскажу правду и не покаюсь, то дальше не смогу жить.
Кошмар длился, наверное, около получаса. Так плохо ментально мне не было никогда прежде, я смертельно испугалась своей вины, порочности и того, что скрываю от мамы нечто чудовищное. И меня справедливо ждёт какое-нибудь страшное наказание. Например, кто-нибудь из близких из-за этого умрёт.
Потом отпустило… Ребёнок на что-то отвлёкся, на время кошмар отступил.

Кстати, вот ещё важное. Возможно, придуманные мною шкатулка и чердак в чёрном-чёрном доме — это и есть то самое вытеснение, только с помощью образов. Почему бы нет? Ведь бо'льшую часть взрослой жизни я не просто не помнила о многом из детства и юности, а сознательно не думала об этом, не хотела вспоминать — даже о хорошем и приятном. Сопротивлялась всякий раз, когда появлялся повод «поностальгировать». Например, при встрече с одноклассниками. Старалась на подобные вечеринки вообще не ходить, но, если уж случалось, делала вид, что вместе с ними что-то вспоминаю, а сама в эти моменты изо всех сил занимала мозг чем-то другим, желательно сиюминутно важным, лишь бы не погрузиться в прошлое. Разве не так выглядит вытеснение?
Случай в Одессе был первым, когда на меня обрушилась почти в натуральном виде паническая атака, ставшая позже проклятием на всю жизнь. С годами болезнь шла по нарастающей, хотя триггерами выступало уже многое иное, помимо братско-извращенческой темы. Разнообразные сильные страхи постепенно превращались в патологические паники, когда вовсю откликалась «физика» — организм в целом. И становилось плохо. Но долгое время, с того самого лета и почти до взрослости, я училась покорному терпению и пережидала приступы леденящего ужаса, тошноты и полуобморочного состояния, иногда забиваясь для этого в уголок, иногда сворачиваясь креветкой под одеялом, а став чуть старше, похищая из родительской аптечки какой-нибудь тазепам, если уж было совсем невмоготу.
Вообще-то я оказалась сильной. Природа щедро отпустила мне здоровья и умения выстоять! Поэтому так безумно долго, целую жизнь, выживала в ситуации абсолютного морального нокдауна, ощущения себя дерьмом с адским чувством собственной вины (есть ли му'ка страшнее?) и умела обойтись без помощи врачей. Хотя обнаружение болячки на поздней стадии — хреновая штука, знаете ли. Но я, маленькая и по определению слабая, выдержала в детстве много страха и боли (моральной и физической), рано научившись не просить помощи и не ждать её.
Ко всему привыкаешь! И к таким тренировкам воли и терпения тоже. Ведь не ведаешь, что однажды за всё «прилетит» расплата, ведь мы состоим не из железной арматуры, а из хлипкой плоти, которая болеет и изнашивается. И уж тем более, если над ней измываться.
Тогда в Одессе и потом, в другие разы, когда чёрным вихрем налетали мысли о брате, мучаясь ужасом, я винила только себя. Лишь в себе видела монстра, брат тут был ни при чём. Он не мог быть виноват, он же лучший в мире! Это всё я, всё я… Поэтому случился дикий парадокс, который сходу понятен, наверное, лишь детским психологам: моя любовь к брату не пострадала тогда ни на йоту. Зато родились ненависть и отвращение к себе самой.
Итак, брата я любила. Но всегда рядом с ним чувствовала тревогу и неуверенность. Он был желчным, равнодушным, смотрел поверх моей головы, даже если обращался лично ко мне. Не стеснялся в выражениях, если хотел обидеть (а хотел часто) и не скупился на довольно чувствительные подзатыльники и щелбаны по лбу. Всё это я покорно терпела. Почему? Не знаю. Может, именно из-за чувства вины за своё «поведение» и потому, что знала: он-то — лучший.
У нас не было с ним ничего общего, что, наверно, естественно из-за чувствительной разницы в возрасте. Хотя позже я узнала о многих братско-сестринских отношениях даже с большей разницей, но с нежностью друг к другу, заботой друг о друге, общими интересами и частыми беседами друг с другом. У нас никогда не было ничего похожего.
Конечно, в этом были виноваты родители. Они не могли не видеть, что мы с неполнокровным братом живём, будто соседи, не нужны друг другу и не замечаем один другого. Точнее, это он так себя вёл, а я, как маленькая, лишь подстраивалась. И что я могла? Лезть к нему с нежностями или беседами? Да он сходу посылал меня. «Пошла вон, дура!» — его обычная реакция на любые мои «приставания». Кстати, если бы мы жили с ним вдвоём и больше никого не было рядом, я, наверное, как в том анекдоте, лет до четырёх думала бы, что моё имя Дура.
Годам к восьми я усвоила все уроки общения с братом и больше к нему ни с чем не лезла. Так мы и жили, словно соседи в коммуналке. Родители не могли этого не замечать. Но их всё устраивало.
Теперь многое видится по-другому. Видимо, маме он, первенец и сын от первой настоящей любви, был дороже всех на свете, и она больше всего боялась ущемить и обидеть его своим вторым замужеством и маленьким ребёнком от другого мужчины, не от его отца. Так бывает, оказывается…
Кто-то должен быть принесён в жертву? Либо первый ребёнок, либо второй? Одинаково относиться к обоим не получается? Не знаю, у меня нет такого опыта, не хочу быть категоричной в своих теоретических предположениях. Но по факту в жертву была принесена я. Потому что плохо было мне. Хорошо ли было брату? Мне кажется, да, ему жилось вполне комфортно.
Его, правда, тоже изуродовали и сломали, но по-другому. В итоге он прожил довольно странную и в сухом остатке бездарную, короткую жизнь, которую очень дурно закончил. Мой отец сдувал с него пылинки, мать обожала до умопомрачения, я… Я подчинилась ситуации и силе.
Вот и всё об этом, наверно. Остальное уже написано и рассказано раньше. И про то, что с годами всё становилось хуже и хуже и, в конечном счёте, дошло до полного взаимного забвения. Когда брат уехал из страны, мы друг о друге и не вспоминали. Конечно, моя детская любовь к нему закончилась, умерла, сгинула ещё задолго до его отъезда.
Брат. Чужой. Опасный. Недобрый. Желчный. Фантастически равнодушный. Презирающий. Трудно было найти на свете более чужих друг другу людей, но при этом настолько близких родственников.
Конечно, в конце концов, я разлюбила его, но лишь приняв навязанные мне «правила игры», поняв, что он за человек. Научилась равнодушию и отчуждению. Но для этого понадобились долгие годы, пришлось вынести много боли и вырасти.
ЧЕМОДАНЫ, РАСКЛАДУШКА
Наша маленькая хрущёвка, видимо, была немножко резиновой и могла растягиваться в разные стороны, прибавляя себе немало квадратных метров. Иного объяснения тому, что у нас порой жили гости по три-четыре человека сразу, не находится. Ведь раскладушка была всего одна! Где они все спали, как? Кажется, на моей детской перине, брошенной на пол.
Впрочем, такое случалось редко, обычным делом был приезд всё же одного человека, который поселялся у нас на разные сроки — от пары дней до двух недель. То были или родичи отца с Урала, или мамины с Украины, либо многочисленные приятели-коллеги родителей из Ростова-на-Дону, Челябинска и Волгограда. Во всех этих городах мама с папой когда-то жили и работали.
Друзья их молодости, приезжая в столицу в командировки, останавливаясь у нас. Ну, а уж родня — вообще святое. Так вот, эти события всегда были для меня огромной радостью и приметой счастья.
Начнём с того, что всех родных я очень любила. Тёти, дяди, двоюродные сёстры и братья — каждый раз я безумно радовалась их приездам, потому что… Да не знаю, почему. Сказать, что мне уделялось какое-то особое внимание или они привозили необыкновенные подарки — вовсе нет. Но мне и не нужно было. Само их присутствие, вот это воцарение посреди комнаты раскладушки, теснящиеся под окнами чемоданы и сумки, были поводом для некой праздничной радости.
Да-да, всех любила. Надо сказать, что по натуре своей я была эмоциональным ребёнком, постоянно переполненным какими-нибудь чувствами — любви, ненависти, нежности, раздражения. И всегда немножко захлёбывалась своими эмоциями… Впрочем, об этом будет отдельный разговор, потому что важно. Сейчас замечу только, что ко всем родным, ко всем родительским друзьям я испытывала очень сильную привязанность и нежность, а потому, узнавая, что к нам кто-то едет, кричала «ура!».
Не знаю, насколько это было «ура!» для родителей. Если совсем честно, папа отнюдь не приходил в восторг от нашего «постоялого двора». Его явно тяготило долгое присутствие в доме кого бы то ни было, и я не смею за это его осуждать! Вообще не представляю, как можно выдержать в таком крохотном помещении, где и без того живут четверо, кого-нибудь ещё — с чемоданами, узлами и московским результатом «большого шопинга». Ведь гости активно «скуплялись», им нужно было ВСЁ, ибо в их провинциальных городах не было НИЧЕГО. И это купленное ВСЁ холмилось и пахло в наших маленьких комнатах. Да родители просто герои, что стоически и терпеливо выдерживали такое! Я б не смогла, будучи взрослой, признаюсь честно.
Но тогда, в раннем детстве, обожала гостей, раскладушку, чемоданы и эту движуху в Моём Доме. Она бодрила и веселила. А все приезжающие к нам взрослые люди казались самыми лучшими и добрыми на свете. Не спрашивайте, почему! Оснований для этого не было никаких. Просто я так решила сама, и мне было приятно жить в подобном убеждении.
А уж когда приезжал погостить мой двоюродный братик… О-о-о, веселье до потолка! Хотя он приезжал, скорее, к моему полуродному брату, ведь у них была разница в возрасте всего в год. Но кузен относился ко мне ласковее и внимательнее, чем родной «брательник», поэтому я его очень любила. Мне немного было надо! Поинтересоваться моими увлечениями, спросить про любимую куклу, посмотреть со мной мультик… И всё! После этого я, любящая сестра, просто наблюдала преданным взглядом за тем, как общаются и что делают дома мои братья. И не лезу, не мешаю. Тихонько радуюсь.
Грустно было, когда кузен уезжал. Я скучала.
МЕНЯ МНОГО
Хорошо осознаю, что меня как ребёнка было много, особенно для маленькой хрущёвки. Девочка росла эмоциональная, на всё реагирующая бурно: если неприятность, то громко охала или даже плакала, если радость, шумно хохотала, подпрыгивала и кричала «ура!». Моя дочка в раннем детстве здорово напомнила мне меня саму.
Характер и поведение чувствительных и эмоциональных детей могут понимать и принимать лишь обожающие их взрослые. Если нет настоящей любви, то в лучшем случае на подобного ребёнка регулярно будут выливаться тонны раздражения, в худшем — на него будут орать и даже наказывать. Такие детки бывают не сдержаны в своих чувствах, их надо мягко воспитывать, объяснять, как справляться с эмоциями, осторожно направлять энергию в правильное русло и, таким образом, социализировать. Но можно иначе. Раздражение, гнев, окрики тоже работают на воспитание и социализацию, только другим образом: пугая и ломая ребёнка.
Повторюсь: всё зависит от тех чувств, которые есть у мамы и папы к своему чаду. Только от этого. Нет любви — есть безусловное бешенство от дитяти, которого много, который шумит, мельтешит и всё время, сволочь, испытывает какие-то эмоции! Есть любовь — раздражение появиться просто не может, потому что проявления ребёнка, показывающие, что он растёт, познаёт мир и всячески его ощущает, могут только радовать, даже вызывать восторг. Но самое главное — подталкивают к тому, чтобы помочь маленькому любимому существу справиться с потоком чувств, ощущений и эмоций. Страстным с рождения натурам бывает непросто! И самое ужасное, что можно с ними сделать — это заставить «заткнуть свой фонтан», переживать всё внутри себя, молча, притворяясь перед всеми не тем, чем ты являешься на самом деле, зато вести себя так, как удобно маме. Это калечит и характер, и здоровье. И, кстати, ту самую социализацию. Потому что ребёнок приспосабливается угождать и быть удобным, а не существовать в гармонии с миром, находя в нём своё правильное место и овладевая умением встраиваться в общество без ущерба для собственной натуры.

Я же росла в противоречии своего эмоционально-взрывного характера с тем, чего от меня ждали взрослые, родители. Поэтому ощутимо их раздражала. И ведь рано стала об этом догадываться, весьма рано, но умения мимикрировать ещё не хватало по малолетству. Поэтому отношения между мной и родителями медленно, но неуклонно дрейфовали к конфликтам.
Самым ощутимым и обидным моментом для меня стало адское раздражение папы, когда из-за какого-то моего эмоционального «выступления», возможно, более громкого, чем хотелось бы, и, видимо, в «тараторном» режиме, с привычным моим страстным нажимом, он вдруг весь сморщился, как от вони, и рявкнул: «Да не тарахти ты!». Зло рявкнул. Стало больно и внезапно очень тревожно.
Потом вот это самое «не тарахти!» сделалось его излюбленным приёмом, чтобы меня заткнуть. И я не сразу, конечно, но постепенно затыкалась… насовсем. Годам к двенадцати (да, я тормоз и жираф) сообразила, что мои волнение и эмоции не вызывают у взрослых ничего, кроме злости и досады. Мои чувства им неинтересны. Моя боль не трогает, а радости смешат. Ну, и так далее. «Не тарахти!».
Но это позже, позже… А в раннем детстве я не заморачивалась отношением ко мне других людей, жила бурно, с интересом и наслаждением осваивая этот мир. И моя эмоциональность очень тому способствовала! Я любила слушать разную музыку, обожала танцевать, слабеньким голоском много пела. Была артистична и активна: подбивала сверстников на бурные игры, на концерты, постановку спектаклей, где выступала в качестве и режиссёра, и артистки, и шила в каждой попе.
Ещё с детского сада это моё качество выделяли педагоги: мне поручались роли ведущей (помните про Снегурочку?) и прочие важные задания.
Во втором классе именно меня послали на школьный районный конкурс чтецов стихов Пушкина. Ох, как я радовалась и старалась! «Последняя туча рассеянной бури…» Была счастлива, что привезла с конкурса «Диплом-благодарность за участие».
— Ты не победила, — хмыкнула мама, когда я с гордостью предъявила ей глянцевый лист. — Это просто бумажка о том, что ты участвовала. Но ты вообще не победила. Ты плохо читаешь стихи, мы тебе говорили. Очень завываешь…
Огорчилась ли я? Если честно, не очень. У меня был огромный запас оптимизма и любви к жизни. Ну и не победила! Ну и ладно! Зато какой красивый диплом мне дали! И сам конкурс мне понравился, и стихи со сцены читать понравилось. Всё хорошо же!
Не так-то просто выбить радость жизни из того, кто под неё «заточен» с рождения. Не так-то легко испортить надолго настроение тому, кто во всём находит что-то интересное и занимательное.
Маме ещё предстояло изрядно потрудиться.
ЛЕНКА, ПРИХОДИ!
Подружки. Дорогие мои одноклассницы, «однодворницы». Их было много, всех не вспомню, имена забылись. Но есть незабываемые. Как моя Ленка. И одноклассница, и «однодворница». Самая близкая, любимая.
Конечно, мы сидели за одной партой. Конечно, в школу и из школы ходили вместе. А уж как ругались и ссорились! Правда, мирились через четверть часа, будто ничего и не было, напрочь забыв повод, по которому только что цапались.
Снова зима — снежная, дивная! Мы с Ленкой катаемся на санках, возим друг друга по очереди. Наш дикий хохот согревает ледяной воздух — до того мы жарко ржём! И носимся, будто в нас живут очумительной силы моторчики. Мы вообще умели уставать?
Постоянно валимся в снег, сапоги (валенки?) уже полны доверху, а мы всё никак не можем расстаться и разойтись по домам, хотя ранняя зимняя тьма давно накрыла двор. Но нам нужно ещё сбегать на другую сторону дома и покататься с горок на картонках. Иначе программа не выполнена.
Весной у нас, помимо классиков и скакалок, игра в бадминтон. Помню, мы опять так хохочем, что у меня слабеют ноги, я не могу удержать ракетку, сажусь на корточки, схватившись за живот, и скулю, умоляя Ленку прекратить меня смешить.
Но самое желанное, тайное и вожделенное — это телефонный звонок и ликующий Ленкин голос: «Кать, приходи!». И я по-быстрому набиваю портфель всем необходимым и несусь в соседнюю девятиэтажку к подруге. Мы вместе делаем уроки, а потом играем. Или слушаем пластинки. Или просто болтаем.

Когда я оставалась дома одна (любила это дело!), то приходила моя очередь набирать заветный номер на аппарате цвета топлёного молока: «Ленка, приходи!» И через десять минут запыхавшаяся подружка, взлетевшая на пятый этаж, уже стояла на пороге. Мы скоренько управлялись с уроками и начинали Большую Игру. Самую любимую!
Называли её шёпотом «про Л.». «В каждой строчке по три точки после буквы л…». Л, если кто вдруг не понял, означает «любовь». «Про Л.» — игра во взрослую жизнь. Мы наряжались «по-взрослому» (длинные юбки из платков, шаль на плечи, браслеты и клипсы) и превращались в томных дам из серьёзного зарубежного кино, очень мало похожих на наших мам. Изображали что-то явно из французской жизни. Не очень помню, как вела ту игру я, но Ленка была кем-то в стиле Катрин Денёв, про которую мы тогда ещё понятия не имели. Немногословная, загадочная, изящная, немножко печальная… У меня так не получалось, мне казалось, что я рядом с ней — пень пнём, деревянная, громкоголосая тётка Фрося, фефёла неповоротливая, хотя и с роскошными чешскими клипсами на ушах. А Ленка так изящно умела носить сумочку на плече, это что-то! С моего плеча эти проклятые сумки почему-то постоянно сваливались (и так до сих пор, кстати).
Те игры были очень целомудренны: мы «работали» врачами или учительницами, у нас имелись любимые мужчины, с которыми были очень, очень сложные отношения. Вот их мы и обсуждали. Кажется, своих непослушных «детей» тоже песочили. О боже, как это, наверное, выглядело смешно и забавно! Но какой же мы ловили кайф. Игра игрой, но как резвящиеся щенки или котята, изображающие охоту и драку, репетируют взрослую жизнь, так же и мы неосознанно готовились к ней, учась понимать и проживать ещё неведомые нам чувства и страсти, повторяя действия и слова, подслушанные у взрослых или увиденные в кино.
В эту прекрасную игру можно было играть, когда никого из взрослых не было дома. Серьёзное и тайное действо. Кстати, вовсе без кукол, которые теоретически могли бы выполнять роль «детей», но тогда было бы уже не настолько «по-настоящему». Нет, о детях мы только говорили, рассуждали: о проблемах, о болезнях, об их оценках в школе и о поведении. Какие куклы, что вы, всё серьёзно! Мы горестно вздыхали, потирая лбы, страдая из-за шалостей наших «детей» и неправильного поведения «мужей»… По моим нынешним воспоминаниям, те игры были для нас ничуть не менее захватывающими, чем Диснейленд, которого для нас, советской малышни, не существовало вообще. Даже в теории.
Уже сколько десятков лет мучаюсь чувством вины за две свои детские глупые гадости по отношению к Ленке. О них я рассказывала не раз, не хочу снова. Некому абстрактному ребёнку я, разумеется, прощаю, считая, что в этом возрасте и при том воспитании, которое я получала, подобные позорные поступки были неизбежны. Но я, к счастью, довольно быстро всё поняла и накрепко, на всю жизнь усвоила уроки.
А Леночка моя была необычной девочкой: она ни разу ни в чём меня не упрекнула, не устроила обидных сцен (хотя поводы вполне того заслуживали!), не отказалась от дружбы. И это о многом говорит, кстати. О том, каким эта нынче красивая, умная, потрясающая женщина была благородным и мудрым человеком с раннего детства.
Кстати, она, самая близкая моя подружка до пятого класса, бывавшая в Моём Доме чаще других — очень, очень часто! — ни разу не упрекнула меня за мои воспоминания, за мемуары, за то, что я выплеснула наружу. Леночка никогда не позволила себе сказать что-то вроде «ну, я-то знаю, я бывала в том доме», хотя ведь ещё как бывала! Но она слишком умна для этого, слишком «тонко настроена» и всё понимает. При этом, к счастью, подобного моему опыта у неё и близко нет: её семья была замечательной, дружной, любящей. Казалось бы, именно она имела все основания вскинуться потревоженной птицей: «Как так? Невозможно! Я всё видела и знаю! У меня были идеальные мама и папа! Фу, какая бяка эта Шпиллер-Щербакова!» Но — нет. Ничего, кроме сочувствия и мягкого «Как же так, милая? А я не знала ничего! Бедная ты моя!»
В те же годы был у меня (у нас) дружок-одноклассник по имени Тима (в этом случае имя изменено). Так вот, сейчас он, даже не попытавшись связаться со мной, поговорить, бездумно занял в моём страшном конфликте сторону безопасно-привычную — родительскую. Я не осудила бы его, если б мои аргументы в нашем несостоявшемся разговоре его совсем не убедили. Тогда он мог хотя бы промолчать и дистанцироваться от всей ситуации — в память о детской дружбе. Но он не промолчал и не дистанцировался — и это при том, что даже не сделал попытки разобраться, связавшись со мной, что в наше время, мягко говоря, несложно. То есть, ему стало «всё ясно» с самого начала — ведь он тоже у нас бывал, и родители наши немного, но общались. Хотя его значение в моей жизни не идёт ни в какое сравнение с тем, что для меня значила Леночка.
Эх ты, Тимка! Разочаровал.
Лена… Одна из самых моих больших печалей — потому что нам пришлось расстаться в наши одиннадцать лет. Хотя тогда я ещё не могла осознать, кого и что теряю.
В детстве расставания происходят легко, ведь впереди ждёт столько нового, интересного, прекрасного! Просто нет времени печалиться. Расстаёмся? Ну и что? Ведь будут новые друзья и вообще — что-то там прячется за поворотом, аж лопаешься от нетерпения и дрожащего ожидания этого необычайного! До прошлого ли, оставшегося где-то позади? Будет ещё лучше, будет прекрасно, не о чем горевать!
Не помню, когда мы с Леной попрощались. Теоретически было так: 4 ноября — последний день перед каникулами в школе, а 10 числа я уже поехала учиться на Бутырку. Когда мы простились? В школе? Или виделись в каникулы? Забыла!
Зато помню, что прощание наше получилось… суховатым, что ли. Мне кажется, нас обеих накрыло нечто вроде непонимания и неверия: как это — больше не будем вместе, не увидимся? Как это — всё позади и навсегда? Что такое «навсегда»?
Помню, несмотря на тревожно-радостное ожидание неведомого будущего с непременными приятными сюрпризами (а как же иначе?), в душе скребло недоумение — а куда денется Ленка, наши игры, как этого всего может не быть? Недоумение не оформлялось в конкретные слова и мысли, оно было иррациональными, на уровне чувства-ощущения некой нереальности происходящего, из серии «этого не может быть». Об этом было странно думать, я не понимала своих эмоций, а, главное, они причиняли незнакомую, новую боль. Поэтому хотелось не думать об этом вообще, не чувствовать, отстраниться.
— Ну, пока! Ты звони! — лёгкая улыбка, неловкие объятия и… всё.
Может, Лена чувствовала то же самое? Для меня-то это было самым первым серьёзным расставанием в жизни. И я не отдавала себе отчёта, что чувствую. В голове крутились мысли «Есть же телефон, будем созваниваться, ездить друг к другу в гости хоть каждую субботу!». Ага, как же…
Заметив же Ленкину некую отстранённость при прощании, я расценила её совершенно однозначно: «Ах, так ведь она совсем не переживает! Ей всё равно!» Даже плакать захотелось… Глупое, глупое детство. Мне тревожно и неуютно, а Ленке всё равно? Она, небось, так же думала про меня.
Такая тема, очень, как выяснилось, непростая. С каждым годом всё более и более, причём. Как легко скакать с места на место в детстве, правда? Даже если тебе где-то хорошо, кто-то дорог именно тут, но перемена мест не пугает, не огорчает, а только радует и дарит надежду на исключительно положительные перемены.
Потом, когда вырастаешь, дело усложняется: уже не так просто оставлять насиженный уголок, трудно расставаться с людьми, которых «нажил» именно здесь. Всплакнёшь, покидая. Хотя утешение приходит быстро — ты молод!
Неожиданно кое-что для меня оказалось важным и стало теперь уже окончательным. С каждым… ну, не годом, конечно, а десятилетием, расставания и перемена мест давались всё труднее и вовсе не по «физическим» причинам. Исключительно по психологическим. Очередное жильё становилось всё более родным, чем старше становилась я. Будто бы с годами во мне сильнее проявлялись главная кошачья черта — привязанность. И к месту, и к людям, и к обстановке: к запахам, звукам, привычному виду из окна. Стало намного сложнее прощаться с дорогими людьми, вплоть до тяжёлых рыданий, зарывшись физиономией глубоко в подушку, чтоб никто не услышал моего воя. Но! Очень важное но. Расставаться, оставаясь на своём месте, куда легче, чем уезжая! Вот, что со мной приключилось окончательно и бесповоротно. Мне больно бывает провожать, но, если при этом я, вся в слезах и соплях, возвращаюсь в свой дом, то скоро найду утешение. Только не уезжать самой! Только не взрывать сразу две бомбы в сердце — разлука с человеком и разлука с моим местом, с моей «норкой», где я всегда хочу быть, где всё родное, место моей силы и любви. Там мои собаки, мои вещи, мои часы, картины, мой трельяж и любимая подушка.
Последний рывок случился двенадцать лет назад: я уезжала навсегда и за тысячи километров из своего дома и от совсем взрослой, но обожаемой дочери. Теперь тот момент мне видится порой в ночных кошмарах, ни за что не смогла бы повторить такой поступок! Умерла бы на месте.
Возможно, возраст и нездоровье. Оба-два. Но факт есть факт: вряд ли теперь смогу «безнаказанно» сменить местожительство. Хм, пожалуй, у меня появился новый страх, что однажды это случится. Не уверена, что выдержу. Слишком «вросла» в стены, в обстановку, слишком вложила себя в это место, надышала, нагрела собой. Когда жильё больше, чем жильё…
Осознала это в полной мере, вспоминая прошлое. Показалось немыслимым, как все те разы я, по своей воле, или подчиняясь чьей-то, бросала старое место — решительно, бесповоротно, и уезжала далеко (с каждым разом, кстати, всё дальше и дальше)! Могла! Как у меня получалось? Теперь, боюсь, не хватит силы духа.
По этой причине я — на всякий случай! — стала опасаться и сторониться сильных привязанностей. Разумеется, новых. Мне бы прежние «осилить» в смысле разлук и расставаний. Не надо больше боли, ни к чему она мне.
Написала я это в связи с воспоминанием о первом своём расставании с прошлым — с ранним детством, с Моим Домом, с Леной, в каком-то смысле — с безмятежностью и покоем, которого у меня больше никогда не будет после Останкина. Разлука прошла легко, ура. Я её заметила, оценила и оплакала спустя аж сорок лет. Такие бывают странности.
Лишь теперь с особым чувством вспомнила так легко когда-то оставленное и на время забытое. Винить себя не в чем, это нормально в том возрасте, странно было бы для пятиклассницы страдать и убиваться по старой квартире, прежней школе и подружкам, неестественно и уж точно нездорово. Как совершенно обычный ребёнок, я, не оглядываясь, уехала в новую жизнь. Оставив Мой Дом и Лену позади, в прошлом, без слёз и рефлексий.
Зато теперь отдала бы всё, чтобы вернуться в Останкино и никогда-никогда оттуда больше не уезжать! И не потому, что в будущем меня не ждало ничего хорошего — нет! Об этом я и пишу — о том прекрасном, что держало на плаву, заставляло любить жизнь, несмотря ни на что. И всё же те годы в Моём Доме, дружба с Леной, тогдашнее взросление с книгами, кино и спектаклями, игры и отношения со сверстниками — вне конкуренции. Самое доброе счастье навсегда.
Опять чуточку забежала вперёд! Я пока живу в Останкине, и Мой Дом — самая настоящая крепость. Несмотря на побежавшие по стенам воображаемые трещины. Они пугают меня, но я всё ещё верю, что Дом устоит и в целом всё замечательно.
МАМА, СМОТРИ КАК Я МОГУ!
Временами, несмотря на неформальное лидерство и свои уверенные позиции в детских компаниях, я становилась предметом насмешек. И связано это было, как правило, исключительно с… моей мамой.
Дети безжалостны и даже жестоки — это нормально, таков, увы, путь взросления гомо сапиенсов. Ну, что делать!? От злобной, гадкой обезьяны произошли наши предки, вот и приходится малышню социализировать и цивилизовывать изо всех сил с самого раннего возраста, потому что изначально мы все — маленькие очень злобные гоминидики.
Клевать кого-то за компанию, издеваться над тем, кто «не такой» — норма для обезьянок, пока что не ставших в полной мере не то что сапиенсами, но даже гомо.
Вот пример. Я уже упоминала, что моя мама «сидела дома». То есть, она работала, но в советское время этого не понимали: мама должна, как все, ходить на работу, возвращаться вечером и получать за это зарплату. У нас всё было не так. Почему-то некоторым детям такой порядок вещей, что был заведён в нашем доме, казался смешным. Они смеялись, тыкая в меня пальцем: «У неё мама дома сидит!» С ними самими, кстати, дома сидели бабушки — вот это считалось нормальным. Пару раз кто-то себе позволил нечто вроде «она у тебя больная, что ли?», но за это тут же сильно получил от меня, поэтому такие оскорбительные предположения не пользовались успехом.
Замечу, что подобное отношение народ очень сильно поддерживал, к примеру, школьные училки. Когда возникал разговор о «маминой работе», и я говорила, заранее напрягшись, что «моя мама работает дома», насмешливая улыбка тут же трогала строгие рты учительниц:
— Как это — дома? Как можно работать дома? Ты хочешь сказать, что она — домохозяйка?
— Нет, — угрюмо бубнила я. — Она пишет.
— И что же такое она пи-и-ишет? — почти мурлыкала дура-шкрабина, ухмыляясь. Маму тогда ещё нигде не публиковали.
— Книгу.
— Надо же! Как интересно! — смеялась училка, а с ней и все ребята.
К сожалению, подобные сцены случались, поэтому у малышни вполне были основания посмеиваться над моей домашней ситуацией.
А ещё я была патологически честной с мамой. Вот идём мы стайкой с подружками — они высыпали на условно проезжую часть дороги, по которой раз в час медленно проезжает какая-нибудь машина, я же упорно топаю по узенькому тротуару, как бы отдельно от компании.
— Кать, иди к нам! — кричат девчонки.
Я решительно мотаю головой:
— Нет. Я маме обещала не выходить на дорогу.
— Ой-ё-ёй! — заливаются подружки. — А где твоя мама-то? Она даже в окно тебя здесь увидеть не может, ты что?
Я, отвернувшись в сторону, делаю вид, что смотрю на птичек, молча продолжая идти, где шла.
— Кать, ты дура? — заходятся от хохота дети.
И я, набрав в грудь побольше воздуха, громко выпаливаю:
— Я обещала маме! Вы понимаете? Обещала. Всё!
Вот такая Катя-дура. Никогда не умела обманывать ни маму, ни папу, так и не научилась даже через годы. Обещания выполняла, на вопросы-допросы отвечала честно. Себе на голову, между прочим. Никаких хитростей, никакого лицемерия или крохотной лжи с любимыми и самыми родными людьми! Как у них (у родителей) это получилось — вот так меня выдрессировать? Они ж сами совершенно другие — чемпионы и по лицемерию, и по лжи! Чудеса.
Все любят своих мам, все обожают, некоторые обожествляют и, как я, создают себе кумира, бога. Впрочем, кажется, здесь вкралась очевидная ошибка: не я создала себе кумира, а мне его создали. Чёрт знает, как, какими средствами у них это получилось. Но получилось. Мамино отношение ко мне являлось для меня всем, смыслом жизни и другого смысла не представлялось.
Поэтому то, о чём пойдёт речь дальше, было для меня не просто печально, обидно, драматично, но очень даже трагично.
Тогда ещё только наметилось, назревало, зарождалось понимание, что маме я по большому счёту неинтересна. «Мама, смотри, как я могу!» — известный всем детский крик-призыв показать самому родному и любимому человеку, как и что у ребёнка получается, какой он молодец.
Мысленно я кричала эти слова почти до сорока лет. Смешно? А нет, не смешно — глупо. Вслух прекратила лет в двенадцать. Но мечтала показать маме свои успехи каждый раз, когда они были. Любые! Самые маленькие и ничтожные. Чтобы я ни делала, всякий раз думалось: «Покажу маме! Расскажу маме! А что скажет мама?» Инфантилизм. Или такая любовь? Или жуткая зависимость? Может, всё вместе.
А маме-то в девяти из десяти случаев было неинтересно. Ни как я играю на пианино, ни как пою, ни как танцую. Вот отметки в табеле — это да. Вот похвала от учителей или кого-то постороннего — то, что нужно. Но то, чем мне самой хотелось похвастаться и узнать её мнение, никогда не вызывало маминого энтузиазма. Как, к примеру, мои рисунки — это «каляки-маляки, чтобы отделаться».
Я придумывала танцы — может, и красивые, потому что танцевать всегда могла неплохо. Училась петь под пластинки. Сочиняла музыку. И никогда не могла дозваться маму, чтобы она посмотрела, послушала, хоть как-то отреагировала! Она сбрасывала сие тяжкое бремя на папу. «Сань, поди посмотри, послушай.» Папа, конечно, это тоже хорошо. Он покорно приходил ко мне, смотрел, слушал, улыбался и всегда говорил «ну, молодец». Но это было не совсем то.
— Маме расскажешь? — я умоляюще складывала ладони.
— Расскажу, — усмехался отец.
— Правда расскажешь, не забудешь? — мой голос звенел тревогой, потому что я видела насмешку и подозревала враньё.
— Да, — уже раздражённо бросал папа и уходил.
И почему мне всегда было так горько после демонстрации, как я могу, ему, а не маме?
Забегая вперёд, во времена после Моего Дома, когда я уже больше не чувствовала себя защищённой и умиротворённой, скажу: мои попытки показать маме, что у меня по-настоящему получалось, на хорошем уровне — в сочинительстве, в танцах, в пинг-понге — так и не увенчались успехом. Ни разу. Никогда. Мне всегда казалось, что она не очень ценит меня потому, что не всё обо мне знает, не всё видела!
Поэтому ещё десятилетия я так и кричала мысленно: «Мама, ну смотри, как я могу!». И прекратила лишь тогда, когда мама открытым текстом сказала, что отказывается от меня, что я ей не нужна больше такая. Какая, вы знаете: бросившая «хорошего» мужа, выбравшая для себя новый путь, полюбившая «плохого» мужчину, решившая изменить свою судьбу. Ей ни старые мои успехи не были интересны, ни моя новая жизнь.
Разве нужна я ей была та, прежняя? Если никогда не интересовала её ни малышкой, ни подростком, ни молодой женщиной. Если ей ни разу не было интересно, что и как может и умеет её дочь. Только лишь отметки в табеле — оценки меня посторонними людьми, причём, получившими сертификат на выставление этих оценок, а не просто абы какими «дураками», которым нравится, как я что-то делаю.
Что ты знала обо мне, мама? Ничего. Потому что ничего и не хотела знать.
— Мама, смотри, как я могу!
— Не смотрю и не собираюсь. Неинтересно. Если на самом деле что-то стоящее, мне сообщат нужные, правильные, уполномоченные люди, тогда и будет, чем гордиться.
Вот это был бы честный диалог.
ВЗРОСЛЫЕ КНИГИ, НЕДЕТСКОЕ КИНО
Даже не представляю, сколько времени стоило бы уделить кино, театру и книгам по весомости их влияния на моё взросление. Наверно, две трети всех воспоминаний. Ведь это было самое главное, что меня формировало, и самое прекрасное, что приносило так много счастья. Словом, история на много томов, а потому нужно поставить себе рамки и рассказать более-менее конспективно, в противном случае я могу о многих книгах и фильмах написать по трактату: об общем впечатлении, о конкретных героях, об артистах, о том, как сделан фильм с точки зрения воздействия на ребёнка, о том, какие мысли возникли сразу, какие потом, как я ночью, вместо того, чтобы спать, обдумывала прочитанное или увиденное…
Печально то, что тогда мне не с кем было всё это обсуждать. Вот вообще. С друзьями я нечасто совпадала в интересах и вкусах (меня слишком рано унесло во «взрослое», а многих детских книг, которые были в нашем доме, у многих моих сверстников по понятным причинам не было), родители же не интересовались моими пристрастиями, их не волновали мои мысли о прочитанном или просмотренном, даже папа не обсуждал со мной спектакли или кино, когда мы шли из театра или кинотеатра. Потому что ему не было интересно. Как и матери, сроду не спросившей, что я читаю и как это воспринимаю.
Впрочем, не совсем так… Если она замечала, что я читаю что-то детское, то презрительно хмыкала. По её мнению, уже лет в восемь-десять я должна была читать исключительно взрослую русскую и зарубежную классику. За «сказочки» меня не раз высмеивали.
Но на этом хватит о печальном! Дальше исключительно про удовольствие.
Я всегда торопилась домой с занятий не только потому, что мне нужно было идти в школу номер два — музыкальную, не потому, что спешила делать уроки, а потому, что на столе меня ждала какая-нибудь книжка с закладкой. Сев за обеденный стол, я ставила книгу на подставку перед тарелкой супа, а, поев, таскалась с книжкой по всему дому, пристраиваясь, как кошка, которая постоянно «облёживает» разные места. Мне нравилось то посидеть с книгой в кресле, то поваляться с ней на диване, то бухнуться на ковёр и читать, лёжа на животе и дрыгая ногами. Ну, а за едой — это святое.
Я уже упоминала, что чтение было совершенно бессистемным и хаотичным — от совсем малышовых книг до абсолютно взрослых и потому не всегда до конца понятных.
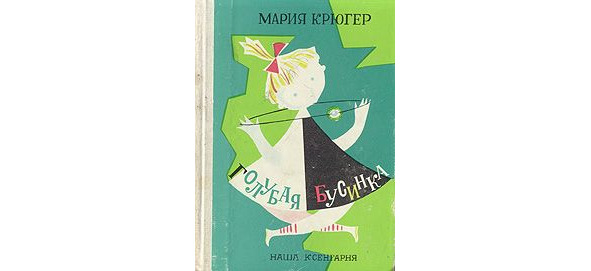

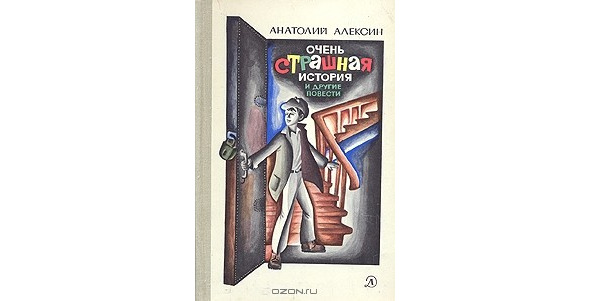
Та же история происходила с фильмами и спектаклями, которые показывали по телевизору. Смотрела всё! Без каких-либо исключений. Детское, взрослое, плохое, хорошее — навалом и запоем. Сама училась отличать дурное от качественного, халтуру от искусства. Помню, как впервые почувствовала, что на экране творится нечто бездарное, по странной причине: мне сделалось неловко, даже стыдно смотреть на происходящее. Подумалось нечто вроде «взрослые люди, как им не ай-яй-яй!».
Именно таким образом из круга моих интересов, из моего понимания «настоящего», довольно скоро были выведены все пропагандистские, агитационные фильмы и постановки. Фальшивый пафос, бездарные тексты, напыщенность героев и прочие признаки политической халтуры заставляли краснеть и мучиться дикой неловкостью за авторов и исполнителей. Так и начал формироваться вкус — из ощущения стыда, от сравнения с безусловным настоящим, таким, как классика (обожала постановки по Островскому и Достоевскому), как талантливо сделанное современное, часто переводное.
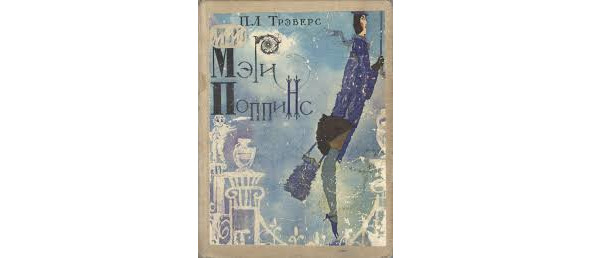
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.