
Бесплатный фрагмент - Лунная танка
Рассказы
…всем моим близким, любимым, дорогим
В оформлении обложки использован рисунок автора «Лунная танка», бумага, карандаш, акварель, 2008 г.
Привычка

Он не смог бы объяснить, почему это вошло в привычку. Даже не в привычку, а в какую-то неодолимую страсть, навязчивую идею. Почему это делало его жизнь осмысленной и дисциплинированной, а его самого решительным и энергичным.
Всё началось с того, что он банальным образом потерял работу: попал под сокращение штатов. Частная компания, на которую он честно «горбатился» не один год, не выдерживая дикой конкуренции, грызущей её со всех сторон, сворачивала свои дочерние предприятия. И он, как и многие, занятые доселе нужным трудом, занимающие какие-то должности и вдобавок ко всему этому получающие зарплату, остался не у дел. Это жестоко ударило по его самолюбию. Что-то надломилось в нём. Работа, которая ему нравилась, которой он посвящал почти всё своё время, выходя иной раз и в выходные, и в праздники, в один прекрасный день закончилась. Закончилась простым уведомлением о расторжении трудового договора. Он и не подозревал, насколько до этого был болен работой. Радея за каждую мелочь, стараясь всячески угодить начальству, предоставляя отчётность с немецкой пунктуальностью, занимал доверенную ему должность. И вот теперь ему катастрофически не хватало этой работы. Конечно, можно, и даже нужно было бы найти работу не хуже а, может быть, даже и лучше. Здоровому человеку средних лет, за плечами которого два высших образования, безработица не грозит. Но он ушёл в себя, замкнулся, никого не желая слушать. Друзья, знакомые, бывшие коллеги по работе, даже жена не могли ничего добиться от пустого места, которое он собой в данный момент представлял.
Жена, не связанная с ним ни детьми, ни тем чувством, что испытывала к нему три месяца до свадьбы и два после, бросила его. Оставшись один, он бесцельно ходил по квартире, не думая ни о чем ином, как о том злополучном дне, когда по электронной почте пришло письмо о ликвидации ряда подразделений фирмы. Он возненавидел этот день и эту фирму. Он со злостью строил планы подорвать всю компанию, или хотя бы её головной офис. Но, когда возбуждённый мозг касался деталей терракта, он понимал всю безрассудность этой затеи, и вскоре и вовсе отказался от неё.
За неделю запасы еды в холодильнике истощились. Всю неделю он жил в бредовом состоянии: не понимал, чем питался и питался ли. Всё происходило как во сне: обрывки телепередач, огонь газовой плиты, звонки в дверь… Всё казалось каким-то надуманным, слепленным из чужих пересказов чьей-то жизни, склеенным из нелепо подобранных эпизодов видеофильмов, подобно анонсам вначале «пиратских» кассет на непонятном языке…
И только сильнейшее чувство голода смогло вывести его из этого состояния. Точно щёлкнули выключателем, и доселе непроглядная тьма обернулась уютной комнатой. Он сидел на диване, уставившись в телевизор, когда сознание вернулось к нему в полноценной форме. Шла передача, где приводились статистические данные: сколько людей в нашей стране добровольно уходят из жизни. Мысль о суициде, до этого незнакомая и пугающая, сейчас поразила его своей простотой и логичностью. В ней не было ни жалости к себе, ни обиды на жизнь, ни истеричности кому-либо отомстить или что-либо доказать своим поступком. Была просто решимость. Нужно сделать — и всё. Нужно-то, нужно, вопрос в другом — как? В каждом из нас где-то глубоко-глубоко сидит художник. И теперь этот глубоко сиделец вылез на свет. Ему безумно захотелось обставить свой уход красиво. Он даже обрадовался, что можно это сделать красиво. Перебрав множество вариантов поквитаться с белым светом, он остановился на одном, как он сам назвал, — элегантном. Купить (благо в наше время это вполне реально) на чёрном рынке револьвер системы Нагана… Именно «наган», ни ТТ, ни «Макаров», ни какой-либо иной пистолет — а «наган»… И застрелиться. У него даже перехватило дыхание от восторга, когда он представил этот легендарный пистолет. С юношеским задором он представил себя офицером, которому выпала честь застрелиться. Всё только упиралось, как всегда, — в сумму, которую необходимо выложить за «элегантную смерть». Через час у него даже потемнело в глазах, настолько он напряженно думал, лихорадочно ища решение, где же взять деньги. И, кажется, он готов был выбежать на улицу и задать этот вопрос первому встречному. Он так бы и сделал, в отчаянии вскочив с дивана, если бы его взгляд не упал на компьютер, вот уже которую неделю пылившийся без дела. Решено. Но сначала нужно поесть, как-то недостойно «красиво» уходить из жизни на пустой желудок. Нужно купить еды и… шампанского.
Револьвер лежал в ладони как влитой. Вороненый, пахнущий оружейным маслом. Сжимая рукоять с немного истёртыми черными накладками, он чувствовал скрытую мощь смертоносного оружия. Сила, которая заставляет трепетать тебя всего, ощущать непонятное волнение, всецело охватывающее и заставляющее сердце биться быстрее. Вопросы, подобные тому: «смогли бы вы убить человека?», — становятся жалкими и несерьёзными в такие моменты. Возьмите в руки настоящее, готовое к бою оружие, и я уверен ваш ответ будет утвердительным. Давно подмечено, что именно оружие делает из простого человека воина, внушает ему уверенность, превосходство над другими, подчиняет своей воле. Удивительным образом меняется мировоззрение, точно ты обладаешь той властью, которая возвеличивает тебя над остальными. Вы никогда не задумывались, почему люди, в совершенстве владеющие одним из видов искусств рукопашного боя, настолько уверены в себе, спокойны в любых ситуациях, и их невозможно вывести из эмоционального равновесия? А ведь это тоже оружие. Нечто подобное чувствовал сейчас и наш герой. Злорадная улыбка не сходили с его губ, когда он гладил его, целился в предметы домашнего обихода, эмитировал отдачу от выстрелов. И при мысли, что когда-то (вполне вероятно) кто-то был убит из этого «нагана», возбуждала необъяснимое чувство радости, гордости за честь держать его в руках.
Только об одном он сейчас жалел: нельзя было заполнить комнату музыкой — проданный компьютер до сих пор ощущался каким-то опустошенным уголком. К данной мистерии подошла бы классика: проникновенная, нагнетающая и пугающая. Он откупорил бутылку с шампанским, налил фужер и задумчиво посмотрел сквозь него на зажженную свечу. Затем, сделав глоток, поставил фужер на стол и закурил. Он наслаждался ясностью и пустотой в голове. Впервые за многие годы он ощущал свободу. Он готовился умереть, и это его не пугало. Его не мучила совесть, не тяготила привязанность к жизни. Он докурил и снова взял в руки пистолет. Нажал на рычаг — барабан «отошёл» в сторону. Вынув патроны, долго и внимательно смотрел на них, изучая и пытаясь понять, как такие маленькие с виду пули несут такую колоссальную энергию, убивающую человека. Наугад выбрал одну из семи смертей и вложил её в патронник.
Ствол неприятным холодом коснулся виска. Нет, так слишком просто. Он допил шампанское и крутанул барабан — а теперь будь что будет… И всё-таки что-то дрогнуло в нём. Он задрожал, всё внутри сжалось и лихорадочно забилось. Его бросило в пот. Нет, он не испугался, быть может, это только волнение, какое всегда бывает перед важными поступками в жизни, поступками, определяющими жизнь, или, как в его случае, определяющими смерть. Стоило невероятных усилий заставить себя положить указательный палец на спусковой крючок. Он долго не решался нажать его, чувствуя в груди ураган противоречивых эмоций. Если бы кто-то видел его в эти секунды со стороны, то мог бы предположить, что он просто растягивает удовольствие. И всё же… он нажал…
Раздался сухой щелчок. Он всё ещё был жив. Удивлению не было предела. Он просто был уверен, что барабан остановится на том из семи патронников, в который вложен боевой патрон. Неужели удача пришла к неудачнику? Что ей нужно, этой строптивой деве, у него? Или это адская насмешка над несчастным перед смертью? Крутанув ещё раз барабан, он уже без колебаний дёрнул крючок, и — вновь курок с тихим треском ударился в пустоту. Снова и снова он вращал смерть вокруг оси. Он даже сбился со счёта. Но ничего не происходило. Проверив, на месте ли патрон, он поменял его, подозревая, что первый отсырел. Всё повторилось. Третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой… Ни один из них не давал положительного результата. Тогда, взбешенный, разъяренный от негодования, готовый собственными руками удавить того, кто продал ему этот револьвер и эти патроны, он вложил их все и выпустил в стену… В стене зияло семь углублений. Колдовство какое-то! Он повторил всю комедию от начала до конца. Налил… Глоток… Закурил… Зарядил один патрон… Частые щелчки вращающегося барабана… И — ничего. Вторую партию проверять было бессмысленно: он просто подогнал так, чтобы курок наверняка ударил капсюль. Выстрел — и абажур настольной лампы в дальнем углу разлетается вдребезги. Он долго сидел не двигаясь, ошарашенный, боясь что-то вспугнуть. А вот что это «что-то», что-то мистическое, безусловно важное, значимое?… Он задумался, потом откинулся на диван и засмеялся. Смеялся долго и истерически надрывно, слёзы текли из уголков глаз, и сквозь их туман мир стал казаться не таким, как прежде. Это как какое-то озарение или прозрение. Что-то в нем начало движение в противоположную сторону. Проблема, которая до сих пор была катастрофична и ужасающе непреодолима и которая своей мнимой несовместимостью с жизнью толкала его на суицид, сделалась незначительной настолько, насколько может быть атом незначителен перед вселенной. Он открыл в себе то, что до этого ни коим образом не проявлялось. Да я, с моим везением, рассуждал он вслух, могу горы свернуть… Я, которого даже пуля не берёт…
Прошёл год с тех пор, как он потерял работу, и от него ушла жена. За этот год он во многом преуспел. Открыв в себе талант коммерсанта, он брался за любое дело, будь оно легальным или нелегальным. Он проворачивал гигантские аферы, за одну ночь делая деньги, которых многие не заработают и за двадцать жизней. Он рисковал, рисковал по-крупному, не испытывая ни малейшего чувства страха. Его соратники, закоренелые преступники, могли только удивляться, как экстремально он играл со смертью. Одним только поведением он заставлял дрожать конкурирующих «воров в законе». Его положение в обществе также стремительно взметнулось ввысь и вскоре достигло апогея. Вход в кабинет к чиновнику любого ранга, даже наивысшего, для него был не просто открыт, его всегда ждали, как провидения. Не стоит даже приводит те цифры, какими исчислялось его состояние. Дома и виллы, разбросанные по всему миру… Автомобили, яхты, игорные клубы… Бордели, где каждая проститутка стоила, как квартира в Урюпинске… И всегда и повсюду с ним был, как амулет, как талисман, как оберег, тот самый револьвер системы Нагана. Он уже не представлял жизни без него. Чувствовать спиной, что он за поясом, стало нормой. Пистолет стал ещё одним членом его тела, неразрывно связанным с плотью нервной системой. Казалось, он чувствует этим пистолетом, как пальцем или щекой. День изо дня, когда наступали сумерки, он проводил один и тот же ритуал. Он запирался в комнате, плотно задёргивал шторы. Зажигал свечу, открывал непочатую бутылку шампанского. И крутил барабан. Казалось, что теория вероятности над ним не властна: наверное, сама Удача пожизненно одарила его страховкой. Этот ритуал вошёл у него в привычку, в зависимость, как от морфия. Будто крепкий чёрный кофе по утрам, без которого невозможно отойти от сна, стимулировала она его, давала энергию и вдохновение. Как мусульманин боится пропустить намаз, так и он боялся пропустить время, чтобы встретиться со смертью и, заглянув в её глаза, остаться живым. Он ухаживал за револьвером так нежно и любяще, как, быть может, не ухаживают за единственно любимым питомцем. Чуть ли ни каждый день разбирал, собирал, смазывал… В любых коммерческих переговорах он ставил его главным аргументом. И за это снискал себе уважение в глазах не только простых бизнесменов, но и отъявленных, отчаянных головорезов, коими полон большой бизнес.
***
…Её звали Елена. Знакомство с нею произошло до смешного банально: он отбил её у уличных хулиганов, причем прострелил одному колено, другому руку. Вечером после ужина в дорогом ресторане, за бокалом «Мадам Клико» она призналась, что давно ищет настоящего мужчину для серьёзных отношений, на которого можно было бы положиться даже в такие моменты, как недавно произошедший. Её папа — крупный банкир, чьё состояние легко сопоставимо с бюджетом одной из отсталых стран. Сама же она, долгое время прожив в Европе, получила блестящее образование юриста, но знания на деле до сих пор применить так и не получилось. Руки её уже давно добиваются множество преуспевающих и талантливых мужчин. Существует только одно «но», один критерий, по которому она до сих пор не смогла найти свою «половинку». Перепробовав множество мужчин, она не была удовлетворена в интимном плане ни одним из них. По её словам, она страдала от избытка романтичности, т.е. мужчина должен был неисчисляемое количество раз «разжигать огонь в её горниле страсти», а попадались лишь тлеющие фитильки. Претендент должен обладать такой продолжительной мужской силой, чтобы смог не только утолить её желание, но и утомить её, чего ещё не удавалось никому.
Ему удалось. По началу, конечно, было всё как-то вяло: по сути, он даже и не хотел её, эту богатую сумасбродку и нимфоманку, не отличающуюся ни привлекательностью, ни сексуальностью, от своей сытости и безделья страдающую хандрой. Он уже читал в её глазах глубокое разочарование, когда в интимной близости, при откровенной наготе не обнаружилось даже зачатков того, чего она желала увидеть. Никакие ухищрения, в каких оказалась она искуснейшей гейшей, и от которых даже давно отчаявшийся джентльмен воспрянул бы духом, не давали положительных результатов. Вне себя от бешенства и огорчения, которое она считала за оскорбление её душевных порывов, Елена стала поносить его последними словами и в грубой форме просить покинуть её и её дом.
«Ты, значит, хочешь утомиться?..» — закричал он и опрокинул женщину на постель. Через мгновение он скрылся в соседней комнате, оставив её в полном негодовании. Спустя десять минут он вбежал в комнату и буквально бросился на неё… Елена не могла понять, почему он после каждого акта уходит в соседнюю комнату и возвращается уже полный сил и возбуждённый. Чем он занимается там, и что его так возбуждает? Эти вопросы её мучили до самого утра, но она не решалась задать их вслух — боялась вспугнуть его вдохновение. Утром же она не просто «утомилась» — она выла от боли и просила прекратить пытку любовью.
«Что же ты всё-таки делал за дверью?» — набравшись смелости спросила Елена.
«Крутил барабан» — загадочно ответил он. И как бы ни просила она пояснить ответ, он только таинственно улыбался.
***
…Была суббота. Елена, беременная ещё одним мальчиком, третьим их сыном, грелась голая в шезлонге на берегу тихого океана. То, что она беременна, она узнала недавно, и теперь её душу опять, уже в третий раз, согревала мысль о будущем новорожденном. Она поглаживала пока ещё плоский живот, ласково глядя на него, и представляя, каким он будет, этот мальчуган. Полуостров был их собственный, граница владений, где находились части его собственной пограничной охраны, была в нескольких километрах отсюда, так что ни единая душа не могла нарушить их уединения. Прислуга, состоящая в основном из женщин и обязанная волей контракта никогда не покидать полуостров и, кстати говоря, тоже обходиться без всякой одежды, конечно, была не в счёт. Правило «натуральности» смягчалось только для мужской половины слуг: им разрешалось ношение набедренных повязок. Сами же они вот уже вторую неделю, с момента прибытия в этот Эдем, все время ходили обнаженные, как Адам и Ева, мнив себя некими полубогами из греческой мифологии. У каждого свои причуды, тем более у богатых: кто-то покупает спортивные клубы, кто-то вкладывает деньги в благотворительность и получает из неё ещё большие барыши — они же создали себе рай на земле. У ног мамы возились два мальчика, одному было семь, другому пять. Отец был в доме, он не любил загорать нарочно, и, наверное, был занят тем своим скрытным делом, каким занимался который год их совместного брака втайне от неё. Как ни старалась она, ей так и не удалось узнать, что он от неё скрывает, уединяясь и не допуская никого, даже жену. Оставалось строить только догадки, от криминальных до мистических, и от мистических до неприличных. Повсюду, когда они были вместе, он не изменял своей привычке: в отелях он просил номера с дополнительной комнатой, которая бы закрывалась на ключ, с плотными занавесками или жалюзи. Даже на высоких раутах он просил всех извинить его и спешил откланяться. Затем возвращался свежий, сразу похорошевший, с огоньком в глазах. Всегда чувствовалась разительная перемена во всём его облике: сразу пропадала нервозность, подавленность и усталость. Закрадывалось подозрение, не употребление ли наркотических препаратов давало столь явный эффект физического и психического возбуждения. Сколько бы она ни старалась, оглядывая руки и ноги мужа, ища следы от инъекций, принюхиваясь, не пахнет ли чем-нибудь странным, не смогла подтвердить свои подозрения. Втайне от него она носила на экспертизу стаканы, которые оставались после его «обрядов», вещи, которые он носил, даже окурки. Но экспертиза ничего не дала. Поиски каких-либо таблеток тоже не увенчались успехом. Да и во всём его виде не было ничего такого, что могло бы выдать его за наркомана: всегда абсолютно ясный взгляд, ни малейшей дрожи в руках, и поведение перед уходами в соседнюю комнату никак нельзя было назвать «ломками». Долгое время она гадала, не занимается ли он оккультизмом, но, проштудировав уйму литературы по данному вопросу и не найдя сходств ни с одним культом, она перестала ставить оградительные символы повсюду, где он был. Иногда это её пугало, иногда выводило из себя, а вечный ответ «кручу барабан» просто бесил. Только одно останавливало её нанять детектива: его необузданность в амурных отношениях, низвергающихся после отлучений. Постепенно она свыклась с его причудами и старалась не обращать на них внимание. И сейчас, она уверена была, он под видом того, что ему нехорошо от жаркого солнца, оправился отдаться этому занятию. Она знала это наверняка, потому что, как и пять минут назад, перед каждым, так сказать, сеансом он делался нервным, возбуждённым и страдающим от нехватки воздуха.
Елена прикрыла глаза и припомнила, как этим утром они, оставив малышей на попечение няни-негритянки, с которой он иногда делил постель, против чего Елена, впрочем, никогда не возражала и даже приветствовала, уставая от его неутомимости, удалились в глубь джунглей. Вообще-то ради того, чтобы заняться любовью, они и не стремились к уединению, не стесняясь даже верзилу-повара, позволяющего себе бестактные шутки, глядя на их игры, — просто ей сегодня захотелось романтики. Представить себя амазонкой в девственных лесах, похищенной аборигеном, диким, ужасным и страстным любовником. Они долго бегали между пальм, кричали и смеялись, целовались под радужной струёй воды, сбегающей с небольшого утёса… Она ещё ощущала то отрывистое, учащённое дыхание, бившееся горячим воздухом о кожу спины, когда он, содрогаясь и крепко обнимая её, стоял позади… Как затем она смеялась над ним, видев почти нешуточную обиду в его глазах, когда она вырвалась из объятий, не позволив довершить начатое. И, убегая по кромке моря, приглашала догнать её… Потом в искусственной бухте они плавали среди стайки ручных дельфинов и кормили в специальных вольерах кусками свежего мяса акул… Позже они вовлекли в любовную игру одну из служанок, и Елена только созерцала происходящее. Затем поменялись ролями… Навещали животных в своём собственном зоопарке, занимающем огромную территорию, с множеством клеток, вольеров, питомников, аквариумов. Смотрели вчерашний приплод у львицы. У этой клетки он её, нежно обняв, поцеловал и сказал, что и её черёд уже скоро, каких-то девять месяцев… Она счастливо улыбнулась. Жизнь удалась. Любимый муж, дети, персональный рай — о чём ещё можно мечтать. Елена начала уже дремать, как её встревожил неожиданный звук, какой-то хлопок, как будто разорвался газовый баллончик для зажигалок. Она вскочила с шезлонга, напряженно всматриваясь в сторону дома, откуда донёсся хлёсткий, приглушённый взрыв. Всё похолодело от дурного предчувствия. Она не знала ещё, что произошло, но сердцем почувствовала, что произошло что-то неотвратимое, что-то неизбежное, что-то, что должно разрушить их идиллию…
…Прибежал повар, большой, несуразный, с огромными руками и короткими ногами человек, и дрожащим голосом прохрипел, что хозяин застрелился…
Эпидемия
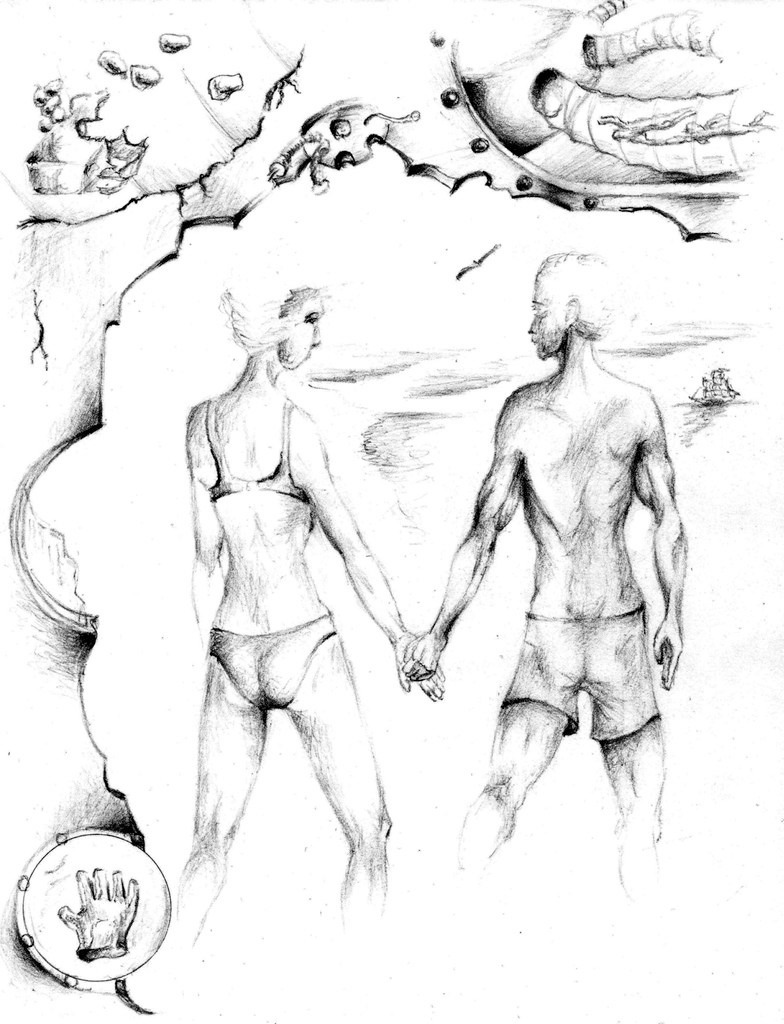
— Все мертвы.
Эти слова, прозвучавшие в полной тишине тёмного отсека, как удары, гулко и тяжело разнеслись по всему кораблю. Эхо ещё дробилось в далёких лабиринтах железного чрева, когда тусклый свет иллюминатора осветил мужскую фигуру, плавно проплывшую мимо женщины. Женщина оттолкнулась и, паря словно птица, в тягучей воздушной невесомости, приблизилась к нему.
— Все мертвы, — шёпотом повторил он, всматриваясь в её глаза, пытаясь найти тот робкий огонёк надежды, что тлел ещё, когда он оставил её в этом крыле ждать. — Мы — последние.
Проговорив это, точно вынося вердикт, окончательный и необратимый, он в отчаянии ударил в стену отсека. От удара его закружило вокруг своей оси, и чтобы остановиться, ему пришлось ухватиться за руку женщины…
— Вот, — сказал он, когда немного успокоился и пришёл в себя, — Вот. С этим мы протянем ещё два-три дня…
Он вынул из нагрудного кармана комбинезона ампулу с прозрачной жидкостью.
— …без этого два-три часа.
Она кончиками пальцев аккуратно взяла сосуд с продлевающим жизнь составом и выпустила его. Ампула зависла на месте, радужно переливаясь в холодном, голубом свете и слегка поворачиваясь, словно рекламируя содержимое. Какое-то странное чувство испытывали сейчас он и она, глядя на эту стекляшку. В этой призме, размером с пистолетную пулю, заключены были два-три дня их жизни, так же как и в пуле заключена чья-то смерть. Женщина лёгким щелчком пальцев стукнула ампулу, и та беззвучно устремилась в темноту, куда-то вглубь переходов через круглую амбразуру двери. Мужчина испуганно вздрогнул всем телом, но затем, поняв всё то, что хотела сказать она, не стал ни в чем упрекать, только грустно выдохнул и отвернулся к свету.
— Ты, как всегда, права, — резюмировал он и углубился в размышления. Они оба долго молчали, заставляя себя думать о чём угодно, только не о предстоящем…
Сумбурных ход их мыслей нарушила всё та же ампула. Каким-то невообразимым образом она вернулась и, тихо ударившись о стекло иллюминатора, напомнила о себе.
— Ах, ты, маленькая, — разговаривая словно с одушевлённым существом, он взял стекляшку и поглядел через неё на женщину, — неужто ты обладаешь интеллектом и не хочешь, чтобы мы оставили тебя в одиночестве?
Игривый тон мужчины рассмешил женщину, и она засмеялась, словно заплаканная девочка, забывшая недавнюю обиду, когда ей подарили красивую куклу. Но смех быстро переродился в беззвучное рыданье, и панический ужас, который женщина пыталась сдерживать до сих пор, вдруг могучей волной охватил её, и она что есть сил закричала. Мужчина поспешил обнять её. Чувствуя, что вот-вот сорвётся, он стиснул зубы и сжал в пальцах ампулу. Множество капелек бисером покрыло ладонь, прозрачных, сверкающих, как алмазная крошка, и тёмно-алых, точно горные рубины. Осколки стекла разлетелись и растаяли в сумраке пространства. Сотни сверкающих бусинок удивительно правильной шарообразной формы, касаясь кожи пальцев, качались в такт движениям руки; а из пореза появлялись всё новые и новые бусинки, похожие на ягоды смородины, и, толкая друг друга, гроздились у края раны.
— Необходимо промыть и заклеить пластырем, — сказала женщина, испугано разглядывая порез; приступ истерики прошёл, как всегда бывает, когда надо сосредоточится и помочь близкому. — Может быть заражение.
Заражение? Глупо бояться заражения, когда и так осталось… Но он не сказал этого вслух, наоборот попытался приободрить её, банально пошутив:
— Ничего. Заживёт как на собаке.
— Нет. И не спорь.
Она достала из карманчика на плече всё необходимое, чтобы обработать рану.
— Красиво, — похвалил он её, — ты всегда это делала красиво.
— Скажешь тоже. Как все.
Тишина. В такие минуты она невыносима. Кажется, если бы атом случайно ударился об обшивку корабля, то слух уловил бы этот звук. Тишина. Она больно бьётся в висках аритмией сердца. И чудится, что чувствуешь горьковатый вкус биения и замечаешь, что внутри тебя, в груди, постоянно пульсирует поизношенная машина, заставляя кровь двигаться и двигаться. И ты вдруг осознаёшь, что когда-нибудь наступит предел износа и двигатель, выработав свой рабочий ресурс, встанет. Не потому ли тишина так пугает нас и заставляет тревожно нарушать её покой. Нужно было говорить, говорить, чтобы прогнать эту тишину. Но что-то им мешало: только отдельные, ничего не значащие фразы выплёскивались, точно тяжёлый выдох изнутри. Разговор, так необходимый в эти минуты, не клеился. Они могли бы многое сказать и хотели многое сказать… Но дрожащий голос, готовый сорваться в рыдание, смущал мужчину, решившего, во что бы то ни стало, держаться мужественно и морально поддержать уставшую, измотанную женщину. Она же думала, что женщина по природе своей сильнее мужчины и показать свою слабость именно сейчас, когда она так нужна этому человеку, было бы просто предательством. Она крепилась. Встречая его мрачный взгляд, пыталась улыбнуться, сказать что-то нежное, доброе. И всё-таки. Даже когда знаешь, что что-то важное, что-то главное, что сдерживал в себе, быть может, всю жизнь, нужно сказать, пока ещё есть для этого время, пока не поздно, — не получается. Находятся какие-то нейтральные темы, мелочные, о которых тут же забываешь.
— А почему так темно? — нарушила она долгое молчание.
— Когда штурман бился в конвульсиях перед смертью, — отвечал он, словно читая заученную наизусть лекцию, в слова которой уже не вдумываешься, а автоматически выдаешь длинными порциями, — он ударил ногой по клавиатуре серверного компьютера, и система заблокировалась. Я пытался перезагрузить её — без толку, она не воспринимает ни единой команды. Свет, внутренняя связь, перекачка и выработка кислорода и… черт его знает что ещё — не работает. Нет, что-то всё-таки работает, — он задумался на мгновение, — но что?.. В общем, мы в корабле-призраке: капитан и все матросы мертвы, а судно без курса и управления несётся неведомо куда. Ты в детстве читала о корабле-призраке? И я в детстве читал о корабле-призраке, и уж никак не представлял себе, что когда-нибудь окажусь на нём. Хм, даже есть в этом что-то романтичное, черт возьми. Не хватает только пиратов. Хотя какие, к дьяволу, пираты в космосе?
— Воздух? Ты сказал, воздух не вырабатывается больше, — нервно вздрогнув, насторожилась она.
— Не беспокойся, на наш век хватит, — грустно сострил он.
— Не будь так жесток!
— Прости. Всё-всё. Прости, — прижав её к себе, быстро зашептал он.
«Нужно о чём-то говорить», — стучало назойливо в голове маленьким, но тяжёлым молоточком, какие бываю у психиатров, которыми они так больно бьют по переносице, за что ненавидишь их всем своим сердцем, но поделать ничего не можешь — врач есть врач.
— Можно тебя спросить? — наконец нашел, что сказать он. — Эта… экспедиция… что она для тебя значила, — с трудом подбирая нужные слова, он растягивал слоги и запинался, точно старался ничем не обидеть, зная интимность вопроса, — для чего ты… полетела?
Видя удивление на её лице, он как-то виновато тут же себя перебил:
— Ах, да. Муж. А… он?
Он старался как можно тактичнее задать этот вопрос, выбрать тон помягче, и всё же почувствовал холодок обиды в её молчании и в резком жесте, когда она отвернулась к иллюминатору.
— А ты? — вдруг спросила она, развеяв этим вопросом ошибочные догадки и ненужные угрызения совести мужчины.
Он хотел бы тут же, не откладывая вновь и вновь признаться, зачем он «подписался» на эту научно-исследовательскую авантюру, путешествие сквозь всю галактику с сомнительными и нелепыми, на его взгляд, опытами, опасное, долгое и неинтересное предприятие. С начала полёта он лелеял мечты, что когда-нибудь признается ей и откроет всё, что копилось в его одинокой душе. Сила под названием осознание того, что она не свободна и никогда не будет его, сдерживала всякий раз на полуслове, когда он готов был, встречаясь с ней по рабочим надобностям один на один, выплеснуть, обнажиться, освободиться от недомолвок. Не потому ли он больше всех вымотался за то время, проведённое вдали от земли, не потому ли больше всех ненавидел эту консервную космическую банку? Видеть человека, которого хочешь ежесекундно, с которым жгуче желаешь быть не только в дружески-профессиональных отношениях, постоянно, бок о бок работать, и мириться, что он сегодня не с тобой в убогой каюте, а с другим человеком. И, главное, знать, чем они заняты. В такие минуты проклинаешь всё, включая собственное рождение. «А ты?» — такой простой вопрос и так просто на него ответить. Что же не даёт сделать это сейчас, когда её муж, капитан корабля, так же, как и все остальные, — мертв, и остаётся всего-то ничего времени, чтобы признаться…
Вместо ответа он перевернулся к верху ногами… Невесомость навязывает свои условности. Условен потолок, обшитый белым пластиком. Стены, которые немного темнее «потолка». Условен и пол, выкрашенный в темный цвет. По сути, ни стен, ни потолка, ни пола — одно сплошное, эллиптическое помещение отсека. Внутренность какого-то гигантского яйца. Лишь человеческое психологическое восприятие, не желающее мириться с абсолютной космической относительностью, привыкшее, что вверху всегда — небо, а под ногами — земля, делает из этой условной белиберды вполне осмысленную закономерность… Он перевернулся к верху ногами и стал гримасничать, показывая, что, мол, свалял дурака.
— А всё-таки? — настаивала она.
— Довольно крупная сумма за контракт, — замялся он.
— Деньги? — усмехнулась женщина, — Ты же знал, что эта поездка в один конец — на той планете мы должны были остаться до конца жизни…
— Ну, знал, — ответил он, словно его спрашивают о пустяках, с искусно подделанной ленцой, — так что ж из того?..
И снова — тишина, которая на сей раз не только грызла нервы пугающим грядущим, но и добавила изощрённую пытку совестью — почему не сказал, был ведь шанс, была возможность. Больше откладывать нельзя — скажи.
— Оставил на счетах у родных, — язык точно не подчинялся ему: думая одно, он говорил другое, а в душе ненавидел свою нерешительность. Да ещё зачем-то солгал: ни родных, ни близких у него не было.
— Что оставил? — не поняла она: с момента последнего их диалога прошло довольно много времени, но он этого как-то не заметил, погружённый в томительные терзания, решение наболевшего вопроса.
— Деньги, — он пытался сохранять в своем тоне непосредственность, однако это не очень-то удавалось и выходило фальшиво. Он сгорал от злобы к самому себе.
— Какие деньги, не поняла?
— Ладно. Проехали, — махнул он рукой, в том числе и на признание, разглядывая парящую женщину, у которой в уголках глаз появлялись водяные шарики слёз и качались на тонких ресницах. Она молча плакала. Несколько капелек оторвалось от ресничек и летало свободно вокруг красивого молодого лица. Он посмотрел на неё, как никогда ещё не смотрел, — открыто, прямо, не исподтишка, не украдкой. Она была действительно очень молода и очень красива. Уставшее, измождённое, напуганное лицо делало её ещё привлекательнее, утончённее. Глядя на неё, любой мужчина не мог не влюбиться; хотелось непременно защитить это хрупкое, нежное существо, защитить от любой напасти. Он смотрел на неё и любовался. Он забыл всё на свете: и про злосчастный корабль, и про всё, что приключилось на этом корабле, — он смотрел и восхищался. Вспомнилось, как он случайно, нет — нарочно прикоснулся губами к ее руке. Она давала какие-то указания работающему бортмеханику, указывая рукой на какой-то предмет, и её рука скользнула по его щеке. Он уловил это мимолётное прикосновение и поцеловал. Она тогда удивлённо бросила взгляд, а он смущенно отвернулся. Ничего более эротичного не было в его воспоминаниях. Он испытал такую эйфорию и возбуждение, что не мог спать несколько дней, бесконечно прокручивая мысленно, как кинопленку, ту волшебную секунду. Он помнил аромат её духов, холодок на губах от её прохладной кожи. Он улыбался, купаясь в этих воспоминаниях. Но почему она плачет, внезапно подумалось ему, когда он согнал пелену дремотных грёз. Мозг, околдованный иллюзиями, долго не мог вернуться в действительность, реальную грубую действительность. И он, как одурманенный, ждал, что вот-вот появится ее муж и рассерженно спросит, кто обидел его жену.
Но вдруг он вспомнил всё, что произошло, и чуть не лишился чувств. Ему было очень скверно: начало тошнить и морозить, и ещё сильно болели и ныли суставы, будто кто-то пробовал их на излом; он задрожал всем телом. Понимая, что это начались приступы болезни, он попытался расслабиться и сосредоточиться на чём-то. Женщине было ещё хуже, она не просто дрожала — её била такая дрожь, что руки и ноги ходили ходуном. Приглядевшись, однако, он сообразил, что это не лихорадка — ею овладела страшная истерика. Не понятно, как ещё до этого она могла сдерживаться…
Стоило неимоверных усилий как-то успокоить её. Она рыдала в голос, умоляла о чём-то, просила прекратить пытку, прервать мучительный остаток жизни. В слабой, изящной, хрупкой женщине вдруг появилась такая зверская, неодолимая сила, что мужчина, не справляясь с нею, боролся во всю свою физическую мощь, на которую был способен. Отброшенный ею, он несколько раз летел и больно ударялся о стену отсека. В порыве заставшего её необычайного безумия и отчаянья, ломая до крови ногти, она пыталась выломать иллюминатор. И он готов был поклясться в тот момент, что она сумеет сделать это, несмотря на титановый сплав и сверхбронированное стекло. Она рвалась прочь из этого корабля на свободу, где бы кончился этот кошмар, вся эта жуткая мистерия с близким и неотвратимым финалом. Ей так хотелось жить! За что же приговорили её?.. Только несколько пощёчин, жёстких, хлёстких сумели привести её в чувство.
Она смотрела на него непонимающим, удивлённым взглядом, озираясь вокруг, словно ища потерянную вещь. До этого напряженная и натянутая, как струна, она обмякла в его объятиях и тихо, облегченно заплакала.
— Как хочется ещё раз хоть два шажка сделать по земле, — шептала она горячими губами, и он, слыша неизмеримую тоску в её голосе, представил асфальт, залитый теплым осенним солнцем. Ветерок кружит опавшую листву. В выбоинах и трещинах дороги робко пробивается сорная трава. Асфальт ещё сырой после вчерашнего проливного дождя, и под яркими лучами испаряет свежесть. Шаги легки и быстры, и каждый их звук разносится широко-широко в прозрачном осеннем воздухе. Так спокойно и свободно, что невольно переходишь на бег: без усилия отталкиваешься от огромного земного шара, чтобы через мгновение, как только приблизится он, снова оттолкнуться.
— Земля! — выдохнул он. — Ты знаешь, мне сейчас кажется, что её никогда не было в моей жизни, что я рождён летающим в этом баллоне с кислородом, — он обвёл глазами отсек. — Если бы ты знала, как я ненавижу этот корабль, это пластик, напичканный электроникой, эту сублимированную еду без вкуса и запаха, эту не настоящую воду, отдающую порой плохо переработанной мочой… Земля! А какое там сейчас время года, не знаешь?
— Не знаю, — тихо ответила женщина; ровный, негромкий голос мужчины с медленными, протяжными интонациями, точно колыбельная песенка, действовал на неё успокаивающе, и она, прижавшись щекой к его плечу, погружалась в какую-то полудрёму. — Наверное, весна.
— Весна! — протянул он. — Как же давно я не видел женщин в коротких платьях, с голыми ногами, в туфельках на каблуках! С развевающимися волосами… спешащих куда-то… или сидящих в парках на скамеечках, а ветерок нет-нет, да и подымет краешек юбки, показывая белоснежные трусики…
— Хулиган, — пожурила она его, но как-то безучастно, с каким-то равнодушием.
В отсек влетела чья-то перчатка. Мужчина даже слегка вздрогнул, когда увидел из темноты как будто бы протянутую руку. От малейших колебаний воздуха перчатка медленно переворачивалась, и создавалось впечатление, что пальцы шевелятся. Жутковато было взирать на плывущую и зовущую к себе перчатку. Ребристая, с истёртой, потрескавшейся кожей, с кровью на кончиках пальцев, она точно просила помощи. Ему пришла в голову мысль, от которой внутри всё похолодело: это призраки умерших протягивают руку и зовут их присоединиться. Ему даже показалось, что он услышал голос — кто-то прошептал «идём». Он понимал, что голосом был всего лишь шорох кожаной пришелицы, задевшей кусок кабеля, летавшего тут же в полутьме. Но от этого шороха он испытал такой животный ужас, что всё тело одеревенело и покрылось морозящей коростой. Никогда в своей жизни ещё он так не боялся, как сейчас: ему хотелось кричать или зарыться глубоко-глубоко во что-нибудь тёплое и глухое. Грудь рвалась от беспощадных ударов изнутри. Чудилось, воздух вокруг него вовсе исчез: что-то не давало вздохнуть, будто горло сдавила тугая бечевка. Перед глазами проплыли лица всех, кто был в команде корабля. Улыбающиеся, говорящие что-то, подмигивающие, словно намекающие на что-то, только им и ему известное. Они приближались, глядя на него пустыми, стеклянными глазами, такими же, какие он видел у вахтенного, когда поворачивал его к себе лицом. Он чувствовал их холодное, отрывистое дыхание даже сквозь комбинезон. Только сейчас понимание того, что ему предстоит, с полнотой и ясностью пришло к нему. Густой комок тошноты подступил к горлу, виски налились горячим свинцом, пульсирующим громко и гулко, а сознание заволокло туманом…
— Ты уснул, — нежно ответила женщина на его вопрос: что произошло.
— Да — а? — протянул он настороженно, оглядываясь вокруг. Он всё ещё обнимал её, и они плавно парили по отсеку, слегка задевая стены и касаясь незримых в темноте каких-то мелких предметов. Взволнованно ища глазами призраков, виденных им до обморока, он всё ещё прибывал в возбуждении, но волна горького отчаянья отхлынула, и ему даже стало стыдно. Он ответственен перед нею, ибо он — последний, и потому не может позволить себе такую слабость, как страх. Так он решил, и как подтверждение собственных мыслей, покрепче прижал женщину к себе.
— Ты что-то ищешь? — поинтересовалась она, видя, как он нервно оглядывается.
— Нет-нет, нет, — поспешил он заверить её, а затем, помедлив, добавил: — Слушай, давай переберёмся куда-нибудь из этого отсека?
Стало почему-то темней. Он взглянул на иллюминатор: та же перчатка, что некоторое время назад выплыла будто из ада, прислонилась к стеклу, словно чья-то незримая рука пытается выдавить его наружу. Определённо, было в этой перчатке что-то недоступное человеческому пониманию, что-то живое, осмысленное.
— Зачем? — пожала плечами она. — Ведь все отсеки одинаковы, а здесь нет…
Она хотела сказать «…мертвецов», но голос дрогнул, когда она мысленно добралась до этого слова в предложении.
— Земля! — воскликнул он, будто увидел землю из корзины на вершине мачты, а потом зачастил: — Мы ведь говорили о земле, да-да, я помню. Вот куда мы сейчас отправимся. (Она вопросительно взглянула на него: не бредит ли он). Вот что нам сейчас нужно, да-да, просто необходимо, да-да. Как же я сразу не подумал! Как мне надоела эта невесомость! Ну, полетели! Быстрее! Быстрее!
— Каким образом ты собираешься попасть на землю, если даже радиосигнал SOS будет три года добираться? — прикрикнула на него женщина.
— Ты не поняла? — засмеялся мужчина. Он преобразился, когда к нему пришла идея, которой он обрадовался, словно утопающий спасательному кругу. Он приободрился, повеселел и сделался в глазах женщины похожим на сумасшедшего. — Ты ничего не поняла? — с издёвкой повторил он. — А на что нам имитатор?
— Какой ещё имитатор? — она попыталась оттолкнуть его, освободиться от его объятий. — Причем тут имитатор?
— Как причем? Гравитационный имитатор!
— Постой, — задумчиво произнесла женщина, перестав бороться и сделав паузу. Словно человек, который хочет внезапно пришедшею догадку облечь в логическую формулу, она стала рассуждать, не спеша, вслух: — Постой. Ты хочешь сказать, что… что имитатор в рабочем состоянии… Ты же сказал… что всё заблокировано?
— А чёрт его знает! — довольный тем, что нашёл предлог убраться отсюда, где его посещали призраки, он дал волю эмоциям: кричал и смеялся. — Ведь можно проверить!
***
…Они, держась за руки, летели по рукаву перехода между отсеками, прозванному пылесосным шлангом за гибкость и схожесть конструкций. Здесь не было иллюминаторов, но благодаря ребристым полупрозрачным стенам света хватало. Сквозь стены виднелись расплывчатые, синеватые пятна звёзд, тусклых, еле различимых, словно далёкие фонари, проглядывающие сквозь промерзлое зимнее окно. И так же, как и от зимнего стекла, от стен веяло холодом и одиночеством. Она пыталась ни о чём не думать. А он собирался с мыслями и уверял самого себя, что в имитаторе наконец-то наберётся мужества и признается ей. Он летел и подбирал нужные слова. Когда под ногами будет твёрдая опора, думал он, в голосе тоже будет твёрдость, и сказать станет проще. Только бы имитатор был в рабочем состоянии! Имитатор… Специальный отсек, вернее, даже не отсек, а самая, что ни наесть, натуральная, обыкновенная небольшая комната. Потолок, пол, стены — всё как на земле… Мощный генератор создаёт гравитационное поле с обычной для земных условий силой тяжести. А виртуальный симулятор модулирует земные пейзажи, запахи и шумы, создавая иллюзию, что находишься не в космосе, а дома. Каждому члену команды разрешалось всего лишь час в неделю проводить в имитаторе. Ограничение, вынужденное большим потреблением энергии. Но и этого считалось достаточным, чтобы не сойти с ума от невесомости. И сейчас он молил бога, чтобы машина самообмана работала. Самые разные мысли мелькали в голове. Вдруг подумалось, что всё-таки странная штука — человеческая психика. «Наверное, надо биться в истерике, ожидая необратимого, — думал он, — а я радуюсь при мысли, что снова ощущу пятками пол и буду делать это столько, сколько позволит судьба. И плевать на все ограничения. Только бы он работал». Он, действительно, отринул от себя все трагичные мысли и отдался тому юношескому возбуждению и трепету, как перед первым свиданием. Было ещё какое-то чувство стыда: не подумает ли она, рассуждал он, что я пользуюсь моментом, смертью её мужа, и тем самым совершаю некое вероломство. Может ведь сложиться впечатление, что меня движут не искренние побуждения, а соблазн сложившейся ситуации…
Тоннель перехода заканчивался чёрным пятном входа в центральный блок. Царившая там кромешная темнота остановила их. Он знал, что там, во тьме, в жутких позах, застывшие в предсмертных конвульсиях, летают их товарищи. Он видел, как болезнь выворачивала их суставы, сковывая напряжённые до предела мускулы так, что кости рук и ног ломались от этих судорог. Видел страшные гримасы вместо лиц от адской боли. Видел, как из носа, ушей и глаз били багровые фонтаны крови, а изо рта шла розовая пена. Помнилось, как капитан, хватаясь за поручни, взялся за трубу довольно большого диаметра и сжал её так, что пальцы утонули в металле, хотя сам он не отличался физической силой. А та омерзительная, ни с чем не сравнимая улыбка, с какой он сжимал трубу, всё ещё стояла перед глазами мужчины. Он запомнил, как у него на глазах трескались и ломались белые зубы капитана, а осколки впивались в потрескавшиеся губы. Без музыки, без боя барабанов люди извивались в страшном, первобытном ритуальном танце, ритмической агонии боли. С выкрученными руками, согнутыми в неестественную сторону спинами, свернутыми шеями они внезапно застывали, точно чьей-то непостижимой волей проигрыватель жизни переходил в режим стоп кадра. Всё происходило так, словно банку, переполненную червями, извивающимися, переплетёнными в затейливый клубок, мгновенно заморозили жидким азотом.
И теперь им предстояло влететь в этот жуткий некрополь. Нет, не безобразного вида смерти боялся он, и не того, что во мгле придётся сталкиваться и прикасаться к трупам, он боялся, что спутница, не видевшая до сих пор этот театр смерти, не выдержит чудовищного зрелища. Но там… было темно. И зачем ей знать что там? Он решительно взял её за руку, другой рукой взялся за обод круглой двери и сильным рывком втянул себя и её туда.
Он решил пробираться вдоль стены, образующей правильное, замкнутое кольцо, с круглыми амбразурами выходов через каждые три метра, от которых тянулись такие же рукава переходов, как тот, по которому они летели сюда. Выходы светились серебряным, еле заметным светом, не нарушавшим, однако, мрак центрального отсека, освещавшим лишь ободок двери. «Если я правильно думаю, — рассуждал он, — то нужно пропустить четыре выхода, пятый будет как раз путём в имитатор». Он приказал женщине, чтобы она взялась сзади за его пояс и держалась, не отпуская его ни на мгновение, пока он, перебирая руками, поведёт их куда нужно.
Не так-то просто, как казалось ему вначале, было пробираться в кромешной темноте. Видения, что посетили мужчину накануне их совместного путешествия, вновь начали преследовать его. Ему чудилось, что за ним следят десятки глаз пребывающих здесь мертвецов. Он гнал от себя этот бред, и всё же чувствовал, что его тела кто-то изредка касается, точно проверяет, жив ли он ещё, или же мёртв, как они. Усилием воли он заставлял себя двигаться вперед, хотя руки и отказывались слушаться, костенея и теряя чувствительность. В невесомости, где все движения легки и не требуют почти никакого труда, он прилагал такие усилия, будто взбирался по вертикальной лестнице на одних руках с непомерным грузом, пристёгнутым ремнями к талии. Мышцы рук рвались от напряжения. Он тяжело дышал. От пота тело под комбинезоном стало мокрым и липким. Тем не менее, ему было холодно. Жуткий озноб пробирал его до мозга костей.
— А чем тут пахнет? — спросила женщина. Он тоже слышал тонкий, почти неуловимый аромат — запах тления, настолько слабый, что если бы не знал, что находится здесь, ни за что бы не определил, что испускает этот сладковатый дух. Вопрос женщины встряхнул его и заставил вспомнить, что он здесь делает и для чего ползёт. Мужчина откашлялся, чтобы появилась уверенность в голосе, и ответил:
— Не знаю. Должно быть, проводка горела.
Он оглянулся вокруг, но кроме темноты, ничего не увидел, даже женщину, которую для надёжности обхватывал ногами.
— Ты как там? — не прекращая перебирать руками, поинтересовался он.
— Ничего.
— Ты там держись, не отпускайся.
— Хорошо.
Всё ещё мерещилось, что вокруг него двигаются, заглядывая в лицо, покойники, норовят ухватить и привлечь к себе. Но короткий диалог с женщиной укрепил его, сделал бесстрашнее. «Нужно сосредоточиться на ней и только на ней. Не думать ни о чём, кроме нее. Господи, если бы не она, если бы её не было, давно бы сошёл с ума».
Он твердил себе, что не имеет права бояться, и полз, полз. Работа пошла живее и гораздо быстрее.
Они достигли первого выхода. Такой же «пылесосный шланг», какой они оставили позади, изгибаясь, тянулся куда-то. Слабый свет звёзд, струившейся сквозь полупрозрачные стены, после угольной темноты казался небывало ярким и больно резал глаза. Нагретый этим светом, воздух сквозил, устремляясь к центру гробницы. Он, прикрыв веки, глотал, как ему казалось, этот свежий, без привкуса тления воздух. Отдышавшись, он опять нырнул во тьму, и уже быстрым темпом дополз до второго выхода. Дрожа и от холода, и от усталости, пересиливая боль в пальцах и приступы тошноты, боясь обернуться и увидеть острый, пронизывающий взгляд покойника, он всё же смеялся. Беззвучно, робко, но смеялся. Ликуя, праздновал победу.
— Ты как там?
— Держусь.
— Держись, не отпускайся.
— Хорошо.
Какая-то энергия мощным, адреналиновым потоком хлынула из глубины его тела, когда он услышал её голос ещё раз. Какая-то злость, побуждающая преодолеть всё и вся на пути, появилась и вселила уверенность. Он вздохнул полной грудью и рывком направился к третьему выходу. Но путь преградило что-то. Он сделал над собой невероятно колоссальное усилие, чтобы не закричать от ужаса, чтобы не потерять самообладание, догадавшись, что это. Это что-то точно не хотело его отпускать, заключив в свои объятья, как бы он ни отталкивал, ни боролся, оно цеплялось за одежду чем-то кривым, похожим на крючья. Когда эти крючья касались лица, а он знал, что эти крючья ни что иное, как ледяные окостеневшие пальцы, он лишался сознания, но тут же заставлял приходить себя в чувство и продолжал бороться. И даже в эти минуты, которые показались часами, он не мог позволить себе выдать величайшую тайну — кем или чем наполнена эта комната. Он старался не проронить ни единого слова, ни единого звука, только хрипел, отбиваясь и атакуя невидимое существо.
Всю свою ненависть, всё своё презрение вложил он в толчок, что сам под действием этого мощного импульса устремился назад и больно ударился спиной об обод второй двери.
— Что произошло? — спросила женщина. До этого она весь пройденный путь молчала, решив не мешать своему проводнику. Она слышала, что в темноте что-то происходит, что он, тяжело дыша, усиленно рвётся или пробивается куда-то. Вздрагивания и резкие толчки передавались и её телу, как бы ни старался он, чтобы она этого не замечала. Понимая, однако, что расспросы не могут ничем ему помочь, а напротив даже отвлекут, она только крепче обнимала его и слушала, прильнув щекой к его спине, как бьётся его сердце. — Что произошло?
— Ничего, — коротко ответил он. — Ты как? Не ушиблась?
— Немножко. А ты?
— Нормально. Жив ещё, — пересиливая жгучую резь в спине, он старался говорить спокойно. — Сейчас отдышусь — продолжим.
— А что там было, с чем ты там боролся?
— Кабель. Шлейф какого-то кабеля. Запутался, — солгал мужчина.
— Тебе не тяжело? Может, я сама за тобой полечу?
— Нет! — испугано вскрикнул он. — Делай, как я сказал.
— Хорошо-хорошо, ты только не злись.
— Я не злюсь. Только делай, как я сказал, — более мягко попросил он.
— Ладно.
— Ты будешь делать, как я сказал? — настаивал мужчина, которому последний ответ женщины не показался убедительным.
— Да, — громко ответила она тоном капризной девочки, которая не смогла выпросить подарок.
— Тогда поплыли.
Нужно теперь подольше держаться стены, мысленно давал он себе указания, «мертвечина», должно быть, полетел к центру. Добравшись до третьей двери, он облегченно вздохнул: неужели препятствия кончились? Как пересохло горло; воды бы сейчас. Он вспомнил, что вторая дверь, которую миновали, по его представлению, час назад, хотя прошло не более десяти минут, как раз вела к блоку с запасами воды. Возвращаться? Ну, уж нет, необходимо двигаться к выбранной цели. Во что бы то ни стало, он будет там, где хоть на мгновенье почувствует себя на земле. И главное — даст ей это почувствовать. Мысль о воде, так некстати пришедшая, опалила рот и губы пустынным зноем. Путник, оказавшийся в раскалённых песках, не испытывал, наверняка, такой жажды, какую испытывал сейчас он. Дилемма: повернуть назад или продолжить путь к имитатору — встала перед ним более непреодолимым препятствием, чем оживший мертвец в темноте. Оставалось не так много времени. Нужно было спешить. А крюк за водой займет довольно много этого драгоценного богатства. Может… плевать на имитатор — напиться бы воды напоследок, ну, их, к черту, эти мечты о притяжении… Нет! Он приучил себя добиваться намеченной цели, как бы ни была длина дорога. Он отказывал себе во всём. Он поступил в то же учебное заведение, что и она, и окончил его на «отлично», несмотря на то, что это стоило ему неимоверных усилий. Изучать то, что не по душе, что никогда не нравилось и никогда не понравится — науки, при мысли о которых срабатывает устойчивый рвотный рефлекс. И всё же он постиг их, и был одним из лучших на факультете. Он из жил рвался, чтобы попасть в эту экспедицию, потому что в ней участвовала она. Он обрёк себя на бесконечное ожидание, лелея несбыточную надежду. И он понимал, шансы его изначально были равны нулю. И всё же он ждал, надеясь на что-то. И вот теперь, когда он вёл её туда, где дал себе клятву открыться ей, всё перечеркнуть ради какого-то глотка воды? Нет!
Он собрал всю волю в кулак, прикусил кончик языка, чтобы вызвать выделение слюны — хоть как-то утолить жажду, — и продолжил. На сей раз, он не делал остановок, чтобы отдышаться и спросить у неё, как она там, держится ли. Он твердил только одно — скорее, скорее, и работал, как неугомонный. И вскоре пулей влетел в заветный пятый выход.
— Ну, как ты? — спросил он, держась за одно из рёбер полупрозрачной стены перехода.
Ответа не последовало. Обернувшись, он с ужасом обнаружил, что её нет рядом. Он потерял её в лабиринте некрополя. Не раздумывая ни секунды, он рванулся обратно, презирая себя за то, что не следил, следует ли она его инструкциям. Он просто обязан был почувствовать, когда её пальцы разжались, и она отпустила его ремень. Ведь в какой-то момент стало легче лететь, но он решил, что это у него открылись дополнительные силы, так называемое «второе дыханье». Пока мелочные мысли о самом себе, о мучительной жажде и о том, как он страдает от неё, поглощали всего его, она, отцепившись, оказалась в полнейшей темноте среди трупов. Это — непростительно. Она же с ума сойдет, когда поймет, кто её окружает, от боли утрат, страха и одиночества.
Тщетно напрягая глаза до жуткой рези, хватаясь во тьме за всё без разбору, но, натыкаясь вместо мягкого, теплого тела спутницы на жёсткие, окостенелые тела усопших, он искал её. Вскоре он потерял ощущение пространства и никак не мог сориентироваться, где он и в каком направлении прибирается сквозь дебри каких-то предметов, какой-то электронной техники, аппаратуры. Запутавшись в паутине кабелей или проводов, он в отчаянье звал её, кричал, умолял, чтобы она отозвалась.
Рыдая в голос и проклиная всё на свете, мужчина разрывал на себе путы и старался оттолкнуться от чего-нибудь, найти какую-нибудь опору. Но, выпутавшись, он столкнулся с тем, что до этого никогда в жизни не испытывал. Руки и ноги долго не находили ничего твёрдого, и психика начала выдавать странные иллюзии. Ему начало казаться, что он тонет, и ему необходимо выплыть на поверхность воды. Воздуха в лёгких остаётся не так много, а подъём ещё долог. Он видит мерцание неспокойной глади высоко над собой. Гребёт усердно, разводя руками от себя и по кругу вниз. Бьёт ногами. Только бы добраться, пока не кончился воздух в лёгких. Всё ближе и ближе пятно раздробленного водой света, но так медленно он приближается к нему! И, вот странность, он совсем не помнил, как упал в море, и не помнил, как и зачем оказался на яхте. И яхта ли это была… Может быть, он упал с причала, но почему же так глубоко, ведь у причала не бывает такой глубины. А что было до этого: до того, как он утонул? Почему его никто не спасает? Неужели всем наплевать на утопающего? Зачем он пошёл купаться один и туда, где нет ни единой души? Но он неплохо плавает, и даже когда-то был КМС-ом по плаванью, и он должен доплыть, чтобы сделать что-то. Что-то. А что именно — он не помнил. Кого-то разыскать и помочь, ведь этот человек нуждается в помощи. Он забыл, кто — этот человек, кажется, это какая-то женщина. Неуловимый, почти неузнаваемый образ промелькнул перед глазами: волосы, плавный овал лица, губы.… Остальные черты, словно в тумане, в густой голубоватой дымке. Он плыл к поверхности, и в то же время всматривался в лицо этой женщины, пытаясь узнать её. Вот она сидит напротив, на краешке шезлонга и пьет из соломинки безалкогольный коктейль. Вытянутые вперёд, слегка согнутые в коленях ноги почти не прикрывает короткая юбка. Капельки пота блестят на ярком летнем солнце, и он всё время ловит себя на мысли, что нескромно разглядывать ноги чужой жены, но ничего поделать с собой не может. Он каждый раз смущённо отводит глаза, когда взгляд нечаянно устремляется на белоснежные, немного влажные от долгой игры трусики. Она замечает его смущение и лукаво улыбается. Нет, она никогда не давала повода усомниться в её супружеской верности, но сейчас, уставшая от игры в теннис, она решила поиграть с его чувствами. Он знает, что эта игра не разовьется ни во что обещающее, и всё же поглощён этим невинным стриптизом. Вот она поставила высокий полупустой фужер на столик и согнула одну ножку, чтобы поправить шнуровку на теннисных тапочках. И — в груди у него больно сжалось сердце, когда он увидел, как из-под сбившейся шёлковой тесьмы выглянул озорной тёмный пушок.… Только бы хватило воздуха. Ещё немного, и он вынырнет.
Колодец или цистерна, подумал он, когда почти доплыл и увидел круглую амбразуру над собой. Ещё немного, и он достанет руками кромку люка без крышки и, подтянувшись, наконец-то сможет вдохнуть. Вдох. Грудь приятно и спокойно расширяется. Он смог, он это сделал.
Голова ещё была туманная, тяжёлая; в ушах по-прежнему стоял шум воды; всё тело знобило, и хотелось поскорее выбраться на сушу. Он оглянулся, и там, наверху, где должен быть зенит, вдруг заметил парящую женщину без признаков жизни. Словно пораженный электрическим разрядом, он мгновенно вышел из полусна и вернулся к реальности. Она, безжизненная и недвижимая, влетела в один из переходов и застыла здесь в позе спящего младенца. Он был в космосе, на мёртвом корабле и искал её, потерянную в темноте центрального отсека. Всё стало простым и понятным: долгий подъём из глубины — всего лишь бред, галлюцинация; а поверхность моря, до которой он добирался, задержав дыхание, — овальная дверь выхода. Летя на свет, он интуитивно летел туда, где находилась она. Точно кто-то свыше вёл его к ней. Он нашел её.
Но, боже, неужели она мертва. Он поспешил к ней. Обнял и заплакал. Всё говорило о том.… Нет-нет, постой. Он приблизил своё ухо к её лицу; слабые струйки теплого воздуха защекотали по щеке. Она была жива, без сознания, но — жива. Он посмотрел на неё и улыбнулся.
— Как я испугался за тебя, — прошептал он и… поцеловал её в губы.
Он впервые сделал это. Будь она в сознании, он, вероятно, никогда бы не осмелился сделать этого. Он начал шептать ей то, что давно порывался сказать вслух, и, зная, что она не слышит, был откровенным. Он говорил и говорил, безудержно и горячо. Всё, что копилось, и было выстрадано годами, вкладывал в свои признания. Со всей нежностью, на какую способен мужчина, он обнимал её и касался губами её лица.
— Я, кажется, уснула, — тихо сказала она, открыв глаза.
Он молча кивнул.
— А где мы?
Он огляделся и, заметив номер над ободом двери, ответил:
— В шланге, ведущем в энергоблок.
— А как мы сюда попали? А что там?..
Действительно, не дальше двадцати метров от них, ближе к середине перехода что-то сверкало, точно в воздухе летала россыпь алмазов. Преломляя матовый, не яркий свет, загадочные стеклянные шары величиною с яблоко и поменьше гроздями облепили какой-то предмет. Мужчина и женщина, заворожённые неожиданным зрелищем, поплыли к интригующему предмету.
— Интересно, как могло её так разорвать? — задумчиво произнёс он.
— Как ты думаешь, что это за жидкость? — спросила она.
— Давай попробуем.
— Ты думаешь, это — вода?
— Кто знает.
— А если нет?
— Не всё ли равно… — Он всё ещё удивлённо разглядывал разорванную пополам пластиковую канистру, на стенках которой качались шарики воды. Как такое могло произойти: не разрезанная, не лопнувшая, не смятая, а именно разорванная тара. Он раньше видел последствия компрессии, когда развороченные максимальным давлением ёмкости выставляют свои изуродованные рваные раны. Но то было совсем не так, иначе. А здесь явно чувствовались человеческие руки, но обладающие нечеловеческой силой.
— Мне ужасно хочется пить, — пожаловалась она; глядя на него, она никак не могла решиться попробовать эту жидкость.
— Ну, так пей. И я попью. Меня давно мучает жажда.
— А вдруг это что-то ядовитое, — дернула она его за рукав.
— И что из того?
— Как, «и что»? Ты хочешь умереть в муках? Я — нет.
— Уверяю тебя, это — вода. В таких канистрах не хранят ядохимикаты, — замечая за собой, что начинает злиться, он говорил как можно сдержанней.
— Откуда ты знаешь?
— Мне ли не знать. Я, всё-таки, как никак, не грузчик в доке.
— И всё же, — не унималась женщина, недоверчиво рассматривая водяную конструкцию.
— Вон видишь, маркировка, — ткнул он рукой, — она указывает, что содержимое канистры — чистая вода без каких-либо примесей. Ты и сама должна была это знать…
— Я это отлично знаю, — оборвала она его на полуслове, — и даже лучше тебя. Но могли же перелить туда какую-нибудь гадость. Ты же в этом не можешь быть уверен, не так ли?
— Кому нужно делать такую подлость?
— Как, «кому»? Мало ли?..
— Ну, назови кого-нибудь из нашей команды, кто на такое способен.
— Почему сразу — из команды?
— А кто ещё? — засмеялся он. Понимая всю нелепость этого диалога, он больше злился на себя, чем на неё, за то, что не в силах убедить её.
— Там, на Земле. Кто-то из обслуживающего персонала.
— Я тебя умоляю, зачем им нас травить?
— Ведь произошло… то, что произошло. Ведь кто-то же это подстроил.
— А почему ты исключаешь случайность?
Он засмеялся.
— Почему ты смеешься?
— Вся эта авантюра мне кажется случайностью.
— Что ты имеешь в виду, говоря «авантюра». — В её словах слышалась обида.
— А разве не авантюра везти на какую-то богом забытую планету несколько тысяч земных вирусов, начиная с гриппа и кончая чумой, чтобы в один прекрасный момент, на полпути вся эта жуть расползлась по всему кораблю?
— Эта была случайность, — Она и не заметила, как стала противоречить себе. — Ты же знаешь, как этот эксперимент был необходим для науки.
— Для учёных, — поправил он, — для учёных, а не для науки — по-моему, это два различных понятия.
— Что ты хочешь этим сказать?
У него было ощущение, что назревает научный диспут, каких он досыта хлебнул на различных конференциях и какие ненавидел всей душой. Он догадывался, вернее, видел по лицу женщины, что говорит она всё это как-то не до конца осознанно. Её раздражительность, агрессивность — следствие болезни. Он дотронулся до её лба.
— Ты вся горишь.
— Нет, ты не уходи от ответа. Что ты хочешь этим сказать?
— Чем? — вполголоса произнёс он, и чтобы она успокоилась, привлёк её к себе.
— А о чём мы говорили? — спросила она, испуганно смотря ему прямо в глаза. Она уже забыла, о чём они спорили секунду назад, и это её сильно напугало.
Мужчине стало стыдно: не так давно, когда она была без сознания, он говорил ей самые нежные, самые ласковые слова, и тут же готов был наговорить массу обидного только потому, что женщина от стресса бредит.
— Мы говорили, что надо попить.
— Попить? А что? — Она всё ещё смотрела в его глаза
— Вот вода.
— Вода? — сказала она так, точно впервые увидела разорванную канистру с водяными шариками, напоминающими ёлочные новогодние игрушки. — А что, если она отравленная?
— Нет, она чистая. Я уже пробовал, — солгал он.
Он пальцем дотронулся к одному из шариков. Тот, словно намагниченный, мгновенно приклеился. И поднёс к губам женщины. Она приоткрыла рот, и прозрачный шар стал становиться всё меньше и меньше, пока и вовсе не исчез, оставляя маленькие сверкающие бусинки на её бледных губах. Потом и он пил эту безвкусную жидкость, втягивая в себя, прикрыв от наслаждения глаза и не спеша проглотить её. Влага приятно обволакивала до боли сухое горло, и казалось, что нет больше наслаждения, чем просто попить воды.
— Ух! — вздрогнула от неожиданности женщина и часто задышала, когда он, держа на ладони дрожащий водяной клубочек, омыл ей лицо.
— Как ты? — заботливо поинтересовался он.
— Уже получше. Ты знаешь, со мной что-то не так.
— Не так? — словно эхо, повторил он её слова.
— Да, не так. Я вижу сны, но не так… чтобы я спала.… Нет, я не сплю, но я вижу их. Это странно — не спать и видеть сны. Вот и сейчас я вижу за твоей спиной ветку сирени. Я же знаю, что её не существует, но я… её вижу.… И так отчётливо. Так отчётливо я не вижу тебя, как её…
— Тебя лихорадит.
— Я знаю. Это уже давно. Но это — не то, совсем не то. Она колышется на ветру.
— Не думай о ней.
— Ты знаешь, я чувствую её запах, запах сирени. Как такое может быть? Я же знаю, что её не существует. И её лепестки вздрагивают.
— Тебе нужно успокоиться.
— А ещё я видела какие-то манекены, уродливые и страшные. Они летали в темноте и сталкивались со мной. Это, конечно же, был сон, но я так явственно чувствовала их холод, их холодные прикосновения ко мне.
Она вся задрожала, и в уголках её глаз собрались слёзы.
— Тихо, тихо, — прижал он её к себе. — Тебе они только привиделись. Тебе необходимо успокоиться. Дыши ровно, спокойно, как нас учили при экстренных ситуациях. Так, да. Хорошо. Хорошо…
— Ты знаешь, в одном из манекенов я узнала мужа… — говорила она уже как-то отрешённо. — Такого ведь не может быть: он — и вдруг манекен, — она тихо засмеялась. — Его же здесь, на корабле нет. Мы здесь ведь одни. С самого начала мы здесь одни, не так ли?
— Да, — ответил он. Голос его дрогнул, и она, заметив это, переспросила:
— Или мы здесь не одни?
— Одни. Абсолютно одни, — успокаивал он.
— Да, я помню, — не слушая его, рассуждала она вслух, — я вспомнила. Вспомнила всё-всё…
Он думал, что она разрыдается, что будет биться в припадке и что будет очень трудно успокоить её, и приготовился к худшему, напрягая все свои оставшиеся душевные силы. Напротив, она даже преувеличено спокойно посмотрела на него и без малейшей тени эмоций произнесла:
— И что мы будем дальше делать?
Он поразился её мужеству, если, конечно, это было мужество, а ни что-то иное. Даже он, когда мысленно касался произошедшего, еле сдерживался от приступа паники и помешательства.
— Что же мы будем делать дальше? — повторила она. — Ведь нас ждёт та же участь, что и остальных…
Он не переставал удивляться, слушая её — эти слова произнесены были ею как-то невзначай, будто она строила планы на далёкое будущее: нужно сделать то-то и то-то. «А не поехать ли нам в следующем году к морю?» или «Ни завести ли нам детей?». Так просто было сказано ею «ведь нас ждёт та же участь…»! Он не нашёлся, что ответить на её вопрос, и только пробурчал:
— Нужно лететь в имитатор.
***
— Кажется, в рабочем состоянии, — сказал мужчина, смотря на голографическое изображение, возникшее перед ним, как только он приблизился пульту управления имитатором. Касаясь объёмных фигур и текстовых блоков, выплывающих из незримой точки и окружавших его ярким, красочным полукругом, он проверял режимы настройки имитатора. — Где бы ты хотела оказаться?
— Мне всё равно, — безразлично ответила женщина. Эта комната, представляющая собой правильный куб, всегда напоминала ей бокс для буйно помешанных: все стены, пол и потолок были оббиты поролоном и обтянуты дерматином. Пока не загрузится виртуальный мир иллюзий, здесь было жутковато находиться, и её обычно всегда охватывало чувство, присущее обитателям этих боксов. Раньше она зажмуривалась и крепче прижималась к мужу…
— Как насчёт побережья океана в Африке?
— Мне всё ровно, — повторила она.
— Так. Возьмись за поручень. Давай развернёмся по указательной стрелке, чтобы не удариться головами о землю.- Он говорил с каким-то мальчишеским азартом, точно увлечённый новой компьютерной игрой. Его приподнятое настроение, появившееся внезапно, как только они добрались сюда, настораживало её. Он и не пытался скрыть того возбуждения, которое вырывалось наружу, когда он думал, что уже скоро признается ей. — Так. Пусть будет полдень. Жарко. Лёгкий ветерок. Безоблачное небо. Солнце в зените.… Хочешь, кусты сирени вместо пальм?
— Нет, — нервно закричала она, вздрогнув. — Только не сирень. Умоляю тебя, только не сирень.
— Хорошо-хорошо. Успокойся, пожалуйста. Пусть будут пальмы. Так, пошла загрузка. Через сто секунд мы будем на земле. Закрой глаза.
Они закрыли глаза. Они ещё парили, держась за поручни, в космической невесомости, но уже слышали шум прибоя, чувствовали ароматы тропических цветов, теплоту солнечных лучей и ветерок, путающийся в локонах волос. Мелодичный женский голос вёл обратный отсчёт: «До загрузки имитации девяносто секунд…». Они чувствовали лёгкое, приятное покалывание биотоков по всему телу, похожие на озноб, ощущаемый, когда выходишь из бассейна. Но вместе с тем, чувствовалась и усталость, накопившаяся за часы напряжения и минуты отчаяния. Словно к концу тяжёлого трудового дня спадает маска энтузиаста и обнажается лицо усталого, отрешённого от всего, с унылым, отсутствующим взглядом человека. «До загрузки имитации семьдесят секунд…». Все мысли, все тревоги канули; какое-то опустошение души пришло на смену им. Существует ли смирение с участью в том совершенном виде, когда готов принять безнадежность безбоязненно, открыто, без горечи сожаления? Нет, скорее всего, нет. Но они переживали такое смирение в эти полторы минуты создания симуляции. «До загрузки имитации пятьдесят секунд…». И ещё болели и ныли суставы, и появилось небольшое головокружение. В прошлые разы никогда такого не было, видимо, давало о себе знать заражение. Сердца их учащёно бились, и от этого в груди было больно; звук их ударов отдавался в ушах, переплетаясь со звуками океана. Она впала в состояние какого-то полного безразличия. Что произошло, что происходит и что произойдёт — сейчас для неё было лишь пустыми словами, не значащими ничего. Прошлое безвозвратно кануло, будущее становилось таким недолгим, ничтожно недолгим, как длина вдоха. Осталось только настоящее, длина между этими уже несуществующими величинами. «До загрузки имитации сорок секунд…». Он же, напротив, испытывал необъяснимую эйфорию. Его сознание, обманывая его, рисовало мгновения близости с этой женщиной. Он представлял её счастливое лицо после того, как он скажет всё, о чём хотел сказать. Всегда хотел. Но не мог… Он сгорал от стыда, но всё же мысленно видел её обнаженной и припадал к её телу, трепеща от вожделения и восторга. «До загрузки имитации осталось тридцать секунд…». Почему-то он был убеждён, что она должна была обрадоваться его признанию, ведь в этом виделось ему спасение для неё. Странно, наивно, глупо, но в эти секунды казалось, именно так, не иначе. Вопрос о том, какие слова, какие фразы будет подбирать он для объяснения, чудилось ему, должен решиться как-то сам собой. В воображении его этот вопрос уже был решён, и ему оставалось только наслаждаться присутствием женщины, которой он обладает… «До загрузки имитации осталось десять секунд. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Две. Одна…».
Он ощутил удар о чуть согнутые в коленях ноги, словно от прыжка с метровой высоты. Горячая волна побежала вверх от ступней. Он открыл глаза. Он стоял, немного шатаясь и, интуитивно расставив в стороны руки, искал опоры. Залитый ослепительным светом мир ещё не давался привыкшему к темноте взгляду. Но минуту спустя он увидел над собой высокое голубое небо со слегка обозначенными перистыми облаками, небо, как в детстве, большое-пребольшое. И такой же невероятно огромный океан. Волны грузно накатывали на песчаный берег и лениво откатывали с пенистым шлейфом и шелестом, оставляя нити водорослей и ракообразных морских обитателей во влажном, просоленном иле. Коса побережья уходила вдаль за горизонт, где растворялась и дрожала в нагретом воздухе. А напротив океанской громадины лежали бесконечные жаркие пески пустыни с барханами, над которыми пыльным дымком подымались и опадали крупицы. Реденькие кустарники, опалённые африканским солнцем, какая-то колючая, невзрачная трава, появлявшаяся по мере приближения к воде, сдуваемый шар перекати-поле, и… небо. Он сделал неловкий шаг. Мягкий, рыхлый песок зашуршал под ногой. Он оглянулся, ища глазами женщину.
Женщина стояла на коленях, лицо и руки у неё были в крови. Она беззвучно плакала, глядя на мужчину умоляющим взором. Мужчина подбежал к ней, задыхаясь от волнения, и, присев на корточки, взял за плечи. Кровь струйками шла носом, и заливала ладони. Она пыталась сдержать кровотечение, но у неё не получалось.
— Что произошло? Стой, не говори, кажется, знаю. — Он достал из карманчика на плече индивидуальную аптечку. Смочил маленький тампон, который тут же увеличился в десятки раз, в растворе раздавленной им стеклянной капсулы, и приложил к носу женщины. — От удара кровеносные сосуды разорвало, — констатировал он, — вероятно, они ослаблены… — Он хотел сказать, что они ослаблены болезнью, но вовремя спохватился. — Не тошнит?
— Немножко, — прошептала она, дрожа. — Холодно.
Он обнял её, думая: тошнит — как бы не было сотрясения мозга, болезнь ослабила её.
— Как ты думаешь, — еле слышно сказала она, — чем мы больны?
— Не знаю, — честно ответил он, — симптоматика мне не понятна: слишком всё вялотекущее и не явно выраженное.
— Но… смертельное?
— Ты боишься?
— Нет, — твёрдо сказала она, — а остальные… от чего они… умерли?
Он тревожно взглянул на неё, но она была спокойна и даже перестала дрожать.
— Я не в силах систематизировать, — решив, что ответ менее повредит сейчас ей, чем умалчивание, произнёс он. — Слишком много видов и подвидов вирусов. Вряд ли кто-то был бы в состоянии был определить.
— Они мучались?
— Давай не будем об этом.
— Ты не ответил, — не уступала она.
Он минуту молчал, затем сказал шёпотом:
— Им уже не больно.
Она вздохнула и потянулась, как будто после пробуждения.
— Да, им уже хорошо, — произнесла она сквозь зевоту, и, резко отодвинувшись от него, вдруг ласково улыбнулась и, смеясь, спросила: — А ты что такой грустный, невесёлый?
И, вскочив на ноги, побежала к океану, размахивая руками, подпрыгивая и крича:
— Мы же пришли отдыхать, к морю, а ты грустишь!
Пораженный столь неожиданной переменной, он, как окаменелый, стоя на одном колене, не мог вымолвить ни слова, и только изумлено глядел, как она кружит, танцует и смеётся. Она бегала по кромки океана, и её пронзительный визг, когда ноги окатывала волна, оглашал этот мир. Неописуемым образом, на бегу, она развязала шнуровку на своих ботинках, и они полетели прочь в разные стороны. И только, когда она расстегнула «молнию» своего комбинезона, босая, подойдя к нему, он промычал что-то нечленораздельное, что и сам не понял. Он никак не мог отойти от шока.
— Мы же пришли на пляж. А на пляже не ходят одетыми, — отвечала она. — Извини, что я сегодня без купальника, как-то по-домашнему. Я же не думала, что мы пойдём на пляж.
Удивительно всё-таки умение раздеваться красиво у женщин, подумалось почему-то ему, когда она точно вышла из комбинезона. Особенно колени — одна ножка изящно гладит другую, затем перешагивает край юбки или пояс брюк, и также изящно другая ножка скользит по первой и становится рядышком на носок…. Она была в простом, скромном белом бюстгальтере с небольшим кружевом по краю бретелек и незамысловатым рисунком в виде бесцветного выпуклого орнамента на чашечках. В белых с розовым оттенком трусиках, немного прозрачных, дававших увидеть туманное очертание того, что они должны скрывать. Чуть выцветшая неброская фиалка на бело-розово-туманном завершала эту женскую композицию. Он расхохотался, воодушевлённый её смелостью, и стал стягивать свою спецодежду.
— Чёрт возьми! — прокричал он. — Если бы кто знал, как я ненавижу эту спецовку. Просто-таки до мозга костей, каждой своей клеточкой, каждым ядром клеточки. Эти безвкусные нашивки с эмблемами, эти функциональные карманчики. Господи, как же я соскучился по нормальной одежде, как давно не видел элегантных людей, не в мешковидном, однообразном тряпье, а в платьях и костюмах…
Она хихикала над тем, как он неуклюже возится со своим комбинезоном и так забавно ворчит.
— В платьях? — переспросила она.- А такие заношенные трусики тебя не смущают? — Она кончиком пальца немного оттянула в сторону резинку, от чего в груди мужчины забилось быстрей.
— О! Нисколько. Я не видел элегантнее наряда. — Наконец, покончив с процедурой разоблачения, он скомкал ненавистную спецовку и отбросил подальше от себя.
Она улыбалась. Её волосы развевал ветерок. А бледное, давно не знавшее жарких ультрафиолетовых лучей тело таким по-детски нежным казалось под тропическим солнцем.
— Вот я выгляжу нелепо, это точно, — оправдывая своё смущение, пробурчал он, — в этих чёрных, просторных трусах. Какой-то идиотский контраст!
— Брось ты, что за вздор, — снова захихикала она. — Обычная униформа, утверждённая…
— Вот именно, — согласился он, — униформа.
— А где же пальмы? — оглянулась она.
— Действительно. Тоже ищу, ищу и не нахожу. Видимо, не доложили в комплект.
И они засмеялись и долго смеялись над его шуткой, глядя друг другу прямо в глаза. Она протянула ему руку, предлагая взяться за руки, и они побрели вдоль кромки океана, омывающей их ноги прохладной волной. Какие тонкие и хрупкие пальцы у неё; чудится, сожми их чуточку сильнее…. Он мог бы бесконечно чувствовать в своей ладони ладонь этой женщины. Всё в нём ликовало и трепетало при одной только мысли, что их пальцы переплелись. Он ждал этого всю свою сознательную жизнь, и смерть в эти минуты не казалась ему чем-то горестным и трагичным, а чем-то вроде платы за то, что он идёт навстречу горизонту и боится сжать ладонь чуточку сильнее…
Такой странный этот мир имитации, никогда не мог понять, как после загрузки небольшая комнатка становится таких колоссальных размеров. Они молчали и шли, шли и шли. О чём думал каждый, быть может, ни о чём.
— Знаешь, — произнесла она, — в далёком детстве я уже была здесь.
Он вопросительно посмотрел на неё.
— Да, — продолжала она. — Мы жили вон там, — она указала рукой и пояснила: — в нескольких километрах отсюда. Вот также одиноко было здесь, когда я приходила сюда каждый день до полудня. Тогда у меня не было друзей. Здесь вообще на сотни миль никого не было, кроме учённых. Вон там (чтобы увидеть её необходимо проехать час на джипе) обсерватория, где работал мой отец. Из детей я была одна на всей базе. И в часы скуки я приходила сюда. Сколько мне было тогда? Кажется, не более четырнадцати.
Он внимательно взглянул на неё: не бредет ли она, ведь имитатор не может создавать таких точных копий земных пейзажей, которые можно было бы узнать как реальные. Правда и он часто обманывался реалистичности создаваемых иллюзий.
— Потом, через год мы переехали на другую базу, где я и познакомилась с тобой.
Услышав воспоминания о себя, он вздрогнул, и у него неожиданно взор затуманился слезой…
— Ты помнишь?
Да, он помнил всё в мельчайших подробностях: их встречу, когда родители знакомили их…
— Ты мне полюбился тогда сразу, и стал мне братом. А здесь мне было так одиноко, как может быть одиноко только девочке, которой нет ещё и четырнадцати лет. Только это место давало мне отвлечься от скуки. Не знаю, но в этом месте есть какая-то магия: здесь никогда печальные мысли не обуревали меня. Я рисовала здесь, играла со щенком. Из взрослых со мной никто не играл. И здесь я была всегда одна, совершенно одна. Я часто здесь ходила голышом, совсем-совсем без ничего, зная, что никто и никогда меня не увидит.
Он шёл и только слушал, не в силах вымолвить ни слова, справиться с волнением. Накатившие воспоминания рвали его душу, и он готов был заплакать. Ведь с той самой встречи тогда на той самой исследовательской базе, когда он впервые увидел её, эта женщина была не безразлична ему. И сейчас, спустя много-много лет, он шёл рядом и… молчал.
— Бегала и плавала. Ах, как сейчас хочется в то время, также бегать голышом и плавать. Побежали со мной, — закричала она и побежала вдоль берега.
Он помчался вслед. С непривычки бежать было тяжело, ноги не подчинялись с той лёгкостью, как когда-то на земле, и казались восковой подделкой. Задохнувшись, он остановился и сел на песок.
— Ай-я-яй! — донеслось издалека, — как не стыдно, ты же у нас спортсмен. — Она возвращалась, и звонкий смех разливался и летел вслед за нею. — Пошли, пошли купаться, — тянула она его за руку. — Не ленись. Я знаю, ты всегда был лентяем…
Давно забытый восторг — с разбегу вбежать в воду, ворваться, словно обдаваемый взрывом брызг, в тугую плоть океана и плыть, плыть, плыть… Она играла, безумствовала в воде, ныряя и наскакивая на него, заливаясь безудержным смехом. От каждого прикосновения её тела он испытывал небывалое возбуждение, казалось, каждый дюйм его самого стал настолько чувствительным, что мог переживать восхищение близости независимо. Он никогда ещё не был так близок, и не верил своему счастью.
— Обними меня, мне холодно, — сказала она, когда они вышли и сели рядышком.
Он обнял её одной рукой и прижал к себе. Они оба дрожали, но ему не было холодно: его била нервная дрожь. Он верил и не верил, что вот так просто может обнимать её и ощущать, что может быть с нею.
— А я тебя люблю с тех пор. — От такого внезапного признания он вздрогнул, и кровь зашумела в его голове, — как брата, — пояснила она. У меня никогда не было братьев, и ты сразу стал моим любимым братиком. Ты всегда был такой заботливый. А я неблагодарная. Нет-нет, не спорь, я неблагодарная. Я даже не поинтересовалась, как ты жил после того, как мы расстались. Сколько нам было тогда?
— Шестнадцать лет, — тихо ответил мужчина; эмоциональный всплеск сменился грустным разочарованием, когда она произнесла «как брата», и он, уныло отвернувшись, скрыл от неё скатившуюся по щеке слезу.
А она, словно издеваясь над ним, говорила с каким-то безразличием. Ели же он принимал усталость её за безразличие.
— Но никогда не поздно, ведь так? Как ты всё-таки жил после…
— Нормально, — нехотя произнёс он.
— А у тебя были женщины?
— Были, — пробурчал он.
— Много?
— Достаточно, — солгал мужчина, ему почему-то стало необъяснимо стыдно. Как признаться в том, что у него не было ни одной женщины? Он был верен ей, и пронёс эту верность сквозь всю жизнь. Единственной женщиной для него была она, недоступная и всегда желанная. Другие меркли, и изменить своей мечте он ни на мгновение не мог и счел бы возможность измены за святотатство, за вероломное осквернение храма, за надругательством над божеством.
— А у меня был только один мужчина — мой муж.
— И ты его любишь? — Легкий океанский бриз, солоноватый и освежающий, быстро сушил скупые слёзы и приносил в мужскую душу спокойную отрешенность. Но всё же что-то на глубине её, ёрзающие и тревожное, не умолкало и твердило о надежде…
— Любила, — поправила она.
— Сильнее меня? — сорвалось с его губ.
— Разве можно сравнивать? — Прикрыв глаза и положив голову на плечо мужчины, сквозь зевоту сказала она. — Разве можно сравнивать брата и мужчину, которому ты принадлежишь…
Последние слова больно резанули по сердцу, ему захотелось встать и бежать, бежать сломя голову, всё равно куда, лишь бы…
— Почему мне так хочется спать? — продолжала она тихим сонным голосом. — Скажи мне, почему мне так хочется спать? Слушай, а Он есть?..
— Кто он? — по-прежнему не глядя на женщину, ответил он.
— Ну, Он, — ослабевшим шепотом пояснила она: — Он — Бог.
— Не знаю. Есть, наверное.
— Хорошо. Я хотела бы, чтобы Он был, мне нужно.
***
…Тяжёлые волны лениво наползали на мокрый песок. Вдалеке появился белоснежный призрак трёхмачтового парусника, скользящего по натянутой нити горизонта. Тишина шуршала, рыская пугливым ветерком в гривах барханов, и путалась в сорной траве побережья. Мужчина сидел, обняв женщину. Он думал, нет, он заставлял себя думать, что она просто-напросто заснула на его плече, что она спит. Он подбирал самые нежные, самые ласковые слова, чтобы признаться ей, когда она проснётся. Сказать ей, чем жил он все эти годы. Она проснётся, обязательно проснётся, и он скажет…
Элдридж
Если долго, пристально всматриваться в рябь отсутствия сигнала на телевизионном экране, то невольно начинаешь видеть образы предметов, зданий, улиц, лица знакомых и незнакомых тебе людей…
вместо эпиграфа. Автор.
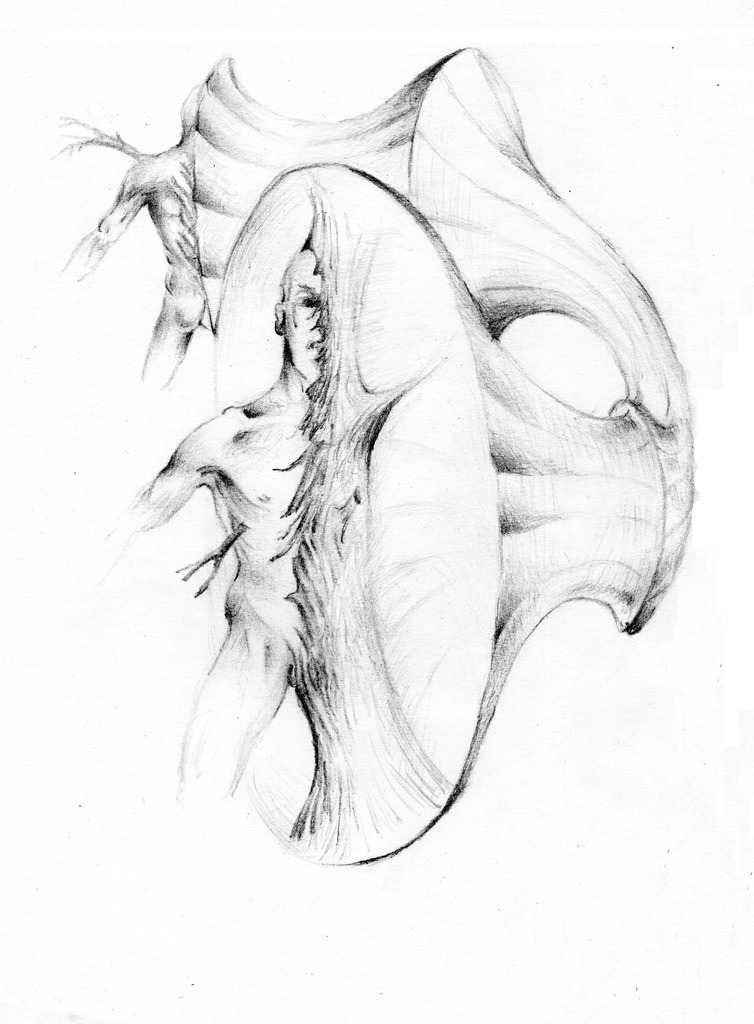
Иванова я встретил в кафе, куда частенько захожу перекусить. Толком сесть и пообедать для меня непозволительная роскошь — все на ходу, на лету. Жизнь моя — сплошная беготня, работа диктует ускоренный темп. Правда, сегодня я был свободен. Всё намеченное, мне каким-то чудом удалось воплотить в жизнь в первой половине дня. Теперь можно было предаться безделью. И всё же, по многолетней привычке, я не отправился домой, а забрёл в это скромное, но неплохое, кстати сказать, кафе.
Иванова я не видел лет десять или даже больше и совсем не узнал. Впрочем, он не был мне близким товарищем — пересекались несколько раз, да и то за давностью лет память стёрла, какие интересы у нас были общими в то время. Помнится, он работал тогда в городском доме культуры. Помню еще, что начинал он, как киномеханик, затем держал подпольный видео салон, когда это было под запретом, потом занимался чем-то, связанным с электроникой — точно не скажу, но что-то с компьютерами и коммутацией к ним. Ещё я слышал, что в последние годы он преуспел в коммерции.
И когда он подсел за мой столик, весь сияющий как елочный шарик, я не обратил на него внимания. И только тогда, когда пристальный взгляд незнакомца, и его счастливая улыбка начали раздражать, я недовольно и сердито пробурчал:
— Вам что-то угодно?
— Неужели не узнал? — он откинулся на спинку стула, наслаждаясь моим недоумением.
«Экий франт» — подумал я, внимательно разглядывая его с ног до головы: безупречно выглаженный серый костюм «тройка», белоснежный воротничок рубашки, такие же девственно чистые манжеты и небольшой черный галстук «бабочка». Не иначе, только что со свадьбы или какой-нибудь корпоративной вечеринки. Я старательно копался в закромах своей памяти, но безуспешно. Я его не узнавал. У меня даже зарябило перед глазами от напряжения. Он же точно позировал предо мною, кривляясь и демонстрируя своё гладко выбритое лицо в разных ракурсах. Хотя мне и некуда было спешить, но затянувшаяся пауза начала раздражать.
— Что? Никак? — предугадал он мои слова, которые я хотел уже, было, произнести.
Я вместо ответа пожал плечами. Ну, хоть убей — не помню. И только тогда, когда он подробнейшем образом сам о себе рассказал.… Признаюсь, особой радости от этой встречи я не испытал. Но, тем не менее, следуя правилам хорошего тона, крепко пожал его руку и предложил пообедать со мной. Он не отказался.
Мы банально поговорили о прошлом — моем, его, нашем общем. Банально вспомнили несколько смешных случаев, несколько грустных и плавно перешли к настоящему.
— Ты, вроде бы, я слышал, каким-то бизнесом последнее время занимаешься? — спрашивал я у него, подливая сухое вино в фужеры.
— Да, — протянул Иванов. — Торгую видео продукцией, ну, знаешь, VHS-кассетами, DVD-дисками и прочей развлекательной фигней.
— И как идут дела?
— Отлично! — на его лице расплылась умиротворенная улыбка. — У меня три супермаркета и небольшая сеть из пяти ларьков. Работы, конечно, много: контейнеры, отгрузка, доставка, трафик — так утомительно всё это… — Он грустно вздохнул, показывая, как это все ему в тягость.
— А жена есть?
— Да-да, — зачастил Иванов. — Сейчас с детьми — у меня их двое: мальчику семь, девочке десять, — на Мальдивах отдыхают. Каждое лето уезжают, и сидят там все три месяца безвылазно. Я им говорю: давайте хотя бы в Ниццу поедем, посмотрим, или в Бадн-Бадн, так нет, Мальдивы только подавай.
— Значит, хорошо живёшь? — посмотрел я на него сквозь стекло фужера. Белое вино забавно искажало его лицо.
— Замечательно! — воскликнул он и по-детски засмеялся, точно не веря в своё счастье.
Он ещё много чего говорил и про себя, и про свою семью, и про свой бизнес, как им легко и вольготно живётся, но в словах его иной раз проскальзывала нотка какой-то беспомощности и неуверенности во всем. Да и в образе его сквозила какая-то противоречивость. Вроде бы, костюм был безупречен, но, приглядевшись, я обнаружил, что не хватает пары пуговиц, а одна висит на тонкой ниточке. А на выглаженных брюках видны затяжки. На рукаве пиджака потерт локоть… Все это, конечно, компенсировалось той напыщенной небрежностью, с которой он держался. Но от моего придирчивого взгляда эти незначительные детали не ускользнули. Заношенный костюм с его пламенными речами никак не хотел сочетаться. Иванов говорил, что недавно был на Нью-йоркской ярмарке-выставке по делам своей фирмы, а я смотрел на его колено, где красовалась небольшая заплатка, пришитая явно мужской рукой, небрежно и наспех.
Но… мало ли какие причуды у внезапно разбогатевшего человека. Может, такой вид — последний крик европейской моды. Зачем ему меня обманывать?
— Знаешь, — сказал он мне за третьим бокалом, — а наша встреча не случайна.
— То есть? — я недоуменно посмотрел на него.
— Я тебя последние две недели разыскивал.
— Зачем это?
— Мне помощь нужна. — Его лицо больше не лучилось беззаботным счастьем, а стало серьёзным и сосредоточенным.
— Моя? Тебе? — засмеялся я. — Чем рядовой журналист провинциальной газеты может помочь воротиле большого бизнеса? Разве что написать, какой ты успешный и благотворительный.
— Бизнес бизнесом, — его нисколько не обидел мой смех, — а я ведь ещё и ученый… ну, то есть занимаюсь наукой, так, для себя, — замямлил он, почему-то смутившись. — И… недавно… сделал одно открытие.
— Открытие? — я косо посмотрел на него, не пытаясь скрыть своего насмешливого тона. По моему глубокому убеждению, век ученых-одиночек давно миновал, и чтобы что-то сделать в мире науки, необходим большой коллектив, объединяющий множество теоретиков и практиков. Всегда смешно смотреть, когда раздают правительственные награды старым ученым, сделавшим, как и мой товарищ, важное открытие. Если разобраться, то эти уважаемые старцы всего лишь руководители какого-нибудь научного проекта, над которым трудилась добрая сотня молодых и безвестных, но талантливых ученых. А лавры, как всегда, достаются тем, кто на виду. Поэтому я и не мог поверить, что Иванов совершил какое-либо открытие.
— Да, — продолжал он. — открытие. Такое, которое перевернёт все существующие взгляды на мироздание.
— Эка ты хватил, — усомнился я. — А не слишком ли…
— Нет, не слишком, — оборвал он меня. — Я уже и практическое применение ему нашёл. — Он понизил голос до шёпота и стал озираться.
— Да? — выдохнул я. — И в какой же, позволь поинтересоваться, области ты совершил революцию?
— В области волновой физики.
— Точно, я помню, ты по молодости радиоэлектроникой увлекался. Даже участвовал в каком-то международном турнире «стукачей»…
— Радистов, — поправил он меня.
— … ну, радистов. И вроде бы, какое-то место занял.
— Да, первую премию взял по переписке «морзянкой».
— Ну, кто этим не страдал по молодости, — развёл я руками. — Не думал я, что это у тебя выльется в нечто серьезное.
— И не просто — в нечто серьезное, — стал горячиться он, — я совершил настоящий прорыв в волновой физике.
— И в чём же выражается этот твой прорыв? — я был настроен крайне скептически.
— Я разгадал эффект «белого шума». Ты, конечно же, слышал о «белом шуме»?
— Но физики давно изучили так называемые цветные шумы, — возразил я. — Есть формулы, описывающие это явление, теоретическая база и прочее…
— Нет, ты не понял. Я говорю, про тот эффект, когда радио- или телеприёмник вдруг начинает ловить голоса не из нашего мира, так называемый ФЭГ — феномен электронного голоса.
— Из загробного, что ли? — хмыкнул я.
— Да! — громко воскликнул он, напугав пару за соседнем столиком.
— Ещё бы! — в тон ему сказал я. — В журналисткой братии столько раз уже пережёвывалась эта тема, что пора и проглотить. Ловить на простой радиоприёмник радиоволны из загробного мира — это также круто, как на удочку кита. Но не кажется тебе, что это чепуха? Просто эфирный мусор, помехи от наземных электроустановок. И даже утверждения очевидцев, что на фоне ряби мониторов проступают силуэты давно умерших людей — тоже чисто психологический эффект. Люди просто видят то, что хотят увидеть. Аксиома.
Мой собеседник терпеливо ждал, пока я закончу философствовать.
— Вот и ты попался на эту удочку, — засмеялся он. — Это волны не из загробного мира, а из параллельного нам.
— Не всё ли равно? — пожал я плечами.
Конечно нет! Ты знаешь, что такое «параллельный мир»?
Я не стал отвечать, понимая, что сейчас он мне начнет преподавать географию параллельных миров.
— Все, абсолютно все имеют об этом смутное представление. Все их теории — ерунда.
— А ты, следовательно, установил…
— Да! — с диким восторгом заявил он. Я осмотрелся: посетители кафе уже начали обращать на наш столик внимание. Пора непризнанного гения отсюда уводить.
— Может, прогуляемся по городу? — спросил я Иванова.
— Да-да, — легко согласился он, — лучше уйти отсюда. Эта информация не для посторонних. Пойдём ко мне, я тебе машину покажу, которую изобрёл.
— Машину? — удивлённо взглянул я на него, оплачивая счёт официанту.
— О! прости, друг, я сегодня очень непоследователен. Изложу тебе все по дороге. А ты согласен пойти со мной? — притормозил он вдруг в нерешительности.
Я тяжело выдохнул: а-а, прощай полдня безделья, пойду посмотрю, что этот гений натворил. Вдруг он действительно сделал открытие?
Выходя из кафе, я как-то случайно взглянул на обувь Иванова, и опять поразился абсурдному сочетанию в его облике безупречности с неряшливостью. Туфли были дорогие, явно из престижного бутика, но уже начали приходить в негодность.
— Расскажу по порядку, — говорил он, пока мы шли по улице. — Примерно пять лет назад я задумался над одной штукой. Почему масса вселенной превышает массу материи, из которой она состоит?
— А ты её на каких весах взвешивал? — пошутил я.
— Не я, — мотнул он головой, — а астрофизики. Это же научный факт. Многие этот «излишек» в массе называют «тёмной» материей, кто-то антиматерией, и тому подобное. Я прочитал уйму литературы, наверное, всю, какая есть по этому вопросу. Ни одна из теорий мне не понравилась. То есть, оговорюсь, не то, чтобы не понравилась, — не показалась абсолютно убедительной. Тогда я сел за научные труды по физике, астрономии и прочим точным наукам и вскоре решился связать эту «тёмную» материю с эффектом «белого шума». Связь определенно должна быть, рассуждал я. И связь на молекулярном, даже атомном уровне. Многие умы бились над этой проблемой. Даже Томас Эдисон считал, что наше Я, переходящее в загробный мир, должно сохранять способность воздействовать на материальный мир и взаимодействовать с ним. Он только сетовал на то, что не создана такая чувствительная аппаратура, которая могла бы улавливать вибрации такого взаимодействия. Когда я коснулся этой проблемы, я ужаснулся, сколько ученых занимаются ею. Взять хотя бы Фридриха Юргенса или Константина Раудива, это самые ярые исследователи «белого шума» Но в чем же они все заблуждаются? — спрашивал я себя. И сам же отвечал: никакого загробного мира не существует. А что же это такое? Откуда эти голоса? Тогда я наткнулся на один интересный эксперимент, проведенный в США профессором Раймондом Чу из университета Беркли. Ты не слышал об этом эксперименте? — заглянул мне в глаза Иванов.
Я пожал плечами:
— Может быть и слышал. А что за эксперимент?
— Я не буду пересказывать целиком, расскажу только, каков был его итог. Им удалось преодолеть скорость света в триста раз, но и это еще не всё — им удалось переместить фотон назад во времени. Понимаешь, фотоны преодолевали расстояния от источника света до датчиков как бы исчезая и мгновенно появляясь на приемники.
— Ну, и что из того? — спросил я, еле сдерживая зевок.
— Как? — встрепенулся он. — Этот факт должен якобы подтверждать теорию нуль-транспортировки или теорию телепортации.
— Почему «якобы»?
— Не торопись. Они думают, что подтвердили возможность телепортации. А из этого, по их словам, вытекает и правомерность другой теории, о наличии пространственно-временных «кротовин», то есть временных тоннелей, в который пространство сжимается настолько, что время перестает существовать. То есть существует некая природная машина времени, некий переход, соединяющий точки пространства, находящиеся на невероятно большом расстоянии, в одну, единую точку.
Его глаза горели, в них плескалось помешательство.
— Ну, и что из того? — спокойно сказал я. Меня эти теории оставляли равнодушным.
— А то, — воскликнул он, — что все они не правы! (Я хмыкнул). Или же взять филадельфийский эксперимент Эйнштейна с перемещением эсминца Элдридж.
— Это же байка.
— Нет! — мне показалось, он готов был вцепиться мне в горло, когда я в очередной раз подверг его слова сомнению. — Нет! Это научный факт! И то, что до него подобный эксперимент провёл Никола Тесла в тридцатых годах двадцатого века — тоже научный факт! Только…
Он сделал продолжительную паузу, чтобы отдышаться. Он был так взволновал собственными мыслями, что задыхался и буквально глотал воздух.
— Что «только»? — взглянул я на него и увидел побледневшего человека, в зрачках которого полыхал костёр какого-то творческого озарения. Что-то страшное и бесноватое было во всём его облике.
— Только… — продолжал он, немного отдышавшись, — все они были неправы! Эйнштейн счел результат своего эксперимента доказательством своей единой теории поля, труды по который он впоследствии уничтожил, считая, что человечество самоуничтожится, научившись управлять пространственно-временным континуумом. Другие видят в этих экспериментах доказательство существования тех самых «кротовин». Но они все, ВСЕ ошибаются!
Он ещё много приводил примеров, которые доказывали наличие параллельных миров. Говорил о Черных дырах, о НЛО и других мировых загадках. В общем, о том, к чему мир давно привык и перестал обращать на эти сенсации внимание.
— А что же нужно было сделать? — спрашивал он себя. — А нужно было сделать следующие. Всё это — разрозненно и изучается всеми отдельно. А необходимо было связать это всё воедино. И только я так поступил. Только я, понимаешь? Я один! И, знаешь, к какому выводу я пришёл? Что наш сегодняшний взгляд на материю — не верен! Материя (и это моё фундаментальное открытие), из которой состоит наша вселенная, только отчасти принадлежит нашей вселенной: каждая её элементарная частица одновременно существует в нескольких параллельных формах бытия, то есть мирах…
Два квартала он излагал мне постулаты своей теории. Вкратце (если, конечно, я понял его правильным образом) его «учение» можно передать так. Он открыл, что каждая элементарная частица, ну допустим, атом пребывает в нескольких диапазонах волновых вибраций, независимых по отношению друг к другу. Скажем, наш мир, по его словам, находится в определенном диапазоне, и всё, находящееся в нем — атомы, молекулы, люди, звёзды и вся вселенная, — находится в состоянии этой вибрации, частота которой неизменна от сотворения. Однако те же атомы пребывают и другом диапазоне вибраций и составляют иную вселенную…
— К примеру, — говорил он, вынимая из пиджака своего костюма погрызенный карандаш, — в нашем мире вот этот определённый набор атомов составляет карандаш. А в другом те же самые атомы могут составлять, ну например, камень или лист какого-нибудь растения, если в другом мире есть такие формы жизни…
По его словам, материя во всех мирах, а он их насчитал более сорока, едина, только энергия у всех разная. В конечном счете, энергия — и есть та вибрация вселенной по отношению к другим вселенным…
— По сути, — говорил он дальше, — название «параллельный мир» неверное. Миры отнюдь не параллельны — они накладываются один на другой, они — одно целое, только имеют разные энергетические характеристики, вибрационные свойства…
Этим, по его словам, и объясняются все вышеизложенные «чудеса», от бермудского треугольника и НЛО до экспериментов Эйнштейна и профессора Чу из университета Беркли. Просто происходят кое-где в нашем пространстве энергетические сбои, и какой-то участок этого пространства начинает вибрировать не с той частотой, с которой вибрирует вся остальная вселенная, а частота эта совпадает с частотой вибрации другой вселенной… Знаешь, говорил он, эти частоты так мало отличимы, что любое отклонение от нормы и — происходит смещение пространства, и, как следствие, появляются «окна» в другой мир. Своего рода, энергетические дырки.
— Вот эти самые вибрации и есть ФЭГ — то, что иногда улавливают радиоприемники…
Признаюсь, до тех пор, пока я не увидел его машину в действии, всё сказанное им казалось мне просто бредом.
— По твоим словам, — усмехнулся я, — я, состоящий из конечного числа элементарных частиц, в каком-нибудь ином измерении либо пень трухлявый, либо молодой колосящийся бамбук.
— Нет-нет-нет, — почему-то зашептал он, — я установил (это я не могу пока объяснить и не могу алгебраически сделать выводы, почему именно так), что те атомы, которые составляют в нашем мире живые формы, во всех мирах также составляют живые (!) существа. Скажем, есть более десятка миров, которые в точности повторяют наш мир, но время в них течет по иному. В каком-то оно повторяет наше прошлое, в каком-то — будущее. А в ином — течет в другую сторону. По сути, неразгаданный до этого эффект предсказаний и пророчеств вытекает из того же ФЭГ. Наш мозг, помимо всего прочего, может генерировать токи различных частот, и иногда эти частоты совпадают с частотами тех миров. Фрейд был не прав, — замахнулся Иванов на очередного великого мудреца, — во снах, то есть в бессознательном мы видим не отражение собственных скрытых желаний. А, генерируя «поле», силой мысли проникаем в те измерения.
— Ты хочешь сказать, что, пребывая в состоянии сна, мы путешествуем в иные миры? — переспросил я. Слушая его, я и не заметил, что мы вышли почти на окраину города. «Неужели мы так долго идём?» подумалось мне.
— Послушай, приятель, а где ты живёшь?
— Да вон в той пятиэтажке, — указал он рукой на дом, до которого ещё оставалось, примерно, пятьсот шагов.
Подымаясь по лестнице, он с возрастающим от пролёта к пролёту жаром говорил, что на основе всего изложенного изобрел аппарат, способный сканировать частоты вибраций вселенной и генерировать их, создавая тем самым «дырки» в пространстве. Пока мы шли до пятого этажа, он подробно описал действие аппарата. К сожалению, я не настолько силен в научно-технической терминологии, чтобы передать все в точности. Скажу лишь, что принцип действия аппарата сходен с принципом действия той силовой установки, которую использовал Эйнштейн. Смысл в том, как утверждал Иванов, чтобы в одном луче, направленном на определенную точку пространства, сконцентрировать и электромагнитные сверхчастотные колебания, и гравитационные поля, также имеющие колебательную характеристику. И предать той точке пространства ту частоту вибраций, которая соответствовала бы вибрациям «соседней» вселенной». Тогда, по его же выражению, межпространственная мембрана «прорвётся» и появится желанное окно.
— Не обращай внимания, — сказал он мне, когда мы зашли в квартиру на пятом этаже. — У меня ремонт. И вообще эту квартирку я собираюсь продавать. Она была нужна мне как мастерская, чтобы построить Элдридж.
— Что-что построить? — не понял я.
— Свой аппарат я назвал Элдридж, — пояснил он, — в честь того эксперимента Эйнштейна.
Квартира действительно была в ужасном состоянии. Ободранные обои. Везде мусор, и строительный и бытовой, жуткая вонь. В общем, с образом успешного коммерсанта этот интерьер не гармонировал. Квартира была двухкомнатная. В одной комнате ничего, кроме пустых деревянных ящиков из-под строительных материалов и вездесущего сора, не было. В другой — его Элдридж. Не скажу, что агрегат меня потряс или изумил. Отнюдь. В центе комнаты стояло простое кресло из зубопротезного кабинета, и его окружали какие-то лампы, сильно напоминающие софиты, стоящие на высоких штативах. От них тянулись толстые силовые кабели, которые сходились в небольшой серой коробочке. По моей догадке, это был пульт управления агрегатом. И — всё! Ничего такого, что напоминало бы современную лабораторию: ни компьютеров, ни какой другой техники, только одно кресло и четыре софита. «Хм, — молча усмехнулся я, — это и есть машинка для перемещения во времени? Не хватает бормашины и плевательницы сбоку».
— И как это действует? — не без сарказма спросил я.
— Сейчас всё увидишь, — загадочным шёпотом ответил он.
Он закрыл окно листом фанеры и в комнате наступили сумерки. Подошёл к пульту управления Элдриджем и нажал на кнопку. Софиты, направленные в центр сидения кресла вспыхнули. Один из них заискрился, и из него посыпались искры. Иванов меня заверил, что в этом нет ничего страшного — процесс пошёл нормально.
На месте пересечения лучей образовалось некое подобие овального экрана. И на этом экране стали вырисовываться нечеткие силуэты.
— Можно подойди ближе, — прошептал Иванов. — Только не касайся — засосёт.
Я подошёл ближе и увидел странный мир, непохожий ни на что, виденное мной в «родной» вселенной. Такое не снилось ни Сальвадору Дали, ни другим великим мастерам сюрреализма. Настолько все здесь было необычно. Я понял только одно — что вижу живые существа. Они там парили, проходили сквозь друг друга, срастались, делались невероятно большими или невероятно маленькими. Иногда становились похожими на людей или животных из «нашего» мира. И — почти полное отсутствие цвета. Как в черно-белом кино. Более того, все они были какими-то полупрозрачными. Были видны их внутренние органы и кровеносная система с голубоватой, почти бесцветной жидкостью. В общем, то, что я увидел, не поддается описанию: это необходимо видеть самому.
— Что это? — заикаясь, произнёс я.
— Десятый мир, — пожав плечами, спокойно ответил он.
— Почему «десятый»?
— Не знаю. Так. Просто я нашёл его сканером десятым по счету.
— Это и вправду реальность?! — я получил впечатления такой силы, что сказать, что я был ошеломлен, значило бы, не сказать ничего.
Прошло, быть может, полчаса, пока мой ступор начал проходить. Тут я вспомнил, что Иванов говорил о какой-то просьбе, с которой он хотел обратиться ко мне.
— Я собираюсь пройти через тоннель, — спокойно сказал он.
— И?!
— Помнишь, что сталось с теми матросами на эсминце Элдридж, когда корабль возвратился из тоннеля?
— Что?
— Все они сошли с ума. А почему? — он сделал эффектную паузу. Я долго трудился над этим вопросом, анализировал все данные, и установил, что все, случившееся с ними — и то, что они лишились рассудка, и то, что многие срослись, как ты помнишь, с палубными переборками, — из-за того, что они проходили через туннель живыми.
— А какими они должны были переходить — мёртвыми?
— Мёртвыми, — закивал он.
— Что, их должны были бы убить, а потом засунуть в этот тоннель? В своём ли ты уме?
— Да, убить. — его спокойствие было подобно граниту. — Но убить лишь на время.
Честное слово, я чуть в осадок не выпал, услышав такое. Но после демонстрации «десятого королевства» готов был поверить во что угодно.
— Понимаешь, — стал он пояснять, видя на моем лице полную растерянность, — Человек, находясь в предпереходовом состоянии, когда на него уже оказывает воздействие поле, пребывает в отличном от обычного физическом состоянии. Давай я тебе сначала объясню, что такое смерть. (одно лучше другого, подумал я, подбирая свою отвисшую челюсть). Смерть — это когда энергетический фантом рассеивается и разряжается в среде. А так как поле не даст фантому под действием всех магнитных полей рассеяться, то при возращении тела в нормальную амплитуду колебания, соответствующую земной, тело снова соединится с энергетическим фантомом. Ему некуда будет деваться: всякая материя в нашем, да и других мирах не может существовать без энергии. Оно, попросту говоря, сразу же притянет к себе эту энергию, и тело оживёт.
— Ты в этом уверен?
— В этом не может быть сомнения, — заявил он. — Фантомный образ останется по эту сторону мембраны, а материя ведь и здесь, и там — одна и та же, и я перемещусь в иной мир. И вся информация, увиденная мной там, как на магнитную плёнку, запишется на частицы, которые составляют клетки моего мозга.
— И что ты этим хочешь сказать, что тебе необходимо… на время… умереть, — произнося это, я чувствовал, как дрожь прокатывается по моей спине. Всё это было крайне нелепо и странно.
— Да. И кто-то мне в этом должен помочь. Ну, не могу же я, находясь под действием луча, сделать это сам!
— И, конечно, — догадался я, и от этой догадки стало жутко и мерзко внутри, — ты хотел попросить меня, чтобы я тебя убил?
— Да. Тебе не нужно будет стрелять в меня из револьвера, душить бечевкой… Когда я буду сидеть в кресле, пристёгнутый ремнями, введи мне в вену вот из этого шприца (он вынул из кармана и показал мне орудие своего предполагаемого убийства) несколько кубиков воздуха. Воздух всё сделает сам.
Хотя и говорил он это бодро, с улыбкой на губах, но я заметил, как сильно задрожали его руки, как его стало шатать: он чуть не падал от нервного напряжения. Он старался не показывать, но было видно, как он напуган собственными словами. Меня они тоже повергли в непередаваемый шок.
Иванов очень долго убеждал меня совершить этот бесхитростный поступок. Говорил, как необходим он для науки. Говорил, как он прославит нас — его и меня. Говорил, какой это важный шаг для всего человечества… Он еще много чего говорил, но я уже не слушал.
— Нет, парень, это уж как-нибудь без меня, — наконец произнес я. И как он ни старался, убедить меня, буквально, из кожи вон лез, я упорно твердил: — без меня…
…За три недели эта история почти стерлась из моей памяти. Работа, хлопоты, семейные заботы — всё это оттеснило её на дальней план. Да я бы о ней и не вспомнил, если бы о ней не заговорил мой знакомый.
По смешной случайности с Алексеем Жарковым, с этим самым знакомым, я встретился в том же кафе, что и с Ивановым три недели назад.
— А ты помнишь Иванова, что у нас в ДК киномехаником работал? — спросил он меня за рюмкой коньяка. Я хотел, было, сказать, что встречал его недавно, но он перебил меня: — Знаешь, его на прошлой недели убили!
— Как?! — я чуть не опрокинул бутылку коньяку.
— Занятная, скажу, история, — выдохнул Алексей, — просто уникальная. Смешная и нелепая. Конечно, если смерть может рассмешить. Всё-таки как бы это ни было кощунственно, история действительно смешная. И её необходимо рассказать с самого начала…
Жарков тоже принадлежал к братству по перу, поэтому и изъяснялся так сложно, с манерной вычурностью.
— … итак, всё началось задолго до этого, — помпезно начал он, а я разлил в рюмки ещё коньяку. — Ты же слышал, что Иванов занялся бизнесом. И действительно, он занялся бизнесом и довольно успешно. Но пять лет назад связался с криминальными структурами. Участь любого коммерсанта в нашей стране, который вышел за рамки малого бизнеса. Дела, конечно, пошли в гору. Но три года назад на него сильно наехала налоговая, а его дружки из криминала, как сейчас говорят, попросту кинули его. Все бы ничего, но он ещё и остался должен этим браткам, и должен по-крупному. Жена и две дочери у Иванова во всей этой истории оказались совершенно лишними. Когда Иванов отказался выплачивать долги, они при странных обстоятельствах погибли в ДТП. Менты, правда установили, что ДТП не было подстроено. Всё случилось само собой — таков был вердикт гаишников. Иванов быстро разорился и опустился. После гибели семьи он ушел в глухую депрессию, долго лежал в больнице.
Когда же его выписали, то психика его была уже надломлена. Тогда-то он и решил свести счёты с жизнью. Но наложить на себя руки у него то ли духу не хватало, то ли в нем настолько силён был инстинкт самосохранения, то ли ещё что, черт его знает. Короче, самому поквитаться с жизнью у него не получилось. И до чего же он додумался?! Выдумал историю о том, как сделал открытие…
Жарков пересказал мне всё, что я и без него уже знал.
— …И представь, — продолжал Жарков, — нашелся-таки тот, кто помог ему осуществить прогулку в параллельный мир, сосед-пьянчуга из соседнего подъезда. Не представляю, как можно было уговорить на такое. Уговорил. Собственноручно написал на листе бумаге, что, мол, в своей смерти никого не винит, что добровольно уходит из жизни, и прочее, что всегда пишут в предсмертных записках…
Когда пьянчужка отрезвел и увидел, что эксперимент не удался, что прошло уже положенное время, когда Иванов должен был вернуться с того света, он сам вызвал наряд милиции. Какое ему грозит наказание, судить не берусь. Покойный, вроде бы, и не возражал, чтобы его отправили к пращурам. Но тем не менее, эвтаназию в нашей стране никто не легализовывал, да и у этого зимогора на неё нет никаких моральных или процессуальных прав…
— Ну, какова история? Ей-богу, грешно смеяться, но меня второй день разбирает.
— Значит, Элдридж не сработал, — выдохнул я, допив коньяк.
— Что?! — воскликну Жарков. — Ты тоже у него был.
— А ты?
Вместо ответа Жарков засмеялся и долго не мог остановиться.
В кафе
— Зайдём? — подумал.
— Зайдём, — мысленно ответила она.
И ещё подумал, как странно, что язык сохранил этот глагол. «Зайдём», хм? Почему не вольёмся или не протечём, или, хотя бы, влетим?
— От формы ведь сущность не меняется, — подумала она, — так зачем менять языковые конструкции? Так всем привычнее…
— Просто забавно… Вон за тем столиком свободно. Займи. А я заказ сделаю.
— Хорошо, милый, — она потекла по прозрачному шлангу к шарообразной ёмкости, возле которой как раз две свободные плошки мест. Я посмотрел вслед своей девушки, как она изящно течёт по телопроводу, как солнечные лучи преломляются через нее, окрашиваясь в матово-розовый свет, как она сегодня причудливо увеличивает предметы, видимые сквозь, точно линза, как игриво пробегает рябь по завораживающей своей чистотой и тягучестью массе… и позавидовал самому себе. Так способна переливаться и светиться всем спектром только влюблённая девушка. Значит, она влюблена… в меня.
Моя возлюбленная достигла плошки голубовато-зелённого цвета и вылилась из пластикового крана. Её последние капли очень сексуально срывались и падали в неё же, разбегающимися кругами волновали молодое жидкое тело. Она наполнила собой до краёв плошку. «Какие здесь стулья небольшие, — размышлял, всё ещё никак не силах оторвать взгляда от зеркально поверхности овала любимой, — мною они переполнятся, опять прольюсь на пол…».
Поспешил по центральному телопроводу кафе к продавцу. Кафе было маленькое, провинциальное, и пропускная способность главного шланга оказалась не важной. Не смог никак разминуться с двумя местными парнями. Пришлось проходить сквозь них. Сразу почувствовалось лёгкое опьянение и привкус никотина, растворенного в их студнеобразных телах. Как всё же густы жители деревень и мутны, много примеси и посторонних суспензий. Мы, городские более аморфны. Видимо потому, что чаще переходим в парообразное состояние. Нам сложнее конденсироваться, теряется энергия. Их атомы сильнее притягивают друг друга, и под прямыми лучами они меньше высыхают. Потом не приходится добавлять в себя регенерационных растворителей. Это чтобы своя масса не отвергла вливаемую.
Мысли парней перепутались с моими. Первый говорил, что вчера с одной красоткой до того перемешались, что потом долго отфильтровывались в разные колбы, где чьи кванты. Оказалось, что по литражу она стала больше, а он напротив уменьшился. А лакмусовый тестер утверждал, все молекулы на своих местах. Это ещё ничё, поддакнул второй, я от одной ушёл с квантом её памяти, а наутро отправился в девичью гимназию, точно я — она. Дальше шли пошлые шутки, которые никогда не терпел. Да ненароком зачерпнул некоторые воспоминания, также фривольного характера.
Меня передёрнуло, и я постарался побыстрее избавиться от порции чужих фантазий.
— Скажите, — спросил продавца. Ко мне пришла мысль, о которой раньше и не подозревал. Неужели и другие о ней не подозревают? А ведь она такая простая. — Скажите, а почему существует меню?
— Не понял…
— Ну… почему существует меню, где все блюда по-разному называются? Курица по-пикински, — читаю, — Котлеты по-киевски. Ведь, если разобраться, то блюдо везде всегда одно. Просто трансляторы вкусовых впечатлений разные.
— Никогда не задумывался, — нервно подумал продавец. — Вы что будете заказывать?
Наши жидкости как-то случайно соприкоснулись.
— Хорошо. Ваш заказ принят, — считал он с моей информационной молекулы.
В кафе слегка гудел пси-видратор, создавая романтическую атмосферу. Играла композиция «Пудинг», спокойная и немного ритмичная, отчего по жидкостям посетителей пробегала изящная дрожь. Я занял свою плошку рядом с милой. Пришлось немного подождать, пока из крана тоненькой струйкой сольётся всё моё содержимое. Его автоматика барахлила и принимала оставшуюся порцию меня же за инородную субстанцию. Но… согласитесь, всё это, все неурядицы местечкового кафе такие мелочи перед тем, что собирался сделать. Во мне сегодня растворено прекрасное настроение, и ничего его не могло испортить.
Милая окрасилась в оранжевый цвет с жёлтыми переливами и брызнула несколько капель в моё место, чтобы заметил… Что ты, милая, я заметил, просто, я никак не могу собраться с мыслями. Сегодняшний день для меня так важен.
— Какое замечательное платье у тебя. Оно так к лицу тебе.
— Только увидел? — укорила меня моя девушка. — Ты сегодня такой рассеянный, чем-то посторонним заняты твои недоступные для чтения мысли.
— О! что ты! Только о тебе, только о тебе.
Чувствовал себя очень неловко. Как и с чего начать? Это у меня впервые. «Впервые» — слово какое-то циничное, будто предполагающие: будет и во второй раз, и в третий…
Из столика-капсулы выскользнули трубки пищеводов и утонули в нас. По ним побежал сиреневатый съестной наполнитель. Со дна моей плошки поднялись пузыри, и я забурлил. Мне стало неловко, и я пробурчал:
— Вот-вот, именно мне и должен был попасться ненастроенный пищевод…
— В старых кафе всегда что-то разлаженно, милый… Не стоит обижаться на устаревшую технику.
— И вовсе я не обижаюсь. Просто со мной всегда так: то испарюсь, а потом ветром разносит меня на несколько миль, что проливаюсь дождём совсем не там; то в разветвлении шлангов делюсь на пополам, и поток разносит в разные города, а затем приходиться ждать почту с собою же… — говорил, а сам корил за то, что говорю. Сам себя же выставляю не в том свете. А ведь сегодня нужно преподнести себя в лучшем.
— Не ты один, дорогой. Многие даже забывают в гостях всего себя и долго ищут на следующий день.
— И у тебя так бывало? — немножко успокоился после её слов. Мне показалось, она хотела сказать, что готова принять меня таким, как есть.
— Нет. Я всегда внимательна и собрана. — А это меня немножко остудило. Она, конечно, такая… а я такой… э-эх!
Продавец приглушил пси-вибратор и включил иллюзорный проектор. По Первому транслировали научно-документальный журнал о доисторическом человеке. «…сохранились изображения прачеловека, — распевно вещал диктор. — …человек имел не метаморфозную, устойчивую форму, сохраняющуюся на протяжении всего физического существования. В основе формы был так называемый скелет. Это набор твёрдых органических трубок… Человек был смертен… Смерть… э-э… это некий межфазный недопереход…».
Слово-то подобрал — «недопереход», — усмехнулся я. Никогда не понимал, что же такое смерть. Когда зачет по палеонтологии сдавал, просто вызубрил понятия. Да и этот диктор запутался в объяснениях… Впрочем, кому это надо, что было миллион лет назад? Какие-то доисторические люди?..
— Тебе это в школе не наскучило? — вырвала любимая меня из иллюзии. — Попроси лучше переключить на хит-парад виброритмик. И вообще, почему ты сегодня за мной не ухаживаешь?
По её поверхности пробежалась мелкая рябь, она хихикала. Отраженные предметы, окружающие нас, заплясали в её зеркале.
— Я? Я? Почему же?.. Я хотел… — смутился.
За соседнем столиком посетитель перебил меня: он громко поблагодарил знакомого продавца; мысли порою так громко проецируются в воздухе. Произнёс, что торопиться. На дне его плошки открылось отверстие слива в магистральный телопровод, и он завертелся воронкой и вскоре исчез.
— Я хотел с тобою серьёзно поговорить…
— А теперь минуточку внимания, — занял эфир обмена мыслями голосовой фон продавца, — Сегодня мы празднуем инициацию нашего мэра. И в честь праздника от заведения по пищеводам будут подданы эмуляторы увеселительных напитков. Приятного вам веселья!
— Зачем это? Я вовсе не собирался напиваться, — непонимающе глядел на любимую.
— Брось, дорогой. Отрегулируй на малую порцию. Всё-таки мы в гостях, и не хорошо не поддержать. Давай совсем немножечко.
— Ну, немножечко, так немножечко, — сдался.
У меня снова забурлило. Моя девушка засмеялась, а я опять смутился.
— Что же это такое? — проворчал. — Так скоро на меня оглядываться начнут.
— Не беспокойся не начнут, — подбодрила она. — Скоро после напитков все будут заняты только собой.
— Хорошо бы, а это…
— А что это? Очень вкусно, — сказала она.
— Какой-то ликёр. Называется «Деревенский», — вызвал я мнемосправку.
— Никогда ничего подобного не пробовала. Давай сюда почаще приезжать.
Хм, «приезжать» — ещё один ненужный глагол.
— Ты сегодня так строг к филологии. Случайно, не объявил ли войну языкознанию, — переливалась радугой девушка.
— Да нет… так… просто так. Я хотел серьёзно…
— Внимание! — разрезал эфир строгий фон продавца. — Из ионосферы произошёл мощный выброс солнечной радиации, и через три минуты облучение достигнет поверхности земли. Кафе переходит на подземный режим. Места будут временно герметизированы. Приносим извинения за неудобства.
На плошки мест опустились крышки, которые до этого были откинуты на петлях. Гулко затрясло: гидравлика опускала кафе под землю.
Герметизация экранировала, и мысли не пробивались за плошки. Пришлось ждать, пока экстренное погружение не завершится. Милая сказала, что я сегодня больно строг к языку. Может быть. Вспомнилось ещё одна идиома, и тоже бессмысленная. «За время ожидания я успел состариться». Что это могло означать? Как это — «состариться»? Лучше уж сказать: «за время ожидания всё во мне успело скиснуть». Но так не говорят, так не принято.
Под землёю темнее, кварцевое освещение мягче дневного, что впрочем привносило в атмосферу нежное расположение к более близкому общению. Делало деликатным уединение за столиком; соседние были почти не видны. Вот сейчас, — решил, — и скажу то сокровенное, ради чего и пригласил.
Как назло, на всю интенсивность включился иллюзорный проектор:
«…а сейчас криминальные новости. Вчера миграционной службой была задержана партия яблочного концентрата в металлических банках. Как выяснилось, в них перевозили нелегальных эмигрантов, законсервированных под высоким давлением. Сотрудники таможни говорят, что этот способ давно налажен дельцами по ввозу бесплатной трудовой силы в страну. На заводах по консервированию продуктов питания граждан стран с плохо развитыми экономиками помещают в…»
— А нельзя сделать потише? — отравил мысленный запрос продавцу.
— Ну, зачем же потише, дорогой? Так интересно, я и не подозревала, что человека можно закачать в банку из-под джема. Как хитро придумано.
Пришлось досмотреть криминальные новости до конца и опять отсрочить важную речь. Потом шли политические вести. Тысячелетний срок правления президента истекал, и все обсуждали, будет ли он баллотироваться на второй срок.
— А ты будешь голосовать?
— Мне всё равно, — ответил, теряя надежду, наконец-то сделать предложение…
«…газотелопроводы теперь будут оснащаться новыми испарителями тел, — утверждала ведущая странички ноу-хау, — пассажиру не придётся ждать десять минут, как было при прежних испарителях, ями тел, — утверждала ведущая странички ноу-хау, — пассажиру не придётся ждать десять минут, к когда тело полностью перейдёт в газообразное состояние перед скоростной переброской в трубе. Теперь эта процедура займёт три секунды. Также увеличился пропускной пассажиропоток газотелопроводов и скорость доставки. По диаметральной хорде, проходящей внутри Земли, рейс до противоположной точки займёт пять минут. Ранее занимал семь…».
— Как замечательно! — обрадовалась моя девушка. — Мне как раз нужно навестить маму. Она на другой навестить мама. ой точкивнитри стороне Земли… А что-то не сказали о новых конденсаторах? Я слышала, что на конечных стали оснащать такими, что за минуту переходишь обратно в жидкое состояние. Ты об этом не слышал?
— Что-то слышал, — пробубнил. — Вроде, какие-то недостатки в них, и их отправили на доработку…
— А какие, не знаешь?
— Да говорят, из-за быстрой конденсации тела частично кристаллизировались. Приходилось обращаться в медпункты…
— Да? Как жалко. Сейчас целых тридцать минут уходит на обратный межфазный переход. Долго, да?
— Да, — грустно согласился, коря свою нерешительность.
— Ты о чём-то серьёзном хотел поговорить?..
— Да-да… — встрепенулся я.
— …извини, дорогой, я отвечу. Это — мама. — Мнемотранслер прервал нас; вокруг неё закружились мысли её матери. — Да, мам… Всё в порядке, а как у тебя?.. да сдала… нет, ещё один… потом, думаю, отдохну… не-а, пока не собираюсь… Какие новости ещё? Да похоже выхожу замуж…
Я чуть не кристаллизировался, услыхав это. Я был поражен, ошеломлен. Она. Она! Моя любимая выходит замуж! За кого?.. Кто он?..
— …за кого? — продолжала девушка беседу с мамой. — Да… ты его знаешь… Да… я знакомила вас…
Моя девушка выходит замуж! Не могу в это поверить. Не хочу в это верить! Этого не может быть… Этого недолжно быть!..
— …спрашиваешь, где он сейчас?.. Да рядом со мной. Только вот никак не наберется смелости сделать предложение… Что?.. Спрашиваешь, что отвечу?.. Конечно, да…
Лунная танка

Самурай Иванов сегодня припозднился с работы. Он работал в Жилищно-Космическом Усовершенствовании слесарем-космонавтом и по совместительству рисовальщиком лунных восходов. Сегодня был трудный лунный день. На объекте, где он был закреплён, прорвало стояк с серебристой водой, понадобилась радужная сварка, а только он владел в совершенстве этой техникой. Радугой варить не каждый может: для каждого шва — по толщине, по ширине и по высоте, — необходимо подобрать свой оттенок, единственный в спектре. Да и леденцы для радуги заканчиваются на складе, нужно экономить. Так что на то, чтобы заварить трубу с серебристой водой, ушёл весь лунный день.
Его передвижной пузырь легко прыгал по лунной поверхности. Самурай Иванов важно и одиноко сидел в центре этой прозрачной сферы. Когда последним прыжком он достиг парадной лестницы своего дома, находившегося на самом краю моря Циолковского, то легко втянул пузырь обратно в соломинку, из которой дорогу назад его выдул, выйдя из здания ЖКУ. Он начал подниматься по ступеням, вырубленным в склоне высоченного кратера, на самой вершине которого стоял его дом. Перелетая по семь-девять метров со ступеньки на ступеньку, он напевал старинную китайскую песню о вечерах вблизи города Пекина, о склоненной на бок женской головке и раскосом влюблённом взгляде.
Пройдя в прихожую своего жилища, Самурай Иванов повесил на большой ржавый гвоздь зонт, защищающий от солнечной радиации на луне. Снял дыхательную маску. Повесил на гвоздь поменьше свой двуручный самурайский меч и пояс с коробочкой, наполненной сюрекенами.
Внезапно в прихожей перед Ивановым на мгновение появился небольшой человек, показал язык и сразу же исчез, оставив слегка заметный сиреневый дымок. Неплохо, подумал Иванов. Это его младший сын начал изучать ниндзюцю, древнее искусство воинов-ниндзя. Взрослеет мальчик. Скоро в кендо превзойдёт своего отца и сенсея Никитина. Старший уже якудза. Да-а… время бежит. Он и не заметил за лунными восходами, что сам уже на пути к жизненному закату.
Из прихожей через специальный люк-клапан Иванов нырнул в залу, доверху наполненную, как впрочем, и все остальные комнаты в доме, серебристой водой. Люди давным-давно заселили луну, как только обнаружили, что луна отнюдь не полая и ядро не заполнено сульфатом железа, как гласила теория о пяти слоевом строении луны, как считали древнее ученые, запустившие в космос человека. Луна заполнена серебристой водой, которой можно дышать, как земным воздухом. Качай ее из-под луны её и дыши. Серебряная вода неиссякаема, земной спутник ее сам вырабатывает. И что удобно, взял во фляжке такую жидкость, прикрепил к этому сосуду трубку с дыхательной маской, надел термическое кимоно, захватил зонтик, оберегающий от солнечной радиации и — сиди преспокойно, рисуй лунные восходы, поставив треногий мольберт на краю какого-нибудь кратера. И ещё одно удобство, серебристой водой можно не только дышать, но и утолять жажду. А естественные потребности, которые теперь, чтобы справить, не нужно специально отведенного помещения — сейчас все отправляются в одежду, — серебристая вода мгновенно перерабатывает в саму себя. Через миг, как ты освободил свой организм от естественного груза, эта волшебная жидкость не оставляет ни запаха, ни пятнышка на белье. И уже давным-давно ни у кого не вызывает смех такое действие, только иногда, очень редко, когда проплывающий или проплывающая мимо вдруг пробурлит тихую мелодию, кто-нибудь приветливо улыбнётся.
Самурай Иванов плавно поплыл, оставляя за собой нечеткий шлейф серебристого свечения. Кстати, серебристая вода из-за этого и получила своё название. Чтобы побыстрее добраться до комнаты жены, он перешёл на брас. Очень хотелось сказать ей, что сегодня был удивительный день — такой же, как вчера, и как позавчера… и как позапозапозапозапозапозавчера. Он был так восхищен сегодняшним днём — таким же, как вчера, и как позавчера… и как позапозапозапозапозапозавчера.
Гейша Иванова, жена Самурая Иванова играла со старшим сыном в боди-арт: они макали кисти в симпатические чернила с измолотым реголитом и рисовали пейзажи на телах друг друга. Пейзажи оживали и жили своей жизнью, наполняя комнату голосами дивных животных, которые разбегались в разные стороны и роняли домашнюю утварь. Увидев мужа, женщина нежно улыбнулась. Омыла и обтёрла себя и сына. Они надели свои кимоно и обняли вернувшегося с работы самурая.
Позже был семейный ужин при свечах. В серебристой воде свечи удивительно горят. Мой язык, к глубокому сожалению, настолько беден, что я не в силах описать, как горят свечи под серебристой водой. Представьте не слепящее утреннее солнце, восходящее в размытой акварели рваного тумана, что на грани того, чтобы вовсе растаять. А по краям — шероховатые искорки бенгальского огня, осыпающиеся во все стороны. Эти искорки подхватывают течения, которыми полон аквариум столовой комнаты, и огоньки кружат и кружат повсюду, пока не остывают и не угасают. Иногда они оседают на одежде, и она сияет, как мишура из фольги, освещенная лучом карманного фонарика. Искорки совсем не обжигают. Их можно собрать в ладонь и любоваться тем, как они перемигиваются, как далёкие звёзды в черном лунном небе, и потухают одна за другой.
Пока семья вела неторопливую беседу за трапезой, искусно вылавливая графитовыми длинными палочками кусочки суши из хрустального шара, у ног терся старый большой сом Тишка, клянча еду со стола. Он был настолько старым, что и сам иной раз путался в своих неимоверно длинных усах. Что уж скажешь о его хозяевах, ноги которых почти всегда были опутаны ими. Дети любили его, и катались на нём из спальни в спальню. А сам глава семейства постоянно ворчал на Тишку за то, что тот любил прятаться в боевом самурайском кимоно, и шутливо грозил сделать рыбью похлёбку из любимца детей. И сейчас с виду ленивый и неповоротливый сом умудрялся исподтишка схватить кусочек лакомства, пока кто-то нес его до своего раскрытого рта. Сегодня у всех было веселое, просто праздничное настроение, и на выходки Тишки отвечали лишь дружным смехом.
Потом лунный слесарь рассказал, какая история приключилась намедни с его товарищем по работе сёгуном Петровым. Тот, опаздывая, спешил на службу и, чтобы поспеть вовремя, прыгучесть своего транспортного пузыря поставил на максимум. Это можно, впрочем, делать, но только на обратной стороне луны, где притяжение немного сильнее, чем на той стороне, которая всегда обращена к Земле. Там земное гравитационное поле ослабляет тяготение к лунной поверхности. Он же, приятель самурая Иванова, пренебрег этим правилом, поскольку очень торопился. В результате, сделав очередной гигантский прыжок, пузырь оторвался и устремился в космос.
Хорошо, что захватил две запасные фляжки с серебристой водой, — думал приятель самурая Иванова, выбрасывая из шара тревожный динь-диньгель, который полетел обратно к голубому реголиту, испуская призывы о помощи. Если его траектория не станет отклоняться, то до Земли два дня лёту. Дыхания как раз должно хватить. В этом направлении всегда курсируют патрульные катера и космобусы с пассажирами. Кто-нибудь да подберёт его. Только бы подобрали, пока пузырь Петрова не попал в верхние слои атмосферы. Там его потянет с такой силой, что ни одной ловушкой не выловить. А дальше шар попросту сгорит вместе со своим водителем — звездолётчиком поневоле.
По пути ему встретился космический корабль инопланетян. Когда-то, в древности считали, что НЛО — это внеземной разум, посещающий нашу галактику с тайными миссиями. Оказалось же, что это — наиглупейшие существа, рождающиеся в далёком космосе уже со своими тарелками. Тарелки просто нарастают вокруг их тел, как панцирь у улитки. Вот и шастают они из любопытства по всей вселенной, а у самих ни одной мысли в головах. И ещё они очень трусливы и застенчивы, поэтому так долго их и не могли изучить. Когда же изучили, интерес у научного мира к ним напрочь пропал — что взять с тупоголовых космических улиток. Инопланетяне долго хлопали своими большеглазыми ушами, сопровождая пузырь Петрова, а на их зелёных рожицах светилось ликование. И ещё эти дети космической пыли попробовали разрезать ради забавы транспортный шар своими лучами, которые они испускают из желёз на брюшке тарелки, подобно раскалённым газам жука-бомбардира, когда того потревожат, и тогда хоть беги от его едкого запаха. Повезло лишь потому, что пролетавший мимо астероид взял на себя больший пучок этих смертоносных лучей. И всё равно, даже того малого процента излучения хватило, чтобы накалить поверхность пузыря, и внутри него сделалось нестерпимо жарко, как в бане. Петров покрылся большими каплями пота, и ему пришлось раздеться до гола, оставив только дыхательную маску, и пристегнуть на потное тело пояс с фляжкой необходимой жидкости. Так он и летел, позируя всеми своими ракурсами перед бесконечностью вселенной. А гуманоиды, похихикав, смылись, видимо, испугавшись ответственности за проказы. Однако не стоит на них обижаться, как не стоит обижаться на двухгодовалого малыша, у которого — ни опыта, ни осознания ответственности, только одни первородные инстинкты.
В конце дня Петрова стали мучить голод и чувство нестерпимой обиды, что опять ему светит прогул. Опять в его годовом трудовом календаре появиться красный кружок. Кто же ему поверит, что не он виновен, что его вынесло в мировое пространство? Все скажут, что он нарочно сам оправился в космос, чтобы прогулять и, чтобы было чем оправдаться.
Приключилась и ещё одна беда: какой-то маленький астероид пробил ткань пузыря, и он начал медленно сдуваться. А струя, которая вырывалась из шара, придала транспорту Петрова некоторое ускорение, и он устремился совершенно в иную сторону, прочь от планеты Земля и прочь от её спутника. Туда, где его вряд ли отыщут, где его ждёт неминуемая гибель.
Спустя несколько часов его отнесло довольно далеко, а сфера заметно поубавилась в размере. Петров уже стал читать нараспев мантры, готовя свой разум, чтобы с чистым сердцем и без трепета встретить неизбежную участь. Он закрыл глаза, чтобы совершить обряд медитации… И внезапно ощутил всем телом тупой толчок: его изрядно тряхнуло во сдувшимся пузыре. Оказалось, что его транспортер ударился о борт какого-то здоровенного космического судна. Он попытался выйти из состояния транса, в которое уже успел себя ввести, читая древние заклинания, и прочесть надпись на фюзеляже корабля. Но отчуждение уже было настолько велико, что он не смог побороть его и потерял сознание.
Когда же он очнулся, то оказался в стерильной лаборатории корабля и был уже женщиной. Дело в том, что Петров попал в руки пираток-фемисток, ненавидящих мужское население солнечной системы и живущих разбоем и мщением. Они берут на абордаж каждое одинокое судно, берут в плен мужскую половину команды и хирургическим путём превращают в женщин. Петров стал очень привлекательной и соблазнительной дамой, с высокой грудью, тонкой талией, роскошными волнистыми волосами и длинными стройными ногами. Петров очень сердился и долго говорил нехорошие слова в адрес пираток, разглядывая себя в зеркале. Они же дали ему платье, чулки, туфли и всё то, что полагается молодой девушке, и починили его транспортер. А так как, по их разумению, миссию свою они завершили, то и высадили его живым и здоровым вновь на луну.
Представить себе невозможно, что чувствовал Петров, оставшись один наедине со своими мыслями и новым телом. Куда пойти? Как примут его на работе? Что скажет жена, увидев, во что его превратили?
Всё это произошло буквально на днях. Петров пришел на работу, ожидая насмешек и глумления над его новой внешностью. Но, напротив, все его встретили с уважением и даже восторгом. А начальнику так приглянулась новая дама в коллективе, что он простил Петрову не только этот прогул, но и все прогулы, которые были у него в этом году. С женой же они решили, что будут копить деньги не на поездку к родителям на Землю в отпуск, а на косметические операции, которые вернут ему прежний облик. Но потом, когда начальник предложил Петрову новую должность и поднял в разы зарплату, то и с операциями решили погодить. Одно только неудобство: ходить в женской одежде очень непривычно, да и начальство заигрывает — всё время норовят залезть рукой под юбку. Жена же сёгуна Петрова, славная женщина, нисколько не расстроилась из-за нынешнего образа мужа. Они и до этого происшествия жили как хорошие товарищи из-за интимной немощи Петрова. А ещё одна хозяюшка в доме — право слово, никогда не помешает. Вот только Петров стал часто задерживаться на работе, возвращаясь очень поздно. А бывает, что начальник оставляет его и на ночь. Что же сделаешь, если работы много — видимо, Петров не справляется вовремя с новыми обязанностями и ему приходиться работать сверхурочно…
После ужина, семья самурая Иванова решила прогуляться по лунной поверхности и покататься на роликовых коньках по ровному полю моря Циолковского, прихватив с собой реактивные ранцы, чтобы поиграть в «догонялки».
На востоке наползал на чёрное лунное небо огромный перевёрнутый полумесяц Земли. Семья Ивановых оставила свои транспортёры у края равнины моря. Самурай Иванов бросил неподалёку от них коробок-трансформер, из которого за несколько секунд, раскладываясь из отдельных составных частей, автоматически появились два столика, пять удобных стульев, зонты и шезлонги. Переговаривающие устройства (на Луне, как очевидно, не слышна речь из-за отсутствия атмосферы) было решено настроить на пятую частоту. Так как эта частота самая незанятая, а в игре очень важно, чтобы никто не «вклинивался» в эфир.
Они носились по реголиту как оголтелые, умудряясь в прыжках выделывать всевозможные сальто и пируэты. Младший Иванов даже иной раз чуть ни отрывался от притяжения Луны; он схитрил и заправил свой реактивный ранец смесью, которую раздобыл в школе. Эта смесь была очень взрывная, и он к тому же использовал новые молодежные пружинные ролики, благодаря амортизации дающие ещё большее преимущество в скорости.
Но уикенд испортили космические слоны, невесть откуда появившиеся здесь, генетические уродцы, результат глупости ученых прошлого. Слоны невероятно большого роста, имеющие очень длинные и тонкие, жилистые ноги, на концах которых — острые когти, чтобы цепляться за поверхности планет, которые они посещают. У них нет органов дыхания, и хоботы у них, скорее, для устрашения и разрушения препятствий на пути. Они ударами этих хоботов способны обрушить любой кратер на луне. Слоны эти путешествуют по всей солнечной системе, заглядывая во все её отдалённые уголки. И на Луне их очень давно не видели и, признаться, не ждали. Зная их характер забияк и проказников, любителей разрушать всё на своём пути, что на их взгляд не соответствует гармонии вселенной, жители Луны всегда спешат избежать с ними встречи. И сейчас самурай Иванов с семьёй, второпях собрав вещи, уже прыгали прочь в транспортном шаре. И всё же какой-то слон увязался за ними, попытавшись разрубить их шар сильнейшими ударами своего природного оружия. От этих ударов Луна сотрясалась и гудела, а после посещения исполинами спутника Земли неделю серебристая вода шла с мутноватым алым оттенком. Хорошо, что Ветеринарная Космическая Служба вовремя подоспела. Она прогнала гигантов пробковыми хлопушками, и они, поджав свои костлявые конечности, полетели хулиганить на Венеру, на рудниках которой сейчас добывают сиреневые одеяльца.
Честно говоря, из-за неудачных экспериментов прошлого во вселенной много таких мутантов всевозможных причудливых форм. Кого только ни встретишь во время странствования по родной галактике: от громадных кентавров до такого космического обитателя как Ог. Ог — это сумасшествие генетики, плод скрещивания ста восьми видов земных животных и ста восьми тысяч видов земных насекомых. Описать Ога так и не удалось ни одному писателю; он настолько странен и невообразим, что сказать, что же это такое на самом деле — значило бы дать характеристику всей вселенной разом. Когда же на планете Земля эти существа заполонили все континенты (а уничтожать их запретил Великий Суд Зеленых), было решено выпустить их всех в космос, тем более что все мутанты запросто могли обходиться без воздушной среды. И вот теперь они бороздят мировое пространство от Сатурна до Альфы-Центавра, от Луны до Регула, и безобразничают как захочется. Один земной путешественник Клод Клодье, изучающий повадки уродцев в межзвёдном пространстве и долго преследовавший стайку русалок вблизи Плутона, был даже вынужден много времени прожить в их племени.
Звездолёт Голубая Звезда, которым правил Клод Клодье три месяца дрейфовал вблизи Плутона. Клоду удалось выяснить, что русалки имеют к этой планете прямое отношение, то есть на ней у них было гнездо. Клод был один на корабле — всю команду матросов заменяли роботы. И поэтому, как одинокому мужчине, долгие месяцы проведшему без внимания и сочувствия, ему уже было невмоготу смотреть на обнаженных девиц, пролетающих мимо его иллюминаторов, которым не требуются дыхательных аппараты для существования в космосе. Он готов был рвануть к ним, но они были невозможно пугливы, и всякий раз, как только он приближал свой корабль, они разлетались врассыпную. Можно, конечно, было рискнуть — и выйти к ним в скафандре. Однако, как говорили многие, русалки могли заиграть космонавта и отнести его от собственного звездолета неизмеримо далеко.
И всё же Клод решился. Надев специальный, очень прозрачный скафандр на нагое тело, чтобы русалки никоем образом не догадались, что он не из их племени, заправив болоны дыхательной смесью так, чтобы хватило на двое суток, Клодье вышел-таки в открытый космос. Русалки даже не заметили разницы между ними. Они кружили, взявши за руки Клода, кольцами водили хороводы, и перед глазами мелькали, мелькали, мелькали. У Клода голова шла кругом от этих сумасшедших игр. Русалкам было только невдомёк: почему Клод так отличается от них строением тела. А он, признаться, смущался немного всякий раз, когда чувствовал на себе пронзительный и удивлённый взгляд какой-нибудь красотки. Каждая хотела потрогать, что же это такое лишнее, на её взгляд, у Клода. Он даже стал опасаться за свою «лишнюю» штуку, как бы русалки из любопытства ее не оторвали. За долгие месяцы, проведённые без любви, да и за всю свою жизнь учёного-отшельника, ведущего скромный образ жизни, он ни разу не испытывал такого наслаждения. И, конечно же, забыл про всё на свете: про свою работу, про оставленный без присмотра звездолёт, про Землю и всё что его с ней связывало, и, в общем-то, и про всю вселенную. Сейчас были только он, эти взбалмошные русалки и любовь. От удовольствия он зажмурился и всецело отдался воли космических девиц.
Открыть глаза его заставило ощущение, что рядом никого нет. Ни русалок, ни его звездолета, ни громадной планеты Плутон — ничего. Он был в совсем незнакомом районе космоса, быть может, даже не в Солнечной Системе, а где-то за её пределами. Он посмотрел на индикатор давления в болонах — он показывал, что воздуха должно хватить ещё на шесть часов.
Клодье в панике закричал, и кричал до тех пор, пока не лишился чувств. Ни один из смертных не испытывал ещё такого ужаса, разве что тот, которого похоронили заживо, и который пришёл в себя уже в могиле… Датчик показал: четыре часа. Четыре часа, а потом… Нет, нужно что-то делать, что-то изобрести для спасения, — говорил себе Клод, — и не дышать от страха так учащено, не тратить воздух. Он решил: воспользовавшись реактивной силой, он полетит в одном направлении, на свет вон той большой звезды, похожей на Солнце. Но как воспользоваться этой реактивной силой? Сказать-то просто. Нужно от чего-нибудь оттолкнуться…
На размышления ушёл ещё час. Час, позволивший не думать о неизбежном и близком конце. У него, кроме скафандра, ничего не было, что можно бы было ударить ногами, чтобы его понесло в противоположную сторону. Вокруг него была лишь пустота.
Баллон! — воскликнул вдруг Клодье, и это восклицание прозвучало как «Эврика!», быть может, даже сильнее и эмоциональнее. Ведь один из баллонов пуст! Следовательно, его можно снять и использовать как точку старта. Клод так и сделал. Он со всей силой обеими ногами пнул этот порожний металлический сосуд и, вытянувшись струной, стрелой устремился к избранной цели. Ускорение оказалось достаточным, и он с хорошей скоростью летел навстречу далёкой звезде, похожей на Солнце.
Клода Клодье подобрали только спустя две недели, вернее, то, что осталось от несчастного Клода Клодье. На земле его похоронили с большими почестями, как и полагается хоронить заметных светил науки.
Когда, вернувшись домой, самурай Иванов рассказал эту замечательную историю своей семье, то они вместе и поплакали и посмеялись над бедным неудачником.
Потом у семьи самурая Иванова был второй ужин, за которым каждый из ее членов делился своими планами на завтра, ведь завтра — замечательный день. Впрочем, такой же замечательный, как и вчера…
Когда же все отправились спать, самурай Иванов почувствовал, что не сможет сегодня заснуть: его грудь переполняло тем, что всегда предшествовало его творческим свершениям. Внезапно он понял, как давно не приближал своё сердце к прекрасному.
Скорее в кладовую, решил самурай Иванов. Там, среди старого хлама, среди старинных пылившихся вещей, среди кипы журналов, книг и прочего в коробке из-под башмаков хранится его вдохновение. Перерыв чем только не заваленную кладовку, он наткнулся на ветхие, изъеденные молью валенки, в одном из которых был сверток. Что-то мягкое и хрустящее было завёрнуто в пожелтевшую, ржавую газету… Вихрем наполнило кладовую комнату разноцветная, многоголосая, нестройная, беспорядочная какофония детских забытых сновидений. Наивные, нежные, очень личные, порой плаксивые переживания хлынули, пронзая его насквозь. От удивления, радости, восторга самурай расплакался чистыми, младенческими слезами. Он словно стал моложе на целую жизнь, избавился от жизненного опыта, этого нелегкого груза, который больше давит не тебя, чем помогает в существовании на свете. Ведь кто-то из неглупых людей когда-то подметил, что жизненный опыт — всего лишь подобие склада, где откладываются впечатления от прошлых неудач и обид. И в итоге, из чего складывается мировоззрение на жизнь? Да, да, это некая призма, через которую видится мир, с привкусом прошедших, но оставивших глубокие царапины, разочарований. Неожиданное открытие в виде позабытых грёз наложило болеутоляющий пластырь на эти не зарубцевавшиеся отметины. Точно он вышел в буйно цветущий сад и вдохнул полной грудью, вырвался из удушливой, зловонной, спёртой клети. Он опять стал маленьким, бегающим голышом карапузом, не знающим дней, когда нет увлекательных, забавных игр. Не ведающим о большой трудной дороге, ожидающей этого малыша, чтобы увлечь его за собой и сделать заложником этикета, общества, заработка, однообразной круговерти суток. Сейчас же он — беспечный, шаловливый, никогда не унывающий мальчуган. Для него ещё не настал период бесконечного обучения, тренировок — изнурительной школы, готовящей к тому, чтобы навсегда покинуть рай под названием детство.
Вот он с отцом выходит на прогулку. Тогда ещё не было таких лёгких дыхательных масок и приходилось носить на голове стеклянные шары, заполненные серебристой водой. Некоторые подмешивали в воду светлячков, и скафандры напоминали новогодние шары с осыпающимся снегом, когда их хорошенько встряхнёшь. Когда-то на Земле были такие новогодние игрушки. Сейчас, конечно, о них немногие помнят, как и то, что на Земле была традиция праздновать наступление года, равного обороту вокруг Солнца. Здесь, на Луне, многое забылось… Отец держит отрока Иванова за руку, и они идут навстречу восходящей из-за горизонта планете Земля. Отец рассказывает ему, что на этой многострадальной планете, очень давно начавшись, не прекращается война. Тогда, когда здесь, на Луне, царит гармония, и даже нет специальных органов правопорядка, и никогда не происходит ничего злого, на Земле люди убивают и убивают друг друга. За кусок хлеба, за глоток пресной воды. Хорошо, что, — продолжает отец, — лунное правительство ставит заградительный заслон от землян, желающих пробраться сюда. Но у многих на Земле до сих пор остались родственники… Слова отца оборвались. Они оба не отрывали глаз от гигантского космического тела, кометы, с ужасной скоростью несущейся к Земле… После этой катастрофы выжившая кучка землян прекратила бесконечные войны, а лунное правительство было вынуждено смягчить режим и оказывать пострадавшим поддержку. Тогда все эти политические игры не волновали маленького самурая. Он мечтал о странствиях по вселенной, о путешествиях по временным дырам и пространственным переходам. Мечтам, однако, не суждено было сбыться. Действительность настолько несправедлива и сурова к желанным идеалам юности, что всегда бесцеремонно спешит разрушить их одним тяжелейшим ударом, поджидая на пороге во взрослость. Это — стервятник, питающийся падалью благородных фантазий.
Вспомнилось ещё, как однажды отец сказал, что почувствовал, что его время пришло. И готов был встретить участь, к которой он шёл через всю свою жизнь, наполненную честью и философией воина. Этот день был преисполнен торжественностью и непомерной скорбью, светлой, но пугающей. Помнилось в мельчайших подробностях, как отец, облаченный в чистое, белое кимоно, вышел в центр залы и поклонился каждому, кто собрался присутствовать при древнем печальном ритуале. Ровным квадратом стояли с суровыми, скорбными лицами родственники и сослуживцы почтенного отца отрока Иванова. Они молчали и ждали, и ожидание тяготило и заставляло задуматься о грядущей истине. Отец расстелил циновку и встал на колени. Снял с пояса меч и положил рядом с собой, как и ножи, сталью блестящие и подчеркивающие значимость обряда. Отрок Иванов видел, как ни один мускул на каменном, бледном лице отца не дрогнул, когда тот, взяв один из клинков, мужественно совершил харакири…
Воистину это был день демонстрации героического, жертвенного подвига, неоценимого урока для маленького мальчика, каким был тогда Иванов. Поступок настоящего мужчины, бесстрашно принявшего пришедший час и показавший благородный пример всем будущем поколениям, идущим ему на смену. Когда-нибудь, когда и он поймёт, что приблизился его сокровенный час, Иванов с честью последует примеру своего отца, с гордостью примет мученическую мудрость древних. И как гласит старая японская поговорка, главное не забыть вовремя сделать харакири…
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.