
Бесплатный фрагмент - Квакеры в России
Электронная книга - Бесплатно
Richenda C. Scott
Quakers in Russia
1964
Глава 1
Квакерская предыстория. Российская предыстория
Квакерская предыстория
Общество Друзей было создано сыном ткача Джорджем Фоксом в середине XVII века. Возникло оно как движение, спонтанно пришедшее под влиянием проповедей Фокса, а также тех людей, которые не находили духовного и интеллектуального удовлетворения в лоне существующих церквей — Англиканской или иных. Много групп людей, в особенности на севере Англии, покинули свои церкви, собирались в молчании и молитве в ожидании живого контакта со Святым Духом. Первыми последователями Джорджа Фокса стали именно эти первые ищущие, соединенные в сообщество общим опытом, осознанием того, что Дух Святой существует в их сердцах, в их жизни. Они пришли к пониманию того, что непосредственное открытие Бога своим чадам, Его действенное, живое присутствие — это не только история, втиснутая в страницы пророческих книг и Евангелий, но и факт настоящего времени. В каждом человеке, независимо от расы, национальности, вероисповедания, сокрыт свет, жизненное зерно, способность ответить на Божественное прикосновение, способность единения с Ним непосредственно, без медитации священника, обрядов, Святого Писания. Турок, еврей, даже язычник, никогда доселе не слыхавшие о христианстве, но стремящиеся к лучшему, «любящие следовать правде», все они «посредством тайных прикосновений Святого Духа к душам их, были воодушевлены, а потому тайно объединены с Богом».
Друзья, таким образом, дали новый оттенок, новое определение слову, вере, установили совершенно другую основу авторитетного мнения. Для них вера становилась не просто принятием вероучения интеллектом, признанием основополагающих заявлений церкви, священников или Святого Писания. Нет, это было нечто большее, «экспериментальное» понятие, втягивающее личность полностью, требующее прыжка в воду, который только и сможет научить человека тому, что же вынесет его на поверхность, что же спасет его. Высшим авторитетом становилось не слово Святого Писания, но дух, вдохновлявший тех, кто писал эту книгу. Только свет, личностное осознание духа может способствовать чтению Библии с истинным пониманием, и правда вечная, заключенная в этой книге, оживает перед каждым при ее чтении.
Конечно, нетрудно свести квакерский подход единственно лишь к некоему смутному, самонаправленному освещению, идущему от бледного, бестелесного «внутреннего света», к тому, что протестантский упор на частное суждение выявляется в их экстравагантных заключениях. Для многих современников Фокса, как, впрочем, и для более поздних поколений, квакерская интерпретация веры возникла для того, чтобы доказать всяческие опасности и слабости субъективизма и духовной анархии. Эти опасности присутствуют и в современных описаниях Общества Друзей, данных некоторыми из квакеров. Но доказать исторически это обвинение трудно. Джордж Фокс и его друзья определенно проникли в глубь мистического опыта, «…увидели в нем нечто бесконечное, что не может быть закончено, увидели величие и бесконечность любви Бога, что не может быть объяснена словами». Такой подход к жизни и ее трудностям был скорее интуитивным и прямым, нежели традиционным или причинным. Но их доктрина Внутреннего Света с самого начала глубоко коренилась в историческом Воплощении, приходе Бога к человеку в лице и теле Иисуса из Назарета. Эта новая жизнь, в которой человек был рожден, как он встретил, как ответил на божественную встречу, все это было жизнью воскресшего и вечного Христа, созидательное Слово Евангелия от Иоанна, что «стало плотию и обитало с нами». «Есть один лишь Иисус Христос, кто может понять тебя», — таков ответ был дан Джорджу Фоксу на исходе его беспокойных лет, проведенных в поиске. «Христос сам пришел с тем, чтоб учить людей», — такова была основная мысль первого квакерского послания. Вновь и вновь повторял Фокс, что если люди будут следовать Свету, дару, что был пожалован всем в той или иной мере, они «обратятся к Иисусу Христу, откуда и Он пришел», и так люди придут к познанию Бога, а равно и к более глубокому пониманию природы человека.
Таким образом, квакерская вера с самого начала не являлась ни неясной, смутной озаренностью, ни пантеизмом, ни полетом в царство чистого созерцания и экстаза, удаленного от насущных требований человеческого существования. Могут приходить и приходили моменты безрассудного видения, высвобождения человека из пределов его бренной жизни в глубины личностного единения. Но всегда есть место здоровой приземленности, которая перемежается, а то и приходит на смену таким случаям экзальтации. Ибо не только видение может быть переведено в действо, более того, в суровых реалиях каждодневной жизни может случаться такое единение. Это может произойти, когда человек объезжает свои поля, находится в конторе или печет хлеб на кухне среди разгоряченных и раздраженных служанок или торгуется на шумном рынке. Ранние квакеры еще не видели отчетливо все области применения своего опыта, но они шаг за шагом чувствовали свой собственный путь к другим, более справедливым взаимоотношениям со своими компаньонами, и во всех своих делах и сделках, общественных и экономических, учились видеть каждого человека в Божественном Свете и раскрывать этот свет в людях. Квакерство подчас приводится как высший исторический пример практического мистицизма. Да, порой квакеры более известны своим трудом, часто в непопулярных сферах, нежели своей верой, которая продолжает оставаться для многих чем-то вроде тайны или чем-то сомнительным.
Это движение, если оно хочет выжить и развиваться, должно найти некую подходящую форму, способствующую сохранению в нем порядка. Для многих Друзей рост этого порядка, способ его выражения, все это по-прежнему рассматривается как печальная необходимость, неизбежное ограничение радостной жизненности и универсализма тех ранних дней свободы. С этой точки зрения организация Общества не была основной частью выражения первоначального опыта, но, скорее, успокоением жизненного потока, кристаллизацией духовной сути, стремлением привнести нежелательные строгости; замена традиций знанием победили.
Таковой была канва событий; о ней недавно заговорили вновь. Друзья начинают понимать, что опыт, и порядок, и дисциплина, росшие в Обществе, никак не могут быть рассмотрены по раздельности. Основой такого порядка является молитвенное собрание, проходящее в тишине, в ожидании божественного прикосновения, какое может побудить того или иного к устному служению или молитве, или может привести всех к глубинам безмолвного единения с Ним, друг с другом, в Нем. Если слова пришли, они не могут быть просто высказыванием случайных мыслей или размышлением человека в его тщеславии и слабости. Это — выражение истин и озарений, дарованных ему в его продолжительном поиске Бога. Такое собрание требовало от молящихся высшей степени искренности, признания греха и слабости даже у лучших мужчин и женщин. Но в то же время было и ожидание того, что живое присутствие Христа будет распознано ими, живое и реальное, как в основах мессы или евхаристии.
«Властитель Земной и Небесный, которого мы нашли, чтобы пребывать рядом с Ним, и ожидали Его мы в целомудренном молчании, в рассудке, свободном от всего суетного, и Его божественное присутствие было в наших собраниях, там, где не было никакого языка, речей ничьих. Царствие Небесное, оно собрало нас, оно застигло нас, … и Господь каждодневно являлся нам, к нашему изумлению, удивлению и великому восхищению, до такой степени, что мы часто говорили друг другу, с радостью сердечной: „Ужель Царствие Божие снизошло, чтобы пребыть с человеком?“» Это было и есть высшая точка квакерского молитвенного собрания.
В свете подобных собраний не может быть точного разделения между духовным и материальным. Поэтому, когда Друзья собираются для обсуждения практических вопросов на деловых собраниях, или собраниях по «церковным делам», они приходят туда с тем же ожиданием водительства, с тем же желанием быть открытым Ему, с той же готовностью ждать, пока пути еще неисповедимы. Они чувствуют уверенность, что в любой ситуации верный путь может быть найден в полном соответствии с божественной волей и целями, что нужно лишь терпение и искренность сердца в поисках такого пути, надо отринуть лишь свои собственные желания и искушения. Такой метод, такой порядок, такие формы не были навязаны чем-то помимо собраний Друзей, они не были попыткой скопировать первоначальную церковь и ее уставы, нет, — то были попытки выразить такую божественную власть, такую божественную волю, какие им открылись. Таково было обоснование этой Церкви, как это виделось Друзьям, фундамент для ее существования. Это не было рукотворной организацией, то было сообщество людей, «собранное из мирской суеты Божьим Духом с тем, чтобы шествовали они в жизни Его и в свете Его». Джордж Фокс так сказал одному англиканскому священнику, дискутируя с ним на эту тему: «Говорил я ему, что сия Церковь есть столп и основание Правды, сотворенная из живых камней, живых членов, духовная семья, где Христос есть глава ее».
Такая церковь в глазах Друзей имела две стороны, два вида. Существовало гигантское, невидимое, кафолическое сообщество, охватывающее христиан, язычников, неверующих, короче говоря, всех, кто честен сердцем и тверд характером, кто живет согласно внутренним побуждениям, ведомый духом, следует правде, виденной ими. И вместе с тем, имела место видимая церковь в более узком смысле слова, созданная из тех, кто собрался молиться Богу в присутствии воскресшего, живого Христа, «свидетельствовать за правду, против ошибок, страдать за то и становиться через то братство единой семьей»…, чьи члены заботятся, приходят на помощь и поддерживают друг друга, «согласно их критериям и познаниям».
Для Друзей соответствующая форма такой церкви исходила из опыта ожидания Бога, ожидания Его откровения, в послушании Его советам, ограничениям, велениям Его духа. Поэтому квакеры разработали особый порядок церковного правления, который существует и поныне. Правление основывается на местных центрах, названных собраниями: местное, месячное, квартальное. Они рассеянны по всей стране, их представители собираются на годовое собрание, которое может выражать волю всех Друзей. Но собственно такая организация является лишь средством, которым Святой Дух может быть выражен в миру; поклонение самому механизму отсутствует, как ни была бы дорога традиция, сформировавшаяся веками.
Первые Друзья не были сильно озабочены ростом своего братства как отдельной протестантской секты, но с ростом этой оживотворенной пророческой церкви, чьими предвестниками они оказались, они были избраны призывать в ее лоно своих соотечественников, всех христиан повсюду. Для Римско-католической и Англиканской церквей первоначальный их опыт был спрямлен в ограничения догм. Там имела место власть иерархии священников. Новая же протестантская церковь искала лидерства человека на смену получавшему плату проповеднику Слов Правды. Даже приверженность букве Писания, как последней инстанции в вопросах веры, — все это ранним Друзьям представлялось скорее барьером на пути к божественному прорыву, к водительству Святого Духа, а не руслом потока милосердия.
Однако к концу XVII века Друзьям стало ясно, что нация не отвечает на этот призыв. Более того, Друзья осознавали, что даже в обозримом будущем многочисленный отклик маловероятен. Поэтому концепция их задачи изменялась. Им оставалось играть роль преданных остающихся, тех, кто сохранит правду и будет следовать правде, которой они были удостоены. Первые лидеры Общества Друзей уже были в возрасте или умерли; трудные годы преследований в эпоху короля Карла II вероятно истощили силы — и духовные, и физические, и умственные. Определенно, бессилие оказалось своего рода тормозом для свободного квакерского движения, задержало распространение их послания, фактически заставило их сконцентрироваться на самих себе. Друзья преимущественно хлопотали о поддержании уже имеющихся собраний, препятствовали их разгону королевской ратью. С принятием Декларации о привилегиях в 1687 и 1688 годах и Акта о веротерпимости в 1689 году бремя ослабло и дух мысли внутри Общества Друзей претерпел изменения. Зарождающаяся черта квиетизма, душевного спокойствия, видимая даже в лучшие дни его появления, становилась довлеющей по мере роста рационализма той эпохи. В квакерской мысли историческое содержание христианской веры было ослаблено. Многие Друзья почти незаметно скатились к деизму. Исчезало личностное чувство отцовства Бога, оно замещалось неким более абстрактным понятием «Божественного Творца нашего существования». Как реакция на то, на рубеже XVIII и XIX веков Общество Друзей было поражено евангелистским возрождением и в течение последующих восьмидесяти лет продвигалось другим курсом. Евангелисты восстановили исторические реалии и понятия христианства в сознании Друзей, но все это было в рамках жестких доктринальных установок, что было чуждым для ранних квакеров.
В течение этого века квиетизма, когда все внимание скорее обращалось на примитивный формализм — во что одеваться, как говорить, как себя вести — созидательная активность Друзей существенно уменьшилась. Вместе с тем появилось значительное количество людей, без какой-либо запланированной преднамеренности, которых можно назвать продолжателями дел первых квакеров. То были люди с особым даром, способные выразить божественное послание, и на кого, чувствовалось, была возложена ответственность поддерживать и поощрять устное служение во время молитвенных собраний. Этот дар был признан другими Друзьями. Но, в данном случае как-то выделенные, они не были профессиональными проповедниками, не получали никакой оплаты. Часто кто-нибудь из них чувствовал призвание путешествовать, навещать собрания в Британии и Америке, укрепляя и формируя квакерскую веру и мысль, проясняя и придавая силу своим посланиям. Мы увидим многих представителей этой группы Друзей на бескрайних просторах Российской империи, поскольку квакерское служение подчас чувствовало необходимость выйти за рамки своего сообщества с тем, чтобы богатства квакерской духовной жизни стали доступны разным народам. Друзья хотели помочь людям найти тот постоянно пребывающий Свет Христов, что поможет вести на борьбу со злом в этом мире. Там, где ощущался особый мрак, страдания, нужда, там часто оказывался квакер, порой еще не вполне осознавая, что он должен сказать или сделать, но уверенный, что, следуя своему внутреннему водительству, он найдет практические действия, что к нему придут слова исцеления, столь нужные страждущим.
Квакерская концепция служения довольно сложна для разъяснения, поскольку Друзья сами неоднозначны в объяснении ее — как в своей среде, так и в толковании этого понятия другим. В любой области человеческой деятельности вдохновение есть вещь загадочная, неподвластная чисто рационалистическому определению. Кто может сказать, что именно воспламеняет искру в голове поэта, художника, музыканта, которые могут перенести человека в запредельные дали, проникать в самую суть человеческой трагедии или комедии, вызывать страстный отклик, точно формулируя те полунамеки, призраки желаний, которые мы смутно ощущали? Все это является частью нашего человеческого опыта; мы знаем, что такое бывает. К подобным мистериям относится и Слово, сказанное великим проповедником или оратором. Несомненно, в высказываниях путешествовавших 100—200 лет назад Друзей было много мертвого, вторичного, скучного и надоедливого. Но случались времена, когда огонь горел в их словах, выплескивался на слушателей, зажигал ответное пламя, пожиравшее тот шлак и мертвое дерево, что препятствовали новому росту. Смелость, правоверность, достижения тех квакерских предтеч остаются историческим фактом, который необходимо признать их скептически настроенным потомкам, хотя бы и с нелегким чувством, что это невозможно объяснить, но от этого нельзя и отмахнуться. Они также осознают, что всякое служение без воодушевляющего импульса от силы внеземной есть вещь пустая и никчемная.
Этот дар и позыв для ранних поколений Друзей был страшной ответственностью. Принятию на себя такой ноши, такого решения, несомненно, предшествовала внутренняя борьба и смятение. Приняв решение, они были готовы провести месяцы, порой годы вдали от дома, семьи. Готовы были столкнуться с трудностями и опасностями, сопряженными с плаванием, переездами, с одиночеством далеких мест, с враждебностью людей.
Неотрывно от этой службы находится и понятие квакерской заботы, участия, интереса (concern). Это слово особой важности из квакерского словаря, хотя и затертое частым и бездумным использованием, по-прежнему хранит свою силу и злободневность. По сути своей, квакерская забота есть убежденность, охватывающая Друга, что некое дело, возложенное именно на него — как он верит — есть призвание Бога. Это такое требование, что приходит неосознанно, вне желаний, настойчивое, идущее наперекор устоявшейся рутине жизни. В жизни Общества Друзей довольно быстро стало случаться так, что Друг представляет свою заботу на рассмотрение месячного или квартального собрания с тем, чтобы его участники смогли взвесить ее в свете своего опыта, и, возможно, разделить часть ответственности. Если собрание уверено, что эта забота «в Жизни» или «правильная», то оно высказывает свое полное одобрение и записывает этот факт в протоколе, который Друг может брать с собой, куда бы он ни направлялся. Если же задача представляется не вполне важной или сопряжена с путешествием за границу в служении, вопрос передается на рассмотрение и подтверждение годовому собранию, и тогда Друг освобождается для служения. В былые дни те собрания, где рассматривались подобные вопросы, выделяли Другу спутника для выполнения его призыва, чтобы он был ему верной поддержкой и опорой. В нашем дальнейшем повествовании мы не раз упомянем подобную практику, эти непреодолимые побуждения, которые нельзя отрицать.
Необходимо также помнить, что между XVII и XIX веками уклад Общества Друзей изменился радикально. Первые Друзья были преимущественно сельскими жителями — йоменами, земледельцами, ремесленниками, прислугой — людьми маленькими. Отказ платить церковную десятину в поддержку священника, чья служба и учение в понимании Друзей вводили в заблуждение, вел к суровым мерам: опись и арест имущества, телесные наказания, тюрьма. Чаще случались мелкие неприятности, такие, как периодическое вмешательство со стороны местных властей. Все это подталкивало их к переезду в города, что и происходило к концу XVIII века. К этому времени Друзья в основном были уже городскими жителями, занятыми в торговле, промышленности, банковском деле. Их честность в бизнесе была одной из причин притока клиентов. Не допущенные в университеты, молодые Друзья находили применение своим активным умам в деле экспериментирования с новыми процессами, в улучшении промышленных технологий, торговых методов, что весьма часто делало их пионерами в этих областях. В сочетании с перечисленными факторами пуританская бережливость открывала дорогу к обогащению. А это, в свою очередь, рождало новые проблемы и искушения, о которых Общество знало не понаслышке. Скрупулезная честность во всех сделках, трезвая респектабельность, глубоко укоренившаяся осторожность, большое сальдо банковского счета — вот те черты, что характеризовали квакера в XIX веке. Но это еще не все. По причине своей проницательности и практических способностей квакеры были по-прежнему чувствительны ко всем духовным волнениям и побуждениям, вновь и вновь призывали к свидетельству о вещах невидимых, но дававших миру, который они знали, смысл и ценность.
Российская предыстория
Земля Российская, покрытая лесами и болотами, была совершенно неведома англичанину начала XIX века, трудна для воображения по причине своей обширности. И по сей день, когда полет от Лондона до Москвы занимает четыре часа, все равно что-то еще остается от этого чувства. Историки по-прежнему обсуждают, каково же место России в европейской истории, можно ли ее рассматривать частью европейского сообщества? Так ли уж сильно различие в ее развитии от того, что происходило в западных странах, даже от того, что происходило в странах православного христианства юго-восточной Европы? Следует ли ее помещать, согласно мнению профессора Тойнби, в особую категорию? Или же есть все-таки некая основная общность, идущая от общего наследства греко-римской культуры и христианской веры, о чем говорит профессор Джефри Барраклоу? А может, как предлагает профессор Галецки, надо считать, что лишь только часть России, хотя порой и вся империя вступала в русло европейской истории, оставаясь в остальное время евразийской державой, оседлавшей два континента, не принадлежащая ни одному из них? Подобные вопросы нельзя назвать чисто академическими, хотя бы уже потому, что сами понятия Восток и Запад несут в себе большой эмоциональный заряд; понятия эти имеют политические предубеждения, политическую окраску. Эти слова сами по себе создают железный занавес, еще более непробиваемый и ужасный, чем его политический аналог.
Русские историки и философы, за важным исключением славянофилов, всегда смотрели на Запад, искали там вдохновения и числили себя европейцами. С момента постепенного продвижения от долин Днепра и Дона славяне постоянно и отчаянно защищались от кочевых племен, рвавшихся к власти на русских равнинах с незапамятных времен. Сопротивление Орде, побоища, постоянно меняющаяся граница, — все это было мощным фактором в объединении рассеянных славянских семейств и кланов в народ, сплоченный общими интересами и целями. Крестьянские ратники Киевской Руси в XI и XII веках, суровые казацкие «демократии» XV и XVI веков сдерживали полчища азиатских кочевников, рвущихся в Европу, выступали против них, медленно отодвигая их обратно. Когда Русь была покорена в последний раз Золотой Ордой в 1234—1235 годах и оставалась под игом более 200 лет, русские люди по-прежнему осознавали и отделяли себя от татаро-монгольских поработителей. Смешения кровей практически не было, что противоречит распространенному на Западе заблуждению. Длительное порабощение не сильно отразилось на местных обычаях и устоях. Основной эффект татаро-монгольского вторжения выразился в обособлении России от Запада на более чем два века и ослаблении духовной связи с Византией.
Россияне были предоставлены сами себе, что отразилось в ослаблении интеллектуального и технического развития. Ренессанс не затронул их, Реформация затронула Россию через Польшу, торговля и промышленность были в застое. Следствием того являлось отсутствие динамичного и энергичного среднего класса, который менял социальную структуру в конце средних веков в Британии, Нидерландах, Рейнских землях. В таких условиях врожденный крестьянский консерватизм только усиливался. Великий же князь Московский, собиравший рать для последнего боя с татарами, тем временем использовал возможность стать их главным сборщиком податей, получив, таким образом, контроль над всеми князьями и магнатами и ослабил власть ига. Под татарским правлением они собирали удельные земли и создавали базис для автократического царства без внешнего контроля.
После того как к концу XV века взаимоотношения с Европой восстановились, правители Московии в основном интересовались техническими возможностями и военным искусством Запада. Это было необходимо для борьбы с Польшей, чтобы отобрать у нее западные земли. Царь Петр Великий под давлением военных потребностей дал решительные очертания этим нуждам и направлениям, придал им долгосрочный характер, чего не делал никто из его предшественников. Будучи еще молодым человеком, он осознал, что для того, чтобы страна была на равных в современном мире, необходимы научные знания и техника Запада. Чтобы реализовать свои идеи в условиях военной необходимости, он должен был разорвать порочный круг привычек, стряхнуть груз консервативных предрассудков и переоборудовать, перестроить свое государство, начиная с самых основ. Он сам отправился на верфи Амстердама и Лондона, послал молодых аристократов повсюду учиться тому, чему Запад мог научить их в промышленности и горнорудном деле, равно как финансовом и военном. Он пригласил в Россию иностранных промышленников, дипломатов и администраторов, способных помочь ему обновить экономические и государственные институты. Он нанимал архитекторов и ремесленников строить и благоустраивать свою новую столицу в устье Невы. Никаких табу не существовало; институт патриарха упразднялся, управление церковью передавалось в руки Святейшего синода с обер-прокурором во главе для того, чтобы следить, что ничего не делается вразрез с интересами и против воли царя. Церковь стала государственным департаментом и в течение XIX века ассоциировалась с силами реакции, с автократией и национализмом. Царь призвал молодых аристократов, представителей высших классов на государственную службу, послал их в академии, основанные им же для получения знаний, особенно математики и прочих наук. Армия, флот, гражданская администрация были перестроены и обновлены с учетом его военных целей. Короче говоря, он взял свой народ за уши, подтащил к «окну в Европу» и заставил его вздохнуть полной грудью свежего бодрящего воздуха. Он опустил царство на землю, на улицы, освободил его от восточной отчужденности. Своей жестокой безжалостностью, быстрыми импровизациями, своей демонической волей и энергией он взорвал жизнь в своей стране, перевернул все сверху донизу и оставил после себя Россию неузнаваемую.
Тем не менее, несмотря на всю свою кипучую энергию, Петр требовал заимствования с Запада технических знаний, но не философии. То было оставлено для его наследницы, Екатерины II (1762—1796). Ей предстояло войти в апартаменты западной философской мысли, собрать все наиболее богатое и ценное, хранящееся там, и навязать это богатство дворцовым кругам и высшему свету российского общества. Она состояла в переписке с Вольтером и французскими энциклопедистами, сделала модной французскую литературу и французские вкусы в столице. Она использовала Двор в качестве средства дальнейшей вестернизации страны. Екатерина Великая и ее внук Александр I, получивший корону в 1801 году, пребывали в атмосфере наиболее выдающегося либерального мышления, не имеющего ничего общего с условиями жизни своей страны. Они время от времени возвращались из мира идей в реальность, делали неумелые попытки реализовать их, теряли всякое терпение, столкнувшись с неудачами, и скатывались к жесткой автократии, так и оставив идеи витать в вакууме. Екатерина в своем стремлении восстановить старые западные границы России вступила в союз с Пруссией и Австрией, результатом чего стало циничное и бездушное разделение Польши, что в конечном итоге привело к полному исчезновению этого государства с карты мира. Своими щедрыми подарками фаворитам она около миллиона людей сделала крепостными. При этом не уставала утверждать, что свобода есть душа всего, без свободы все мертво. В своем странном разделении своей души, тем не менее, она искренне верила в это и так считала на самом деле. Ибо общество в Санкт-Петербурге во времена ее царствования было буквально пронизано безграничным либерализмом, который останавливался на границе мысли и никогда не пересекал ее, никогда не переходил в действие.
Александр, взлелеянный в среде этих иллюзорных чувств, взращенный на Демосфене, Платоне и Плутархе, английских и французских историках и философах, рационалистах и романтиках, впитавший в себя самые радикальные понятия, оставлял это все в голове, отгородив от всяческих попыток понять и конструктивно бороться с жестокими и трудными реалиями общественного, политического и экономического положения в своей стране. Молодые офицеры, сопровождавшие его от Немана до Парижа в 1813 году, были, очевидно, поражены смелейшими размышлениями Запада, поражены тем, что они увидали там. Они вернулись в смятенном духе, от которого и пришла первая революционная попытка установления более либерального, конституционного порядка в России и трагедия декабристов.
На годы правления консерватора Николая I (1824—1855) пришелся расцвет поэтической деятельности Пушкина, воплотившего в себе весь образ русского литературного гения, охватывающего во всей широте его видения культурное наследство как Запада, так и Востока, и объединяющего их в новой гармонии. Во времена этого же режима возник необычный русский феномен, которому трудно найти аналог на Западе, — группа общественных и политических идеалистов, именуемых интеллигенцией, просуществовавшая до революции 1917 года. Они не являлись общественным классом в марксистском понимании, но пришли изо всех слоев общества, люди, ведомые идеями, за которые они были готовы отправиться в ссылку, в тюрьму, на эшафот. В полицейском государстве, России XIX и начала XX веков, не было выхода их идеям в реалии, а потому они обращали свой взор преимущественно к прошлому или будущему, делая публичные заявления о несправедливости в общественной жизни империи, подвергая риску свои жизни, невзирая на жестокую и деспотичную власть. Немецкий романтизм, убеждения Сен-Симона, Фурье, Фейербаха и Маркса оставили следы в их умах, были впитаны и перенесены на благодатную почву русской философской мысли.
Интеллигенция делилась на две основных категории: западники и славянофилы. В глазах первых Россия была важным членом европейской семьи, и лишь исторические обстоятельства привели к тому, что она была там на правах младшего. Для достижения полного совершеннолетия, по их мнению, необходимо было как можно скорее повторить путь западных народов, заполнить пробелы в своем развитии, суммировать и адаптировать идеи и практику Запада. Западники были преимущественно рационалистами, подчеркивающими необходимость чрезмерной дисциплины в мышлении и учении. Они весьма уважительно относились к научным знаниям, каковые, по их мнению, являлись ключами к будущему.
Славянофилы же полагали, что Европа и Россия представляли собой две исторических фазы в развитии человечества. Римско-германская культура Запада уже разлагалась, западный мир был старым и выдохшимся, двигался к своему закату. Россия, с ее необъятными степными просторами, могучими лесами, являлась колыбелью будущего человечества. По причине того, что Запад уже стоит одной ногой в могиле, а Русь — молодая и полная сил, в самом расцвете, надобно учиться жить независимо от европейских пут, развивать свои собственные обычаи и культуру, основанные на православном христианстве, общине, соборности, что принесет миру новые силы и свет.
Таким образом, славянофильская концепция роли России в будущем была скорее религиозная, чем политическая. Находясь в объятиях православия и исторического прошлого страны, они видели былое подернутым золотой завесой, которая преображала фактическую историю до неузнаваемости. Их церковь на самом деле была церковью их мечты: чиста, целомудренна и овеяна славой. Они были исключительно консервативны, выступали против разрастания государственного аппарата, поскольку это, по их мнению, противоречило правильному характеру развития России. Прежде чем страна выполнит предначертанную ей миссию, должны произойти глубокие изменения, действенное очищение, начинающееся с отмены крепостного права. Но подобные задачи не должны выглядеть как имитация западного либерализма. Россия должна стать авангардом и передаточным механизмом духовных ценностей, которые западные либералы-материалисты, дети просвещения, преуменьшили и растеряли. Россия должна вернуть миру мистические и пророческие откровения, понимание истинной природы человека, его назначения, все то, что буржуазия и философы Запада отбросили за ненадобностью как детские фантазии.
Православная церковь занимала исключительно важное положение в такой интерпретации места России в истории. Благочестивые верили, что их церковь получила от Константинополя чистую первозданную христианскую веру, и церковь, единственная в христианском мире, сохранила ее в истине. Россия встала во главе православного мира после падения Константинополя в 1453 году, и перед нею, как перед наследницей византийских традиций и Восточной Римской империи, открылся новый курс. Позднее родилась концепция Москвы как третьего и последнего Рима («а четвертому не бывать»), охранителя веры в окончательное спасение мира. Эта мессианская мечта постоянно присутствует в трудах славянофилов. Встречается она в насильственно измененном виде и в марксистской философии ранних большевиков.
Русская Православная церковь собирает в себе крайности сложного ритуала и ревностного личностного мистицизма. Вера и литургические формы ее выражения переплелись так близко, столь священны и освящены авторитетом отцов-основателей, что нельзя потревожить один компонент, не задев другого. Никогда в этой церкви не было попыток, подобных усилиям Фомы Аквинского, подчинить веру рассудку. Призыв православия направлен скорее к внутренним, духовным, интуитивным ресурсам человеческого естества, нежели к интеллекту. Величие его молитв существует для пробуждения скрытых духовных возможностей конгрегации, для привнесения осознания божественного входа в создание и преображения его. Икона рассматривается не как священная картинка, написанная на куске дерева, а как раскрытие мира искупленного и обновленного через пришествие Христа. Суть православного учения всегда пребывала в Воплощении и Воскресении, а также на запутанных парадоксах русской психологии, стремящейся к святости, к вере в то, что придет день спасения, что добро победит зло в самом себе, — такие мысли никогда не оставляли даже самых грубых и отвратительных последователей Церкви. Традиция личностной святости не умирала даже в наихудшие моменты неизвестности и преследований церковных властей. В XVIII веке появился святой Тихон Задонский, с которого Федор Достоевский писал своего отца Зосиму. В XIX веке монахи Оптиной пустыни, устремившие глубинные течения российской религиозной жизни в новые русла, показали примеры духовного лидерства.
К середине XIX века видение России как мессианской страны и спасителя мира оставалось только в славянских странах, поскольку аморфное панславянское движение имело узкие националистические горизонты. Под влиянием западников экономическое развитие быстро устремилось вперед с помощью иностранных инженеров, капитала. Так что страна, по определению Троцкого, совершила ряд скачков в несколько стадий технического развития, перепрыгивая через эпохи, какие западные народы преодолевали упорным трудом в медленном процессе роста. Промышленность России удвоила свою мощность в период между бесплодной революцией 1905 года и началом Первой мировой войны 1914 года. Но это было весьма неравномерное развитие. В то время как основные структуры и техника российской промышленности были сравнимы с британскими или американскими, роль промышленной продукции была невелика. Перемены никак не отразились на населении: неграмотное крестьянство работало по старинке, обрабатывая землю таким же образом, как и в XVII веке. Крестьяне были освобождены от крепостного права каких-то пятьдесят лет назад, их мир был чрезвычайно узок. Он простирался не дальше деревни или уездного города, расположенного верстах в двадцати от деревни. Как и в восемнадцатом, в веке двадцатом были видны острые контрасты, глубоко прорезанные разграничительные линии в общественном строе российской жизни. Напряжение нарастало еще с эпохи Петра I, нарастало оно в самом сердце, между старой верой, добрыми старыми привычками в традиции мысли и жизни и новыми идеями и формами, внезапно свалившимися на правителей, казавшимися простому люду ужасающими и бесполезными. На протяжении многих веков росла пропасть между крестьянами и верхними классами, то есть между основной частью населения и аристократией, представителями всеохватывающей бюрократии — пропасть, расширенная и углубленная Екатериной Великой и Петром. Между этими классами не было никаких точек соприкосновения, никакого контакта. То была ситуация, чреватая опасностями и недовольствами, раздвоение, которое тревожило сознание интеллигенции. Многие представители интеллигенции были преисполнены чувства вины в отношении крестьян, на чьи спины была взвалена вся тяжкая ноша общества. На них лежала бременем вся легкость жизни, все привилегии избранных. Интеллигенты, в духе Руссо и его идеализаций о благородной дикости, предполагали в крестьянине свежесть и ясность видения, невинность, что отрицалось утонченными членами общества. Группа интеллигентов, известная под названием «народники», в стремлении реализовать этот дар, вернуть долги свои униженным и угнетенным, шла в деревни с тем, чтобы жить там простой жизнью среди крестьян, попытаться добиться дружбы и расположения последних. Крестьяне же были поражены, приведены в замешательство, относились к этому с подозрением. Это был порыв, им непонятный, нисколько не уменьшивший разрыва. Мятущиеся души аристократии остались не ублаженными, разница же в подходах к этой проблеме только добавила внутреннего напряжения и конфликтов.
Из этих конфликтов, неразрешенных противоречий российской жизни родилась мощь воображения и понимания великих русских писателей XIX века, поэзия, дебаты философов, обогатившие культурное наследство не только Европы, но и всего мира. Здесь истоки того безрассудства, безнадежности и того насилия, что проложили дорогу революции 1917 года, падению общества со всеми его ошибками, злом и достижениями.
Дикая ненависть, существовавшая между враждующими политическими партиями правого и левого крыла, вражда, выплывшая так явно на поверхность в месяцы между Февральской и Октябрьской революциями 1917 года, в последующие годы Гражданской войны, продемонстрировала ту глубокую пропасть различия мышления и практики, что пролегла между демократиями Запада и обществом как царской, так и большевистской России. Ленин, работавший в годы своего недолгого правления с фанатичной энергией и крайней жестокостью, стремился, подобно Петру, повернуть народ на новый курс, перестроить жизнь, начиная с самых основ. Различие в идеях и ценностях, в значении и важности таких простых слов, как демократия и свобода, становившееся очевидным и получившее выразительное подчеркивание, раскрыло пропасть между коммунистическим и некоммунистическим мирами окончательно и бесповоротно. Последующие властители Советского Союза следовали заветам царя Петра — призывали русских овладевать научными знаниями и технологией Запада. Кроме этого, они, подобно Екатерине Великой, навязывали западные идеи российскому обществу в виде доктрин Карла Маркса. Создавшиеся из-за этого трения, как физического, так и психологического характера, углубляли внутреннее напряжение и сумятицу у россиян. И опять, как и в предыдущем веке, зарождалось из этой борьбы нечто новое, нечто такое, что невозможно еще было ни увидеть, ни предсказать. Как отмечал Джефри Барраклоу, корни российской жизни простирались в ту же почву, где были корни и западных наций, почву, питаемую живительными источниками Рима, Греции, Израиля, словом, источниками культурной и духовной жизни как Востока, так и Запада. Да, Россия, оседлавшая два мира, имела историю, отличную от западной, как в общественном плане, так и в историческом. Раскол 1054 года между Римом и Византией создал брешь, которую практически никогда не удавалось заделать. Да, вторжение орд и захват России отдалили ее от общей судьбы с Западом в ключевые моменты истории. Большевистская революция самым суровым образом отрезала страну от основных течений западного мышления. И все равно, самые глубокие корни перерубить невозможно, и эти корни обязательно пустят новые ростки.
Значение достижений большевиков может рассматриваться в справедливом отношении, на фоне Российской истории, и никто не может сказать, каково значение этих достижений для мира в целом. Подход Запада может оказаться в конечном итоге решающим фактором в смысле определения, показывает ли успех российского эксперимента в физическом плане то, что случилась окончательная катастрофа для человечества, или, напротив, это открытие новых путей власти человека над своей природой, или, что более важно, над самим собой.
Глава 2
Петр Великий. Екатерина Великая
Случалось, что Джордж Фокс слышал веление обращаться ко многим земным монархам и правителям, включая и таких экзотических властелинов, как Хан Татарский, Великий Могол. Фокс призывал их «прислушиваться к духу Божьему в вас самих… через каковой вы придете к пониманию жизни Вечной». Дважды, в 1656 и 1661 годах, он писал царю Алексею, второму из семейства Романовых. Текст писем утерян. К сожалению, сохранились лишь вступительные части этих посланий: «Друг, Всевышний правит в царствии человеков, Господь Бог, властитель душ всех созданий во плоти», что, по сути, является благотворным напоминанием правителю. Но существует письмо Уильяму Эймсу, распространявшему послание правды в Голландии, письмо, давшее толчок многим размышлениям. Датировано оно 1660 годом, и в нем утверждается, что «есть зерна в Польше, нуждающиеся в Друзьях». Фокс побуждает Эймса быть преданным делу несения правды в этой части света. «Ибо у Господа есть лоза и есть гора, кои надо воздвигнуть в тех странах; есть знамя и знаменосец, несущий знамя сие в другие народы». Входила ли Россия в «те страны»? Что могло привлечь внимание Джорджа Фокса к малоизученным странам восточной Европы? Случайно услышанное слово ли, путешественник ли, поведавший о мистицизме, присущем православному христианству, — что затронуло струны души Фокса? Слышал ли он о староверах в России, собирающихся без священника, приверженных своей вере в условиях неумолимого преследования патриарха Никона? Ответ нам неизвестен, но народ и страна Россия, казалось, оставались всегда притягательными для Фокса, хотя, надо заметить, Уильям Эймс так и не продвинулся на восток дальше Польши в своем служении. Описание же этой страны им дано было, как страны в ярме рабства. В 1689 году в труде Взлет Друзей и Правды, написанном или надиктованном Фоксом, упоминается любопытная история, которую он узнал. Один человек, ездивший в Россию с английским послом десять или одиннадцать лет тому назад, рассказал Друзьям, что во время его пребывания в России случилось следующее. Верстах в 200 от Москвы проживали человек 60, отказывающиеся «снимать шапки перед кем бы то ни было, кроме как перед Богом». Люди эти были известны под именем английских квакеров, хотя все они были русскими. Царь велел привести их к нему, и, когда они отказались снять шапку и выказать знаки повиновения, царь пригрозил им казнью. Непокорные оставались тверды, и царь «отрубил шесть десятков голов, и умерли они все как агнцы, и никто не отступился».
Рассказчик, поведавший об этой истории, утверждал, что он сам присутствовал при казни, но Друзья отнеслись к рассказу довольно скептически, поскольку никогда до этого не слышали ничего подобного ни от купцов, ни от посредников, торговавших с Россией. Спутник посла был расспрошен еще раз с тем, чтобы добиться «истинного положения вещей», но он настаивал на своей истории, «уверял, что видел все своими глазами». Не получив подтверждения этому случаю ни из какого другого источника, Фокс не счел возможным вставить рассказ в свою книгу, а просто добавил его в качестве постскриптума с таким заключением: «Но расспросить о том можно купцов российских, слыхали ли они о подобном».
Время от времени возникали другие слухи о существовании русских квакеров. Старожилы Томска, сибирского города, в XIX веке вспоминали о 22 «девках», обвиненных в квакерской ереси, сосланных в этот город в 1744 году и остававшихся там до самой своей смерти. Местные жители относились к ним по-разному — кто-то с уважением, кто-то с осуждением, как к еретичкам. Одна из них, величавая женщина, «знатная Надежда Григорьевна», особо отмечалась за свою благочестивую жизнь, и многие обращались к ней за помощью и советом в трудную минуту. Эти «девки-квакереи» поддерживали себя рукоделием, перепиской манускриптов. Их умение писать высоко ценилось, поля страниц они украшали изящными рисунками птиц, трав, цветов, раскрашенных лазурью, киноварью и золотом. Священник Большанин писал, что «хитрые квакереи научили своих почитателей строго блюсти все внешние обряды православной церкви» и в течение сорока лет соблюдали эти обряды сами. Православные священники сообщали лишь, что «девки-расстриги, сосланные за квакерскую ересь, жили праведной жизнью и, придерживаясь христианской веры во всем, христианским службам радовались». Большанин же полагал, что они попросту скрывали таким образом свою порочность. А порочность их, очевидно, состояла в квакерском отрицании обрядов и священников, упоре на личное, духовное возрождение, имеющее главное значение.
Женский монастырь, куда были сосланы квакереи, пришел в упадок и запустение по причине отсутствия пожертвований. Сосланные «девки» вынуждены были жить на мирском подаянии. К 1784 году из всех них умерло двадцать человек, в живых оставались лишь две, слабые здоровьем для каких-либо переездов. Поскольку к этому моменту они прожили в Сибири уже 39 лет, не были в конфликте с церковью, то было решено, что они могут считаться свободными людьми.
Эта трогательная небольшая группка, забытая в сибирской глуши, по-прежнему остается чем-то вроде загадки. Маловероятно, что они были квакерами или имели какие-то связи с Обществом Друзей; первая квакерская миссия прибыла в Россию существенно позже их смерти. Возможно, это была группа, которая особо подчеркивала суть более глубоких духовных направлений в Русской православной церкви, восставшая против внешних ритуалов, которые, по их мнению, лишь заслоняли более существенные ценности. Их позиция вызывает в памяти встречу Петра I с Друзьями в конце XVII века и некоторые воспоминания того, что он понял о квакерских принципах и квакерской практике, — и это могло привести к смятению.
В XIX и XX веках ходили слухи и о других группах, называвших себя квакерами. В 1870 году в районах близ Каспийского моря путешествовал Эдвин Рэнсом, Друг из Бедфордшира. В Тифлисе он повстречался со студентом Одесского университета, с которым имел длительную беседу. Этот студент поведал Эдвину, что между горой Арарат и Черным морем проживали колонии эмигрантов, известных под именем квакеров. Они переселились из-под Москвы «поколение назад», поскольку жизнь для них стала там невыносимой по причине отказа служить в армии, подчиняться церковным властям, давать клятву. Сам собеседник Эдвина Рэнсома никогда не встречался с этими людьми, но много слышал о них, и, насколько он помнил, те называли себя последователями Джорджа Фокса.
Около пятидесяти лет спустя, в 1916 году, двое работников миссии помощи, Анна Хейнс из Филадельфии и доктор Джордж Пирсон из Англии, побывали в одной заволжской деревне, расположенной в нескольких милях от ближайшего центра помощи. Здесь они повстречались с группой людей, живших и молившихся так, как они научились от английских Друзей, якобы побывавших в этих краях около столетия назад. Это совпадает по времени с посещением Уильямом Алленом и Стивеном Греллетом этой местности зимой 1819 года, и, вполне возможно, что русские были потомками тех, кто некогда встречался с путешественниками. Анна Хейнс и Джордж Пирсон видели около двадцати человек, собравшихся в большой горнице дома зажиточного крестьянина, сидящих всех вместе в молчаливой молитве. Тишина прерывалась лишь один или два раза чтением из Библии. Анна Хейнс спросила после окончания собрания, случается ли, что они что-то высказывают своими словами? В ответ было сказано, что такое было в обычае у их отцов, но впоследствии от этого отказались, сочтя слишком опасным с точки зрения теологии, — позволять такое вольное самовыражение.
В 1921 году, во время голода в Поволжье, отряд работников миссии помощи повстречал группу беженцев на станции Бузулук. Беженцы говорили, что они являются членами религиозной секты, сохранившей свои традиции, берущие начало в Англии триста лет тому назад. Люди эти жили простой жизнью, общиной. Во время молитвы у них не было священника, но они «пели или говорили, или сидели в молчании». Они были противниками лишения жизни всякой твари, будь то человек или животное: даже вошь они не смели обидеть. Когда же их спросили, сколько последователей они насчитывают, то ответ был: около миллиона по всей России. Очевидно, к этим оценкам следует отнестись осторожно, ибо крестьяне явно испытывали неуверенность, когда называли какие-то цифры или даты. Возможно, они были потомками последователей учения Уильяма Аллена и Стивена Греллета, первых квакерских путешественников в служении, посетивших Россию. Хотя, скорее всего, слово «квакер» было подходящим, всем понятным термином, годным для описания любой неправославной веры, странного поведения.
Но что интересно, и что остается необъяснимым, — с конца XVII века в Россию начинается проникновение знаний, пускай обрывочных, о философии и практике Общества Друзей. И знания эти оказывают определенное влияние на многих неудовлетворенных учением православной церкви.
Достоверная, хотя и мало известная связь между Россией и Друзьями в 1820-х или 1830-х годах отражена в рассказе русского писателя Николая Семеновича Лескова (1831–1895). Плодовитый писатель, чей колоритный язык весьма часто сбивал с толку переводчиков, он написал рассказ «Юдоль», а к нему послесловие, в котором и звучит история об этих российско-квакерских связях. По его словам, сам Лесков в детстве находился под сильным влиянием своей тети, которая была замужем за англичанином и подружилась с одной очень красивой русской девушкой, которая была квакереей. В конце концов, и тетя Лескова стала членом Общества Друзей, и в повести эти два персонажа играют основную роль. К повести Лесков написал специальную статью под названием «О квакереях», которая печаталась после повести и впервые появилась в третьем издании его собрания сочинений.
Основное влияние извне на религиозную мысль российской аристократии в 1830-х годах оказало римское католичество, но, кроме того, ощущалось влияние и других течений, в частности, пиетистов, «в числе которых», как замечает Лесков, «были и квакеры». Это произошло и с тетушкой Полли, чье семейство жило в «Шкотовском доме» в Леонтьевском переулке в Москве, который был памятен старожилам, как центр пиетизма. Г-жа Шкот была мачехой мужа тетки Лескова, и в ее доме «всегда был выбор англичанок, занимавших места воспитательниц».
«Отсюда они разъезжались „на места“ по России, и по преимуществу в те губернии, где четыре сына „старого Шкота“ занимались управлением большими помещичьими имениями Нарышкиных и Перовских. Соседи просили их рекомендовать „англичанок“ благонадежных и получали как раз таких, каких просили. Между ними бывали и методистки и квакерки; и это всегда были особы нравственные, иногда очень образованные и всегда строго религиозные».
Несомненно, что для того, чтобы отправиться в подобное путешествие, девушке того времени требовалась смелость. Климат был суров, расстояния гигантские, почтовая служба работала медленно. Но, как повествует Лесков, «из этих воспитательниц очень многие приросли к своим воспитанницам и остались друзьями на всю жизнь». Он рассказывает историю о своем родственнике, который был под впечатлением поведения одной квакереи, поехал в Англию в поисках невесты из среды Общества Друзей, женился и остался в той стране навсегда. К сожалению, разыскать следы этих историй с английской стороны не представилось возможным, и разузнать от самих героев о том, как им жилось в России в XIX веке, не удалось.
До конца XVII века не было ни одной личной встречи Друзей с кем-нибудь из правителей России. В январе 1697 года молодой Петр, впоследствии названный Великим, сам прибыл на верфи Темзы для того, чтобы лично поучиться строительству кораблей. По прибытии он поселился в Йоркских Строениях, позднее снимал дом Джона Эвелина в Дептфорде, который оставил в ужасном состоянии. Царь и его свита не отличались чистоплотностью, мебель и обивка комнат были изрядно повреждены их буйными игрищами, живая ограда потрепана и переломана в том месте, где молодежь развлекалась тем, что провозила своего господина на тележке.
Царь предпочитал путешествовать инкогнито, порой нарушая таковое по своей прихоти. Слух о его прибытии в Лондон, в конце концов дошел до Друзей, и Джилберт Моллесон вместе со своим родственником решил попытаться побеседовать с царем вскоре после прибытия последнего в столицу. Моллесон был зятем Роберта Баркли, написавшего знаменитую Апологию истинной христианской божественности, как ее придерживаются и проповедуют люди, в просторечии называемые квакерами. «Горящий желанием приумножить познание правды», он хотел найти своего родственника и каким-нибудь способом презентовать Апологию Петру Великому. Моллесон не советовался ни с кем из Друзей, но попросил одного из них, Томаса Стори, сопровождать его. Именно запись в дневнике последнего сохранила для нас описание визита. Томас Стори был адвокатом по профессии, с севера страны, к тому же еще немного поэтом. Его стихи несут в себе хрупкую заколдованную красоту. У него было небольшое имение в Камберленде, где он был одним из пионеров в деле лесонасаждения. Многие Друзья пуританского толка смотрели на него искоса по причине некоторых внешних черт; кудрявые волосы и фасон шляпы заставляли не одну бровь подниматься в осуждении.
Итак, двое Друзей прибыли в Йоркские Строения ранним январским утром. Они справились о кузене Джилберта Моллесона, после чего их пропустили в длинную галерею на втором этаже. Галерея шла вдоль всего здания, в конце нее было окно, возле которого стоял человек. Тот повернулся с тем, чтобы поприветствовать визитеров. Оказалось, что это был английский купец, торгующий с Россией, часто помогавший Петру в качестве переводчика. Он сообщил, что родственник Джилберта Моллесона, к сожалению, умер. Через открытую в коридор дверь, между тем, было видно, что по комнате прохаживаются два человека, увлеченных беседою и одетых весьма просто. Томас Стори признал одного из них как царя. Другой же, как стало известно позднее, был генерал, князь Меньшиков. Будучи осведомленными, что царь Петр не выносил, когда на него глазели, Друзья не обращали на него никакого внимания и стали смотреть в окно, при этом квакерские шляпы оставались не снятыми. Петр посмотрел на них пристально и с любопытством и, обратясь к английскому купцу, с которым Друзья только что разговаривали, спросил, почему эти люди не выказывают своего уважения великому человеку, в присутствии которого находятся, почему они не снимают свои шляпы? Томас Стори мягко возразил, что, насколько им известно, они находятся в присутствии обычных персон. Согласно оценке поведения Друзей по отношению к правителям, они вели себя как вполне лояльные граждане, по крайней мере, до тех пор, пока им не становится ясно, что власти поступают неправильно. В таком случае они не испытывают никаких стеснений в выражении своего мнения, будь то посредством петиции или же депутации. Когда же указы правителя находятся в противоречии с их совестью, они отказываются им подчиняться. Тогда царь спросил посредством переводчика: «Какая же польза от вас царству или правительству, ежели вы не желаете носить оружие и сражаться?» На то Друзья отвечали, что многие из Друзей носили оружие, что сражались во многих битвах «с отвагою и великодушием». Томас Стори заверил, что он сам носил шпагу, равно как и другое оружие, и знает применение им. «Но когда угодно было Богу открыть нашим сердцам Жизнь и Силу Иисуса Христа, Сына Его, нашего Господа, Князя Праведности и Мира, чьею заповедью является Любовь, тогда мы примирились с Богом, друг с другом, с нашими врагами, со всеми людьми. И Он, тот, кто сказал, что мы должны возлюбить врагов наших, не оставил нам никакого права сражаться и разрушать, но обращать всех…» Томас Стори продолжал далее опровергать обвинение в никчемности квакеров для пользы государственной. Напротив, уверял он, от них только помощь всякому царству и правительству, ибо принципы их религии запрещают безделье и поощряют промышленность. «Мы, будучи людьми бережливыми, заботимся об экономии и всяческом улучшении, как в промышленности, так и в торговле… Того не желая, довольно состоятельны». Более того, хотя они не могут воевать сами, «ибо то несовместимо (как мы понимаем) с правилами Евангелия Христова, тем не менее, мы можем платить, и платим налоги Кесарю, который по праву направляет их на мир и на войну, как ему заблагорассудится, или какая нужда существует, все согласно законам его царства, в коем мы, лишь подчиненные, не можем править. Ибо то есть Кесарева забота править в справедливости и правде, а мы лишь подданные его, занимаемся своими делами и не вмешиваемся в его дела».
Услыхав такой ответ двоих Друзей, Петр прошелся взад-вперед по галерее в размышлении, затем остановился возле них, «и посмотрел пристально на нас, как будто мы не узнали его или не знали, что это был он» (т.е. царь). Томас Стори тогда повернулся к переводчику с замечанием, что они слышали, как будто в этих номерах остановился человек высокого звания и известности, проезжий, который был «наблюдательный в состоянии дел и вещей вообще». Несомненно, он, должно быть, еще интересуется вопросами религии, а поскольку Друзья отличны от многих других церквей во многих отношениях, многое о них говорилось либо с искажениями, либо неверно, то они принесли несколько книг этому страннику книг об Обществе Друзей и его вере, какие дадут ему полное и правильное представление о квакерских принципах. С этими словами были извлечены два экземпляра Апологии Баркли на латыни и переданы царю. Взглянув на книги, государь спросил, не были ли они написаны иезуитами, и нет ли среди Друзей иезуитов? «Сие, — уверили его Друзья, — есть совершенная клевета, и полное заблуждение». Затем Петр переговорил с переводчиком, который вынул из своего кармана несколько золотых, но Друзья отказались принять деньги. После этого царь и его товарищ удалились, оставив Друзей наедине с переводчиком. Они немедленно осведомились, не царь ли был их собеседником, и, получив утвердительный ответ, выразили свою обеспокоенность в том, насколько правдиво было переведено ему все, о чем они говорили. Кроме того, они убедили купца, что если Петр будет иметь какие-то вопросы касательно Общества Друзей, его религиозной веры, то негоже повторять царю существующие грубые наветы, а переводчику надобно дать правду своих собственных наблюдений и ту информацию, какую он сможет получить из надежных источников. И, заручившись таким обещанием, Друзья удалились, весьма удовлетворенные своим визитом.
Та беседа состоялась в начале недели, а в ближайшее воскресенье царь со своими слугами, одетый, как простой англичанин, пришел на квакерское молитвенное собрание на Грэйсчерч-стрит. Никакого предварительного уведомления сделано не было, визит был неожиданный. Царя сопровождал все тот же купец, служивший ему переводчиком. В тот момент, когда вся группа входила, вещал Друг Роберт Хэддок. Конечно, он понятия не имел, кто это явился на собрание так поздно. Хэддок говорил об очищении Наамана. В тот момент, когда входила процессия, Роберт оборотился в их сторону со следующими словами: «Даже если бы ты был величайшим царем, императором, властителем земным, ты и то не был бы велик настолько, чтоб суметь воспользоваться всем тем, что Всевышний уготовил для нашего врачевания и восстановления, если бы ты хотел войти в Царствие Его, куда нет хода нечистым».
Царь и его переводчик в течение собрания часто шептались, поскольку последний старался переводить суть выступлений, а царь «выглядел весьма дружески настроенным, по крайней мере, до тех пор, пока он не увидел, что собралась большая толпа, пристально глазеющих (чего он перенести не мог)». Действительно, многие узнали его, когда он еще шествовал по улицам, так что окна и дверь были облеплены зеваками. Царь покинул собрание незадолго до его окончания. Роберт Хэддок так и остался в недоумении, кто же был сей незнакомец, пришедший на собрание и внимавший его выступлению.
Томас Стори и Джилберт Моллесон во время их беседы с царем поняли, что последний понимает лишь русский и немецкий языки. Когда появился отчет о встрече двух Друзей с царем, весьма влиятельная группа в Обществе Друзей, курировавшая все квакерские издания того времени, называемая Утренним Собранием, постановила, что в Дептфорд, к российскому государю, следует послать официальную квакерскую депутацию. В число депутатов был включен Уильям Пенн, который свободно изъяснялся по-немецки. Царю собирались преподнести несколько квакерских книг на голландском диалекте, близком немецкому языку, но с этим вышла заминка, поскольку выяснилось, что первые тома были «переплетены более нарядно, чем того желали Друзья», а посему Утреннее Собрание постановило, что книги не следует дарить до тех пор, пока их «не переплетут еще раз, используя более скромную кожу».
На сей раз детали встречи мы узнаем не из объемистого «Дневника» Томаса Стори. Историк Самюэл Джанни отмечает, что делегаты были приняты очень сердечно, что Петр и Уильям Пенн имели беседу, и что встречей были удовлетворены обе стороны. Вероятно, Петр ощутил определенное различие между образованным Уильямом Пенном, с его изысканными манерами, живым умом, с его видением государственного мужа, и первыми квакерскими визитерами, которые буквально свалились как снег на голову. Результат этого визита выразился в том, что Петр посетил квакерское собрание в Дептфорде несколько раз, «был общителен, вел себя как обычный человек, пересаживался, порой стоял, порой сидел, был любезен со всеми». Некоторые Друзья из Дептфордского собрания думали, что тихий царь обращается в их веру, но они не ведали того, что неутомимый в приобретении новых знаний монарх занимается изучением различий разных вер, и что кроме встреч с квакерами Петр также встречался с иезуитами.
Во время своей беседы с Уильямом Пенном Петр высказывал свое желание узнать, хотя бы кратко, в чем состоит квакерская философия и практика, в чем отличие квакеров от других людей, от других сект. Ответ Пенна является, вероятно, наиболее кратким определением, какое только существует:
«Квакеры учат, что люди должны быть святыми, иначе они не будут счастливы; что следует быть немногословным, миролюбивым в жизни, претерпевать зло, возлюбить врагов своих, отказывать себе во многом, а без этого вера есть ложь, молитва — формальность, а религия — лицемерие».
Те часы молчания в аскетичном доме для молитвенных собраний в Дептфорде, прерываемые время от времени посланиями на непонятном ему английском языке, должно быть, произвели какое-то впечатление на загадочную и жестокую натуру Петра Великого. Четырнадцать лет спустя, в 1712 году, во время Великой северной войны против Швеции Петр вступил с войском в город Фридрихштадт, в Голштинии. Неожиданно он осведомился у бургомистра, имеются ли среди горожан квакеры. Ему отвечали, что в городе есть квакеры, и что некий офицер русского войска уже расквартировал тридцать солдат в доме для молитвенных собраний. Царь распорядился освободить помещение немедленно, а, кроме того, Петр спросил, не соблаговолят ли квакеры собраться на молитвенное собрание, которое мог бы посетить и он. «И все было приготовлено: собрание состоялось во втором часу пополудни, на него пришли государь с князем Меньшиковым, генерал Долгорукий, другие важные лица из свиты…» В доме для молитвенных собраний сделалась толчея, посему царь велел запереть дверь, когда помещение заполнилось. Те, кто не попал вовнутрь, прижались к окнам.
После некоторого молчания «Филип Дезаре выступил с проповедью о вере в правду; все сидели очень покойно, в особенности царь, который оставался очень серьезным на протяжении всего молчания. Все остальные, благоговеющие перед ним и его манерами, вели себя подобно ему. Московская знать и генералы не понимали немецкого языка, тогда как государь знал язык весьма неплохо. Поэтому он переводил им все, о чем говорилось, с самым серьезным видом, передавая содержание всего, что слышал. Царь сказал, что счастлив тот, кто живет согласно такому учению».
После собрания Друзьям не удалось подойти к Петру, тому помехой оказались некоторые докучливые визитеры. Но позже квакеры преподнесли царю Апологию Баркли и Катехизис, на этот раз книги были на немецком языке. Государь заявил, что он желал бы перевести сии фолианты на русский и напечатать их.
Граждане Фридрихштадта затем тихо разошлись по домам предаться своим каждодневным заботам, тогда как царь вернулся к ведению своих батальных дел, к переустройству жизни в своей стране на западный манер, к запутанным взаимоотношениям с собственным сыном, к делам по унаследованию престола по его смерти. Впоследствии его жизненные пути никогда не пересекались с квакерами.
Второй незначительный контакт между английскими Друзьями и правителями России случился спустя пятьдесят лет. Одной из самых ужасных болезней XVIII века была оспа, болезнь рецидивная, уносившая много человеческих жизней. По оценке доктора Джурина, один из шестерых заболевавших умирал. Те же, кто выживал, были обезображены до конца своих дней. Леди Мэри Уортли Монтегю писала из Константинополя в 1718 году о чудесах, которые творили прививки в битве с опасным заболеванием. «… Здесь оспа считается неопасным заболеванием», — писала она по возвращении в Англию, полная усердия распространить новость об успешном эксперименте. В большинстве своем рассудочные англичане не желали иметь ничего общего с таким врачеванием. Знакомые леди Мэри заклеймили ее как плохую мать, желающую болезни своему ребенку. Многие доктора были весьма скептично настроены, духовенство полагало, что это выступление против воли провидения. Но некоторое количество более просвещенных людей из медицинской среды, с пытливым умом, были вовлечены в изучение этой проблемы. Исследования проводились, пускай и без излишней шумихи. Из этой среды было и семейство Саттонов, жившее в Эссексе. Они были врачами, открывшими более безопасные методы прививки.
Выходец из старого квакерского семейства медиков, Томас Димсдэйл (1712—1800), практикующий хирург из Хартфорда, заинтересовался оспой и тщательно изучил методы Саттона. Эта работа так захватила его, что он прослушал более углубленный курс медицины в Абердине и в 1761 году получил ученую степень. В Хатфорд он вернулся, полный решимости посвятить себя делу прививания от болезни, причем помогать он собирался как имущим, так и неимущим. Он был очень способным медиком. Кроме всего прочего, он, например, предписывал строгую диету пациенту за две недели до прививки. Слава быстро пришла к нему, толпы больных устремились в Хартфорд со всей страны, чтобы стать его пациентами. Он был так аккуратен, надрезы делались такие маленькие, что, говорят, некоторым детям он делал прививки во сне, а те даже не чувствовали этого. Брат известного адвоката, Чарльз Блэкстоун, чья жена была пациенткой Димсдейла, так писал своему другу: «Доктор Димсдейл обладает всем, чтобы я мог рекомендовать его как хирурга, человека пытливого ума, прилежного, мягкого, деликатного поведения». В 1741 году Димсдейл женился на женщине не квакерской веры, в связи с чем его членство в Обществе Друзей перестало признаваться самим Обществом, но сам он продолжал посещать квакерские собрания всю свою жизнь и был похоронен, согласно завещанию, на квакерском кладбище в Бишопс Стортфорд.
Российская императрица Екатерина Великая стремилась ввести этот способ лечения оспы в своей стране, где особенно велики были опустошения, творимые страшной болезнью. Она предложила сделать первую прививку ей самой для того, чтобы показать пример людям. Российский посланник в Лондоне получил поручение навести справки о том, кто является наиболее опытным доктором, способным справиться с такой задачей. По мнению доктора Хингстона Фокса, вполне возможно, что посланник был пациентом врача-квакера, доктора Джона Фотергилла, известного в правительственных кругах своими попытками благоприятствовать улучшению англо-американских отношений, заметными на фоне растущего напряжения между метрополией и колонией. Как бы то ни было, именно он, без всяких колебаний, рекомендовал своего друга Томаса Димсдейла для выполнения почетной миссии. Встреча двух медиков с российским посланником была назначена в доме Фотергилла, на Харпер-стрит, и после некоторых колебаний Димсдейл дал свое согласие. Все полагали, что это весьма рискованное предприятие, где можно поплатиться жизнью, случись что-нибудь с монархом, но Димсдейл, отбросив все сомнения, отплыл в Россию в июле 1768 года вместе со своим сыном, студентом-медиком из Эдинбурга.
По прибытии в Петербург они были встречены премьер-министром графом Паниным, а также бароном Черкасовым, президентом медицинской коллегии. Последний оказывал Димсдейлу большую помощь во время его пребывания в России. Вскоре в город вернулась императрица, которая приняла английского лекаря, и он был очарован этой женщиной — властной, великолепной и страстной — вольнодумной в своей частной жизни и холодной, жестокой в ведении общественных дел. Она могла, когда хотела, изобразить обаяние и любезность, «способность делать приятное без каких-либо признаков хитрости», как отмечал английский врач. С самого начала она относилась к Димсдейлу с большим уважением. Его принимали как личного гостя царицы, в его распоряжении был большой дом и карета с четверкой лошадей. Он часто получал приглашения отобедать с членами благородного собрания, вращался в придворных кругах.
Прививки делали и сам Димсдейл, и его сын. Однажды им пришлось изрядно поволноваться, когда после прививки у пациента повысилась температура. Итак, для того, чтобы обеспечить императрицу жидкостью, необходимой для прививки, слабой формой оспы были привиты трое здоровых детей. Царица требовала, чтоб прививка делалась ей в обстановке строжайшей секретности, и не разрешила присутствовать при этом какому-либо другому врачу. Экипаж был послан за Димсдейлом лишь тогда, когда Екатерина почувствовала, что она готова к операции. Карета прибыла ночью и без всякого предупреждения. У доктора было время лишь на то, чтобы поднять из постели ребенка, выбранного для получения гноя, обернуть мальчика пальтецом и сесть с ним в карету. Затем езда в карете сквозь холод ночи, осознание всей ответственности предстоящего мероприятия. В течение пяти дней не позволялось даже прошептать о прививке, и предание гласит, что самые быстрые почтовые лошади стояли все это время наготове на тот случай, если операция окажется неудачной и английского доктора потребуется срочно вывезти из страны во избежание печальных последствий для него самого. Царица поправилась через три недели, в столице ликовали. В ноябре Димсдейл привил наследника трона, опять были опасения, но результат, как и прежде, был отличный. Репутация врача была столь высока, что петербургская знать буквально устремилась к англичанину для того, чтобы получить свой укол. Награды и почести так и сыпались на него. Он был назначен царским лекарем, государственным советником в чине генерал-майора с годовым жалованием 500 фунтов. В добавок ко всему Екатерина презентовала ему миниатюру со своим портретом и сумму 10000 фунтов. В течение последующих нескольких недель он принимал участие в различных приемах, после чего отправился в Москву вместе со своим сыном для того, чтобы делать прививки и там. По возвращении в Петербург его снова пригласили к императрице по причине случившегося у нее сильного приступа плеврита. В течение нескольких дней Димсдейл врачевал царицу, опасаясь за ее жизнь. Однако она поправилась, и весной 1769 года английский врач смог отправиться обратно домой, по пути нанеся визит Фридриху Великому в Потсдам, где Димсдейлу был оказан теплый прием.
По возвращении домой в Хартфорд он открыл «дом прививок», куда приходило множество пациентов, а к концу того же года Димсдейл стал членом Королевского общества. В 1781 году ему еще раз случилось побывать в России для того, чтобы сделать прививки двум внукам Екатерины: Александру и Константину. Его приняли с большими почестями, а жена, сопровождавшая его в этой поездке, как говорят, ухаживала за великими князьями до самого их выздоровления, и те называли ее не иначе как «английская мама». И хотя связь Димсдейла с Обществом Друзей была прекращена за несколько лет до описываемых событий, надо сказать, что произошло это против его желания, и в историю он вошел как «квакерский доктор». И это правильно. Сей титул надо оставить за ним, тем более, что сам он наверняка бы этим гордился.
Глава 3
Царь Александр Первый приезжает в Лондон и встречается с квакерами
Для того, чтобы лучше понимать взаимоотношения между Обществом Друзей в Англии и императором российским в XIX веке, необходимо обратить внимание на те два течения, каковые существовали в Обществе. Большое влияние на Общество оказывал как квиетизм, так и евангелическое направление. Оба течения оказывали влияние на структуру мышления и выражения, что, хотя и в смягченном виде, наблюдается и в наши дни.
Квиетизм представляет собой вид мистицизма и начало свое берет по меньшей мере в пятом веке. Во второй половине XVII и начале XVIII веков это течение обретает как бы второе дыхание, особенно оно было характерно для Западной Европы того времени. Отчасти это был бунт против контр-реформации, а отчасти против рационализма и деизма. Рационалист, норовивший распространить холодное мышление на такие вещи, как понимание и интуиция, стремился отменить всю суть волшебства и благоговения. Этот рационалист сражался за ограничение всего человеческого опыта в строгих рамках определений и категорий интеллекта.
В «молитве покоя», или чистом размышлении, к чему стремились квиетисты, всяческая практика последовательной медитации и обычные молитвы были оставлены. Нет, все должно покинуть голову: мысли, воображение, эмоции, чувства, — все это мертво и оставлено. Обнаженная душа ожидает в тиши, когда же она вся будет принадлежать Богу, вся ожидает Его. В момент божественного прихода уж нет сознания самого себя, все человеческое подхвачено отливом, все устремлено в поток святой жизни.
Квиетист не готов предпринять какое-либо действие по своей инициативе, даже следовать подсказкам здравого смысла он не может. Удаляя в себе всяческие барьеры своей воли, он, тем не менее, всегда готов к восприятию божественных подсказок. Он действует только лишь в свете такого водительства, изо дня в день, он готов к любому заданию, он пойдет, куда будет ему указано, нимало не заботясь о последствиях.
Евангелистское возрождение в Англии, начатое Джоном Уэсли и его последователями, было прямо противоположно квиетизму. Здесь основной упор делался на то, что для спасения необходима правильная вера. Отличие от католического понимания христианства было в том, что придавалось большее значение личностному спасению, нежели Церкви, как источнику милосердия. Хотя основой для перехода было превращение, все же в конечном итоге то, что индивидуум мог войти в категорию спасенных, являлось работой рассудка, принятием определенных доктрин. Здесь было два важных момента. Библия, понимаемая, как Слово Божие, воодушевляющая уже только буквой, должна восприниматься, как высший авторитет в вопросах веры, она содержит в себе правду религии. Второе, но так же важное: новообращенный должен верить в «схему спасения», каковая включает в себя весь комплекс взаимоотношений между Богом, Христом и человеком. Человек, сам по себе, по своей природе, есть существо слабохарактерное, потерянное, погрязшее в грехах. Самому ему, как бы ни было сильно желание, каковы бы ни прилагались усилия, не выбраться из этой западни. Тогда Бог, сжалившись, послал Сына Своего с даром милости, могущего освободить человека. Смертью своей на кресте Иисус взял на себя все грехи человеческие, явил собою высшую жертву, каковая могла искупить и облегчить оскорбленное величие Бога, тем самым заслужить Его прощение. Евангелисты утверждали, что человек может быть спасен от страшного приговора и от геены огненной лишь только в случае полного приятия такой веры.
Чувствуя до глубины души, что он был спасен, зная Христа как живую реальность, Его, единственного, кто может спасти, евангелист был постоянно погружен, вовлечен в сражение против греховности человеческой природы, он был постоянно «в поиске, в спасении того, что было утеряно». Как и квиетист, он был в схватке с рационализмом, скептицизмом и откровенной безрелигиозностью тех дней. Оба были ведомы странными путями, подчиняясь божественному побуждению, властвовавшему над ними. Это побуждение требовало подчас высшей храбрости, подчас величайших жертв.
В начале XVIII века обе эти черты, оба направления переплелись во многих верах, не исключая и квакеров, переплелись самым затейливым образом. Такой человек, как Стивен Греллет, чье понимание веры полностью находилось в рамках евангелистских, находил корни своей веры в неожиданном, внутреннем событии, что было совершенно вне рамок Библии, креста, но, как он понимал это, было непосредственным и личностным пришествием Бога. Вся жизнь его переменилась с тех пор полностью. Робкий маленький обувщик Томас Шиллитоу, который во многих отношениях был типичным представителем квиетистов, со своей чувствительной совестью, живя жизнью, которая полностью интуитивно подчинялась божественному водительству, этот человек использует евангелистскую фразеологию, когда пытается объяснить словами те высшие материи, какие описать словами трудно.
Оба этих человека были среди тех Друзей, которые имели глубокое влияние на российского царя Александра I, одного из наиболее загадочных и противоречивых правителей русских. Он был одним из тех внуков Екатерины Великой, которых доктор Димсдейл привил от оспы. Трон достался ему после убийства его отца в 1801 году. Августейшая бабка будущего императора Александра, занимавшаяся его образованием, пригласила в качестве учителя швейцарца-республиканца Ле Харпа. Екатерина видела себя как последователя идей Просвещения, как лидера радикальной мысли, а посему решила выбрать такого учителя, который превосходно разбирался бы во французской философии. В молодые годы Александр окружил себя обществом молодых, либеральных друзей. После того, как он взошел на престол, друзья остались и превратились в своего рода приват-комитет, которому царь доверял весь спектр забот, связанных с планированием внутренних реформ. В первой половине своего срока царствования он был готов начать процесс отмены крепостничества, но нужно было найти такой путь, который не разрушил бы российское общество. Александр хотел установить конституционное правительство. Но он был «мечен печатью высших опасений», что-то было в его характере разрушительное, что представлялось в виде различных непредсказуемых привычек. Это был человек многих первоначально плодотворных идей, каковые он проводил в жизнь с определенной энергией. Когда же, на стадии перехода от идей к действию, возникали первые трудности, он уставал, пасовал перед теми усилиями, которые надо было приложить для достижения успеха. Он легко впадал в апатию, признавал курс неверным, отступал. Ему не хватало сил претворить в жизнь те славные начинания, у истоков которых стоял он сам. «Мечтатель, постоянно теряющий надежду и познающий страх», — вот сжатое и емкое определение Александра, данное Альгернон Сесил. В этом заключалась трагедия жизни Александра I.
В течение последних десяти лет правления российского монарха состоялось несколько встреч Друзей с этим непостоянным, изменчивым правителем. Те, кому довелось встречаться с ним, были буквально очарованы этим человеком, благородством его ума, неизменной учтивостью. Вне сомненья, они не замечали его слабостей; хотя и принимали в расчет такую черту, как ненадежность, каковая угрожала всем его планам и добрым начинаниям. Они видели, как то влечение, имевшее направление в протестантизме XIX века как мистическое, так и благочестивое, превращалось для императора в пустой, многословный сантимент. Александр был совершенным актером, он играл перед всем миром и перед самим собой. И все же, не может быть никаких сомнений в том, что визиты квакеров имели сильное значение для него. Их философские споры воздействовали на него определенным образом, рождали не только привязанность и восхищение. Какое-то время они способствовали развитию благородных порывов у императора, поддерживали и укрепляли его в следовании этим побуждениям.
Трое Друзей имели сильное влияние на российского царя, четвертый был недолго знаком с ним, но произвел на него глубокое впечатление.
Первым был Уильям Аллен из Лондона. К своим тридцати годам он был промышленным химиком, ученым, членом Линнейского общества и Королевской академии. Его интересы, однако, простирались далеко за рамки науки. В филантропических кругах он был хорошо известен, как человек выдающихся способностей, талантливый руководитель, неустанно трудящийся на ниве отмены работорговли, тюремных реформ, введения всеобщего образования, заботы о бедных во времена экономического упадка и безработицы. Он был активным помощником Роберта Оуэна и его промышленного эксперимента в Новом Ланарке, служил много лет в, как сейчас бы сказали, совете директоров. Он стал одним из основателей Общества британских и иностранных школ, спешил на помощь мечтателю Джозефу Ланкастеру, когда его попытки установить систему начального образования были в опасности по причине финансового хаоса, в котором находились дела. В силу широкого спектра интересов Аллену приходилось вращаться в кругах высшего света. Он был знаком с принцем-регентом, граф Кентский просил его помощи, запутавшись в долгах. Учтивый, спокойный, с чувством собственного достоинства, он был уважаем всеми, с кем сводила его судьба — от членов королевского двора до обитателей трущоб.
Прошлое и традиции Этьена или Стефена Грелье де Мабильона (1773—1855) весьма отличались от этого квакера. Стивен Греллет, как называли его на английский манер, был французом-аристократом и принадлежал к римско-католической церкви. Он родился в Лиможе, где его отец, некогда служивший советником короля Людовика XIV, имел весьма прибыльное дело по производству фарфора. Спокойное течение жизни было нарушено Французской революцией; Стивену было 16 лет. После нескольких месяцев неопределенности и страха он и его брат смогли перейти французскую границу и очутились в Германии, где их соотечественники готовились к контрреволюционному выступлению. Стивен Греллет составил довольно живой автопортрет во время этого небезопасного путешествия: он вспоминает себя совершенно хладнокровного, окруженного толпой санкюлотов в одном маленьком французском городке. На боку два заряженных пистолета, он глядит презрительно поверх голов, руки его в карманах. После краткой и безуспешной кампании их армии братья остаются за границей, сначала в Голландии, потом в Вест-Индии. Когда Стивену было 22, он приехал в штат Нью-Йорк. Он был умным, живым, привлекательным молодым человеком, ему были рады в модных домах Лонг-Айленда. Он потерял свою веру, стал последователем Вольтера и, подобно многим своим современникам, стал атеистом.
Некоторое время спустя после прибытия в Америку он как-то шел в одиночестве полями, и вот там-то с ним приключилось нечто, переменившее его жизнь. Он шел, не думая ни о чем таком, что было бы связано с религией или с недавно прочитанным, нет. Он вспоминал: «Внезапно я был остановлен неким неприятным, как показалось, голосом, восклицающим слово Вечность! Вечность! Вечность! Этот голос проник в мою душу, я был брошен, как Саул, на землю». Он был ошеломлен чувством греха, никчемностью той жизни, какой он жил до сих пор. «И я горько зарыдал: коль нету Бога, уж ад-то точно есть». Человек, у которого он жил на Лонг-Айленде, отставной офицер английской армии, имел среди своих книг томик Уильяма Пенна «Без креста нет короны». Потрясенный и смятенный молодой человек начал читать эту книгу, хотя ему приходилось лезть в словарь за каждым словом, ибо его английский в то время был весьма слаб. Случайно он узнал о двух английских квакерах, приехавших на Лонг-Айленд, и он отправляется в Дом собраний Друзей с тем, чтобы повстречаться с ними. Безмолвная молитва так могущественно объяла его, что он сидел, совершенно не шелохнувшись. После собрания одна из английских визитеров, Дебора Дерби, обедала с человеком, у которого проживал Стивен. Она поговорила с Греллетом и его братом. Стивен вспоминал, что «она как будто читала мое сердце, подобно страницам книги: все, что было со мной, как я это чувствовал». Он почувствовал себя заново рожденным, все как будто было внове его глазам, все было наполнено свежей красотой, любовью и радостью. В том же году Стивен Греллет стал квакером, последующая его жизнь прошла в путешествиях по Северной Америке, Канаде, Британским островам, Европе. Он делился с людьми своим пониманием Бога живого, посланием надежды и спасения, которые, как он верил, были дарованы ему.
Уильям Аллен и Стивен Греллет подружились, и последний обычно останавливался у Аллена во время его визитов в Англию. Каждый обладал своим даром, у каждого было что-то свое, что он мог внести в их дружбу. Уильям Аллен шел по жизни с уверенностью человека, достигшего положения и авторитета своими способностями и знаниями, и это давало ему уверенность в своих способностях утешать и укреплять. На портрете мы видим человека с широким лбом, глаза мыслителя, способного ухватывать суть проблемы, видеть выход через тернии трудностей. Тяжелая крепкая нижняя челюсть выдает в нем борца, но впечатление смягчено широким благородным ртом, губами, всегда готовыми к улыбке, что говорит о терпимости, понимании, мягкости, каковые черты характеризуют его взаимоотношения с товарищами. Искренность, скромность и спокойствие характера ясно видны на его лице.

О Стивене Греллете кто-то из хорошо знавших его сказал, что он великолепно соединяет в себе живость француза и твердость англичанина. Его темпераменту не достает спокойствия Аллена: он весь — пламя и тень. Поэтому, вероятно, его дар красноречия был более сильным. Трепетные, взывающие, его слова пронзали слушателей до глубины души, ломали лед гордости и ожесточения, все смешивали, вырывали с корнем, разбивали, а затем мягко, быстро раскрывали на руинах самого себя первые нежные ростки новой жизни в Боге. Канадские лесорубы и шахтеры из Ньюкасла и Корнуолла, заключенные Ньюгейта — все слушали его с восхищением, и слезы катились по их щекам. Он мог говорить одинаково смело и коронованным особам Европы, и легкомысленным и циничным придворным, и прихотливым лидерам общества.
В дополнение ко всем его способностям лицо его передавало неразрешенные противоречия его натуры. Тонкий нос с чувственными ноздрями показывал высокомерие французского аристократа. Широкие брови, глубоко посаженные глаза, которые видели далеко вперед, дальше теневых сторон мира сего, они прекрасно гармонировали с интеллектуальной энергией, пророческим пониманием этого страстного искателя душ, который поедет на край света помогать несчастным и потерявшим надежду. Но узкая нижняя челюсть, глубоко прорезанные линии, идущие от носа ко рту, прекрасно слепленные, но загнутые книзу губы, выдают опасную твердость, роковой намек на то, что перед нами человек, не терпящий возражений. Твердость, которую изображают, может повести его в безжалостную атаку на тех, кто отличен от него в том, что он считает фундаментально важным. Это поведет его к тому, что будет проведена грань, и Греллет будет одним из первых, кто примет участие в этом, грань меж Другом и Другом, грань в теологических спорах, что разрывали американское квакерство в начале XIX века. Мудрость, глубокая отзывчивость Аллена — вот то, чего не хватало внешности и характеру Стивена Греллета.
Стивен Греллет путешествовал в служении по Франции, Швейцарии и Германии летом 1813 года и в начале 1814. В некоторых случаях путь его пролегал по местам, где отступала французская армия, или по местам наступления передовых частей войск союзников. Он ехал по опустошенным полям, видел разрушенные жилища, домашний скарб и утварь, разбитые вдребезги то ли врагом, то ли союзником. Он входил в дома, полные печали, где оплакивали тех, кто погиб на поле брани, слышал рассказы о насилии, творимом по отношении к женщинам, об избиении отцов и мужей, посмевших заступиться за своих дочерей и жен, когда солдаты противника хотели насиловать их. Во Франкфурте он видел телеги, груженые ранеными, телеги въезжали в город после битвы на Рейне, кровь текла по колесам. Раненые люди часами лежали на солнце и под дождем, дожидаясь, когда найдется для них койка и укрытие. Он становился свидетелем пьянства и дурного поведения гражданского населения, которое было следствием всего напряжения и страхов последних месяцев. Он понял, что резня на поле брани была лишь частью, пожалуй, меньшей частью всех страданий и бед, приносимых войной.
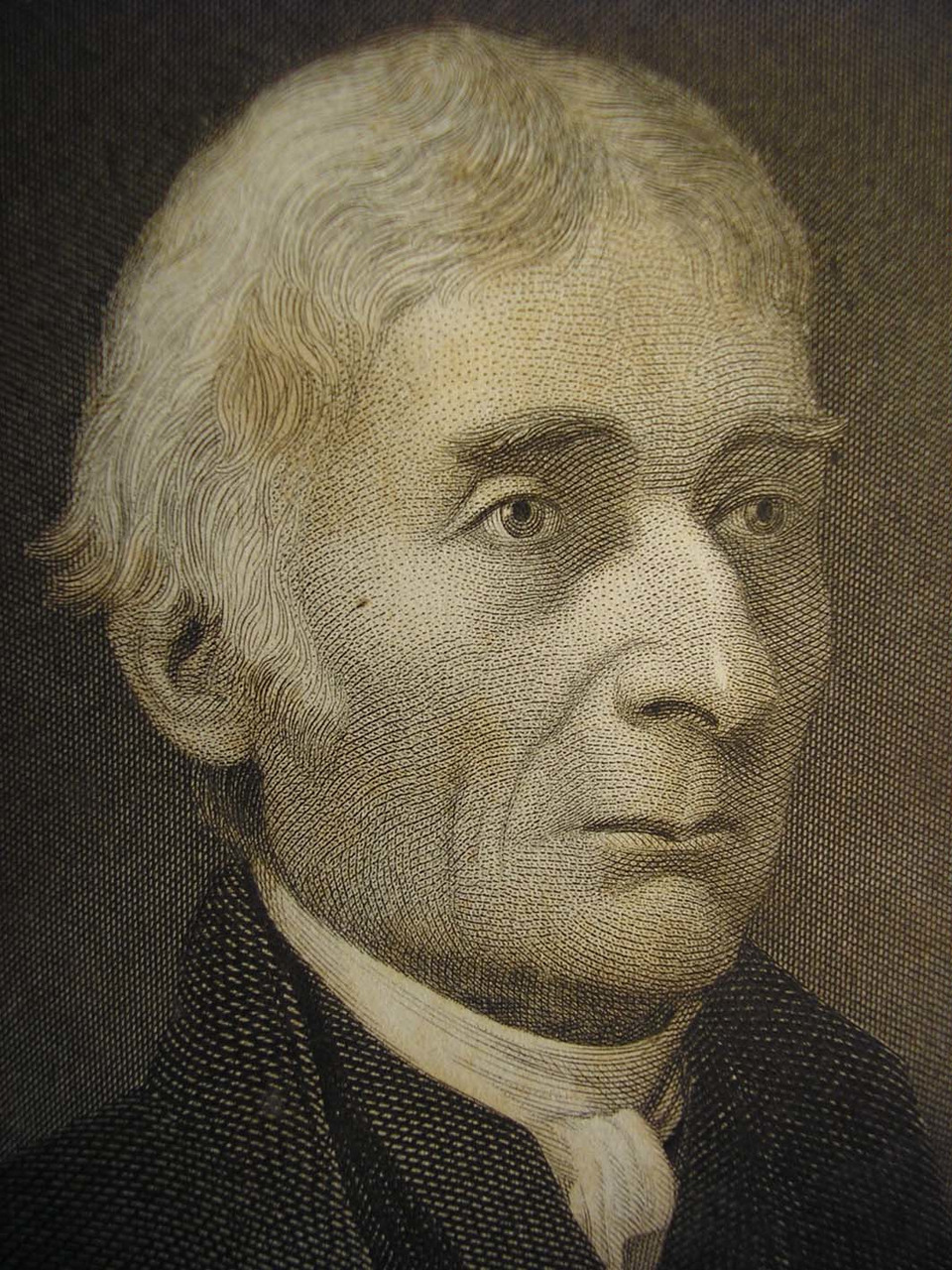
Он прибыл в Англию в первый день апреля 1814 года полным тяжких впечатлений от увиденного, полным страстного желания запрета таких зверств навеки. Греллет понимал, что должен быть найден иной путь разрешения споров, люди должны научиться жить в мире друг с другом. Он провел много бессонных ночей в течение следующих нескольких недель, молясь о том, чтобы открылся ему путь, как говорить с европейскими правителями, как умолить их сделать невозможным в будущем повторение подобных несчастий. Во время этих сильных душевных переживаний Греллета стало известно, что император российский, король прусский, вместе с другими правителями, находившимися в то время в Париже, намерены прибыть в Лондон. Он почувствовал, что «мольба души его может быть услышана». Он изложил свою заботу перед квакерским годовым собранием, проводимым в мае, ощущая, что его визит к коронованным особам Европы будет существенно сильнее, если он сможет пойти к ним, поддерживаемый Обществом. Его слова «имели сильный вес», но, поскольку никто из правителей еще не прибыл в Англию, было решено отложить составление послания монархам до встречи собрания в поддержку страждущих.
Император российский и король прусский Фридрих Вильгельм прибыли в столицу Англии в середине июня.
Александр I был тогда в зените своей славы, пользовался колоссальным уважением в Европе. Его решение перейти Неман, принятое в январе 1813 года, преследовать остатки армии Наполеона, существенно повысило положение России в европейских делах. Александр был движущей силой в той «славной кампании», которая привела союзников к победе при Лейпциге в октябре того же года, довела их до Парижа. Российский император вступил во французскую столицу с триумфом во главе победоносных армий в последний день марта 1814 года. Он заслужил самые искренние симпатии французов, когда по отречении Наполеона изложил свои предложения, свои либеральные планы касательно того, как должна жить Франция дальше. Парижане требовали, чтобы Александр либо остался править ими, либо нашел им такого же правителя, как он сам. Для людей Западной Европы он был освободителем от наполеоновского ига, великодушным победителем. Он был как метеор надежды, озаривший европейские небеса. Именно таким он и прибыл в Лондон на обратном пути в Санкт-Петербург. 13 июня 1814 года квакерское собрание в поддержку страждущих приняло два обращения для представления царю и королю Пруссии, который сопровождал Александра на пути в Лондон.
В послании говорилось о высокой оценке квакерами тех усилий, которые предпринимал Александр на пути к достижению мира, а также содержалась благодарность за содействие в деле распространения Библии в его стране (незадолго то того Британское и иностранное библейское общество получило разрешение прибыть в Россию с тем, чтобы распространять Священное Писание на русском языке. В 1814 году они начали работать в Петербурге). В послании также говорилось о том, что отличает Друзей от других религиозных конфессий, упоминалось, что по этой причине квакеры в свое время подвергались преследованиям, но в настоящее время, говорилось далее, Друзья в полной мере ощущают свободу вероисповедания и не чувствуют никаких притеснений. Из своей истории квакеры «знают, что ощущают живущие в самых разных частях света люди, которые вынуждены осознанно отклонять ту практику, каковая, по их мнению, не соответствует духу Евангелия… И, поскольку интерес к религии распространился теперь среди самых разных народов, и многие благочестивые люди ищут для себя спасение, мы умоляем тебя, Великий Правитель, продолжать оставаться снисходительным защитником таких ищущих, коих немало проживает на просторах твоей бескрайней Империи».
Для встречи с королем прусским и императором российским была назначена депутация, в состав которой входили Уильям Аллен и Люк Ховард, бывший коллега Аллена. Они посетили российского посла в Лондоне, графа Ливена, и были сердечно приняты последним. Аллен начал переговоры с извинения за то, что они не сняли своих шляп, что было старой квакерской традицией. Российский посол проявил полное понимание. Он прочел обращение медленно и с большим вниманием (Аллен вспоминал, что он следил за выражением лица российского посла и видел, какое впечатление производило на него прочитанное) и обещал представить документ императору. В течение последующих двух дней Аллен, по приглашению Ливена, приходил в гостиницу «Палтни», где остановился русский монарх со свитой. В одно воскресное утро, когда он опять был в гостинице, его внезапно пригласили подойти к экипажу посла и велели войти в карету. Император выразил желание посетить квакерское собрание в тот день, и граф Ливен позвал Аллена быть их попутчиком. Ближайшим было Вестминстерское собрание на Сент-Мартин-лейн, куда они и отправились, предварительно заехав за императором, его сестрой, великой княгиней Ольденбургской, и ее сыном, герцогом Вюртембергским. Все разместились в двух экипажах, которые из-за интенсивного уличного движения ехали на значительном расстоянии друг от друга. Это добавило больше волнений Аллену, который и так переживал по поводу происходящего. Он был в смятении. Ибо нет ничего более безжизненного, нежели квакерское собрание, все члены которого остаются в изоляции, каждый следует за своим потоком мыслей, погружен в свои личные тревоги и волнения или утонул в умственной и духовной апатии, не прикасается к пламени общения, какое может превратить безмолвную группу в сосуд духа. «Мой разум стремился к правде, — писал Аллен после той поездки, — и мои тайные воззвания направлены были к единственному источнику Божественной помощи». Вскоре они приехали на Сент-Мартин-лейн, и Аллен поторопился в небольшой дворик перед входом в Дом собраний. Войдя в помещение, он успел объяснить ситуацию лишь четырем Друзьям, сидевшим у входа. Вошли император и свита. Четверо введенных в курс дела Друзей смогли оттеснить царя от толпы зевак, сопровождавших его, не давая последним возможности войти в помещение. Александр и его спутники сели среди безмолвных Друзей, сохраняя серьезность. Следующие четверть часа прошли в тишине. Уильям Аллен вспоминал, что разум его успокоился после всех этих дней смятения. Последовали два устных послания, затем молитва, произнесенная Джоном Уилкинсоном. Когда собрание закончилось, император пожал руки всем, кто сидели подле него, а также тем, кто стоял на пути его к выходу, при этом был весьма любезен. Уильям Аллен шествовал впереди царя, чтобы проложить дорогу к карете. У самого экипажа император, обращаясь на французском, назначил время для депутации квакеров, ограничив число депутатов, вспоминает Аллен, «до двух — мне и Другу, выступавшему на собрании, Джону Уилкинсону было дано позволение прийти».
Однако, вечером следующего дня, когда Аллен встречался с графом Ливеном с тем, чтобы уточнить детали, он уговорил графа разрешить увеличить число визитеров, в результате чего была включена кандидатура Стивена Греллета.
21 июня трое Друзей были допущены к аудиенции с Александром в гостинице «Палтни». «Император поднялся, когда мы вошли; он был один в комнате, одет в весьма простое платье, взгляд его был наполнен добротой. Казалось, он принимает нас, как друзей, а не как случайных визитеров». Мы вручили ему обращение собрания в поддержку страждущих, а также несколько квакерских книг. Поскольку обращение он уже видел прежде, он не стал открывать его, а лишь скользнул взглядом по книгам, отложил их в сторону и поворотился к нам с тем, чтобы побеседовать. Депутаты стояли возле царя посреди комнаты, отвечали на его вопросы, касающиеся веры и практики квакеров. Беседа велась частично на французском, частично на английском языках. Аллен отметил, что государь говорил по-английски хорошо, и даже произношение было хорошим. Царь говорил о своем понимании того, что для него есть следование водительству Святого Духа, говорил о молитве, как о внутреннем, духовном обряде, подчеркивая, что внешние формы и ритуалы для него являются вторичными. В своих молитвах он находил нелегким то, что надо повторять некий постоянный набор слов, каковые не всегда соответствовали его внутреннему состоянию в тот миг. Потому он перешел к своим собственным молитвам, соответствовавшим его внутренним переживаниям в тот момент, и с этим в душе его воцарил мир. В течение беседы царь порой брал кого-нибудь из Друзей за руку. Он был очень тронут словами, сказанными ему на французском Стивеном Греллетом. Он говорил Джону Уилкинсону о том, как чувствовал себя единым в духе во время молитвы на воскресном собрании. Он давно мечтал о такой возможности «постичь то, что он был един в чувстве с нами, и хотя его обычаи отличны от наших, но религия во Христе одна, и в молитве души мы все можем объединяться…» Стивен Греллет напомнил о тяжелой доле африканцев, несущих тяготы рабской жизни, и просил вспомнить об этом на Мирной конференции. Александр заверил Друзей, что он не забудет об этом и сделает все, что в его силах, для защиты их интересов. Затем Уильям Аллен поднял вопрос о народном образовании, столь близком его сердцу. Он обрисовал вкратце работу Общества британских и иностранных школ в Англии, каковая была обращена к беднейшим в этой стране. Аллен высказал предположение, что государь мог бы предпринять что-либо подобное в России. Это привлекло внимание Александра. Он согласился, что это дело чрезвычайной важности. В общей сложности беседа длилась около часа. Когда начали прощаться, Александр сказал, что случись кому-либо из Друзей прибыть в Петербург «по делам религии, не надо ждать специального приглашения, просто приходите ко мне…». Он сказал, что никогда не забудет этого, и когда Друзья уже уходили, Александр пожал каждому руку и распрощался со словами «расстаюсь с вами, как с друзьями своими и братьями».
Интерес русского царя к квакерам не угас после этой встречи. Неделю спустя в Портсмуте, перед отплытием, государь вдруг изъявил желание побывать в гостях у какой-нибудь квакерской семьи, проживающей поблизости. Лорд Сидмаут организовал визит в семью Джона Глэйсира, проживающего в Брайтоне. Однако, когда императорская карета подъехала к дому этого квакера, выяснилось, что толпы зевак окружили все вокруг, так что визит пришлось отменить. Однако Александр не желал отказываться от задуманного. Некоторое время спустя, когда процессия уже ехала в Дувр, Александр обратил внимание на двух человек в квакерских одеждах, стоявших возле ворот фермы и наблюдавших проезд царского кортежа. Он немедленно велел остановить карету, прошествовал к стоящим и спросил, не являются ли они членами Общества Друзей. Получив утвердительный ответ опешивших квакеров, царь спросил, не позволено ли будет ему и его сестре пройти в их дом для небольшой беседы. Муж с женой немедленно согласились, несмотря на такое необычное предложение. Хозяйка-квакер, сохраняя спокойствие, с чувством достоинства, показала императору и великой княгине дом и маслобойню, предложила им небольшое угощение в гостиной. На гостей произвели впечатление опрятность и порядок, царившие в доме, степенная и, вместе с тем, простосердечная любезность хозяев, Натаниэля и Мэри Рикман. Александр рассказал им о том, что он побывал на квакерском собрании, о квакерах, посетивших его в Лондоне. На прощание царь поцеловал руку Мэри Рикман, к великому ее удивлению. Поведение монарших особ было простым и дружественным, так что квакер-фермер и его жена остались в недоумении по поводу такого внимания, но, вместе с тем, они были очарованы благородными манерами неожиданных гостей.
А тем временем Уильям Аллен не прекращал свои встречи с графом Ливеном, всячески склоняя его к каким-то действиям в деле принятия программы начальных школ в России по модели Ланкастера. По предложению графа Аллен составил меморандум на эту тему, каковой и был послан императору. Затем пришли вести об открытии Конгресса в Вене, о трудностях в его заседаниях, о том, что будущее Европы находилось в его власти. Затем случился перерыв в Сто Дней, потребовавшиеся для окончательного разгрома Наполеона при Ватерлоо. Друзьям стало известно о предложении Александра о Священном Союзе, который смог бы стать преградой на пути всех будущих войн, который был бы провозвестником христианского порядка, присущего как внутренним, так и внешним делам всех стран. Да, то было бы выполнением страстного желания и мечты Стивена Греллета, если бы это было записано в мирном соглашении. Однако даже в Британии, где правил регент, такой документ подписан не был. Кастелрей отклонил предложение, пожав плечами, со словами, что это «возвышенный мистицизм и просто чепуха». Средь квакеров в Лондоне царило возбуждение, чувство ожидания, что они в служении их видения правды могут быть введены в лабиринт мировых проблем, чего никогда не было прежде.
Глава 4
Эксперимент по мелиорации земли квакерскими пионерами в России
Даниэл Уилер был первым из Друзей, кто приехал в Россию на длительное время — пятнадцать лет он отдал работе в этой стране. До этого путешествия жизнь его была довольно разнообразной. Родом он был из семейства преуспевающего торговца, но в возрасте 12 лет внезапно осиротел. Его отдали в суровую военно-морскую школу. По ее окончании он служил корабельным гардемарином, впоследствии дорос до офицерского звания, тогда ему еще не было и 20. В 1792 году он сошел на берег, но довольно быстро потратил все свои сбережения, ему не удалось найти подходящей работы, — пришлось снова идти в армию рядовым. Опять же благодаря своим личным качествам ему удалось быстро вырасти в чине. Таким образом, он дважды успешно продвигался по службе. Как вспоминал он сам, всегда готовый принять участие в любом шумном развеселом времяпрепровождении вместе с товарищами, он стал весельчаком-сквернословом, молодым офицером, делавшим то, что ему хочется. Когда разразилась революционная война с Францией, он был послан с группой грубых и недисциплинированных ирландских рекрутов в южные страны, где и прослужил во время неудачной кампании герцога Йоркского, закончившейся отступлением.
Спустя несколько месяцев по возвращении в Англию, осенью 1795 года, Даниэл Уилер получает назначение в подразделение, отправлявшееся с сэром Ральфом Эйберкромби в Вест-Индию. Это было тяжелое путешествие, со множеством штормов. Среди членов экипажа свирепствовала лихорадка, перекинувшаяся на войска; несколько кораблей пошло ко дну из-за ужасного урагана, который налетел, когда порт был уже виден невооруженным глазом. Много людей утонуло, сам Уилер с трудом спасся. Тогда, посреди урагана, порывов ветра, бушующей стихии, среди треска рвущихся парусов и криков, он ощутил внезапное внутренне спокойствие, уверенность в себе и чувство «рождения заново, с тем, чтобы жить праведно». Даниэл почувствовал жизнь и силу, бьющие ключом в нем, независимо от его собственного желания или воли. То была радость нежданного подарка. «То было творение Святого Духа в сердце моем», — говорил Уилер.
Вскоре он ощутил, что ни армия, ни его прежние развлечения не представляют для него никакого интереса. Через несколько месяцев он вернулся в Англию, вышел в отставку и переехал к своей сестре Барбаре Хойланд в Шеффилд. Сестра была замужем за квакером и сама незадолго до приезда Уилера присоединилась к Обществу Друзей. Так стал он посещать вместе с ней воскресные собрания, проходившие в тишине. Стремясь своим сердцем в эти часы тишины, он осознал, что нашел свое духовное пристанище, и в 1797 году сам становится членом Общества Друзей. Приблизительно тогда же он начал торговать зерном в Шеффилде, дела его шли хорошо. Он женился и зажил счастливой семейной жизнью. К 1809 году его здоровье стало ухудшаться по причине слишком большой загруженности работой в магазине. Пришлось переехать в дом в нескольких милях от города, где Уилер сочетал фермерскую работу с торговлей зерном. Однако вскоре он стал осознавать, что бизнес занимает слишком много времени и мыслей в ущерб его духовному росту. Тогда он бросил торговлю, и лишь те несколько акров земли, которой он владел, стали источником жизни его самого и семейства, что, надо сказать, было весьма немного. Спустя некоторое время дела на ферме пошли лучше и лучше, к восхищению соседей, и это опять было подтверждением способностей Даниэла Уилера. Тем не менее, в неуверенности и сомнениях, после умственной борьбы, столь интенсивной, что это даже отразилось на его физическом здоровье, он начинает проповедовать на своем собрании, а также и на других. Следуя внутреннему призыву, он путешествует, посещая собрания по стране, для того, чтобы расшевелить жизнь в них, чтобы поделиться своим пониманием того, что есть Бог. И хотя все послания были выдержаны в евангелистских терминах, сам Даниэл Уилер был скорее квиетист, деятельность свою регулирующий чувством святого водительства. Он проводил много времени в одиночестве в лугах и полях, ища единения с Богом.
Ему было трудно принять дисциплину послушания, как трудно было понять и то, какой путь выбрать без колебаний и борьбы. Каждый шаг давался с трудом, ему приходилось преодолевать неопределенность, разочарование, крушение надежд. У него была голова борца: высокая и величественная, с крепкой квадратной челюстью, хорошо вылепленным носом, четко посаженными губами, которые, тем не менее, несли печать нежности. Это портрет человека, который будет подвергаться ударам судьбы, но никогда не потонет, не сдастся, никогда не потеряет своей храбрости.

В начале 1817 года он должен был принять трудное и важное решение. За некоторое время до этого у него возникло чувство, что он будет призван работать за границей. Где, каким образом, — о том он не имел ни малейшего понятия. Это было тяжелое время, время, когда пришло к нему это чувство, эта уверенность. Впервые со времени раннего детства он вновь ощутил радости и трудности семейной жизни, это было богатство, какое наполняло его чувством благодарности. Теперь, казалось, все было в опасности по причине странного непреодолимого побуждения, идущего изнутри. Первым позывом было желание уклониться от зова его чрезмерной веры, постараться почувствовать, что на него возложена невыносимая ноша. Много месяцев он оставался в напряжении, на ощупь пытался найти, что же делать дальше. Однажды он прохаживался по своей гостиной, ломая голову над тем, что же ему делать дальше, и вдруг его взгляд упал на головоломку, с которой возился его сын: из разрозненных кусочков надо было собрать карту. Внезапно, как в озарение, в его мозгу возникло название «Санкт-Петербург». С того момента у него не было сомнения в том, куда он стремится. Хотя еще два с половиной года он никому не открывал этого, храня все в секрете. Некоторое время спустя после мгновенного озарения ему в голову пришла неожиданная мысль: «А что если российскому императору нужен помощник по вопросам сельского хозяйства? И в то же время мысль о том, что надо ехать, окончательно поселилась у меня в голове. Хотя вопрос о том, когда, как, — все это по-прежнему было сокрыто. То была перспектива, должен признаться, от которой я был готов содрогнуться… О подобном душевном конфликте никто не мог ничего пояснить или понять его, за исключением тех, кто сам побывал в сходных обстоятельствах».
Тем временем Александр I, трудившийся на ниве преобразования международных отношений, а также дел в своих владениях, не забывал и квакеров. Он давно уже вынашивал идею осушения болот вокруг Санкт-Петербурга, и такая попытка даже однажды была предпринята, но неудачно по причине непостоянства человека, отвечавшего за работу. В 1817 году, когда император решил вновь попытаться реализовать свои планы по осушению, он внезапно вспомнил высокий уровень английского земледелия, опрятную квакерскую ферму, куда ему случилось заехать, беседы с Уильямом Алленом, Стивеном Греллетом и Джоном Уилкинсоном. В Англию был послан запрос о том, нельзя ли найти компетентного специалиста по сельскому хозяйству, способного провести мелиорационные работы. Условие было поставлено одно, — такой специалист должен быть членом Общества Друзей. Приглашение с такими требованиями было переслано в Общество Друзей, оттуда же копии были разосланы по собраниям. И вот в дом Даниэла Уилера пришел человек, житель Шеффилда, который просил совета по этому поводу. После всех предзнаменований такое письмо совсем не удивило Уилера. Незадолго до этого визита он пережил последние приступы борьбы, ощутил приятие такой судьбы, свою готовность, и со дня на день ожидал, что его востребуют на какие-то важные дела. Утро следующего дня застало его на пути в Шеффилд, куда он направлялся с тем, чтобы предложить свои услуги.
Шаг был сделан бесповоротный, он вернулся домой с тяжелым сердцем, не зная, как сообщить эту новость жене. Из их шестерых детей лишь старший мог жить самостоятельно. Ведь Даниэл уже просил ее недавно о перемене относительно безопасного занятия торговлей в Шеффилде на неопределенность фермерской жизни, о которой сам тогда не имел особого представления. Она согласилась без каких-либо размышлений. Пребывая в расстроенных чувствах, он подошел к ней, готовый вновь просить о перемене жизни и том, чтобы она поехала вместе с ним в темную неизвестность России.
Но то позабыл Даниэл Уилер, что он женился семнадцать лет назад на Джейн Брэйди из Торна, которая унаследовала от первых поколений квакеров многое. По ее венам бежала кровь предков, которые могли принять мучения и даже смерть за веру. Она была женщиной хрупкой, мягкой, сдержанной, возможно даже немного боязливой. К величайшей радости ее мужа предложение было принято ею с совершенным спокойствием. Она отвечала ему словами, какими Рут отвечала Наоми, и добавила, что если это действительно воля Господня, то сила им будет дана, что они справятся со всеми задачами, какими бы тяжелыми они ни оказались.
Так, в июне 1817 года Даниэл Уилер отплыл в Санкт-Петербург с тем, чтобы на месте посмотреть, что требуется сделать для подготовки переезда семьи, ибо, как он сказал главному министру Александра, князю Голицыну: «Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта». Вскоре по прибытии и после первого осмотра земель Уилер был очень любезно принят князем. Переводчиком был секретарь и друг князя Александра Голицына Василий Попов. «К нему обращаются Ваше Высочество, — пишет Даниэл Уилер, — и я полагаю, что это уместно, ибо он есть в высочайшей степени прекрасный человек». В разгар беседы, когда будущее в большой степени зависело от того, какое впечатление произведет Уилер, последний почувствовал, что его рассудок отказывается участвовать в беседе. Князь Голицын, словно не желая терять драгоценное время, задавал вопросы за вопросом: каково состояние земли, каковы первые планы. Ответы Уилера становились все короче и короче, когда, наконец, он решил попытаться объяснить хоть что-то Василию Попову, однако, само собой разумеется, последний не вполне понял Даниэла. В конце концов, говорит Уилер, «мы встали с кресел все вместе, но прежде чем князь произнес слова прощания, я понял, что мой час настал». Слова лились потоком по мере того, как упорный квакер излагал свою мысль, — основу его веры, — поток останавливался для того лишь, чтобы переводчик мог перевести сказанное. Всякий раз, когда Уилер делал паузу, он ощущал, что в голове нет ничего, что он мог бы сказать. Но едва переводчик произносил последнее предложение, приходили новые слова. Когда Уилер закончил, наконец, свою пламенную речь, оба русских «стояли подобно статуям» какое-то время, а затем потрясенный князь, явно тронутый беседой, взял Даниэла Уилера за руку и сказал: «Хотя мы и говорим на разных языках, язык духовный един для всех». «Легкий, подобно перу», покинул аудиенцию английский квакер: он почувствовал, как будто гора свалилась с его плеч.
Месяц он провел в тщательных исследованиях земель и болот вокруг столицы. Он нашел, что почва гораздо лучше, чем он ожидал. Травы походили на те, что росли на его полях. Сорняки тоже не сильно отличались от тех, с которыми он сражался на своих землях. Василий Попов пояснил Уилеру, что император распорядился оплатить все расходы, связанные с его предварительной поездкой, а также все траты, которые предстоит сделать семье англичанина для переезда в Россию. Даниэл Уилер должен сам назвать сумму, необходимую для обустройства, сказать, сколько людей потребуется ему для работы, каковы его планы и идеи «в установлении сельской экономики» на петербургских болотах. Все его требования будут выполнены полностью. Даниэл Уилер испросил скромную сумму в 5000 фунтов стерлингов для выполнения этого довольно необычного «открытого контракта». Он написал отчет, включающий в себя программу работ. Отчет был представлен императору. Сам Уилер нашел свою работу настолько интересной, что мысли о ней подчас не давали покоя даже во время молчаливой молитвы, какую он старался творить наедине.
Через некоторое время он предстал пред Александром. Они побеседовали, и царь имел возможность взглянуть на человека, с которым ему предстояло иметь дело много лет. Государь был церемонен, пока присутствовал слуга, представляющий гостя, а оставшись наедине, просто предложил сесть. Но квакер-фермер не был готов сесть, хотя бы и по приказу царя российского, пока сам не поприветствует благославлением самого императора, после чего «он снял свою шляпу, и они оба сели». У Александра было много вопросов, требовавших ответа. Он уже прочел отчет Даниэла Уилера, уточнил основные положения его и выразил свое принципиальное согласие с ним. У Даниэла Уилера накопилось многое, о чем бы он хотел сказать, и, покончив с сельскохозяйственными вопросами, он передал Александру документ, подготовленный им самим, излагающий принципы Общества Друзей. Царь внимательно прочел бумагу, задал несколько интересовавших его вопросов. Они расстались в самых добрых отношениях. Через несколько дней Даниэл Уилер отправился домой, в Англию, полон ясных перспектив новой работы.
Год спустя, в июне 1818 года, из Гулля в Петербург отправилась небольшая экспедиция. Даниэл Уилер вез с собой сельскохозяйственный инвентарь, семена, несколько голов рогатого скота. Вместе с ним ехали его жена, шестеро детей, еще двое фермеров, а также учитель для детей. На эту должность он взял некоего Джорджа Эдмондсона, которому было всего 19 лет, и чьи письма рассказывают нам о деятельности Даниэла Уилера во всех деталях.
Джордж Эдмондсон был некогда учеником квакерской школы в Экворте, Йоркшир. Его любимым учителем в той школе был учитель чтения Уильям Синглтон. Как-то раз двенадцатилетнего Эдмондсона послали с запиской к этому учителю. Там он впервые увидал дочку Синглтона и немедленно влюбился. Это чувство сохранилось на многие годы. Уильям Синглтон через некоторое время уехал из Экворта, открыл свою собственную школу в Брумхолле, пригороде Шеффилда. Джордж Эдмондсон немедленно подал заявление своему старому преподавателю с просьбой назначить его либо учителем, либо стажером. Предложение было принято, и Эдмондсон поселился в одном доме с той, чей образ он хранил в своем сердце.
Уильям Синглтон довольно скоро осознал положение вещей. Он был очень высокого мнения о способностях и личных качествах Джорджа Эдмондсона, но полагал, что двое молодых людей еще слишком незрелые для того, чтобы стать помолвленными. Так что, когда Даниэл Уилер пришел к нему с просьбой найти учителя своим детям, Синглтон немедленно рекомендовал своего ученика на эту должность. Джордж Эдмондсон оказался способным, полным энтузиазма славным малым. Он настолько заинтересовался работой по мелиорации, что его учительская деятельность была перенесена на зимние месяцы, а потом и передана более искусному старшему сыну Уилера.
Всю работу Уилера в течение его долгого проживания в России можно разделить на три основных периода. Начальный период — работа на берегах Охты, в нескольких милях от города. На берегу Невы для семейства был выделен дом. Нева была судоходной рекой с очень активным движением в летние месяцы, по реке плыли нескончаемым потоком баржи и плоты, доставляющие товары из внутренних областей страны. Дом Уилера был практически напротив Смольного монастыря, позднее известного, как Смольный Институт, школа для благородных девиц, впоследствии превращенного большевиками в свой штаб во время революции 1917 года.
Метод, который Уилер использовал в начале своего наступления на болота, был использован и в дальнейшем. Сначала почву очистили ото мха, толстого и белого — местами он был до 16 дюймов толщиной и удерживал воду подобно губке. Корни и сгнившие стволы деревьев были выкопаны и удалены, новая поросль кустов и молодых елей была либо выкорчевана, либо срублена. Далее, для того, чтобы избавиться от воды на поверхности, были выкопаны глубокие рвы по краю всего участка, причем так, чтобы сток из них был в ближайшую реку, в данном случае это была Охта. Рвы, помимо прочего, служили защитой участка от волков. Весь участок внутри пересекался меньшими канавами, все поле делилось на площадки в восемь акров. Они были довольно маленькие, но нижний и практически неизменный уровень земли требовал, чтобы дренажные каналы были весьма близки друг к другу, чтобы существовал выход в основной ров, окружающий весь участок. Таким способом Даниэл Уилер мог получить поверхность, достаточно сухую для того, чтобы работать далее.
Мох и корневища стаскивали в кучи для просушки. Эти нагромождения были 14 футов шириной, 6—7 футов высотой и 240 футов длиной. По причине того, что поблизости находились пороховые склады, весь этот мусор нельзя было спалить прямо на месте. Для этого все приходилось отволакивать в другое место и уничтожать там, что, конечно, не облегчало жизнь. Срубленные большие деревья и деревца аккуратно сортировались, более-менее прямые стволы оставлялись на столбы и брус, остальное же складировалось как дрова на будущие зимы.
Для копания траншей царем были выделены солдаты; питание и обмундирование было казенным, а за работу им платил Уилер — по тридцать копеек в день каждому, что по тогдашнему курсу составляло три с половиной шиллинга. Они жили в бараках, спали на узких нарах, всего их было 180 человек. Питание их в основном состояло из черного хлеба с луком. Когда наступала зима, они возвращались в свои казармы и лишь с весенней оттепелью вновь приступали к работе. Кроме солдат было нанято несколько крестьян.
Российские власти предоставили в распоряжение англичан переводчика, проводившего весь день с ними на Охте. Однако уже в сентябре Джордж Эдмондсон писал домой, что они тешат себя надеждой, что уже по весне услуги переводчика не потребуются. В помощь был также послан русский землемер, но когда дошли до дела, тот признался, что никогда не держал в руках мерной цепи и понятия не имеет, как обращаться с нивелиром. Однако Джордж Эдмондсон принял удар на себя; как выяснилось, еще в Шеффилде он, в обмен на уроки английской литературы, получил некоторые знания в этой области от своего товарища, учившегося на землемера. Старший сын Даниэла Уилера, ровесник Эдмондсона, быстро перенял основы землемерного дела, и когда Уилер был удовлетворен их умением, русский землемер был уволен.
Вначале работа двигалась медленно, хотя уже к пяти часам утра все были на полях. Молодые землемеры столкнулись с исключительной медлительностью и привычкой опаздывать, характерной для этих крестьян и солдат. Даниэл Уилер понимал раздражение молодых десятников, но, будучи более терпеливым и мудрым, тщательно обдумав сложившуюся ситуацию, созвал народ на собрание. При помощи переводчика он обратился к людям с такой речью: «Царь-батюшка велел мне платить вам тридцать копеек в день, и я обещал, что так и будет. Но в Англии работники, если им платят, скажем, три пенса, и будут работать только на три пенса. А посему я предлагаю построить наш труд таким образом. Я отмеряю тот объем работы, который надо сделать на тридцать копеек, и это обязательная ежедневная норма. Но ежели кто желает заработать больше, он может трудиться дальше. Переработка будет замерена и оплачена по тем же расценкам». Народ подивился такому предложению, а еще более тому, в какой вежливой манере это все было предложено. На следующий день все работали с энтузиазмом, но когда норма была выполнена, большинство пожелало покинуть рабочее место. Однако несколько человек осталось и продолжало работу. Вечером траншея была тщательно замерена, и работникам заплатили то, что было обещано. Это вызвало еще более сильное изумление. Были слышны восклицания солдат: «Чудеса! Этот человек выполняет то, что обещал!» Очевидно, они нечасто сталкивались с подобным в своей жизни. Таким образом, план оказался удачным. Он способствовал росту энтузиазма работников, а молодые десятники Джордж и Уильям больше не имели причин для недовольства. Этот случай проливает свет на то, как работал с людьми Даниэл Уилер.
Подобная практика вызвала определенное любопытство в Петербурге. Каждый день приезжали именитые визитеры, посмотреть, как идет работа. Они также не упускали возможность оценить гостеприимство Джейн Уилер. Совершенно непринужденно она, как ни в чем ни бывало, потчевала чаем княгинь, государственного министра, высоких представителей царского дома, наконец, самого императора. Министр внутренних дел вызвал расположение у молодых Джорджа и Уильяма тем, что не побрезговал пожать им руки, когда пришел на поля, хотя молодые люди перед тем копались в самой грязи: вынимали мерную ленту, отбрасывали камни, выкорчевывали кусты. Как-то раз неожиданно пожаловала сама императрица. Как заметили эти же двое молодых людей, характера она была весьма скромного, простого и непритязательного. Ее длинная накидка, замечают они, была «милого, квакерского цвета», ее туфли были слишком тонкие и не вполне подходили для ходьбы по земле в этих местах. Однако она пожелала оставить карету и обойти участок земли, где были уже проведены работы. Она высказывала свое удивление и радость по поводу того, какой сухой стала почва. Уже в конце осени пожаловал сам император. Как вспоминал Джордж Эдмондсон, выглядел он так просто, что с трудом можно было поверить в то, что перед нами государь. С момента прибытия Уилера царь находился за границей, и теперь он высказал свое удовлетворение тем прогрессом, который был очевиден. Два часа он обходил земли вместе с Даниэлом Уилером, и после того еще час был проведен дома, в беседе. Разговор, как вспоминал потом Уилер, дал ему возможность полностью высказаться. Беседа была на разные темы, в том числе о том зле, какое чинит война, о больших воинских подразделениях, расположившихся по соседству, о человечестве вообще.
Вот так семейство зажило новой жизнью. Жизнь была довольно одинокой, несмотря на обильный поток визитеров в первые месяцы. Они были оторваны от старых друзей, жили на самом краю цивилизованного мира, привыкали к очень трудному языку. Каждый год работа останавливалась на несколько месяцев по причине суровой русской зимы. Долгие темные вечера проводились в планировании новых работ в наступающем сезоне, в обучении младших членов семьи, а также писании писем. В исключительно холодную зиму 1819—1820 годов вокруг домика на Охте выли волки, готовые растерзать всякого странника, оказавшегося на их пути. Птицы падали вниз от сильного мороза. Дети заболели ангиной. Поначалу казалось, что им не вынести тягот такой жизни. Но постепенно появилась определенная выносливость, позволявшая переносить все невзгоды так же хорошо, как если бы они были русскими. Даже младшая дочка, Джейн, двух с половиной лет от роду, ежедневно каталась на санках, укутанная в заячьи меха.
В течение всей их жизни в России Даниэл Уилер и его домашние собирались каждый четверг и воскресенье на молитвенные собрания. В первые годы на них бывали некоторые англичане, а также другие иностранные купцы, находившиеся в Петербурге. Приходил английский квакер Самюэл Стенсфилд с женой; порой собиралось 18—20 человек. Даже в поздние годы, когда собрание уменьшилось до размеров собственно семейства, Уилер говорил: «Милосердная Сила снизошла, та, в чьей власти создать границы встревоженному морю мыслей, ограничить блуждающее воображение». Эта Сила могла объять небольшое собрание в божественном сострадании и силе, что сохраняли их в одиночестве.
Порой их навещали гости из Англии, своим визитом вносившие свежее дыхание жизни в их собрание. В первую зиму 1818—1819 годов в Петербурге были Уильям Аллен и Стивен Греллет. Их регулярное посещение молитвенных собраний, их служение придали утешения и силы Даниэлу Уилеру. Они могли свободно и со знанием дела обсуждать проблемы, с которыми ему приходилось сталкиваться на работе, могли с пониманием внимать его страхам и трудностям. С большим сожалением распрощался он с ними мартовским днем 1819 года, когда укутанные в санях Греллет и Аллен умчались в пургу. Они оставили его разоблаченным и опустошенным, как «воробей на крыше, или сова в пустыне», — вот те настроения заброшенности и одиночества, что часто охватывали его.
Научные познания в области сельского хозяйства Даниэла Уилера были весьма прогрессивными на то время. С помощью Уильяма Аллена удалось раздобыть прибор для проб почвы. Как только земля освободилась от снега, Джордж Эдмондсон приступил к пробированию образцов почвы и мог сообщить, что весьма высока вероятность того, что земля эта плодородна. После этого земля была очищена ото мха и деревьев. Ямы, откуда выкорчевывались деревья, были забросаны грунтом. Теперь надо было вспахать почву, но поскольку сделать это при помощи плуга на том этапе не представлялось возможным, пришлось использовать лопаты. Затем все это было хорошо удобрено и оставлено на зиму. Известь была редкостью, к тому же еще дорогостоящей, но земля была щедро унавожена пометом животных, что было дешево и привозилось вместе с нечистотами из города. По оценке Джорджа Эдмондсона, нечистоты по качеству были весьма близки к извести, в них добавляли гниющий мох, что облегчало работу с этим удобрением. По весне поля засеивали овсом, после урожая не обрабатывали, а осенью вновь засевали, но теперь уже рожью. Первые урожаи часто были скудными, но обильное удобрение вскоре принесло пользу, возросли урожаи зерна и сена.
К началу лета 1819 года первый поднятый участок земли на Охте, заботливо огороженный, принес славный урожай овощей, зерна и трав. Шестьдесят акров репы, посеянной нортумберлендским методом, оказались наиболее прибыльными. Репа была раскуплена на петербургских рынках сразу. Даниэл Уилер был поражен тем, с какой скоростью набирали рост травы и клевер. Он посеял их под прикрытием овса и отметил, что после двух недель травы выглядели так, как в Англии они бы выглядели после года. Спрос на охтинскую продукцию рос очень быстро. На рынках их овощи и сено скупались по самым высоким ценам, славилась и их баранина. Английские фермеры не успевали справляться с запросами рынка. Соседские помещики, видя такой прогресс, стали просить поделиться с ними опытом, к великой радости англичан.
Доходы от продажи продукции регулярно платились в банк, с поступлением прибыли правительству. К середине двадцатых годов, когда работа уже стабилизировалась, оборот капитала был что-то около 80000—90000 рублей, что являлось эквивалентом 3000—4000 фунтов стерлингов. Российские власти были приятно поражены такими результатами, поскольку, в отличие от остальных правительственных служб, здесь не практиковались взятки и прочие фокусы с банковскими счетами.
Летом 1819 года была начата работа по обработке второго участка. Это был гораздо более обширный кусок земли в Волкове, на юге Петербурга. Джордж Эдмондсон приблизительно определил его площадь в 50000 акров. И даже если эта предварительная оценка не вполне точна. Можно сказать, что участок действительно велик: надо было выкопать десять миль канав, нужно было проложить новую дорогу длиной в две мили, необходимо было выкорчевать старые корневища на площади в 64 акра. Эдмондсон описывает большую часть всей площади как вполне хорошую и нуждающуюся только в ограждении, но все же там были и болота, и леса. Земля принадлежала вдовствующей императрице, матери Александра, и Даниэлу Уилеру необходимо было нанести несколько визитов к ней. Он впоследствии описывал эти визиты как некоторое испытание «для квакера: надо было пройти через все дворцовые апартаменты, полные военных и прислуги, смотрящих на тебя, как на врага».
Доверие к молодому Джорджу Эдмондсону было настолько велико, что Уилер поставил его ответственным за начальную работу в Волкове, а сам оставался пока на Охте. Для молодого человека это была одинокая жизнь спартанца. Новое место работы находилось на расстоянии десяти миль от дома Уилера, так что Джордж был вынужден переселиться в лачугу старика-крестьянина, которая находилась неподалеку. Он сам готовил себе пищу, поскольку полагал, что это более безопасно, нежели питаться вместе с крестьянином. Вставал он в четыре утра, подметал свою комнату березовым веником, полностью прибирался и только тогда отправлялся в поля. Он стоял во главе двухсот человек, отвечал за их благоденствие, даже выписывал им лекарства в случае болезни кого-либо, демонстрируя постоянную готовность оказать помощь в любой работе. Одному простывшему больному он как-то велел идти домой, укутаться в тулуп, улечься на печку и выпить не менее пятнадцати стаканов горячего чая! Раз в две недели его посещал Даниэл Уилер, а по воскресеньям он сам приезжал на Охту. Все же остальное время он оставался без компании, не с кем было переброситься словом на родном языке. Временами он считал, что это довольно суровое испытание, но он был захвачен интересом к работе, проверкой своих способностей руководить людьми, подолгу выполнять тяжелый труд. С каждым днем его русский становился все лучше. Он не жаловался на свое одиночество, хорошо руководил работой, и было очевидно, что Даниэл Уилер не ошибся в выборе помощника.
В течение второй зимы Уилер занимался разработкой проекта, что было ему весьма по сердцу. Даниэлу Уилеру уже приходило в голову, что труд на его мелиорационных работах сможет способствовать некоему прорыву в деле отмены крепостного права. Царь полагал, что вся земля, подвергшаяся культивации на Охте, будет находиться на попечении Уилера. Однако, английский квакер предлагал разбить все на участки площадью по 30—45 акров, а затем отдавать эти куски земли в наем крестьянам за умеренную плату. Предполагалось, что аренда будет достаточной, чтобы оплачивать процент денег, вложенных в мелиорацию этого участка, а также возведение небольших домов на каждой из таких делянок. Если каждому крестьянину разрешить после всех выплат остаток продукции использовать для себя или для продажи, «то это будет стимулом к производству; работа приобретет смысл». Уилер надеялся, что в случае успеха таких фермерских хозяйств помещики в округе тоже захотят поделить свои земли подобным образом. Еще он предлагал сохранить часть земли за ним: кусок площадью около 80 акров, например. Выдвигалась идея устройства «комплексного сельскохозяйственного предприятия», где проживал бы управляющий, занимающийся хозяйствованием на этих восьмидесяти акрах, а также занимающийся дальнейшей мелиорацией земель, граничащих с его участком. Кроме того, в обязанность управляющего входил бы контроль за тем, как идут дела у арендаторов. Даниэл Уилер создал модель этого основного предприятия и фермерских домиков. Заручившись одобрением царя, он намеревался приступить к реализации своих планов летом следующего года. Возможно, что это был самый первый проект кооперативных хозяйств в России.
На Охте было построено семь таких фермерских домиков, а на последующем участке работ Уилера, в Шушарах, четырнадцать. И хотя фермерские домики были заселены как только были построены, дальнейшего развития этого проекта, с которым Уилер связывал большие надежды, не последовало. Российские власти не поддержали идею.
Пост управляющего на Охте Даниэл Уилер предложил Джорджу Эдмондсону. Но, несмотря на перспективу обзаведения собственным домом, роста заработка, большей ответственности, Эдмондсон испросил разрешения вернуться в Англию для женитьбы на Анне Синглтон. Царь вызвал его и, узнав причину стремления домой, выразил удивление в связи с тем, что молодой человек не смог найти подходящей жены на просторах его необъятной империи. Однако, заметив некоторое замешательство Эдмондсона, он высказал предположение, что этому, возможно, причиною давняя помолвка. На что молодой англичанин ответил, что да, это давняя привязанность. Разрешение на отъезд было дано, но Александр добавил: «Не поддавайся искушению остаться в Англии, приезжай вместе с женой сюда. Я бы не хотел, чтобы моя страна теряла честных людей». После сбора урожая Джордж Эдмондсон отплыл в Англию, а следующей весной вернулся, уже с женой и ее младшей сестрой, Сарой. Они вступили во владение бревенчатым домом, построенным по проекту Даниэла Уилера на землях, отвоеванных у болот, в районе реки Охты.
Сам же Уилер переехал в дом в Волкове, на Московской дороге. Он оказался холодным и сырым, полон сквозняков. Часть крыши, покрытой листовым железом, была унесена во время снежной бури посреди зимы. До весны ничего нельзя было сделать, поскольку из-за сильных морозов до железа было невозможно даже дотронуться. Болезни просто повисли над домом подобно облаку, и в конце концов Даниэл Уилер отослал жену и детей в Англию в надежде, что они смогут поправить свое здоровье в более мягком климате. Около года он оставался один, лишь со своим сыном Уильямом. Как-то раз император из случайной беседы с Уилером узнал, что он теперь один. Справившись о причине отсутствия семьи и узнав оную, царь немедленно распорядился послать армию архитекторов, каменщиков и плотников, и в 48 часов дом был отремонтирован. И хотя это ощутимо улучшило условия, все же дом так и не стал уютным и любимым гнездом. Даже адрес на письмах указывался, как «Шестая верста Московской дороги» — никакое название не шло дому, у него не было никакого собственного имени.
Сам Даниэл Уилер опасно болел в течение этого года. Однажды даже казалось, что смерть близка. Но он никогда не обмолвился об этом ни в одном письме в Англию, чтобы не волновать жену. Отголоски тоски проскальзывают в его письмах друзьям, и какие-то слухи достигают Джейн Уилер. Ибо одним прекрасным майским вечером 1824 года послышался стук колес экипажа. Непонятно, кто бы это мог быть в столь поздний час, — едва успел подумать Даниэл, как в дверях появились Джейн с детьми, здоровые и невредимые, приехавшие гораздо раньше, чем о том мог мечтать их муж и отец. «Наше удивление и радость проще представить, чем описать», — вспоминал он.
К 1824 году в Англии стали распространяться слухи, что вскоре английских квакеров попросят оставить Россию. Джордж Эдмондсон в своих письмах, стремясь убедить друзей в обратном, однако, не мог отрицать того, что «здесь большие перемены в положении вещей», а также то, что реакционные силы в Церкви и в правительстве активно выступают против либеральных планов Александра. Но, писал он своему отцу, «свобода наших действий ничем не ограничена, и, за тем лишь исключением, что мы реже видим императора, никаких перемен не наблюдается». Даниэл Уилер, который некогда писал о том, что «любовь к русским людям все больше и больше наполняет его сердце», был очень опечален тем, как разворачивались события. Но вплоть до своей внезапной смерти в декабре 1825 года Александр оставался постоянно доброжелательным и приветливым к квакерскому хозяйству, и, конечно, к самому Уилеру. Отношения их были совершенно лишены какого-либо формализма: государь мог выйти из кареты, перепрыгнуть через канаву, чтобы поговорить с Уилером, когда приезжал посмотреть на ход работ. Царь мог внезапно войти в дом, провести час или два, обсуждая насущные проблемы, и всякий раз перед отъездом просил уделить некоторое время совместной молитве, в которой он мог найти успокоение своему отягощенному заботами уму.
Никогда Даниэл Уилер, как бы ни был огорчен, не осуждал царя, если вдруг прежние идеи и планы «выскальзывали из нервных рук императора», опасавшегося революции в Европе, беспорядков и предательства в своей стране. Уилер имел талант глубокого понимания всех внутренних конфликтов этого несчастного, нерешительного правителя, слишком слабого, чтобы быть деспотом, и не обладающего силой для выполнения возложенных на него обязательств венценосца. Английский квакер, понимая, в какой необычной и трудной ситуации находится император, скорее чувствовал к нему симпатию и сострадание, нежели презрение. Уилер настолько входил в положение царя, которого любил, и которым восхищался, что после беседы с ним сердце его оставалось в печали нескольких дней, ибо он чувствовал тот груз ответственности, что лег на Александра, чувствовал он и то, как тяжела эта ноша для характера и темперамента монарха, насколько трудно нести ему эту ношу в реакционной Европе начала девятнадцатого века. Как-то раз Джейн Уилер заметила, что ее муж был чем-то подавлен и долго молчал после одного из визитов царя. Она спросила Уилера, в чем причина его плохого настроения; не сказал ли он лишнего царю или, напротив, не был ли слишком немногословен в беседе с монархом. Даниэл Уилер отвечал, что нет, все в порядке, лишь одно печалит его: что «такой человек вынужден существовать в таких условиях».
Слабое здоровье жены и двухлетней дочери сделали необходимым отъезд Джорджа Эдмондсона с семейством из России. Его место на Охте занял Даниэл Уилер, но и его здоровье было ослаблено суровой жизнью и климатом. Он часто болел, и болезни подтачивали его здоровье. Слаб здоровьем был и Джошуа. Он вместе с другим братом, Даниэлом, вернулся домой: Джошуа занялся бизнесом в Ливерпуле, а Даниэл стал учиться в латинском классе в Экворте. Внезапная весть о смерти Александра I принесла семейству в Волкове чувство потери близкого. Ушел правитель, который всегда был так внимателен к ним. Росло чувство неопределенности и неуверенности в будущем. Немедленно за смертью последовало восстание декабристов, и их казни, что добавило страхов Джейн и Даниэлу Уилерам. Квакерская усадьба на короткий момент приняла некоторых участников этой драмы.
Наследовать трон должен был следующий по старшинству брат Александра — Константин. Однако еще до смерти Александра он изъявил желание передать свое право следующему брату, Николаю. Это было своего рода семейной тайной: о том никогда не сообщалось, а потому после смерти Александра Константин был объявлен императором. Армия присягнула на верность Константину. Спустя десять дней было объявлено, что императором является Николай, и что армия вновь должна присягнуть, на сей раз уже Николаю. Немедленно возникли подозрения в дворцовых интригах. Группа молодых офицеров, ведомых страстью к реформам и провозглашению конституционного парламента, воспользовалась возможностью поднять своих людей и потребовать взамен Николая воцарения Константина и принятия конституции. Подразделения солдат вышли на площадь на берегах Невы неподалеку от Эрмитажа и выдвинули это требование. Все попытки Николая утихомирить их и заставить разойтись оказались безуспешными. Посланный им эмиссар был смертельно ранен. В конце концов, Николай отдал приказ открыть огонь по бунтовщикам, а затем пустил кавалерию. Многие были убиты, остальные разбежались. Большое количество людей, причастных к заговору было схвачено и заключено в тюрьму, зачинщики были казнены.
На следующий день после этого события Даниэл Уилер заметил, что в Волкове находятся военные патрули. Около часа дня полковник в сопровождении четырех офицеров и семидесяти гусар вошли в его дом. Они сообщили, что накануне были вызваны из мест своего расположения, проскакали около суток по морозу, всю ночь были в пути. Даниэл Уилер накормил голодных и замерзших людей, их коней и сказал, что рад тому, что они заехали к нему, ибо никто по соседству не смог бы разместить столько человек. «Вели они себя очень прилично, были весьма благодарны хозяину. Они имели весьма туманное представление о Друзьях: спрашивали, откуда он приехал — из Пенсильвании или из Англии». Неясно было, на чьей стороне были эти люди: то ли это были сообщники восставших, то ли правительственные войска. Однако, кем бы они ни были, единственной заботой Уилера было стремление облегчить их тяжелое положение. Пробыв всего лишь два часа, солдаты поспешно удалились, увидев казаков, проскакавших по главному тракту. По-видимому, это все же были солдаты бунтовщиков.
В последующие недели Даниэл Уилер понял, что он может продолжать свою работу и при новом режиме. Его письма того времени представляют совсем другой портрет Николая I, резко отличный от традиционного описания царя, как консервативного и деспотичного правителя. Английский квакер в первые месяцы правления российского монарха показывает последнего как неутомимого борца за народные интересы, сторонника справедливости. Царь ежедневно инспектировал больницы, прочие государственные учреждения, его быстрые проверки давали немедленный результат и улучшение условий. Уилер полагал, что Николай был единственным царем, перешагнувшим порог тюрем с тем, чтоб внять мольбам их обитателей как-то реформировать и эти заведения. «Сия работа проводится совсем безо всяких парадов; император садится в сани, запряженные одной лишь лошадью, и никому не известно, куда он держит путь. Никто не готовит торжественных встреч, все происходит внезапно, и все видно как на ладони: хорошо ли идут дела, плохо ли».
С 1826 года Уилер приступает к мелиорации последнего большого участка болот в Шушарах, хотя по-прежнему продолжаются работы и в Волкове. То было очень жаркое лето. Уилеру приходилось сражаться даже с лесными пожарами, бушевавшими в округе. Все ручьи и лужи высохли, оставалось лишь окружать очаги большими полукругами, где все способное гореть удалялось, включая дерн и подлесок. И все равно надо было постоянно держать дежурных для того, чтобы они тушили искры, перелетавшие через противопожарные барьеры. Чарльз, сын Уилера, большую часть своего времени работал в Волкове, а также на полях ближе к городу. Роберт Уорти, один из тех фермеров, которые приехали в 1818 году, был поставлен управляющим на Охте, где очень хорошо справлялся со своими обязанностями. Уильям, не вполне еще оправившийся после болезни, усердно занимался всеми счетами и финансовыми вопросами. Он очень хорошо освоился и свободно разговаривал по-русски. Таким образом, Даниэл Уилер с двумя дочерьми мог находиться в Шушарах по несколько дней на каждой неделе, а Джейн Уилер оставалась в Волкове вместе с сыновьями.
Последний дом в России, где проживало семейство, был в Шушарах. Туда они переместились весной 1828 года. Он находился в удалении, в лесу, на краю большого болота. Ближайшее жилье было на значительном расстоянии, к дому вела разбитая дорога, так что визиты гостей были нечастым событием. Неоткуда было взять воды, кроме как от тающего снега или дождя. Неоднократные попытки найти источник не увенчались успехом: копали колодцы на глубину до 60 футов, но все понапрасну. Даниэлу Уилеру уже было 57 лет, и он понимал, что уже не может выполнять тяжелую работу, с какой мог легко справиться всего несколько лет назад. Зрение ухудшалось, давал себя знать ревматизм; подчас из-за сильных болей не удавалось заснуть. И все же он писал: «Все наши трудности, которые могут показаться другим непреодолимыми, на самом деле есть сущий пустяк, недостойный упоминания».

Тем не менее, он ожидал, что откроется такой путь, который даст ему полное право выпустить себя из длительной ссылки и вернуться домой, к друзьям. Но пока он не видел такого пути. Монотонная жизнь семьи была скрашена поездкой на несколько месяцев в Англию в 1830 году. Причиной поездки было слабое здоровье Джейн Уилер. По возвращении в 1831 году они узнали, что в Санкт-Петербурге свирепствует холера. Их корабль был задержан на несколько дней в Кронштадте. Можно представить, как волновались эти дни родители, вынужденные сидеть в Кронштадте. В день, когда им, наконец, удалось высадиться в Петербурге, они узнали, что в течение последних суток в городе умерло 800 человек. Из ста заболевших выздоравливало лишь пять человек. Толпы бросились в больницы, чтобы забрать оттуда пациентов, которые, по их мнению, умрут там. Обезумевшие люди выбрасывали докторов из окон. Тела наспех запихивали в гробы и предавали земле, чтобы предотвратить распространение заразы. Многие, в ком еще теплилась жизнь, были похоронены заживо. «Вокруг творилась такая неразбериха, что многие умирали просто от страха, многие едва уносили ноги». Но, несмотря на все эти страсти, напуганные родители нашли двух своих сыновей, Уильяма и Чарльза, живыми и здоровыми. Все те, кто работал на ферме, избежали страшной заразы.
Министр труда и строительства, тайный советник Джунковский, надзиравший за работами, проводимыми Уилером, направил им приветственное письмо, составленное в самых изысканных выражениях и начинавшееся словами «Дорогой бесценный друг». Он особенно был рад тому, что «дорогая малышка Дженни» вернулась вместе со своими родителями: «Я всегда был уверен, что Дженни вернется». Она вернулась в ту страну, которую знала со своего младенчества, и из которой ей никогда уже не было суждено уехать. Далее Джунковский в своем письме сообщал, что «ваши замечательный сын Уильям и его брат вели дела в ваше отсутствие так хорошо, что, даже если бы вы сами были здесь, вам вряд ли удалось бы это лучше». Конечно, отцу было приятно получить такую оценку их деятельности, ибо ребятам было не больше 25 лет.
Даниэл Уилер и его жена вернулись из Англии выздоровевшими, и работа закипела. Однако в течение последующих месяцев Даниэл Уилер постепенно приходил к пониманию, что, хотя их работа в России подходила к концу, пора возвращаться в Англию еще не настала. И опять Даниэл Уилер чувствовал переполнявшую его уверенность, что он должен готовиться к новым испытаниям. Все это было весьма туманно, но одно было ему понятно, что его новый зов будет в еще более далекие страны. Царь выдал ему разрешение на отъезд, хотя и с большим сожалением. И опять весь груз работ был вверен старшему сыну.
За 15 лет жизни в России Даниэл Уилер осушил более 100000 акров болот и непригодной земли, культивировано было 5000 акров. Здоровье жителей Санкт-Петербурга улучшилось по причине исчезновения стольких болот.
Жена Даниэла Уилера понимала, что его пребывание в Англии вряд ли будет продолжительным, поэтому она пожелала остаться в России, вместе с детьми. Приключения Даниэла Уилера в Южных морях, куда его бросила судьба, лежат за пределами этой книги.
Джейн Уилер вместе с детьми написали послание ко всем, кого это может заинтересовать, в котором говорилось, что как ни горько было расстаться с Даниэлом Уилером, «но мы полностью разделяем тот шаг, что им предпринят, и душою мы вместе с ним во всех трудностях, которые ожидают его на пути». 7 октября 1832 года, накануне отъезда мужа, Джейн Уилер писала ему:
«Мой дорогой, думаю, ты не ожидал, что я скажу еще что-нибудь после полуночи, хотя я чувствовала себя неспокойной.
Я вовсе не ожидаю, что сон сморит меня, но я надеюсь, что вскоре так случится, и я пытаюсь надеяться, кротко уповая на твое спасение, что пройдешь ты через все трудности и опасности, и что после исполнения всего, что назначено тебе, нам наградою будет наша встреча, и возрадуемся мы в Господе нашем. Нам довелось пробыть вместе много дольше чем другим, и теперь, когда пришел час расставания, время это кажется таким коротким, а чаша сия горькой…»
Это письмо датировано тем же днем, что и вышеупомянутое послание, и, очевидно, было послано одновременно с ним.
Перед тем, как отправиться в свое опасное путешествие на Тихий океан, Даниэлу Уилеру выпало еще раз вернуться в Россию. Его прощание с женой, которое сильно надорвало его сердце, оказалось действительным прощанием. К концу ноября самый младший сын, оставшийся в России, помогавший своему брату в управлении делами на ферме и на работах по осушению, серьезно заболел воспалением легких. Джейн Уилер ухаживала за ним, но, когда он начал выздоравливать, заболела уже она, вместе со своей младшей дочерью Джейн. У младшей Джейн началось воспаление мозга. Заболевание было настолько серьезным, что ей уделялось гораздо большее внимание, чем матери. В течение нескольких дней семейство не опасалось за жизнь старшей Джейн, но она вскоре впала в бредовое состояние. Ее рассудок прояснился лишь на несколько часов, незадолго до того, как она тихо ушла из жизни 19 декабря 1832 года. Трое детей ее вскоре заболели один за другим, буквально сразу после ее смерти. Уильям и Чарльз были на грани между жизнью и смертью, тогда как состояние младшей Джейн по-прежнему не внушало опасений.
Эти печальные вести нашли Даниэла Уилера в Англии. Он лежал больной в доме Джозефа Джона Герни в Элхаме, близ Норвича. Это именно он находился рядом с Уилером в первые часы сильных страданий. Никогда Уилер не мог забыть ту доброту и любовь, которую чувствовал в самые трудные минуты: «Я был окружен такой искренней любовью и добротой в этом семействе, на какую я, пожалуй, никогда не буду способен ответить с такой же силой».
Как только Даниэл Уилер достаточно поправился, он отправился в Россию, к своей семье. С похоронами Джейн Уилер возникли некоторые трудности. Сначала было предложено похоронить ее на моравском кладбище, но не все из ее детей согласились на это. По причине сильных морозов откопать могилу представлялось практически невозможным, к тому же тяжелое положение сыновей и дочери, находившихся на грани между жизнью и смертью, отвлекало внимание от умершей. Ее погребли только 18 марта 1833 года. Последнее пристанище нашла она неподалеку от их дома, и Уилеры решили тем самым заложить здесь семейное кладбище. Ее дети, согбенные от болезни и горя, как писал один свидетель похорон, следовали за гробом к одинокой могиле. После погребения, под серыми мартовскими небесами, было молитвенное собрание, на котором присутствовали несколько человек. Никто из них не был квакером, за исключением членов семьи умершей. В 1837 году Дженичка, или «маленькая Джейн» была погребена рядом с матерью. Она пережила мать на пять лет, скончалась в возрасте двадцати одного года вдалеке от родины, в стране, куда ее привезли маленьким ребенком.
Чарльз чувствовал призыв быть спутником отца в его путешествии. Уильям, ослабленный тяжелой болезнью, не мог оставаться один и отвечать за всю работу в России, так что из Англии вызвали Даниэла. Он учился там на доктора, но несколько недель спустя, после того, как Чарльз ввел его в курс дел, стал помощником своего старшего брата. Спустя два года, в 1835 году, Уильям заинтересовался суконной фабрикой, которую основал в финском городе Таммерфорсе шотландский бизнесмен Джеймс Финлейсон, до того работавший в Петербурге. Финлейсон познакомился с Даниэлом Уилером, когда последний только приехал в Петербург для ознакомления с положением дел, в 1817 году. Он бывал на нескольких молитвенных собраниях в доме Уилеров. Когда-то, много лет назад, Финлейсону попалась на глаза книга Баркли Апология, но ему так и не удалось достать ее еще раз. То краткое знакомство с книгой привлекло его внимание к квакерам и их вере, он хотел повстречаться с Друзьями, чтобы больше узнать о принципах и практике Общества Друзей. Джеймс Финлейсон регулярно посещал молитвенные собрания в доме Уилеров на Охте, хотя так и не стал членом Общества. В 1820 году он уехал из российской столицы в Финляндию, и Даниэл Уилер писал о нем: «Мы потеряли одного человека из нашей группы, он уехал жить в Финляндию, в город Таммерфорс, что в 548 верстах отсюда. Он солидный человек, в возрасте между 40 и 50. Я полагаю, он весьма привержен нашим принципам, и начал познавать своего Хозяина над человечеством. Нам было исключительно приятно его присутствие здесь, среди нас, но, надеюсь, он будет очень полезен там, куда отбыл. В этих краях есть одно из драгоценных Божьих зерен».
Джеймс Финлейсон жил в Таммерфорсе с 1820 по 1838 год, дела на его суконной фабрике шли хорошо, и он надеялся на своем примере убедить финнов развивать свою собственную промышленность вместо того, чтобы заниматься экспортом. Фабрика брала свою энергию от водяной плотины. В 1832 году он писал Уилеру, что «плотину надо срочно ремонтировать, а посему работа пока приостановлена». Похоже, что он тоже вел работы по осушению, а также занимался сельским хозяйством, подобно Уилеру. В том году случился голод, и он писал, что осажден «толпами мужчин, женщин, детей, молящих о работе», готовых получать зарплату едой. Он пишет, что принять больше рабочих на фабрику нет возможности, но его жена может дать работу многим, ибо «землю можно обрабатывать». Финлейсон получил от царя определенные привилегии, а именно: для всякого англичанина, которого он брал на работу, соблюдалась свобода отправления религиозных обрядов, согласно их практике; свобода от воинской повинности, а для квакеров он добился разрешения не платить налоги, которые шли на военные нужды или на церковь, а кроме того, квакеры избавлялись от необходимости давать клятву.
В 1835 году начались переговоры о продаже таммерфорсской собственности Георгу Адольфусу Рауху, лекарю из Петербурга, Карлу Самюэлю Ноттбеку, предпринимателю из того же города, и Уильяму Уилеру, который был записан, как предприниматель из Шушар, Россия. В январе 1836 года императорским указом была создана компания Финлейсона, существующая и поныне. Уильям Уилер собирался переезжать в Таммерфорс, но этому помешала его смерть, он умер в начале 1837 года. Очевидно, что к концу своей жизни он был весьма вовлечен в дела суконной фабрики, ибо в 1836 году управление делами на землях вокруг Санкт-Петербурга было передано полностью в руки Даниэла Уилера-младшего.
После смерти брата, понимая, что на него свалился большой груз ответственности, Даниэл Уилер взял себе в помощники по сельскому хозяйству некоего Джона Мюллера, но и сам, однако, продолжал трудиться не покладая рук до 1840 года, когда его здоровье стало ухудшаться. Письмо с прошением об отставке, направленное князю Голицыну, являет собой трогательное свидетельство преданности его семейства делу служения России. Из первоначального семейства, из тех восьми человек, прибывших на берега Охты 23 года назад, осталось лишь трое, один из них был инвалид, проживающий теперь на южном побережье под попечением единственной оставшейся в живых сестры. Трое его братьев, указывал Даниэл Уилер, были вынуждены покинуть Петербург по причине надорванного здоровья.
Молодой человек передал свой пост собственному помощнику, с одобрения царя, ибо Джон Мюллер оказался способным работником, на которого можно было положиться, что было продемонстрировано незадолго до того: он отлично справлялся с делами в отсутствие Даниэла Уилера.
В этом же письме Даниэл Уилер сообщает о медленном, но эффективном распространении аграрных познаний на базе различных опытов Уилера, таких, как, например, введение «искусственных трав», ставших теперь обычным явлением. «Таковых большое количество семян теперь продается каждый год нашим хозяйством (в Шушарах), тогда как всего несколько лет назад о семенах травы не слыхивали в Петербурге, а теперь травы имеются в наличии в каждой лавке. Явно видно заметное улучшение культивируемых земель, и не нуждается в пояснении необходимость в обеспечении столицы фуражными кормами».
Николай I в ответном письме говорит, что, как он понимает, квакеры не принимают награды, обычно являющие собой знак монаршей благодарности за выполненную службу, а посему, согласно просьбе Уилера, «участок земли, находящийся во владениях императора в районе Царского Села, с настоящего времени и навеки будет называться Погостом Друзей и впредь использоваться в таком назначении».
Это маленькое кладбище в течение XIX века посещалось Друзьями, путешествовавшими в России. Джилберт МакМастер, американский Друг, работавший в 1930 году в Берлине, видел кладбище последним. Оно было окружено невысокой стеной, на нем была еще одна могила, на которой было начертано имя Кэтрин Данстри, которая, как оказалось, была женой бывшего управляющего государственного хозяйства, чьи земли лежали вокруг. По предложению Джилберта МакМастера, лондонское собрание в поддержку страждущих обратилось к советским властям с просьбой предпринять какие-нибудь шаги с целью сохранения захоронений. Институт сельского хозяйства Академии сельскохозяйственных наук, в чьем ведении был участок, издал охранную грамоту, и, по просьбе собрания в поддержку страждущих, установил табличку, на которой сообщалось, что здесь покоятся тела Джейн Уилер младшей и старшей, а также говорилось о той работе, которую проделал Даниэл Уилер со своими сыновьями в окрестностях Санкт-Петербурга.
Потом место было потеряно из вида, и высказывались опасения, что могилы могли исчезнуть в результате вторжения немцев во время Второй мировой войны и боев, проходивших в этих местах. В 1961 году автор этих строк побывала в Ленинграде и вместе с Фредом Триттоном попыталась разыскать следы могилы или узнать, что с ней случилось. Промозглым сентябрьским днем, под серым нависшим небом, посреди бескрайних полей между Ленинградом и Детским Селом, мы нашли эти могилы. Пересекая широкие дренажные канавы (вне сомнения, выкопанные Даниэлом Уилером), пробиваясь через заросли бурьяна, мы вышли на маленькое кладбище, где было 50—60 могил, в большинстве своем с деревянными крестами, покрашенными бледно-голубой краской. Никаких следов от ограды не осталось, погост был окружен деревянным заборчиком, и весь порос молодыми деревцами, которые наверняка занялись от семян, разносимых ветром от тех деревьев, что посадил Даниэл Уилер по углам кладбища. Почти не видимый постороннему глазу, под деревцами стоял камень полированного финского гранита, пять-шесть футов вышиной, на котором было написано, что сей участок является даром Российского императора Николая Павловича Религиозному обществу Друзей. Надпись, сделанная ниже, на английском, сообщала, что здесь покоятся останки Джейн, жены Даниэла Уилера, рожденной в 1773 г., и умершей в 1832 г., а также ее дочери Джейн, рожденной в 1816 г., умершей в 1837 г.
У основания стелы, под прямым углом к ней, лежали два камня такого же красноватого гранита, отмечающие место, где нашли свой покой мать и дочь.
Участок земли, где находилось кладбище, лежал посреди земель, принадлежавших экспериментальному хозяйству, тех земель, что были осушены и подготовлены для земледелия сто тридцать лет назад английским квакером Даниэлом Уилером.

Глава 5
Программы начального образования. Тюремная реформа в Санкт-Петербурге
Трем другим Друзьям было поручено посетить Россию во время царствования Александра I для подробного с ним разговора, проведения совместного собрания и молитвы. В 1818 году, после почти четырехлетнего пребывания в Америке, Стивен Греллет возвратился в Англию с целью поездки по странам Северной Европы с миссией проповеди вечных истин и безнадежной нужды человека в собственном спасении.
«Я весьма восхищен, что подобное служение может быть поручено мне, — писал он в своем дневнике, — среди народов, чей язык мне не понятен, где я даже не знаю, имеется ли возможность передвигаться, и где меня непременно должны сопровождать бесчисленные трудности и большие опасности. Временами даже кажется, будто я вижу перед собой ясный путь через Норвегию, Швецию, Россию и далее к Крыму по Черному морю… с убеждением, что Господь способен устранить любое из препятствий и выложить путь из гор». Он написал Уильяму Аллену об этом необычном и трудном призыве, и преданный друг, вопреки всем сомнениям своего сердца, почувствовал, что было бы правильным сопровождать Греллета. Когда последний прибыл на специальное собрание в поддержку страждущих и рассказал о своем намерении, улеглись все сомнения и вопросы, терзавшие Аллена за истекшие недели. Он встал и сообщил, что сейчас в его сознании утвердилось окончательное решение, и ему тоже следует поехать.
Графом Ливеном были представлены рекомендации его брату в Санкт-Петербурге, и князю Голицыну, и в середине августа двое Друзей отплыли из Харвича в Норвегию. Несколько дней ушло на поездку по Скандинавским странам и Финляндии, на встречи со множеством отдельных лиц и группами, начиная от королей Норвегии и Швеции и кончая самыми простыми их подданными, на посещение школ и тюрем. Не ранее 12 ноября они достигли предместий Петербурга, где столкнулись с большой трудностью при переправе через реку Неву, поскольку применяемые летом понтонные мосты были уже убраны, и одни только льдины кружились в диком водовороте. Наконец, они уговорили одного лодочника перевезти их. Это была весьма рискованная переправа, ибо лодка едва-едва пробивала себе путь через лед. Но, в конечном итоге, они уже в сумерках благополучно высадились на городской пристани.
Друзья незамедлительно погрузились в сферу визитов и деятельности. В это время в русской столице существовала интересная группа английских и других иноземных купцов; некоторые из них являлись непоколебимыми евангелистами и в свободное время занимались гуманитарной и филантропической деятельностью. Один человек из этого круга, Ф.Д.Льюэс, пригласил Уильяма Аллена и Стивена Греллета в их первое утро в Санкт-Петербурге в гостиницу и представил их своим друзьям и коллегам по бизнесу, многие из которых, как заметил Аллен, жили, подобно князьям, готовые принять с легкостью и уверенностью самого императора в великолепных загородных домах или получить удовольствие от присутствия князя Голицына на семейном обеде. Уильям Аллен, благодаря своей изысканности и простому обаянию, быстро завязал дружбу с несколькими из этих состоятельных торговцев, в особенности с братьями Вальтером и Джоном Веннингами. Первый из них уже проявлял свою деятельность, пытаясь помочь многим заключенным, находящимся в столице, и «… пока успешно, хотя многое еще оставалось выполнить», — отмечает Аллен в своем дневнике. Еще одним членом этого круга был Самьюэл Стэнсфилд, сам являющийся Другом. Он недавно прибыл для проживания в столице и обычно сопровождал Аллена и Греллета на молитвенные собрания, проходившие на Охте в доме Даниэла Уилера. Другими близкими знакомыми Даниэла Уилера, посещавшими собрание, были шотландский бизнесмен Джеймс Финлэйсон, служащий Губернаторского чугунолитейного завода неподалеку от столицы, и Джордж Браун, с которым Уилер нашел некоторое сходство во взглядах после его прибытия в Россию. Ф.Д.Льюэс, первый пригласивший Уильяма Аллена и Стивена Греллета, обычно отвозил их в своих санях на собрание у Даниэла Уилера. Еще одним человеком, предложившим им дружбу, был Себастьян Крамер, чей домашний стиль и образ жизни особенно отмечаются Алленом как дворянские. Английских квакеров приняли самым теплым и великодушным образом. «Ничто не могло превзойти их доброту по отношению к нам», — пишет Аллен. С Веннингами завязались тесные взаимоотношения. По истечении недели своего пребывания в столице Аллен доверительно пишет в своем дневнике, что чем больше он видит Вальтера Веннинга, тем больше любит его. Когда в 1821 году произошла его безвременная кончина, укрепилась дружба между Алленом и вторым братом Вальтера — Джоном, а их переписка продолжалась в течение нескольких лет. После четырехмесячного пребывания двое путешественников, наконец, покинули Санкт-Петербург. Джон Веннинг написал Уильяму Аллену: «Ваши собственные чувства наилучшим образом передадут вам, что испытала эта семья после вашего отъезда, и я боюсь, что эта брешь в нашем узком кругу закроется не скоро. Я могу сказать вам, дорогие друзья, что последний вечер в нашем доме не забудется до конца дней».
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.