
Бесплатный фрагмент - Девять Жизней
Восьмое чудо
Все произведения и фотографии в сборнике изданы с согласия авторов, защищены законом Российской Федерации «Об авторском праве» и напечатаны в авторской редакции.
Материалы для обложки взяты с сайта pixabay. com

Территория Творчества
Ирина Кульджанова
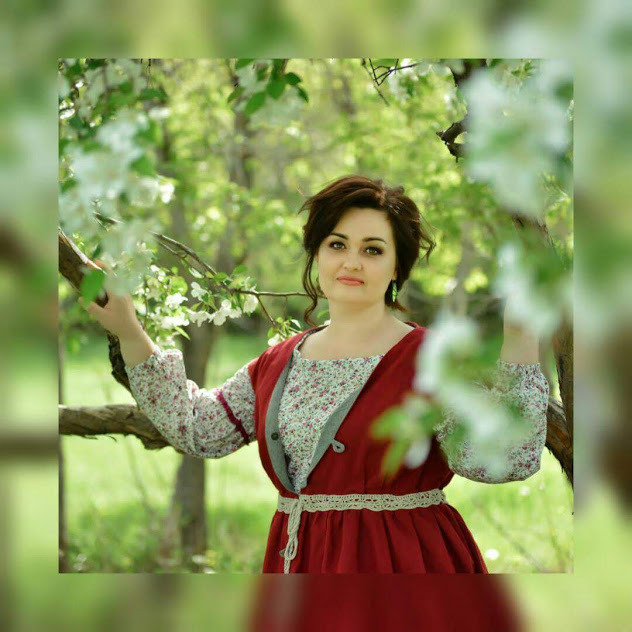
Казахстан — Караганда
Свиюш
Дремота баюкала его уже давно — с тех пор, как увезли Басеньку, сына хозяйки. Дом дремал уже много дней, и он, Свиюш, маленький домовой, вместе с ним. Давно в доме не пахло булочками и конфетами, а в дубовом буфете крепко и тяжело стоял запах лекарств, марли и старых выбеленных простыней.
Когда-то молодая Хозяйка застилала накрахмаленными салфетками полочки, красиво расставляла немногочисленную парадную посуду, а в правом нижнем шкафчике хранила банки вишневого варенья и домашнее печенье в вышитом мережкой мешочке…
Дубовый буфет тогда был еще совсем новый, и в глубине его таился запах древесины — тонкий, немножко терпкий, он нравился Хозяйке. Она всегда открывала верхнюю дверцу, вдыхала, недолго стояла, потом, улыбнувшись, словно старому знакомому, ставила посуду на полку. А закрыв дверцу маленьким ажурным ключиком, будто на прощание, поглаживала скругленный бок буфета. Свиюш нежился в тепле маленькой руки, и иногда слышал, как Хозяйка растерянно шептала: «Зябко дома-то как, а дерево такое теплое… Словно зверь живой…»
Буфет был его домом. Когда-то Свиюш жил у других Хозяев, далеко, в большой квартире. Там была библиотека, высокие стеллажи под потолок, полки из черемухи, тяжелые книги, неслышно бормочущие свои истории. Свиюш очень старался, и Хозяева всегда сразу находили нужные им тома, и грызуны сторонились этой драгоценной комнаты, и с хозяйской кошкой он совсем не ссорился. Было все в порядке, так, как и должно быть в большом уютном доме. А потом вдруг дом опустел, никто не оставлял на кухонном столе печенья, цветы засохли и съежились, а в окна перестал попадать такой живой и теплый солнечный свет. Домовой забился в дальний угол библиотеки, забылся вместе со всей квартирой в тяжелой дреме, впустив в комнаты сквозняки, приносящие запах гари и безысходности.
В тот раз проснулся он не скоро, только когда спустя несколько лет вернулся Хозяин. Он был каким-то тусклым и одиноким, как будто кусок души его съело что-то большое и страшное, и теперь там, внутри, болталась глухая пустота. Хозяин трогал корешки книг, стоящих на пыльных полках, подолгу сидел в комнате, не зажигая света, и почти не ел. И дом, встрепенувшийся поначалу, снова выдувался колючими сквозняками. Свиюшу было неуютно. Он боялся снова провалиться в ватную дрему, боялся, что дом вновь опустеет. Теперь он пристально следил за единственным человеком, живущим рядом, стремился помочь во всем, что было ему доступно. Но выходило плохо. По ночам Хозяин подолгу не спал, сидел в кресле в темноте, и вновь неоткрытая книга оставалась забытой на его коленях. Он много курил, и к утру запах в холодной и непроветриваемой комнате влажно и осязаемо повисал, как не простиранная простыня. Иногда он забывался сном. Свиюш, видя сползающиеся к спящему человеку темные и тяжелые сновидения, как мог — справлялся с ними, вытаскивая взамен и даря свои — запах деревянных полок, кожаных переплетов старых книг, кисточки от потерянной закладки с серебряной вставкой, солнечные зайчики — с окошка на графин, а потом на дверцы библиотеки… Постепенно Хозяин переставал вскрикивать во сне, дыхание его успокаивалось, и дыра в душе ощущалась чуть меньше. Но наступало утро, проснувшийся человек оглядывался вокруг, и из взгляда его уходило вставшее, было, солнце… Однажды за ним пришли, и он как будто и не удивился, спокойно и быстро сложил все, что лежало на столе у кресла в старый чемодан… У дома должен быть Хозяин. А человек уходил, зная, что сюда уже не вернется. И с ним — та, неоткрытая ни разу, книга… Свиюш ринулся следом.
Теперь весь Дом сосредоточился в этом потертом фанерном чемодане, и его место тоже там. А потом было гулко и многолюдно, но Свиюш ощущал, как вокруг Хозяина все рано живет и колышется холодная пустота. Их новый дом — неуютный, с низким потолком, пах пылью, мышами, болью и горечью. С ними жили еще какие-то люди, и они были разными. Еще один, как и Хозяин, был тусклым и потерянным. Двое дышали жизнью, но тепла совсем от них не шло, и Свиюш ежился и слабел от их присутствия.
Однажды один из них втихаря открыл чемодан, начал рыться. У домового припасен был за подкладкой крышки неправильно вбитый гвоздик, но он не сильно помог. Ничего не взяв, человек оставил за собой тяжелый дух ненависти и нетерпения. Последний, кто жил с ними в доме, был совсем молодым.
Иногда он молча помогал Хозяину в чем-то, делился немногочисленными теплыми вещами. Свиюш таял. Живущая по соседству боль и тоска лишали его сил, все хуже получалось делиться, и его человек угасал рядом.
Однажды Хозяин ушел утром со всеми, как всегда, а вечером не вернулся. Маленькому домовому теперь нужен был Дом. Свое нехитрое наследство его человек оставил Молодому. Переселившись под его кровать, Свиюш смотрел его сны. Молодой мастерил мебель. И сны ему снились пахучие, с серпантинами стружек и ощущением теплой волокнистой древесины под ладонью… И Свиюш подарил ему сон о той гостиной, что была когда-то в Хозяйском Доме. С большим дубовым буфетом, круглым столом и венскими стульями, маленьким диванчиком и чайным столиком под кружевной скатертью… И утром, наконец-то, понял, что скоро у него будет Дом.
Каждый день Молодой приносил с собой теплый древесный запах, что-то чертил в хозяйской книге на полях огрызком карандаша… И однажды взял её — а значит, и Свиюша, на работу с собой. Создаваемый им Буфет был замечательным. И Свиюш остался в нем. Чудесным образом — Молодой нарадоваться не мог! — получилось раздобыть латунные навесы для дверец, ручки и врезные замочки с маленькими ключиками. Свиюш ощущал теперь каждый уголок, каждую полочку, каждую детальку своего жилища, как себя. Постепенно набирался сил, привыкал. Ведь теперь нужно было выбрать Хозяев Дома, где он поселится…
Буфет еще не был полностью готов, когда нашелся человек, пожелавший им владеть. Он приходил в мастерскую, по-хозяйски проверял, хорошо ли прилажены, не скрипят ли уже поставленные дверцы, высматривал малейшие трещинки в древесине, простукивал в поисках древоточцев стенки… Он пах чем-то острым, вязким и пугающим, и Свиюш вздыбливал крохотные занозы, заклинивал дверцы; как умел, скрипел, раскореживался и показывал всю НЕУДОБНОСТЬ и НЕНУЖНОСТЬ буфета этому человеку. Тот излучал тягучее упорство, щурился и приглядывался к казавшейся издалека такой привлекательной мебели, водил нечувствительными пальцами по крохотному ажурному ключику, удивлялся, что никак не может за него взяться половчее… Уходил, бормоча, что просто буфет еще недоделан, и вот потом он придет — и все будет как надо. Но чувствовалось, что внутри у него хрустело и перекатывалось недовольство, и все вокруг наполнялось колкими ядовитыми крупинками, и Свиюш еще долго потом сгонял и вытряхивал их из буфета и мастерской, ловил солнечных зайцев и отворял древесный дух, что бы подбодрить Мастера. Потом приходили еще какие-то ненужные люди, но набравший, наконец, силу Свиюш уже от порога мастерской отводил им глаза и старательно делал свой Буфет неприметным. Мастер уже закончил свою работу и больше не появлялся.
Однажды буфет погрузили в машину и куда-то повезли, и домовой ничего не мог с этим поделать.
Дом был новым. В нем еще не жили тени прошедшего, было много места и солнца. И еще была семья. Молодая хозяйка, маленький мальчик и сильный мужчина. Мужчина бывал дома редко, приносил с собой бумаги, от которых веяло прежним неуютным обиталищем Свиюша, и, когда их закрывали в нижнем ящике буфета на ключ, Свиюш перебирался повыше, чтобы ощущать их как можно меньше.
Хозяйка была теплой. Часто по вечерам, уложив сына спать и ожидая мужа, она садилась за стол у буфета, вышивала, или что-то штопала. В квартире поселялось умиротворение… А иногда она читала какие-то письма, грустила и тревожилась, писала что-то в толстой тетради с клеенчатой обложкой, которую потом вместе с конвертами прятала между скатертями на полке. Положив свои записи, Хозяйка поворачивала ключик в замке. Задумавшись, проводила ладошкой по дереву буфета… Тревожность ее мгновенно взбаламучивала все существующее вокруг пространство, потом потихоньку растворялась в окружающем покое и умиротворении, и хозяйка успокаивалась тоже. Свиюш хранил её тетрадь от случайных неловких поисков тех, кто жил с нею. А еще был мальчик. Это был единственный человек в существовании Свиюша, который о нем знал. Это было очень странно и непривычно, но в первый же день мальчик просто открыл нижнюю — ту, что доставал — дверцу буфета и сказал «Привет, меня зовут Басенька, а тебя — тебя зовут Свиюш? Как здорово!». Мальчик излучал восхищение и радость, желание до всего дотронуться и все почувствовать. И он так же, как Свиюш, ощущал настроение других людей, и всего дома. Впервые Свиюш существовал не просто рядом с человеком, а вместе… Это было непривычно… Басенька рос, но совсем не менялся, рассказывал Свиюшу истории из книжек, которые читала ему мама перед сном. Свиюш с ним тоже делился, чем умел — снами, ощущениями, защищал, как мог. Мальчик всегда жил дома, никуда не выходил, к нему часто приходили чужие люди, одни и те же. Люди приносили с собой запах безнадежности и усталости, и ребенок в их приход каждый раз забивался за буфет и затихал, в надежде, что его не найдут. Свиюш отводил им глаза, путал и прятал предметы, что они приносили с собой. Эти предметы помогали людям, причиняли его Басеньке не сильную, но все же боль, и потом он надолго становился вялым и безжизненным, не подходил к Свиюшу и не видел снов. Свиюш метался рядом с оцепеневшим сознанием малыша, пытался делиться с ним всеми своими запасами — запахом елки с игрушками, так любимой Басенькой, маминого печенья, большой кожаной папиной куртки, ощущением пола, прогретого солнцем. Все пропадало бесследно в вязкой непонятной каше, царившей там, где еще недавно было солнечное сознание. Хозяйка в это время становилась замкнутой и сухой, подолгу сидела у окна на кухне, а Хозяин наполнялся какой-то непонятной надеждой. Ощущалось, что он ждет пробуждения сына и перемен. Басенька постепенно приходил в себя, вновь оживал, начинал рассказывать Свиюшу истории, которые сами приходили ему в голову, и оставлял для домового кусочки печенья на нижней полочке буфета. Жизнь дома снова набирала скорость и обретала смысл, Хозяйка вновь принималась за пироги, вышивку, старательно убирала в доме, постоянно зовя к себе сына и тщетно пытаясь научить его чему-нибудь. В Хозяине же таяли все его надежды, приходя в дом, он приносил мучительную смесь усталости и раздражения, любви и обреченности. Свиюш старался, как мог, показывал ему цветные яркие сны его сына, и иногда — его страх перед чужими людьми. Но вместо ожидаемого понимания в Хозяине жило тяжкое чувство вины… Проходило время, и все повторялось вновь.
Басенька становился старше, он научился отводить глаза людям, прогонять плохие сны, что иногда снились отцу, и выглаживать мамины хвори. Но самое главное — он научился избегать того, что делали с ним чужие люди, приходившие ему «помогать». Они уходили из дома, уверенные в том, что сделали все, что должны были, да и отец теперь был почти спокоен, убежденный в успехе «лечения». Однажды Свиюш почуял в нем отпечаток другого дома. С тех пор он старательно укрывал этот запах от Хозяйки, и, с большим трудом, от Басеньки. Но в целом в доме жило умиротворение, и Свиюш теперь все время был наполнен сияющей и легкой силой. Установившееся равновесие существовало долго, и нарушилось уже на закате жизни Хозяйки, когда ее муж все же ушел в другой дом. Как–то быстро она потускнела, ослабла, и никакие старания Басеньки не давали результатов. Наоборот, он сам тоже начал меняться, в его снах появились те провалы, что создавались когда-то чужими людьми и болью. Теперь эти вязкие непонятные омуты возникали во снах Басеньки все чаще, пока из снов не выбрались в его сознание. Теперь человека почти все время окружала ощущаемая преграда — Свиюшу не было доступа. Все происходило так скоро, что домовой не успевал за переменами. Сначала увезли впавшего в оцепенение Басеньку, спустя немного времени — обессиленную Хозяйку. Дом опустел. Свиюш ждал. Постепенно квартира погружалась в дрему, убаюкивая и Свиюша…
Встреча с риелтором назначена на шесть вечера. Не успеваю! Блин, сказала же, не хочу пятый этаж в послевоенной пятиэтажке, да еще трешка малогабаритная, да еще ремонта с момента постройки не было… Бегу. Согласилась посмотреть — теперь сама виновата! Муж уже там, злится, наверное… Ждать не выносит, даже две минуты — трагедия! Влетаю в квартиру. Странно, нет запаха старости и затхлости, риелтор говорила, женщина пожилая с сыном-инвалидом жила — вот я и думала… Какая солнечная — во всех комнатах и кухне окна на юго-запад… Влетаю в зал — извиниться, но муж и девушка — риелтор спокойно обсуждают что-то за столом, никаких нервов… Плюхаюсь рядом на стул, пытаюсь отдышаться. О, чудный буфет! Что ли дуб? А продавцы оставляют? А? Квартира? Хорошая! Не, ничего, что пятый, зато светло, и подача тепла сверху, значит — тепло… А буфет посмотреть можно? Ну, надо же, замки все рабочие. И ключики все на месте. Навесы какие интересные, латунные, им, наверное, уже сто лет в обед. Ни одна дверца не скрипит. Стойкий тяжелый запах лекарств, ожидаемый мной еще с порога… Дерево такое теплое, как живое… глажу его, как больную собаку… Возвращаюсь за стол. Сделка? Конечно, мне все нравится, даю добро. Взгляд непроизвольно все время возвращается к старому буфету. Ухожу восхищенная. Дома прихожу в себя. Так, и что это было? Может, еще раз глянем? Да собственно, итак все ясно.
Домой буфет забирать некуда, сватаю его своей золовке, Ляльке. Прежде чем вывозить, прошу её глянуть… Эффект тот же, свет и радость в глазах. Убеждаюсь, что догадка верная…
Привозим буфет к Ляльке.
Пока она накрывает чай, открываю дверцу, вдыхаю запах дерева и, ощущая себя последней дурындой, шепчу: «Привет, меня Ира зовут, а тебя — Свиюш, да?… Здорово…».
Этот медленный, медленный, медленный день
Сегодня в 12 часов 43 минуты пополудни закончился первый день моей жизни. Это произошло на сидении медицинского фургона по дороге в клинику Касвелл. Я наконец-то умерла.
Он был долгим. Медленным. Невыносимым. Когда Бог дает нам жизнь, он дает нам тело для нашей души. Моей душе при раздаче досталось два. Два почти одинаковых тела — целых два для одной-единственной одинокой души. Одно назвали Джун, другое — Дженнифер. Джун и Дженнифер Гиббонс, так меня зовут. Когда я слышу, что люди ищут свою половинку, мне хочется взять обрез и выстрелить им в голову — потому что их половина уже живет в их теле. Они и знать не знают, каково это — быть поделенным надвое без всяких надежд обрести себя… Прожив тридцать лет в бесконечном ощущении абсолютной боли, я нашла единственный выход — если одно мое тело умрет, то душа, наконец, станет единой. Наверное, хочется какого-то порядка? О кей, мне тоже когда-то показалось, что этот мир создан для порядка…
Но началось все с хаоса. Джун и Дженнифер родились у своей мамаши, и все поначалу думали, что две близняшки — просто приз для семьи. Пара кучерявеньких шоколадных малышек. Ведь никто так и не понял, что это был один-единственный человек. Как только окружающие увидели, что весь мир девочек заключен в них самих и друг друге, их начали лечить. Лечить… Ха-ха, самим не смешно? Даже у сиамских близнецов есть шанс — разделить тела и жить дальше. А у поделенной души? Разве есть шансы? Все, в чем был смысл — не отпускать части себя друг от друга, ну-ка, придумайте, как при таком раскладе посмотреть по сторонам? И я — Джун и Дженнифер — не смотрела. Но мне выставляли диагнозы, один за другим. Сперва — что я немая. Потом я заговорила. Джун и Дженнифер заговорили друг с другом. Считали, что это было нарушение речи, из-за которого нет возможности общаться с окружающими. Никому не пришло в голову, что каждый, говоря с самим собой, произносит слова с большей скоростью, чем вслух с другими людьми. Я просто говорила сама с собой. Очень быстро. Что там было дальше? Аутизм… Шизофрения… А зачем, зачем мне был весь этот мир, на каждом шагу жаждущий оторвать меня от самой себя? Страх потери — вот все, что заполняло меня минута за минутой, час за часом. Я не знаю, был ли на свете еще человек, наполненный страхом до такой степени, как я. Мир, тот, что за пределами меня, пугал, манил и увлекал, там были еще чувства, что-то еще, кроме страха… Но я так и не поняла, что это. Потому что меня разделили… Отдали в разные школы. В мою жизнь пришла еще и бесконечная боль. Мир долбился в меня, орал в мои уши и лез в глаза, меня осталось так мало, где-то там, на дне этого тела под названием Джун. Я знала и чувствовала, что на другом конце чертовой Вселенной, так же, как сухая фасолина в пыльном кармане, съежилась вторая часть меня — Дженнифер. И даже встретившись, я еще долго делила всю эту боль. Сама с собой. Распихивала и утрамбовывала, что бы найти хоть немного местечка — для чего, не знала сама. Может, для надежды? Иногда я спрашивала себя: «Зачем я родилась такой?» Два моих отражения смотрели друг в друга и спрашивали. Не найдя ответов, начинали ненавидеть друг друга. Два зеркала, отражающих друг друга до самой глубины. До самой глубины одной единственной меня… И там, в темной множащейся дали, рождались отблески тяжелой, беспросветной ненависти… То место, что я освобождала для надежды, было захвачено этим тягучим и черным пламенем. Оно росло, отвоевывая все больше места там, внутри каждой меня… Не было смысла говорить об этом самой себе — ведь все, что происходило, не было тайной для меня. И я начала писать. Дневники Джун и Дженнифер, пьесы и книги — пожалуй, это был шлюз, куда хоть немного сбрасывалось то, что переполняло меня. Совсем немного. Этого было недостаточно… Мир, не оставляющий меня в покое, мир, не обещавший больше ничего хорошего, поманивший и обманувший — отверг все, что я создала. В моих текстах он увидел жесткость и жестокость, откровенность и болезненность… Он оказался обычной кирпичной равнодушной стеной, о которую я чуть не вышибла себе мозги. Но я верила, что этот мир создан для каждого, он ждет каждого, значит, и меня тоже. Мои нападения на людей на улицах… В конце концов, никто тогда не погиб, а чуть-чуть не считается. Все эти безликие прохожие, с лиц которых страх от моего присутствия стер всего лишь скуку и усталость. Скуку и усталость! Они, способные испытывать все, что угодно, помимо боли, страха и ненависти — тратили свою жизнь на скуку и усталость! И после этого меня, а не их, объявили преступницей… Несколько раз среди них я встретила сама себя — и Джун и Дженнифер бродили тогда по одним и тем же улицам, нападая на чужих людей и внезапно находя среди них и друг друга — словно огромный магнит тащил и сталкивал две половины одного целого. И ненависть снова захлестывала с головой. А еще был огонь, быстрый и жаркий, с хрустом поедающий доски заборов и стен, весело выносящий оконные рамы — его жизнь ведь полная противоположность тому тяжкому пламени, что съедает меня день за днем, запрещая чувствовать себя живой… Поджог, что бы ощутить подвижность и неистовость огня, его непредсказуемость! Я почувствовала в нем, что вот она — жизнь! Разве это преступление? Я думала, что долгое время была не готова открыться этому миру. Но это он оказался не готов… Он осудил меня и заклеймил…
На самом деле нет разницы, где жить. Когда твоя тюрьма и твоя тень день и ночью с собой — какой смысл в решетках и запретах? Все, что смог подарить мне в ответ этот мир — психиатрическая клиника Бродмора и пара клеток в разных концах больницы. К тому моменту душа моя почти слилась в долгожданном единении, и клеем для нее служила ненависть к самой себе. Да, и какое-то время казалось, что не имеет разницы, каким способом я буду ощущать себя цельной. Джун и Дженнифер, подолгу не видя друг друга, голодали по очереди, сидя в одинаковых позах и глядя в одну точку. Видя в ней свое отражение. Ненавидя и не в силах отпустить. Да, весь этот мир, съежившись до скучных стен и немногочисленного медперсонала, травился ядом этого чувства, начинал проникаться моим страхом и болью. Спустя какое-то время я снова была сама с собой — Джун и Дженнифер вновь жили в одной комнате. И пришло решение, как избавиться от тюрьмы, не пускающей меня в мир, а мир — в меня. Как научится чему- то еще, кроме стремления сохранить свою целостность, и как пережить что-то, кроме страха. Вдруг пришло понимание, что должно быть все просто — так, как и задумывал Бог. Одно тело, и одна душа. Не имеет никакого значения, какому из двух тел она достанется. Тому, что будет готово.
И я начала вслушиваться. Когда знаешь себя вдоль и поперек, когда у тебя есть только ты — и весь мир вокруг темен и недосягаем, ты легко найдешь призрак смерти в своем теле. Он ютится где-то, до поры до времени невидим и не ощущаем, с пружинкой на взводе и спрятанным от взора пусковым механизмом. И какое-то время я его не могла найти, хотя знала, чувствовала — где-то должна быть брешь. И я ее нашла. Наверное, так и выглядит счастье — когда страх и боль уступает место чему-то… чему-то совсем забытому, спрятанному за тысячей дверей, теплому и солнечному. Даже совсем ненадолго. Это ощущение — мимолетное, острое, не похожее ни на что — и такое долгожданное… Умиротворение. Это было умиротворение. Одно из двух одинаково бьющихся сердец уже дало сбой. Что ж, этот бесконечный день начал клониться к закату. Две половины меня с этого момента шли в разные стороны — одна умирала, а другая начинала жить.
Тело Дженнифер больше не принадлежало мне целиком и полностью — смерть неотвратимо вступала в свои права, выпихивая часть моей души из этого обиталища. Джун больше не было понятно ни слова из того, что говорила Дженнифер — речь той стала невнятной и медленной. Зато в моей жизни появился человек, который понял несколько слов. «Марджори, Марджори, я собираюсь умереть…» — это была журналистка, вовремя — или не вовремя — решившая написать обо мне репортаж. Нет, ничего не случилось, просто мы так решили. Я так решила. Мне страстно хотелось увидеть новый рассвет.
Все люди умирают в полночь. Даже если на улице солнечный, ясный и безоблачный день — у смерти свое время, и она притаскивает за собой непроглядную холодную темень ночи. Она обнимает за плечи, неслышно шепчет что-то — и звуки больше не проникают через пелену ее призрачных слов. Она смотрит в глаза, которые не видят ее — только далекое, зовущее, недостижимое отражается в них.
Все было по плану — ни боли, ни страха. Просто одно из двух моих сердец так устало жить, что начало замирать. Моя душа, раненная, бесформенная, разделенная странным и гнетущим роком, вряд ли срастется полностью, она словно склеенная чашка, восстановившая форму — в нее вряд ли можно будет что-то налить… Но страшное решение оказалось верным — я больше не была тенью себя. И две половинки меня, наконец, встретились насовсем. Тело Дженнифер было в коме, ее сердце каждую секунду звучало все глуше и реже, пока совсем не остановилось.
Итак, сегодня в 12 часов 43 минуты пополудни закончился первый день моей жизни. Это произошло на сидении медицинского фургона по дороге в клинику Касвелл. Я наконец-то умерла.
Больше всего на свете я жду свой второй рассвет…
Сергей Чугуевский

Россия — Новосибирск
Здравомыслие…
Здравомыслие… сволочь такое… эх такая, хотел написать.
Мы всё время не видим простое, а на сложном втыкает опять…
Мы стремимся, спешим, устаем, поджигаем, сгораем и гасим.
Всё чего-то от прошлого ждём, и его же постим в настоящем…
Мы такие… на пару недель, и любовь, и мечты, и желания.
Мимолётная с кем-то постель, дабы, сердцу добавить дыхания…
Раскрываемся, ждём, убегаем, догоняем… куда-то летим.
Мы о чувствах реальных не знаем, превращая себя в псевдоним…
Может быть, это время такое, может быть, устаём от утрат.
Или чувство, доселе простое, кто-то сделал сложнее в сто крат?
Обвиняем себя, не других, закрываем глаза монитором.
Мы — такой новоявленный псих, с бесконечным и властным укором…
Ради Бога… опять ты туда, в эту правду, наверно ответит,
Мне уставший, в своих «не беда», потому, как ему и не светит…
Не горит за окошкам звезда, не сжимается миг, не волнует,
Тот же сайт и вокруг провода, тем же смайлом, кого-то «целует»…
И как-будто бы есть, и живое, и репосты… твою же нас (цензура),
Здравомыслие… сволочь такое… эх «такая», хотел написать…
Прорвался
Прорвался… эка ли кручина, всего-то дел — узнать тебя…
Сгорел мечтающий мужчина, во малых искрах от огня.
И не согреться, не уйти в надежде все-таки дождаться,
Подачки из её руки — как это будет называться?
Утрата, призрачная боль, когда-то искренней души?
Вопросов множество — юдоль… приобретение банши,
Ещё не сделало счастливым и не дарило счастье глаз,
Пусть он, и выглядит красивым… не раз, не раз, не раз,
Его кормить душой придется, включая бесполезный суд,
И ждать, и ждать… всё обернется, каким-то образом причуд.
Увы и ах, всё это было, когда-то, где-то в складе лет,
Не обернулось? Мило, мило… из темноты звучал ответ.
Прогнал, зарекся, все сначала, опять, опять, туда, туда,
С кем сердце радостно стучало, забыв про опыт и года.
А он мне счастье предъявляя, куски таскает из души,
На память части оставляя, мой жадный, радостный банши…
Мой демон ревности и страсти, порок и взятка от любви,
Уже нет сил в тебе и власти, уже не плаваешь в крови,
Дабы кипеть ее заставить, от каждодневности причуд,
Сегодня я решил оставить тебя другим… чей грешный суд,
Ещё силен, душа не в ранах от искр вечного огня,
Прорвутся… если будет в планах, всего-то дел — узнать тебя…
Возвращение…
Я спускаюсь к себе по забытым тропинкам,
Спотыкаясь, уставший от прожитой лжи.
И огней, пожелтевшая в прошлом, картинка,
Намекает на данность сердечной маржи…
Намекает на данность беспечных чудес,
Никому недоступных и всеми желанных,
Предлагающих вместо идиллии вес,
На душе, на улыбках ее первозданных.
На душе, на улыбках, на битых сердцах,
На осколках не младше души бесконечной,
Призывая понять, осознать в головах,
Чудеса это там… в остановке конечной…
Чудеса это там… а не прямо сейчас,
Не мечтайте о них, забывая хранить,
Эту данность того, что всегда и для нас,
Кто-то жизнь отдаёт, начиная любить.
Кто-то жизнь, кто то свет, закрывая себе,
Направляя на путь, на тревогу, печаль,
Принимая их вес, что пока в голове,
Не нашёл понимания счастья, а жаль…
Не нашёл, не искал, сколько нам ещё Не…
Осознать и оплакать придется в итоге,
Я иду по тропинке забытой к себе…
По когда-то заброшенной, долгой дороге…
Ни тебя…
Ни тебя… ни меня… ни любви, обреченной на память остаться,
Потому, что мы завтра пойми, забываем опять признаваться…
И дышать, и дышать, и дышать, без возможности ей надышаться,
Начинаем разлуку впускать, заставляя любовь разрываться,
Между прошлым и между мечтой, между ревностью и обладанием,
Дабы снова ни с тем и не с той, обрекая её на заклание,
Доставая отточенный нож, для сердец неокрепших и важных,
Сознавая всё это и всежь, продолжаем не раз и не дважды,
Наносить, наносить, без причин, за ударом удар по горячим,
Разбивая душевный почин, извиняемся, плачем и клянчим,
Возвращение чувства туда, где тревожно, зашито и больно,
Но от туда… увы, как всегда, откликается эхом: «Довольно…»
Ты во мне умирала…
Ты во мне умирала, как птица,
Залетевшая в клетку любви,
Продолжая неистово биться,
Разбивая крыла до крови…
Устремляясь к привычной свободе,
После жадной, неистовой ласки,
Принимая свои по природе
И привычные грустные маски.
Ты желала любить и летать,
И по своему в этом старалась,
Ты хотела единственной стать,
Но ни разу во мне не осталась…
А я ждал и терпел, и прощал,
Эти всполохи ярких желаний,
Говорил, убеждал, заставлял,
Предрекая полет расставаний.
Понимая, что просто умрёшь,
В моей клетке с неистовой болью,
Что себя никогда не найдешь,
В этом смысле пришедшем с любовью.
Наблюдая, как бьешься во мне,
Как желаешь полет предстоящий,
Как рыдаешь потом в тишине,
Принимая свой вид настоящий…
Я тебя отпускаю к мечтам,
Где мы верим, надеемся, ждем,
Ты не знаешь, как больно мне там,
Когда крыльями в сердце моём…
Есть данность…
Есть данность — вольности судьбы,
Черта, где безупречен таймер.
И ей противны крики, и мольбы,
Как бесполезны всполохи случайных,
Хотя, и важных в перекрестках чувств,
Сбивающих привычную дорогу,
Которые знакомы наизусть,
Спешащие к тому же эпилогу…
Возможности, мечты — обычный бред,
Нас окружающий в ошибках,
Молчание, доставшее в обед,
И, скованность, раздетая в улыбках.
Не раз, не два с печатью обреченных,
Влачил сей крест, осознавая факт,
Что очень мало сердцу нареченных,
Как много посланных в дорогу просто так.
Решая коммунальный быт,
В долгах пред совестью своею,
Впускаем радостный кульбит,
Который временно согреет.
Забыв о времени своём,
Истратив чистую спонтанность,
Мы от других того же ждём,
Взывая измениться данность…
Она ушла… из диалогов
Она ушла… ну, что же, значит время, уйти опять, наверное пришло,
Не все способны вынести то бремя, не всем с любовью этой повезло…
Она ушла оставив нерешенным, вопросов сонм и ворохи судьбы,
Со взглядом, безупречно отрешенным, без суеты, упреков и борьбы…
Она ушла, как до неё ходили, не согласившись верить, ждать, хранить,
Поскольку понимание — любили, не всем дано… да, что тут говорить?
Она ушла… оставив мне на память, истерики, сердечный кавардак,
Решив, что на пороге, кто-то встанет и не отпустит, просто… просто так.
Но мой покой решил совсем иначе… она ушла, ну так тому и быть,
Я отпущу, желая ей удачи и постараюсь поскорей забыть…
Это ад или даже короче…
Это радует, это тревожит, это, где-то за радугой мрак,
Не исправит никто, не поможет, изменить неудачу в аншлаг.
Это тени в бессонные ночи с синяками за ними от слез,
Это ад или даже короче… это А от ладошек в мороз.
Это страх перемноженный сердцем, как и радость немногих минут,
Отогреться, душой, отогреться, хоть чуть-чуть, хоть немножечко тут.
И молчать, и струиться по телу, словно шёлк, словно атлас небес,
Отдавая себя неумело, в невозможности с кем-то и без…
Как-то так, не спокойно, не тихо, до утра в ожидании ночи,
Продолжая душевное лихо, это ад или даже короче…
Эта жизнь…
Эта жизнь невозможно приятна,
Коротка, как улыбки души
И кому-то кричат уже снято,
На запястьях наши банши…
По утрам разбегаемся в счастье,
Вечерами от горя саднит,
Создаём себе сами ненастья,
Беспокойных сердец колорит…
Я не знаю, зачем собирать,
В рюкзаки бесполезные карты
И мечтать, и себя истязать,
От пустого в маршруте азарта.
Понимая — расходы не там,
Не в то время, не в этой… не с теми.
Доедая сухой круасан,
Потому, что вчера не доели…
И наверно, я старше не стану,
Этой жизни, любви и души,
Потому что с рассветом достану
И напялю на руку банши…
Обрекая себя на страдания…
Посмотрите на этот рассвет и закат, заодно, оцените.
Отыщите того, чего нет и всё это душой полюбите.
Потому что, что есть — ни о чём, постоянная радуга цвета.
И, конечно, оно не при чём, раз всегда перед вами раздето.
И само-собой, если вдруг нет, докучать начинает ночами,
То любой подходящий ответ, будет тем, что решили вы сами…
Принимая, оставив в ничто, ваше самое лучшее чудо,
Вроде, как бы и чудо оно, появляется из ниоткуда…
И вот-вот, и сроднились ни с чем, раскопав в самых лучших мгновениях,
Но вопрос остаётся — зачем? вы себе отыскали сомнения,
Оставляя надолго таким, убирая в глубины сознания,
Применяя всё это к другим, обрекая себя на страдания…
Есть люди, что не навсегда…
Есть люди, что не навсегда,
Такие Гемеоны чувств,
Они меняют города,
Поток признаний дарят с уст,
Которым вечность, даже, впору,
Но это все пустой контекст,
Порою, надписи к заботу,
Куда имеют больший вес…
Они умеют зажигаться,
Как та звезда чужих плеяд,
Но это всё, что может статься.
Недолго будет звездопад,
Как и распятия для чувств,
У них готовы, как всегда,
Такие Гемеоны чувств,
Есть люди, что не навсегда…
Как мало тех…
Как мало тех, кто жизнь отдаст и за любовь пойдёт на плаху,
Не оболжет, и не предаст, сорвёт последнюю рубаху,
Ради бесценных этих чувств, которых редко, кто познал.
Любые выкрики из уст, не факт, что счастья идеал…
Любые слёзы и обиды, скорее, боль былых утрат,
Такие самонеликвиды, умножьте сердце во сто крат,
Приняв приют чужой души, согрейте искренне, открыто,
И не тревожь, и не спеши тащить из боли позабытой
В чужой родник, скорее, чистый, свои корявые мечты,
Пока он жив, пока лучистый, испей, добавив красоты,
Своих прекраснейших надежд, свою последнюю рубаху,
Не заступайте за рубеж, если не сможете на плаху…
Она…
Она и разлука, и радость, и сон,
который тревожит неясным, зачем-то,
и жаркими в такт, и душой в унисон,
и слёзы от горя и радости с кем то…
И может быть смертью, такое бывает,
любой умирал без взаимности глаз,
и в поле цветок о котором не знаем,
но все же срываем, и дарим не раз…
И боль от обиды, прощение, сила,
и лёгкость, и камень, оковы, и бред,
и слабость, когда в пробегающих мимо,
не видим ее первозданности свет…
Она непонятна, ясна и туманна,
с своею прохладной запекшихся ран,
всегда безрассудна, всегда, долгожданна,
она и ответы, и страшный обман…
И море, и реки, пустыни, и горы,
мелки, незаметны за тенью любви,
но, как величавы пред нею советы,
дающие жало для яда в крови…
Кому-то, как воздух, кому-то — зараза,
кому-то награда, кому-то в наказ…
и нет и не будет сильнее экстаза,
дающего силу пройти и не раз…
Опять возвратиться, страдать и смеяться,
кричать на весь мир, и молчать от утрат,
в любви бесконечной нет смысла поститься,
любой ее грех посильнее в сто крат…
А что же в итоге, чем все же наполнить,
на чём нам оставить свой взор торопясь?
Довольно легко… Нам достаточно помнить,
она — всё вокруг и любить не боясь…
Подожди, не спеши облекая в мораль…
Подожди, не спеши, мы с тобою одной,
как златою, навек, перевязаны нитью,
обнимаясь, целуясь, единой душой,
без упреков, без ссор, просто так… по наитию.
Ощущая тепло первозданной внутри,
где сердца беззастенчиво тактами рядом,
сотню раз убери, разведи, разотри,
облекая любым непонятным обрядом.
Но не сможем порвать, что не видим, не внемлем,
ощущая, скорее, движением чувств,
это в нас, это знак, он уже не отъемлем,
как и жажды магнит в притяжении уст…
Как небесная синь, как галактик спираль,
как всё то, что всегда не доступно и вечно,
подожди, не спеши, облекая в мораль,
то, что было и будет, и есть безупречно…
Отпивая свой кофе отменный…
Я сегодня проснусь без тепла… ну и что, но зато не замерзну,
так бывает, что даже и мгла, согревает, росою подернув.
И сердца, и души лепестки, накрывая холодной заботой,
попивая под кофе виски, распланирую дома работу.
И начну… улыбаясь себе, вспоминая своё равновесие,
иногда в полосатой судьбе, начинается серое взвесево.
Заставляя нас верить, искать, позабытое образом счастье,
как и с этим, порою впускать, всепогодное чье то ненастье…
Но и там есть от радуги свет, незаметный, но всё таки ценный,
Я сегодня встречаются рассвет, отпивая свой кофе отменный…
Ну, что проснулись? Улыбайтесь…
Ну, что… проснулись? Улыбайтесь, весь мир давно заждался вас,
мы временами разминулись, но это мелочи для нас.
Встаем, в глазах включая лампы и излучая чистый свет,
забудьте путиных и трампов, для нас, по сути, их и нет.
Простите прошлые обиды, их тоже нет для нас давно,
неужто эти неликвиды, пытать вас будут всё равно?
Погода дрянь, дожди и слякоть? Ну так и что — они пройдут,
забудьте по кому-то плакать — те, кто решили — те уйдут…
Дарите радость без остатка, тем, кто всегда и возле вас,
вся жизнь и так не как помадка… ищите искры своих глаз.
В надежде, в искренних мечтаниях, в открытых людях, как и вы,
ну приложите же старания, добавив свет для красоты.
Всех наших планов и желаний, порой непризнанных идей,
отбросьте боль пустых признаний, скорей, скорей, скорей…
Покиньте ложь и недомолвки, раз вас не любят — расставайтесь,
легко, без всякой остановки… ну, что проснулись? Улыбайтесь…
Но забыла со мной рисовать, этот дождь…
Ты когда-то сказала, что любишь меня,
Что готова и ждать, и конечно дождаться,
По окну молотили слезинки дождя,
Не желая надолго с стеклом расставаться.
Я смотрел и хранил, и мечту, и разлуку,
Потому, что разлуки без радости нет,
Поднимая к стеклу задрожавшую руку
И рисуя с дождем, как в соавторстве след…
Мы боимся разлук, но они очищают,
От всего, что мешает улыбкам души,
Словно эти дожди по стеклу отмечают,
Тот не лёгкий маршрут, что придётся пройти.
Я стоял и смотрел, на рисунки живые,
Доверяя все то, что давно запретил,
Отправляя с дождем эти чувства простые,
На которые всем недостаточно сил…
Это был и не бред, не влюблённость, не блажь,
Что порою цепляются к нам одиноким,
Добавляя любви бесполезный винтаж,
Что скорее пустой и такой же далёкий.
Это было сродни, в середине, вот тут,
Где рисуем дрожащей с дождями полоски
И поэтому слёзы в разлуке бегут,
Оставляя на сердце из соли дорожки…
Но бывает и так… не проходит, и дня,
И доверие стёрли, а искренность — ложь,
Ты сказала когда-то, что любишь меня,
Но забыла со мной рисовать этот дождь…
Ошибки опыта пустого…
Какое там… всё те-же встряски,
Всё те-же прошлого мазки,
Давно истрачены все краски
И пазлы, пазлы из тоски,
Украдкой взятые с былых,
Давно утраченных конспектов,
Как пара раненных гнедых,
Мечтают жить в бреду аффектов.
Картина брошена любви,
Ногами вбита за кушетки,
В которых клянчили мазки,
Что дети сладкие конфетки
И вроде шансы, как всегда,
Влекут надеждой из былого,
Но все равно подай сюда,
Ошибки опыта пустого…
Хотя до этого всегда благоволила…
Судьба по своему сыграет с нами в дамки,
Хотя до этого всегда благоволила,
И вот уже мы — сбитые подранки,
И вот уже, и сажа, как белила.
Ей безупречно взять и отобрать,
Всё то, что мы беспечно не ценили
И вот уже, и слабому подстать,
Хотя вчера ещё о силе говорили.
Чего уж там… все планы и мечты,
Есть для неё решенная задача
И вот уже не видим красоты,
А про любовь молчу уже тем паче…
Куда не глянь, счастливых раз, два, нет,
По пальцам сосчитать не очень сложно,
На все про всё единственный билет,
Который мы храним неосторожно.
И вот уже устали от вчера,
С тоской и пониманием о завтра,
Уныло провожая вечера,
Без красоты, без сказки и азарта…
Работа, быт, проблемы спозаранку,
Дела с заменой острого на мыло,
Судьба по своему сыграет с нами в дамки,
Хотя до этого, всегда благоволила…
Я тот, кем и был…
Перестаньте — я тот, кем и был,
Всё такой же с теплом и улыбкой
И о боли чужой не забыл,
Это ваши заставки с ошибкой,
Без редакции плохо стоят,
Как засохшее дерево в краске,
Проходящие хвалят подряд,
Но обходят его от опаски.
Выпивохам — простой туалет,
Для влюблённых объект рисований,
Не приносит ни пользу, не вред,
Просто есть… без других притязаний.
Упадёт и никто не заметит,
Выпивохи другое найдут,
Не плутает в листве вашей ветер,
Не находят в ней птицы приют…
Ну, а я… ну, а я понимаю,
Потому и не трогаю мир,
От котором всегда забывают,
Наигравшись в заманчивый тир…
Другое нелепо, другое не так…
Все это нелепо и как-то не так,
Неправильно, словно, сквозь нужное место,
Вполне неспокойно и вроде пустяк,
Не сладко, не солоно, мне интересно…
Такой не уют не тревожил пока,
Ну, как не уют… небольшая досада,
Терзает забытое, где то слегка,
От красок и масок её маскарада.
А впрочем, не важно и даже вполне,
Наверно привычно, с годами и это,
Уносит куда-то на тихой волне,
Очистив дорогу для правды и света.
Для веры, доверия, счастья, тепла,
Порой безрассудных, но в этом и радость,
Не нужно причину, чтоб в омут до дна,
Оставив никчемную опыта слабость.
И не возвращаться на память взглянуть,
Как там происходит с забытой колодой,
А если не сможешь опять утонуть,
Пройти той же самой но разной дорогой…?
Другие одежды, сценарии лица,
Другой антураж и сердечности такт,
Другая на счастье бумажная птица,
Другое нелепо, другое не так…
Отгоревшего сердца мейнстрим…
Приходите, я дам посмотреть,
На моё отгоревшее сердце,
Расскажу, как умело болеть,
Как его невзначай килогерцы,
Зажигали другие сердца,
Помогая с лихвою согреться,
Без каких то статей мудреца,
На простое тепло опереться.
Приходите, я дам посмотреть,
Распахнув отболевшую душу,
Что вкусила и счастье, и смерть,
Приходите… я право не струшу,
Не начну лепетать о потом,
О делах не законченных, где то,
Мой открыт доверительный дом,
Приносите в глазах своих лето,
Забывая за дверью капель,
От неясной пока, что погоды
И людскую за ней канитель,
Оставляйте былые невзгоды,
Пусть дождуться, успеют достать,
В моём доме невзгод не бывает,
В нём покоя небесная стать,
Очень жалко, но мало, кто знает,
Как прожить без ненужных проблем,
Как вообще поступать без тревоги?
Бесполезный и жалкий тотем,
Оставляйте ее на пороге,
Не впускайте обиды и гнев,
Создавайте простые улыбки,
Отпустив ими стонущий нерв,
Может быть не вернуться ошибки.
Я не смог и теперь приглашая,
Говорю, что есть жизнь без причин..
Нараспашку для всех открывая,
Отгоревшего сердца мейнстрим.
Кто-то ищет причину…
Кто-то ищет причину расстаться,
Кто-то стонет в желании быть
И вполне может быть, может статься,
Те и эти стремятся любить.
Но причине с желанием сложно,
Обрести предрассветный уют,
Потому, как расстаться возможно,
А вот быть не из лёгких маршрут…
Как и следствие не подпускает
Новый вид из окошка творить,
И конечно, кто искренний — знает,
Что со старым не выйдет любить…
Там всё те дожди и тревоги,
По причине избитых путей,
Очень мало осталось из многих,
Кто избавился от мелочей.
От причины мешающей статься
Оставляя желание быть,
Очень просто разбить и расстаться,
Очень сложно любовь сохранить…
Живите в центре своей жизни…
Живите в центре своей жизни, живите так, чтоб все вокруг,
в своей пустой дороговизне, вам позавидовали вдруг.
Живите всякими мечтами, чтобы улыбки были тем,
кто без причин остался с нами, создайте радости тотем.
И охраняйте, охраняйте, от дней безоблачных, лихих,
живите так и точно знайте, что эта жизнь не для других.
Жизнь — для себя… другие мимо, пройдут использовав ее,
махнув вам издали игриво, гоните словно воронье.
Пустые образы условий от ваших задушевных фраз,
живите, чтоб без предисловий, касаться рук, вкусив экстаз.
Тепла, воистину, живого, храните сей родник святой,
прощая всех в ком нет такого, всех на обочине чужой…
Копилка счастья без обмана…
Есть память внутренняя, скажем, не то, что видим мы вокруг,
с закостенелым антуражем, не разобрать, кто враг, кто друг…
Есть память там, куда не каждый способен сердцем заглянуть,
мурашки кожи в коих дважды не просто будет утонуть…
И эта память до глубин, до той калитки, что закрыта,
от бесполезности причин, в которых счастье позабыто…
Она сама себе живёт, без наших чувственных ошибок
и ждёт, и ждёт, и ждёт, и ждёт таких же искренних улыбок.
Таких же огоньков из глаз, в которых души без изъяна,
есть память внутренняя в нас — копилка счастья без обмана…
Спокойно в честной тишине…
Я отдыхаю, мне уютно, спокойно в новой тишине,
нет лжи звучащей поминутно, в своей безумной пустоте.
Нет поминутных искажений, реальной данности сейчас,
каких-то пиксельных движений — я отдыхаю прозапас.
Забыв вчера большие планы, без забегания вперёд,
где ясность спрятана в туманы, да, кто вообще там разберет…
Посыл большой, мечты лихие, благие профили за сим,
в которых люди дорогие, вдруг стали образом чужим.
Сломав, что толком не успели, ещё построить на костях,
хотя бы, что-нибудь посмели… но помешал привычный страх.
Как пустоцвет в пустых сердцах, пустил корней ненужный сор,
когда слеза в других глазах, сменила счастье на укор…
Без возвращения обратно, туда, где стало не по мне,
я отдыхаю, мне приятно, спокойно в честной тишине…
А я устал уже платить…
А я устал уже платить,
за тех, кто плату поднимают,
все время душу вынимают,
а я хочу с душою жить…
Хочу быть искренним, открытым,
без лжи, иллюзий и обмана,
хватило грязи и тумана,
уж лучше быть вчера забытым…
Чем утро встретить без души,
без искр в глазах и без улыбок,
уже достаточно ошибок,
спеши тут или не спеши…
А с корабля опять на бал,
как скоморох, в ее рубахе,
один единственный на плахе,
хотя, чего я ожидал?
Почти…
А я тебе, почти уже, не друг,
Почти не враг, почти, что посторонний,
Все, как-то вычеркнулось вдруг,
Свернув на путь, почти, односторонний.
Почти не злюсь, почти, что отвечаю,
На зов души, что был почти сильней,
Чего пока ещё не знаю…
Почти не стало тех огней.
Сердец, слетающих с катушек
И я без этого с вчера,
Почти — без скомканных подушек,
Почти — уснувший до утра.
Почти — не спавший между снами,
Почти что — радостный потом,
И не — почти что — вечерами,
Забывшись предрассветным сном.
Почти — наверно, чей-то вдруг,
Почти живу, почти, что знаю,
Что я тебе — почти что — друг,
Почти что — враг, почти что — забываю…
Как и краски у них не для всех…
Не бывает людей без ошибок,
как без красок людей не бывает
и, наверно, нехватка улыбок,
нам другое совсем объясняет.
Что, порою, лежит на ладони,
но не видим, мы заняты всем,
кроме тех, кто досадливо стонет,
наблюдая неискренний смех.
Наблюдая погасшие чувства,
что вчера были ярче огней
и, наверное, им даже грустно,
от пустот убегающих дней.
От зияющих дыр там, где сердце
неустанно стучало с другим,
а теперь незакрытую дверцу
разбивает ветрами… Бог с ним…
И с душой, и с улыбками всеми,
и вообще, что желаем всегда,
убегая от собственной тени,
забирая ее навсегда.
Не заметив открытых улыбок,
забываем в заботах о тех,
состоящих из сомна ошибок,
как и краски у них не для всех…
Я не люблю, когда стирают…
Я не люблю, когда стирают,
из сердца, из души, из жизни,
как-будто пятна вытирают
и в этой странной укоризне,
я должен снова понимать,
внимать истериками и верить,
но вы подтерли вашу (цензура),
захлопнув перед носом двери…
Прекрасный вид, отличный ход,
всего-то дел и всё спокойно,
но и у веры есть предел,
коль скоро, трудно в ней достойно,
любовь нести, пройти весь путь,
не уронив ее ни разу,
пускай ночами не уснуть,
пускай не всё, не много сразу.
Но сохранить простой очаг,
открытых, искренних мгновений,
нахмурю бровь и выбив такт,
забуду ложь прикосновений,
всех тех, кто плохо меня знают,
открою новый холмик в тризне,
я не люблю, когда стирают
из сердца, из души, из жизни…
И от любви бывают слёзы…
И от любви бывают слёзы, как объяснить? Ну чтоб понять:
Все ваши планы и прогнозы, вдруг стало есть с кем разделять…
Мечты, желания, надежды, вдруг превратились в общий дом.
Который, одинокий прежде, вместить их мог с большим трудом.
И эти слёзы не от горя, не от вселенской пустоты,
А в осознании, что горы по пояс стали, если ты,
Спокойно, искренне с душою, способен разделить себя,
Без тех распятий над собою, что были если не любя,
Влачить свой крест, куда — не важно, раз невозможно нужным стать,
Не говорите мне вальяжно, что вам на это наплевать.
Когда нет сил и их остатки лежат без чуткой теплоты,
Без той единственной «палатки», нас защищающей… Мечты,
Опять останутся мечтами, не воплотившись в коий раз,
Но если вдруг не то с глазами, то значит, кто-то любит нас..
Поскольку идеал и так…
Мы так живём, мы так привыкли, создав свой собственный острог,
Который мысленно воздвигли, вокруг себя… Не каждый смог,
Его разрушить и расстаться с воображаемой тюрьмою,
Пытаясь заново верстаться, поспорив образно с судьбою,
Сменив затертую, уже, рубаху субъективных мнений,
На скромный облик в неглиже, души уставшей откровений…
И от советов, и от споров, и с ними связанных тревог,
Забыв про этот чертов ворох, перешагнувши за порог,
С счастливой искрою в глазах, освободившись, пусть не сразу,
Преодолев безумный страх и с ним сомнения заразу,
Стать тем, кем создан изначально, каким явился в этот мрак,
Оставив гонку к идеально, поскольку идеал и так…
Валентина Иванова (Спирина)

Россия — Касимов
Я твоя женщина
Я твоя женщина, ведь я твоя Весна,
Я нежности твоей катализатор,
Я покрывало мягкое для сна,
Желаний потаённых провокатор.
Я твоя женщина, я та, кто верно ждет,
Твоя стена и щит одновременно,
И ты уверен — уж она то не уйдет,
А если… вдруг… Вернется непременно.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
