
Бесплатный фрагмент - Чудики с кистью
Электронная книга - Бесплатно
«Чудики с кистью» — книга с веселой сумаcшедшинкой. Иногда — немного грустная. Ее герои — три питерских художника, пытающиеся найти себя в обычной жизни за пределами мира красок и холстов. Семейная жизнь, попытки заняться бизнесом, работа — по не понятным для героев причинам все разваливается. Художники недоумевают, стараются менять мир под себя, бунтуют. Судьба забрасывает их на выборы в Госдуму, в Париж, русские деревни и монастыри. Кинуть якорь не получается нигде. Книга написана увлекательно, с юмором, язык автора захватывает читателя с первых строк. Но и без вечных русских философских вопросов не обошлось. Предупреждаем, что кого-то может смутить количество потребляемого на страницу книги алкоголя.
Герои рассказов являются вымышленными.
Какие либо совпадения просим считать случайностью.
ПРЕДИСЛОВИЕ
«А может быть раскрыть окно и окунуться в мир иной, Где, солнечный рисуя свет, живёт художник и поэт?»
Константин Никольский, группа «Воскресение»
Говорят, что довольно талантливым художником был Адольф Шикльгрубер. В интернете, если поискать, можно найти замечательные пейзажи мирной Европы, тихие, задумчивые, упоённые солнечным светом. И это — странный и страшный, совершенно непонятный парадокс! Ведь, казалось бы, ничто не предвещало в этом тихом, застенчивом юноше таких перемен, такой душевной ломки, сделавшей его безжалостным Гитлером и приведшей весь мир к величайшей за всю историю катастрофе!
Ведь, если задуматься, то нет ничего более противоположного, чем вечная красота живописных полотен, прекрасных изваяний, творений гениев архитектуры — с одной стороны, и мракобесия витийствующего Савонаролы, чумной заразой войны и ненависти выжигающего в человечестве стремление к Прекрасному — с другой. И где та грань противоестественного, перейдя за которую художник может превратиться в чудовище?
Очевидно, что грань эта есть. И она в чело веке хрупка и тонка. Она — в самой сути человеческого и человечного, в его природе. Она в том, что именуется душа и/или в её «отсутствии».
И тем ценнее и замечательнее люди, которые знают об этом, чувствуют эту грань, эту черту и никогда за неё не переступают, не теряют связи с душою и духом, до последнего отстаивая своё право и призвание быть художниками, быть творцом Прекрасного, повелителя ми муз, жрецами его Величества Культуры.
Таковы герои нового цикла рассказов Александра Гайдышева. Не менты, не бандиты, не супергерои, ставшие привычными культтреггерами нового времени. А простые, симпатичные «маленькие люди», живущие с автором этих житейских баек и со всеми нами буквально пососедству. Да, художники Гайдышева — самые обыкновенные раздолбаи, дебоширы и пьяницы, со своими забавными приключениями, смехотворными причудами, бытовыми заморочками. Но — и редкие, удивительные самородки! И мне думается, что выбор автора в пользу своих героев не случаен и очевиден. Ибо они — настоящие, они подлинные носители человечности и культурности, того самого эфемерного и трудноуловимо го свойства, без которого ни им, ни всем нам с вами просто не выжить!
Оглянитесь вокруг, посмотрите сводки но востей, прислушайтесь!
Слышите? То тут, то там новые Савонаролы открыто и принародно витийствуют, требуя запретить показывать фильмы и театральные постановки, закрыть художественные выставки, изъять из школьных библиотек книги. Всё это, как нам заявляют, оскорбляет некие чувства неких верующих.
Всё это — на самом деле — мешает нашему обществу, нам с вами — опуститься, закоснеть, одичать, и, как это уже случалось в недалёком прошлом с нашими предками — превратиться вновь в скотскую серую массу!
Да, в публичных телеобращениях наши власти нам отвественно и успокоительно рапортуют о новых нефтепроводах, мостах и стадионах. А простые люди, обычные наши соотечественники, продолжают вымирать — целыми деревнями и поселениями, целыми на родами и народностями, гибнуть в бытовых склоках и подворотнях, под колёсами мажористых проходимцев, загибаться от безысходности и собственного невежества.
Именно потому художники, поэты, музы канты, барды, писатели — настоящая культурная элита страны, «соль земли» — сегодня не в почёте, так невостребованны и неприкаянны, именно поэтому они живут так непросто, неказисто и неустроенно. Потому что современное общество наше больно, ведомо по пути к безыдейности, бескультурию и одичанию. А хорошо и сытно живут как раз те, кто умеет пристроиться, поступиться совестью, принципами, незаметно пройдя ту самую грань, черту.
Художники Александра Гладышева — про сто люди, но люди добрые, хорошие и настоящие, люди, о которых читать занятно, приятно и не стыдно. И они — самые настоящие герои, творящие в наше непростое время свои маленькие, неприметные, но подлинные под виги! Ибо они и есть подлинные носители культурного метакода, воссоздающего в обществе эстетическое равновесие, красоту и гармонию, препятствующего скатыванию в мракобесие и одичание.
Стойкие оловянные солдатики, дон Кихоты современности, дающие миру надежду на то, что его всё-таки спасёт Красота.
Наш мир никогда не был благостен и приветлив к мастерам духа и кисти. Мы преклоняемся перед бессмертной Джокондой, восхваляем гений её автора. Того, который всю жизнь бедствовал, скитался, попадал в немилость сильных мира сего. Стоимость полотен Ван Гога бьёт на аукционах все мыслимые ре корды. А между тем, при жизни гениальный мастер отдавал их в пивной за выпивку и жил на подаяния брата.
И всё-таки мы их ценим, мы восторгаемся их гением, их делом спустя века, мы выстраиваемся в километровые очереди к бессмертным творениям мастеров, дабы подчерпнуть в них вдохновение, силы жить, сонастроиться душою с Прекрасным! А значит, они нужны нам, как воздух, как вода и пища, как деревья и пение птиц. Нужны, чтобы оставаться людьми, простыми и обыкновенными, такими смешными и дуроломными, такими бесконечно симпатичными и живыми — настоящими людьми.
Александр Траберт
Рассказы о художниках
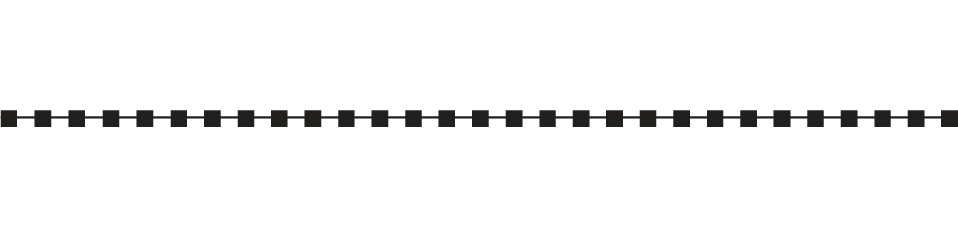

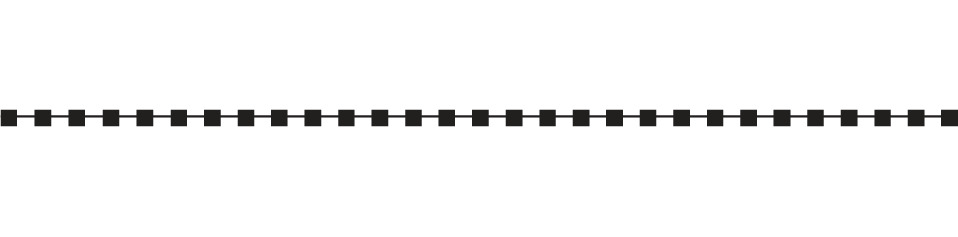
СОФИ
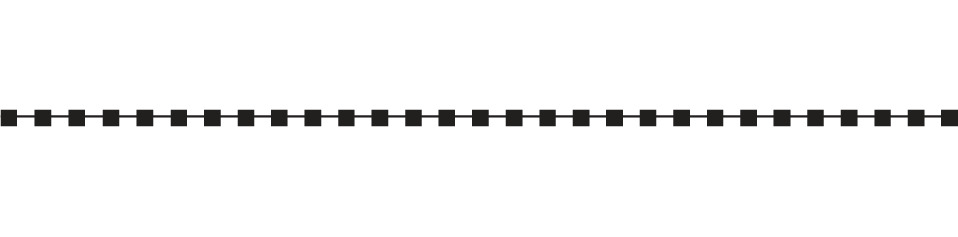
Живописец Георгий Михайлович Веселкин в противоположность своей фамилии мог по казаться кому-то угрюмым человеком. Но в свои семьдесят пять он не перестал радоваться жизни, хотя сама жизнь стала заметно меньше радовать Георгия Михайловича: она вдруг перестала им интересоваться. Веселкин уже давно не знал, куда ему плыть дальше, и в связи с этим предпочитал табанить весла в своей мастерской на улице Куйбышева, откуда примерно раз в неделю, как правило, ближе к ночи, он выносил огромный крафтовый мешок, доверху наполненный пустыми бутылками. Прежде Георгий Михайлович любил хорошеньких женщин под мухой, шум ные застолья и интеллектуальные беседы с вольнодумствующими художниками, но в последние годы высота, градус и содержание творческих застолий неуклонно падали, в результате чего в компании Веселкина остались лишь метровый гипсовый Ленин, сработанный им когда то впрок для Дома пионеров, да престарелый эрдельтерьер Врубель.
Ленин был когдато первым кормильцем Веселкина… Вторым был Карл Маркс. Но лет за десять до катастрофы Маркс с его еврейской кровью стал вдруг подозрителен властям: даже политические военные училища и факультеты политэкономии больше не заказы вали его, могучего и волосатого, осторожно предпочитая проверенного во всех отношениях Ленина.
Георгий Михайлович не выбросил на свалку истории своего последнего, никому теперь не нужного, Ильича. На то имелись свои резоны: с ним всегда можно было… выпить. Да да, откупорив бутылку горькой, Веселкин поднимал рюмку и, кивнув вождю, произносил что-нибудь: проникновенно ругал новое или с пафосом и слезой восхвалял старое. Вру бель с Лениным глядели на хозяина: пес понимающе, Ленин с холодным презрением.
Георгий Михайлович имел все основания быть недовольным новой эпохой. Союз художников перестал делать ему заказы от имени государства, а для того, чтобы продать что-то из своего, Веселкину теперь приходилось извиваться, как змее подколодной, перед людьми с тугими кошельками, торгующимися до последней капли крови.
И семейной жизни у Георгия Михайловича давно уже не было. Жена его умерла лет десять как, а дочь пианистка, переехав в Италию к мужу, тут же с легкостью забыла отца. Но обиды на дочь Веселкин не держал: что поделаешь — они оказались людьми разных эпох…
Жил и выпивал Георгий Михайлович теперь в основном на деньги от сдачи своей квартиры в Купчино да редких продаж пейзажей с видами родного города. А много ли живописцу, эрдельтерьеру и гипсовому Ленину надо? Тринадцатилетний Врубель смотрел на жизнь хозяина с пониманием, кажется, ничему не удивляясь.
А удивляться все же было чему: у художника имелась одна странная привязанность. На семидесятилетие кто-то подарил ему свой автомобильный навигатор. Подарил и тут же эмигрировал в Америку, а Веселкин через не которое время обнаружил, что попался и уже не может обходиться без томного женского голоса, которым изъяснялся с лобового стекла его «Нивы» дар эмигранта. Заслышав голос спрятанной в железной коробочке женщины, Веселкин ощущал в своих чреслах токи высокой частоты и движение чего-то низменного и горячего. Женщину из коробочки живописец окрестил Софией, премудростью, или для краткости, Софи.
Эта Софи была плоть от плоти наступившей эпохи: говорила всегда только приятное уху, не перечила, не оскорбляла, но ничего при этом и не делала: не хватала за руку на краю, не подставляла в беде плечо, была неощутима и неосязаема настолько, что ей ничего нельзя было предъявить… В острые приступы отчаяния и праведного гнева ноги сами несли Веселкина к его старой «Ниве». Он садился за руль и включал навигатор, чтобы мстить, мстить, мстить наступившим временам.
— Пожалуйста, поверните направо! — просила живописца Софи из коробочки.
— Да пошла ты! — злобно сверкал глазами Веселкин и проскакивал перекресток на красный свет.
Софи проглатывала хамство и, выдержав паузу, голосом, полным сексуальной нежности, продолжала гнуть свою линию:
— Пожалуйста, если возможно, поверните направо и затем через двести метров еще раз направо.
— А вот хрен тебе! — рычал Веселкин, делая левый поворот.
Вдоволь наездившись по улицам под аккомпанемент смиренных просьб Софи, вволю наглумившись над этой бесплотной представительницей победившего класса, Веселкин обретал душевное равновесие.
И вот какая мысль теперь его посещала: никто из женщин, кроме этой Софи, не вел себя с Веселкиным так терпеливо, так незлобливо и нежно. Только такую, как Софи, думал Веселкин, он и мог бы, пожалуй, потер петь рядом до конца жизни. Она бы не пилила его за пьяные посиделки со старым псом и гипсовым Лениным, сносила бы его старческое брюзжание, недомогание и патологическое бурчание в животе. Да, именно о такой женщине он когда-то и мечтал.
«Ну и где взять такую бабу? — думал он тогда, блаженно улыбаясь. — Да нигде!»
Несмотря на свой почтенный возраст, Георгий Михайлович упорно продолжал искать счастье, оставаясь действующим бабником. Его сивое стариковство вмиг исчезало, едва в поле зрения появлялась очередная… курочка. В такие минуты Георгий Михайлович преображался в распускающего хвост павлина, и его уже порядком оплывшая фигура вновь обретала вид вполне гвардейский. Пышная серебряная грива, испанская бородка и шелковое кашне на шее завершали образ сердце еда. Свой вызывающий гардероб живописец формировал в окрестных секондхендах, где тертые продавщицы обожали его за фактуру и бархатный голос. Обожали Веселкина и в «Полушке», куда он ходил за собачьей колбасой, семечками и вонючим коньяком со звездочками. Обожательницы со всех ног летели в мастерскую живописца «осмотреть экспозицию», а живописец, как матерый паук, неторопливо расставлял сети: сыпал в вазу шоколадные конфеты, ставил виниловый джаз, выпивку и протирал живопись, развешанную определенным образом: сначала городские пейзажи, потом портреты известных людей и наконец «обнаженные махи». Обожательницы в восторге обмякали, безнадежно запутываясь в паутине соблазнительных речей обольстителя. Однако Георгий Михайлович не торопил события: наблюдая за порозовевшими от коньяка ушком или щечкой, слушая лепет невинных уст, он сладострастно улыбался. Он любил эти горячие томления, эту медовую беззащитность… Любил и ценил теперь больше всего на свете. Далее все про исходило в основном… в голове у Веселкина. Мысленно он овладевал пастушкой с напором рогатого Пана и фантастической неутомимостью китайского мандарина. В такие минуты у живописца бывали наготове все краски его воображения… Но это была лишь горячившая кровь игра и не более. Он только подводил свою пастушку к самому краю, так, чтобы языки неопалимого пламени уже лизали их лица, только тискал ее трепещущую плоть, демонически сверкая глазами. Но чтобы сигануть вместе с ней в пропасть и, теряя голову, лететь, лететь, изнемогая от страсти, в черную бездну?! Он, конечно, мог схватить гостью покрепче и дать волю рукам, потихоньку продвигаясь к укромному местечку, или же, навалившись на нее своим безвольным живо том, попробовать поймать ее горячие губы скользкими своими, но отсутствие во рту доб рой половины зубов и грубый металл вместо остальной половины укорачивали его прыть. При этом он непременно говорил безумные слова, которые так нравятся зрелым, слегка выпившим женщинам. Говорил, чтобы хоть как-то скомпенсировать отсутствие действий со своей стороны. В самый острый момент он вдруг восклицал что-то вроде: «Как я мог за быть!» или же «Ну вот, опять двадцать пять!» — и слезал с пастушки ради какого-то архисрочного дела: встречи у метро с академиком жи вописи, звонка в районную администрацию или похода в прокуратуру в качестве свидетеля. Все это, однако, были невинные хитрости Веселкина. Они были нужны ему, чтобы не обжечься насмерть и оставить у пастушки надежду на будущее… И все же, все эти продав щицы и приемщицы товара были совсем не то, чего жаждала душа художника. Ведь все они имели какой-нибудь отталкивающий изъян — крашенные в лиловый цвет седые волосы, об кусанные ногти, широкие грубые ладони или горьковатый тяжелый запах плоти, который сразу отбивал всякую охоту.
После подобных встреч у Веселкина обычно наступала апатия: измученный только что сыгранным спектаклем, он смывал с лица маску плейбоя, снимал бутафорский наряд ловеласа и превращался в одинокого старика. Вероятно, батареек теперь не хватало даже на имитацию чувств. Однако проходила неделя другая, и Веселкин расправлял плечи, вновь готовый к спектаклю…
В этом деле Веселкину активно помогал старый сводник Врубель. Стоило им обоим попасть на лужайку, детскую площадку или свернуть на тенистую аллею, где прогуливалась какая-нибудь дама с собачкой, как Вру бель, виляя хвостиком, весь такой позитивный, бежал к дамской собачке, обезоруживая ее своей неподдельной радостью, а его хозяин, подобрав живот, подкатывался к даме… Примерно так все началось и на этот раз.
В ближайшем скверике Врубель вопросительно посмотрел на хозяина, и Веселкин узрел жгучую брюнетку бальзаковского воз раста с таксой на поводке. Черные волосы и ресницы незнакомки, тревожно алый рот, отливающие вороньим крылом лосины и серебряные каблуки ранили живописца в самое сердце, и он расправил плечи, спуская Врубеля с поводка. Старый негодяй тут же кувырком бросился к дамской собачке, изображая полное радушие, и та завиляла ему своим гадким хвостиком.
— Не бойтесь его, мой Врубель мухи не обидит, — бархатно забасил Георгий Михайлович, натренированным жестом закинув назад свою седую косицу.
Дама с живым интересом всмотрелась в живописца, кажется, совсем не смутившись.
— Оригинальное имя у вашей собачки! –сказала она низким, слегка надтреснутым голосом.
— Я — художник, и пса назвал в честь моего великого собрата Михаила Врубеля. А вас как величать?
Дама с собачкой оказалась Анжелой. Она недавно приехала из Мариуполя и никогда прежде не видела живого художника. Ощутив ее крепкую ладонь в своей лапе, Веселкин осторожно прощупал ее пальцы, к своему удовлетворению, не обнаружив в нужном месте кольца. Брюнетка многообещающе улыбалась.
Веселкин распустил хвост. Правда, его не много лихорадило, и еще этот ее малоросский говорок… Художник еще не успел пригласить Анжелу в свою берлогу посмотреть картины, а та уже шла рядом с ним и говорила ему «ты». Веселкина распирало от гордости: на все про все хватило каких-то пятнадцати минут. Блицкриг! Вот и Врубель с таксой благополучно снюхались. По дороге в мастерскую он насвистывал арию герцога из «Риголетто», а Анжела несла несусветную чепуху, которая, впрочем, совсем не раздражала Веселкина. Возле своего дома он остановился, указывая спутнице на окна мастерской, а она вдруг с детской непосредственностью поинтересовалась, имеется ли там, у Веселкина… душ.
Веселкин напрягся. Какие-то странные предчувствия зашевелились у него под кожей. По мере того как они поднимались по лестнице, чувство тревоги росло. Возле двери в мастерскую, жалко улыбаясь, он спросил Анжелу:
— Может, купить чего нужно?
— Ничего не нужно! — нетерпеливо ответила та, и Веселкин нетвердой рукой вставил ключ в замочную скважину…
О, как она смотрела его картины! Разинув рот от удивления, пожирая глазами мельчайшие детали и краски. Как бросалась она к очередному холсту, выискивая в правом нижнем углу размашистую подпись художника и дату. «Они почти мои ровесники!» — восхищалась она, разглядывая даты. Узнав на портрете какого-нибудь широкоизвестного персонажа, она взвизгивала от восторга. За свою долгую творческую жизнь Веселкин помимо все го прочего успел запечатлеть образы нескольких актеров театра и кино, двух телеведущих и одного большого политика в прошлом. А пару недель назад повесил на видное место написанный сухой кистью портрет нынешнего большого политика, бывшего когда-то в подчинении у прошлого. Этот портрет должен был придавать Веселкину веса в глазах посетительниц мастерской. Когда наконец дошли до «обнаженки» — голых баб на пленэре, на диване или на коленях, — Анжела медленно вы тащила черепаховую заколку из своих волос и в упор посмотрела на Веселкина. Тот сдрейфил и петушком проскочил мимо гостьи к следующему своему полотну, на котором был изображен Пан, подглядывающий из-за кустов за обнаженной пастушкой. Прежде эта картина, исполненная в классической манере, побуждала присутствующих к немедленным действиям, расставив все точки над i. Теперь же Веселкину нужно было выиграть время, чтобы победить растущую в душе тревогу. Анжела по-хозяйски осмотрела «Пана с пастушкой», сказала: «Клево!», криво под мигнула Веселкину и решительно направилась к столу, на котором стояла бутылка коньяка с омерзительными звездочками. Георгию Михайловичу в этот момент подумалось: «Может, пронесет?» — и он кисло улыбнулся.
Анжела, не закусывая, поглощала веселкинский коньяк, безостановочно болтала и смеялась. Правда, смеялась как-то странно: широко раскрывая рот и обнажая при этом розовые нёба людоеда. Тут-то Георгий Михайлович и приметил у нее во рту золотую фиксу. Приметил и сник. «Может, все-таки про несет?» — малодушно подумал он, но без умолку говорящая Анжела уже снимала с себя блузку. С каким-то первородным ужасом Веселкин смотрел на змеиную кожу ее черных лосин, на сильное глыбастое тело простолюдинки, от которого не отказался бы и великий Рубенс.
— А как же душ? — вцепился Веселкин в последнюю соломинку.
— Да потом! Ползи сюда, старичок, — заворковала Анжела.
Что было дальше, Георгию Михайловичу не хотелось вспоминать. Нет-нет, сам он ровным счетом ничего не делал, просто сразу сдался на милость хлынувшим вдруг вешним водам бабьего желания…
Очнулся он, разбуженный могучим храпом, на тахте, в спущенных до колен вельветовых штанах и распластанный, как цыпленок табака. Весь какой-то жалкий, несчастный, но все еще живой. «Вот именно, живой!» — осторожно подумал он и повернул голову к храпящей брюнетке. Та даже сейчас улыбалась, сжимая в кулаке пустую бутылку из-под коньяка. Счастливая, как младенец. Вместо «Радио Эрмитаж» из винтажного репродуктора хрипел какой-то пошлый шансон, а из-за двери доносился робкий собачий скулеж. Веселкин вновь воровато посмотрел на Анжелу и злобно пробурчал:
— Приехала из Мариуполя и чуть не угробила!
Всего полчаса назад он то висел над бездной, трепеща в крепких объятиях гостьи, то та вдруг глыбой нависала над ним, и золотая фикса сверкала в ее сладострастно открытом рту. Как отчаянно билось его сердце, цепляясь за жизнь, как внутренне молил он эту женщину прекратить, перестать, пожалеть его, как был готов уже в голос молить ее о пощаде… Он бессильно смотрел на ее блестящие, как проволока, волосы, на жадные красные губы, на тяжело вздымаемые могучим дыханием груди, на мраморные лядвия, покоящиеся на мятых черных лосинах, вдруг напомнивших ему сломанные крылья демона.
«Ангел смерти, — скорбно подумал Веселкин. — Вот и до меня добрались!» Опасливо косясь на счастливую брюнетку, он торопливо натянул на себя брюки, влез рыхлым брюхом в шелковую рубашку и, пытаясь снять с горла проклятое кашне, бросился к выходу в домашних тапках, по пути опрокинув Ленина и отбив ему нос. Уже на пороге он услышал в спину:
— Куда? Стой!
— Я щас, — прохрипел он, не оборачиваясь, захлопнул за собой дверь и раздраженно отпихнул ногой двух собачек, которые смотрели на него, поджав хвосты. Только закрывшись в своей «Ниве», Георгий Михайлович немного пришел в себя и попробовал неслушающимися руками завести автомобиль. Автомобиль не заводился: выяснилось, что живописец забыл порядок действий автомобилиста. При этом Георгий Михайлович напряженно смотрел в боковое зеркало на дверь парадной, ожидая появления черных перепончатых крыльев.
Наконец двигатель зарычал, и Веселкин вдруг понял, почему пришел сейчас именно сюда.
— Софи, дорогая, — прошептал он, тыча пальцем в первый попавшийся маршрут навигатора и наконец сорвав с горла шелковое кашне, которое едва не задушило его там, на кровати в мастерской. — Только не молчи!
Маршрут, по которому Веселкин случайно направил свою Софи по роковому стечению обстоятельств, вел к дому бывшей его любовницы Верки. С той Веркой пару лет назад история закончилась грандиозным скандалом: Веселкину надавал подзатыльников бывший ее ухажер. Все это случилось прямо у нее на глазах. Тот амбалистый жлоб взял с Веселки на постыдное обещание забыть дорогу к ее дому. Но унизительнее всего было даже не рукоприкладство, а тот подлый, предательский смех с нотками злорадного презрения, которым наградила его она. Продавщица колбасного отдела, что с нее взять?…
— Пожалуйста, продолжайте движение прямо и через двести метров поверните налево! — услышал Веселкин и, всхлипнув, шум но и благодарно заплакал.
— Сделаю все, Софи! Только не молчи…
«Старый идиот! Ты едва не доигрался! Сколь ко же нужно обманываться, изображая из себя кого-то более счастливого и молодого, нежели ты есть, сколько нужно кривляться, чтобы до тебя наконец дошло: ты — старый, никому не нужный Веселкин, который уже ничего никогда не создаст, который может лишь имитировать, играть и казаться кем-то другим?! Который и живет то в этой эпохе только из милости и по инерции. Жизнь не прихлопнула тебя лишь потому, что ты сидишь в прокисшей норе со своим кобелем и Лениным, сидишь и не высовываешься. Да, тебе нужна рядом женщина, особенно сейчас, когда все валится из рук и жизнь летит мимо, как в Хельсинки «Аллегро». Но, видимо, только такая — бесплотная, виртуальная женщина, как Софи, и может быть теперь рядом, — смиренно думал Георгий Михайлович. — Выходит, именно ее ты искал, сивый мерин. Она, фальшивая, и есть та настоящая.
Ведь ей от тебя ничего не надо, она не обманет, не обидит, не предаст и никогда не оставит дряхлеющего, давно уже никому не нужного Веселкина. Она — та кость, которую бросила тебе новая эпоха, возможно, собираясь вдоволь посмеяться над тобой. Но эпоха просчиталась, потому что в этом нет ничего смешного. Все это не много грустно и совсем не так уж плохо: ты, старина Врубель, Ленин и бесплотная Софи…»
И все в веселкинской жизни встало на свои места. Правда, там, в мастерской, еще оставался демон из Мариуполя, который, кажется, не собирался ослаблять свою мертвую хватку и отпускать живописца к его после дней непостижимой любви.
Покладистый Веселкин, сидя за рулем в домашних тапочках, как последний подкаблучник, получал наслаждение от смирения перед любимой женщиной, исполняя все ее капризы.
— Знаешь, Софи, скажу тебе прямо: плевал я на все маршруты мира, лишь бы ты была рядом со мной. Что хочешь проси, все исполню…
— «Поверните направо, цель находится через пятьдесят метров с правой стороны».
Неожиданно до водителя дошло, по какому маршруту они едут, и ему стало стыдно перед Софи.. «Нива» подъезжала к дому Верки. Веселкин ударил по тормозам, залился краской и склонил голову к рулю…

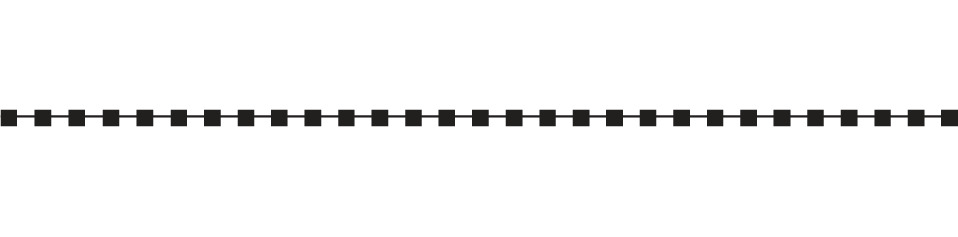
ИНВЕСТИЦИЯ ХУДОЖНИКА БУРКОВА
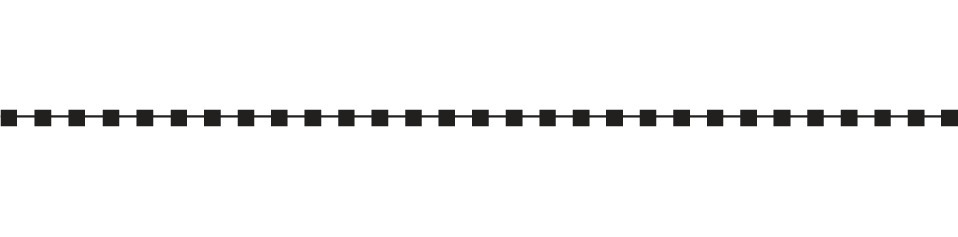
Всю жизнь большинство моих знакомых считали меня практичным человеком. Воз можно, это связано с тем, что проработал я несколько лет в банке. Ходил тогда я в галстуке, строчил какие-то бумажки и носил их на подпись разным шишкам, переходя из кабинета в кабинет. Работа была непыльной, скучной и никчемной, зарплата — высокой. Если бы не зарплата, отвращение к банковской деятельности у меня было бы полным.
Так или иначе, но на обычных людей банки действуют магически. Я давно это заметил. Кому доверять, если не им? Они почти никогда не ошибаются и знают, что делают. Они зарабатывают деньги. Видимо, исходя из банковского прошлого, некоторые мои знакомцы продолжают упорно мне верить и регулярно обращаются за советами в области финансов. Они считают, что у меня есть особые ценные знания и, как малые дети, лезут с расспросами. Я обычно никого не футболю и помогаю, чем могу, но я давно уже не в банковской обойме.
Недавно из-за такого совета один мой знакомец едва не сел за решетку….
В моем ближнем окружении много художников. Искусство я всю свою сознательную жизнь любил, но, столкнувшись тесно с творцами, сразу подметил несоответствие между их творениями и черте какой жизнью. Начав с ними общаться, я с улыбкой оценил мудрость русского народа, назвавшего их именно «художниками», а не иначе. В близком нам чешском языке художников именуют «умнельцами», то есть людьми умелыми и даже умными. Из нашего «худо» прорисовывается совсем иная композиция. Видимо худо жилось на Руси нашим «умнельцам» во все времена. Худые и неприкаянные шатались они под дождем и снегом по великим просторам словно юродивые. А народ видел их худую жизнь, жалел и смекал, что так худо жить нельзя…
Мои художники не были исключением. За их разухабистым поведением, как мне казалось, бесспорным талантом и потоками алкоголя скрывались все трудности жизни. Скульптор Кирилл Даландин — мой ближайший друг и сосед, не стесняясь, разносил вдребезги тупую действительность, нарушавшую его эстетические пристрастия:
— Ни хера не понимают в красоте, — Кирилл импозантно наполнял водкой серебряную «рюмку Фаворского» и эффектно опрокидывал ее, — суки, совсем профессионалов не осталось в стране, загнали нас по углам. Ты думаешь, Сашка, почему я на скульптуру шел? — Почему?
— А вот для чего: отлепил им пару Ильичей и свободен как сопля в полете…
Кирилл был человеком совершенно выдающимся. Артистичный, длинноволосый красавец, похожий на Альбрехта Дюрера, он влюблял в себя женщин и был образцом мужской бескорыстной дружбы. Облачался он в бархат, вельвет, жилеты, шарфы, шейные платки, тюбетейки и прочие аксессуары. Из всего этого винегрета прорастал полуфантастический стиль аристократа, отвергавшего всем своим существом обывательскую мораль.
Именно Кирилл ввел меня в мир питерской богемы. Мы собирались в его мастерской: запретных тем не существовало, эмоции всегда зашкаливали, водка текла рекой. Под воздействием алкоголя художники высказывались в адрес руководства страны:
— Ни хрена не понимают в управлении страной. Дали б нам деньги, через год страна стала бы другой, — длинноволосая богема одобрительно кивала Кириллу и синхронно опустошала рюмки.
Тут я с Кириллом соглашался, страна точ но была бы другой. А может и не стало бы стра ны через год…
Кто был во всем виноват, становилось ясно, зато по повестке «что делать» выходи ли разногласия. И тут все поглядывали на меня как на бывшего банковского работника. Волосатые художники смотрели глаза ми лунатиков и ждали простых и четких советов.
Я на доступном языке призывал их не жить одним днем по принципу «то густо, то пусто» и мыслить стратегически. Я говорил о том, что нужно делать сбережения и иметь хоть не большой, но стабильный доход, для того что бы заниматься творчеством, не думая о кастрюле щей. Художники, включая Кирилла, напряженно вслушивались и кивали грива ми. Я закончил. Большинство со мной без вольно согласилось, Кирилл как всегда восстал:
— Я с тобой согласен! Но!!! Если все будет, как ты сказал, то мы уже будем не художниками, а менеджерами. Лучше сразу петлю одевай!
Художники гордо закивали головами. Пьяный Сергей Бурков неожиданно встал на мою сторону:
— А вот я с Сашкой согласен насчет денег. Раздалось радостное ржание:
— Бурков деньги решил сохранить. Да ты же за день их и пропьешь!
— Не пропью, если будет цель. Скоро мне двадцать пять тыщ за работы отвалят, научи,
Саня, что делать…
Природа богато одарила Серегу Буркова талантом, добротой и полным презрением к материальной стороне жизни. У него даже дома своего не было. Обитал в мастерских друзей, где пил и творил. В свои пятьдесят он хорошо сохранился, имел космы и бородку в стиле зрелого Сурикова, но сливообразный нос своей палитрой выдавал его с потрохами. И, тем не менее, Бурков был живописен какой-то своей природной русскостью. Коллеги по цеху относились к нему с иронией и всегда и везде встречали Серегу улыбкой. Все любили его.
Года три назад с ним случилась такая ис тория.
В Серегу влюбилась заказчица. Одна стерва — директор агентства недвижимости решила «спасти» гибнущего художника и заодно устроить личную жизнь. Сначала она присматривалась к нему, подбрасывала заказы, а затем поделовому пошла на штурм:
— Я хочу уехать из России! У меня есть вилла в Панаме. Тебя ведь здесь ничего не держит. И потом, кому тут нужна твоя мазня? Едем вместе!
Эта Марина знала, на какого червя следует ловить Буркова. Эффектная, неглиже, она изящно лежала с сигаретой на только что по кинутом избранником ложе и с улыбкой любящей матери за ним наблюдала. Отхлебывая виски из горла и запивая его вчерашним лу ковым супом прямо из никелированной кастрюльки, Бурков отвечал ей восторженным взглядом. Казалось, судьба благоволит недотепе художнику.
— Ну как?
Бурков вытер губы рукавом халата.
— Чего как?
— Как насчет Панамы? — Какой Панамы то?
Скоро Марина улетела в Панаму, чтобы приготовить гнездо к приезду жениха. А сам жених был сдан подруге — деловой во всех отношениях даме, чтобы та, взяв его за руку, обошла нужные инстанции и оформила к сроку бумаги. Сергей блеял и рыпался, но дама высосала его как паук, муху и нужные бумаги были собраны к заданному времени.
В те дни от него даже пахло одеколоном, и своим видом он стал напоминать помятого светского льва. Серега постепенно свыкся с наставницей и уже почти не сопротивлялся. Слушал он ее вяло и без интереса, а на вопросы отвечал боязливо. Серегины реплики часто ставили воспитательницу в тупик:
— Сергей, какой будешь кофе: капуччино, латте, американо?
— А нашего можно, с тремя кусками сахара?…
Билет на самолет вместе с документами художника лежал в сумочке дамы, и она удовлетворенно проводила финальный инструк таж в кофейне на Жуковского:
— Все, Сережа, завтра ты летишь к Марине. Я приеду за тобой в шесть утра. Вещи собраны, только ничего не трогай. Марина будет довольна, я обещала, что мы ее не подведем. Бурков самодовольно улыбался…
В пять сорок пять деловая дама припарковала свой «Мерседес» на Шаумяна, где жил скульптор Шагинян. Мобильный Буркова не отвечал. В пять пятьдесят дама энергично входила в здание, в котором находилась мастерская Шагиняна, где уже два года ютился без пяти минут житель Панамы.
Шесть утра. Дверь сотрясалась от ударов деловой дамы вот уже десять минут. Она грубо колотила лакированным французским сапогом в металлическую дверь, то и дело припадая к ней чутким ухом и улавливая не то чьи то стоны, не то сбивчивое бормотание. Бурков и Шагинян не реагировали, но вялое позвякивание мобильника все же раздавалось внутри мастерской. И вдруг дама прекратила быть деловой: она выскочила на улицу, схватила кусок кирпича, лежавшего на земле и запустила им в окно Шагиняну. Раздался почти симфонический звон, и за ним сразу хлынул поток истошной ругани. Дама завопила, срываясь на фальцет, требовала открыть дверь, и дверь все-таки открылась.
В дверях стоял кучерявый Шагинян в семейных трусах и мутно смотрел на гостью. Дама оттолкнула Шагиняна и ворвалась в мастерскую. Как при Бородине здесь все смешалось в кучу, только вместо коней и людей всюду валялись пивные и водочные бутылки. Бурков храпел на раскладушке в спущенных до колен брюках. Дама принялась безжалостно его расталкивать и дубасить.
Художник приоткрыл глаза и стал вяло отпихиваться от «непрошеной гостьи». Его отсутствующий взгляд поведал гостье о многом, и она применила шоковый метод. На физиономию Буркова выплеснулось полтора литра воды, предназначенной растениям. Бурков метался, как попавший в ловушку Кинг-Конг, и нецензурно орал. Все попытки вскочить с раскладушки терпели фиаско: спущенные штаны как кандалы сковывали ноги несчастного.
— Шагинян, кто привел сюда эту блядь?
— Так это же твоя знакомая!
Дама вдруг замерла и отшатнулась от Буркова. Художник смотрел сквозь нее нечеловеческими глазами.
— Сережа, а как же Панама?
В тишине неожиданно прорезался Шагинян:
— Ну вы же видите, он не в состоянии….
«Панамская легенда» и припомнилась мне, когда он полез с этими двадцатью пятью тысячами. Бурков смотрел взглядом, полным надежды, и мое сердце дрогнуло.
— Ну так что, Саня, поможешь деньги припрятать понадежнее?
— От кого припрятать?
— Да от меня, бляхамуха…
Серега засуетился, схватил меня за локоть, и мы вышли.
Мы остановились у входа в мастерскую. Бурков напряженно морщил лоб. Я кратко поведал ему о рублевых и валютных банков ских вкладах и покупке золотых инвестиционных монет. Про игры на форексе и паи в управляющих компаниях я сознательно умолчал. От золота он пришел в дикий восторг.
— Ну, ты голова! Конечно, нужно брать золото. Золото ведь не какое-нибудь говно типа банковских вкладов!
Через неделю Сергей мне перезвонил и на помнил про разговор. Деньги были уже у него. Жгли карманы. Буркова лихорадило:
— Сашка, только умоляю, узнай, как быстрее золото взять, а то боюсь, не удержусь.
— Не паникуй, завтра к обеду будет у тебязолото.
Я нашел банк на Звенигородской с самым выгодным курсом покупки и договорился с Серегой на два часа дня. Он опоздал на полчаса. Я не злился, тридцать минут для такого хорошего художника — статистическая по грешность. В кассу я зашел первым, внятно изложил сотруднице цель визита следующего клиента и вышел обратно. Клиент пошел на дело с просветленным лицом двоечника, неожиданно получившего пятерку.
Минут через пять он вышел, потирая пластмассовые пластиковые коробочки потными руками.
— Саня, ты подумай, как они здорово называются — «Георгий Победоносец»! Вот это по нашему! Я ж сам из под Вологды, люблю все русское: баньку с веником, босиком по росе. Спасибо, брат, сам бы я точно не управился!
— Учти, там у тебя еще три тысячи должныостаться.
— Да, что-то около того. — Бурков тут же проверил свою наличность, испуганно поглядывая на меня. Все сошлось. Он задорно хлоп нул себя по карману джинсов и радостно про тянул мне лапу.
Через три дня я улетел с семьей на море, и художник Бурков со своими монетами на не сколько недель вылетел из моей головы. Через месяц мы возвратились отдохнувшими, загорелыми и расслабленными. Через пару дней я заехал навестить Кирилла. Заваривая чай, он насмешливо посматривал на меня:
— А ты знаешь, что Буркова чуть не посадили из-за твоих монет?
— Как посадили, ведь я все устроил?
Кирилла всегда выгодно отличало умение образно и живо рассказывать истории. Он разлил чай, раскинулся в кресле и закурил…
«Пришел короче Бурков с монетами к Шагиняну в мастерскую и начал хвастаться своим золотишком. А там гад Павлов был. Сели они за стол, стали отмечать покупку. Раздавили пару пузырей, и тут гад Павлов засомневался в подлинности золота. Бурков обиделся, раздал монеты и стали они их кусать по кругу под водку. Гад Павлов убедил всех, что золото нужно брать на зуб. Кусали они монеты до тех пор, пока водка не кончилась. Но слушай дальше…
Через неделю у Буркова закончились деньги, он залез в долги и вспомнил про монеты. Пришли они с Шагиняном в банк, а там их огорошили: сказали, что выплатят только часть суммы. Бурков психанул, тебя вспомнил добрым словом, банкиров обругал, но от безысходности решил продавать.
У кассирши глаза как телескопы стали, когда она увидала Бурковское «золотишко». В общем монеты она принимать отказалась. За чем, говорит, вы испортили золото? Бурков завопил и потребовал начальников. Явились охранники, попробовали успокоить его, да все без толку. Пришлось вызывать подкрепление, и только после этого его вытолкали на улицу, где его ждал, переминаясь с ноги на ногу, бед ный Шагинян. Бурков плакал от несправедливости, а у метро вдруг взял, да и загнал все свое золото за пять тысяч какому-то барыге. Вот какой бизнес у художника получился! Но это еще не все. Взяли они с Шагиняном пузырь и здесь же его оприходовали. У Буркова съехала крыша: он заявил Шагиняну, что пойдет мстить банку. Шагинян схватил его за рукав: — Не ходи! Не надо!
— Не лезь, Шагинян, душа болит…
Поднял Бурков с клумбы два булыжника и пошел к банку, а там расхерачил средь бела дня им пару витрин. Больше бы разбил, если бы не выскочила охрана и не повязала его вместе с Шагиняном. Бедный, бедный Шагинян…
Короче, напрягли всех знакомых в Союзе, чтобы парней из ментовки вызволить. Слава богу, там остались мужики с юмором, замяли бурковские подвиги. Вот такая инвестиция у художника вышла, екмакарек».
— Где он теперь?
— В Вологду укатил.
— Что, по росе соскучился да по бане с веником?
— Да нет, он там в одном монастыре часовню реставрирует.
— Уж не Георгия ли Победоносца?
— А ты откуда знаешь?..

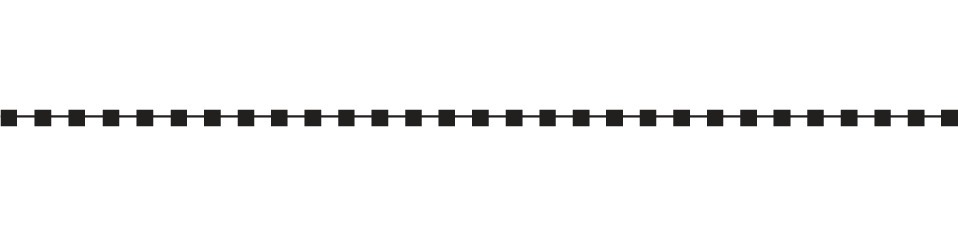
ДАЛАНДИН В ПАРИЖЕ
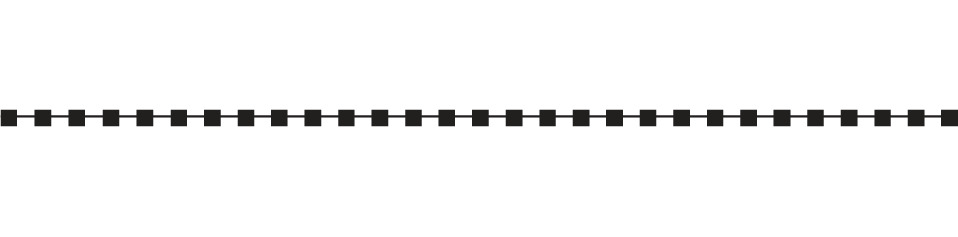
Имя молодого скульптора Кирилла Даландина прогремело в Питере в начале девяностых, после успеха дерзкого Шемякинского Петра. Горожане в то время толпами шли к этому памятнику на Петропавловке. Старики ворчали, недобрым словом поминая мэра демократа, допустившего «это безобразие», молодежь по большей части скалила зубы и фотографировалась с царем. Даландин тогда комментировал:
— Молодец Шемякин, отлично сработал! Люблю здоровое хулиганство.
Я удивился. Мой друг, обычно распекавший маститых коллег, тиражирующих художественную макулатуру, принял Шемякина и оценил по достоинству…
Примерно через год после этого разговора Кирилл, вдохновленный экспериментом Шемякина, сам вылепил царя Петра, на голове которого красовалась… чернобелая шахматная доска.
Все опешили, а автор только хитро улыбался:
— Так им всем и надо!
— Кому им то?
Про Кирилла с его Петром-шахматистом писали в городских газетах, и скульптор Даландин замелькал на телевидении в первых ток-шоу. Все чаще рядом с его именем стала появляться приставка: «скандально известный». В телеящике Кирилл сидел рядом с известными журналистами и обаятельно вешал им лапшу на уши:
— Петр — великий шахматист в большой европейской политике. И в Голландию он ездил не случайно. Обратите внимание на то, что там у них даже полы, словно чернобелые шахматные доски. Так что все сходится.
Журналисты дивились этой смелой гипотезе молодого нахала и на всякий случай не спорили с ним. А Кирилл кочевал из программы в программу и, словно тогдашний Курехин или Гребенщиков, пудрил уважаемой публике мозги.
В те дни «шахматиста» обсуждали даже девицы с моего потока, а я не без гордости козырял пред ними дружбой со скандально известным скульптором. Вскорости Кирилл загнал своего Петра за хорошие деньги одному толстосуму, открывшему ресторан в голландском стиле рядом с домиком Петра на набережной. Дела у толстосума сразу пошли в гору. Многие посетители специально шли отобедать в ресторан «Петровский» после прогулок по Петропавловской крепости и домику Петра.
Кирилл в то время обедал в ресторане бес платно, справлял тут свои дни рождения и встречался с заказчиками… Однако и этой сказке должен был прийти конец, и он пришел: ресторан сгорел, а скульптуру Петра шахматиста на пожарище почему-то не обнаружили…
Шли годы, Кирилл Даландин прочно сидел на мели. Его нашумевшее творение стали уже забывать. Но как то вечером в мастерской раз дался международный звонок. Звонила Дина — актриса и бывшая подружка Кирилла, выскочившая несколько лет назад за француза:
— Даландин, бери свои работы и приезжай к нам. Одна тетка открывает галерею современного русского искусства в Париже. Мы с моим Николя замолвили за тебя словечко!
— Денег нет, — мрачно ответил скульптор.
— Достань! Тетка, оказывается, про твоего шахматного Петра слышала. Так что ты для нее почти звезда!
Самолет из Петербурга приземлился в аэропорту Шарля де Голля. По русски проворно выхватив с ленты пузатый чемодан, элегантный Дадандин опередил нерасторопных европейцев и, сияя улыбкой, поплыл в объятия бывшей любовницы, приехавшей в аэропорт вместе с мужем. Крепко пожав безжизненную ладонь Николя, он поинтересовался у Дины:
— Он у тебя по русски понимает?
Кучерявый француз сладко улыбнулся сквозь очки а-ля Вуди Аллен и изрек:
— Немножка…
Внешне этот Николя напомнил Кириллу откормленную и добела отмытую копию армянина Шагиняна, отчего сразу пришелся ему по душе.
Распорядителем во французской семье была… Дина. Николя лишь зарабатывал деньги да исполнял прихоти красавицы-жены, недавно начавшей сниматься в ролях второго плана на французском телевидении. Жили супруги в центре Парижа на Больших бульварах в светлой просторной и слегка старомодной квартире.
В первый же вечер Даландин попытался перековать мягкого, но слегка непонятного Николя в предельно понятного Шагиняна с помощью двух бутылок водки, привезенных с Родины. Еще не привыкший к особенностям русского характера француз не мог сопротивляться превосходящим силам противника и потому покорил ся энергичному диктату русского скульптора, на которого взирал опасливо и со смущением, то и дело переводя взор на супругу. Та же, смеясь, лишь разводила руками, предоставляя бывшему любовнику право верховодить:
— Да расслабься ты, француз! — изрек Кирилл, подливая водку в рюмку Николя.
Глубоко за полночь, когда все разбрелись по комнатам и утихомирились, Кирилл до стал из чемодана свои бронзовые статуэтки и расставил их на полках стеллажей. Скинув с себя рубашку и распахнув окно с видом на бульвар, закурил и погрузился в созерцание майского ночного города, еще полного суеты, переливов огней и многоголосицы. Шелест серебристых платанов, достающих до третье го этажа, навивал приятную дрему. Скульптор улыбался, ощущая некое духовное родство с Д‘Артаньяном, и жаждал теперь чего то вроде добровольной капитуляции со стороны Парижа, развратный воздух которого пьянил и звал к свершениям. Наполнив водкой свою вечную спутницу — «рюмку Фаворского», он опрокинул ее в глотку — закрепил впечатление.
Внезапно дверь отворилась — на пороге воз никла Дина в едва прикрывавшем бедра прозрачном пеньюаре. Подойдя к Кириллу, она властно выхватила сигарету из его губ и жад но затянулась. Кирилл все понял:
— А как твой на это посмотрит?
— Он не против!
— Странные вы люди, французы… — глубокомысленно заметил Кирилл.
Первая парижская неделя прошла для Даландина на одном дыхании: галереи, выставки, встречи с нужными людьми, разговоры по душам с бывшими соотечественниками. Приняв приглашение ассоциации русских художников в Париже, скульптор Даландин не мешкая вступил в ее ряды.
Всем здесь хотелось знать о современной России — стране больших возможностей, силовиков и неуловимых бандитов. Эмигранты позднего советского периода ревниво выведывали у Кирилла подробности русской современной жизни, чтобы понять, не ошиблись ли они в свое время, делая ноги из России:
— Все шарахаетесь из огня да в полымя? –ехидно вопрошали они.
— Шарахаемся, скучать не приходится! –вещал Кирилл, звеня бокалом шампанского об их бокалы…
Работы его здесь понравились. Как ни странно, кое-кто еще помнил Петра«шахматиста». Это было на руку Даландину, поскольку цены за свои шедевры он резал немалые. Галерейщики рассматривали бронзовые статуэтки, сотворенные Даландиным, вопросительно смотрели на автора, словно взвешивая все «за» и «против». Кирилл обаятельно улыбался… и стоял на своей цене. Петр-«шахматист», видно, помогал, прорубая в очередной раз окно в Европу для нахального русского скульптора. Через это окно и перекочевали в парижские галереи и частные коллекции даландинские статуэтки. На вырученные деньги он теперь мог безбедно прожить пару — тройку лет в России. В Питере за эту бронзу он не выручил бы и десятой части…
Имевшая во всем этом свой расчет Дина подначивала Кирилла:
— Оставайся, дурак! С твоей наглостью быстро разбогатеешь!
— Посмотрим, — лениво отмахивался от нее дурак…
Живя у Дины и Николя, Кирилл облюбовал китайское кафе на бульваре Пуасоньер и теперь частенько пропадал там за столиком в зеленом зале. С китайцами он начал изъясняться языком жестов, рисунков и улыбок и почти сразу достиг взаимопонимания. Китайцы ласково величали его «мсье Кирюса» и, кажется, гордились тем, что такой большой художник выбрал именно их кафе среди прочих по соседству. В свободное от встреч время мсье Кирюса заходил к китайцам и часами просиживал за своим столиком с карандашом и блокнотом, пере нося на бумагу запечатленные памятью сюжеты и образы. Как-то незаметно для всех он сделал несколько рисунков сотрудников кафе и подарил их им, вызвав всеобщее восхищение и получив от заведения максимальную скидку.
Он внимательно всматривался в разномастную парижскую публику, во весь этот расхристанный интернационал пятой республи ки, особое место в котором занимали чернокожие эмигранты. В них он чувствовал пассионарную энергию разрушения и созидания и еще — наглость и безнаказанность. Коренные жители предпочитали с ними не связываться…
Как-то идя к своим китайцам, мсье Кирюса стал свидетелем того, как трое пьяных чернокожих, переходившие бульвар на красный свет, с презрением отмахивались от гудящих авто. Один из них — в кожаной куртке с агрессивными шипами и заклепками — перегородил дорогу бибикающему «Пежо» с каким-то ветхим стариком за рулем, продемонстрировав тому вытянутый средний палец под дружный гогот товарищей. Самым странным было то, что остальные граждане пятой республики словно не замечали происходящего. Лишь некоторые из них укоризненно качали головами. Правда, едва заметно. «Да это какое-то черное свинство!» — возопил тогда Кирилл и с досады плюнул на асфальт. Что-то в этой свободной стране было не так, не по людски что ли, и Даландин насторожился.
Даже в уютном китайском кафе он не раз ощущал на себе колючие, наглые взгляды чернокожих, словно проверявших его «на вшивость», а как-то они даже едва не утащили его портфель, когда он всего на несколько шагов отошел от столика, чтобы поздороваться с хозяином заведения…
Дина все подталкивала бывшего любовника к принятию «правильного» решения, и Даландин, обласканный галерейщиками и критиками, до отвала накормленный услужливыми китайцами, уже и впрямь склонялся к тому, чтобы сделаться парижанином. Он даже счастливо забыл о том, что на родине в Питере у него остались друзья, мастерская и… семья. Да-да, семья — жена и сын-малолетка. Даландин словно пребывал в счастливом сне, где всегда над головой светит солнце, а впереди ждет только бесконечное счастье…
Однако в один из таких счастливых дней Кирилл вдруг словно проснулся: понял, что французом ему не быть…
Спеша на деловую встречу, Даландин спустился в подземку. Лавируя между парижанами и вальяжными туристами, он летел по направлению к распахнутым дверям вагона. Уже прозвучало объявление об отправке по езда. Однако в последний момент перед закрытием дверей Кирилл впрыгнул в вагон, врезавшись в кого-то плечом. И поезд тронулся. Оправив свой пижонский вельветовый пиджак и откинув волосы со лба, Даландин дружелюбно улыбнулся взъерошенному чернокожему лет тридцати и произнес:
— Пардон!
К его немалому удивлению чернокожий в ответ довольно злобно сверкнул глазами: кажется, этот потомок людоедов и не думал при нимать извинения длинноволосого пижона.
Более того, огромный рот чернокожего распахнулся, обнажив желтоватые зубы и просторные своды розового нёба, и на пижона об рушился поток французской площадной брани. Кирилл не чувствовал своей вины перед злобствующим субъектом, и это его «пардон» было актом доброй воли воспитанного человека. Однако хамство чернокожего больно задело его, и поскольку известных французских слов в данной ситуации ему недоставало, он перешел на великий и могучий:
— Развели тут вас, нигеров, на свою голову! Никому житья от вас нет!
С досады махнув рукой, Даландин отошел в сторону. Однако чернокожий последовал за ним и, вплотную приблизившись, вдруг цеп ко схватил его за рукав:
— Je negre? Je negre? Il m a appele par lenegre!
Негр весом под центнер изрыгал проклятия, брызжа в лицо Кириллу своей ядовитой слюной и что-то при этом разъясняя пассажи рам подземки. Те внимательно слушали, понимающе кивали и, как всегда, не вмешивались. Влажные губы потомка людоедов ходили ходуном и, казалось, жили своей отдельной омерзительной для Кирилла жизнью. Скульптор попытался было отстраниться от распоясавшегося горлопана, но это лишь плеснуло в топку бензина: тот уже буквально лез на Даландина: его губы уже извивались, как морские гады, возле самого лица скульптора… Сдерживаясь из последних сил, Кирилл смотрел в сторону. Вдруг чернокожий сильно ткнул кулаком Кирилла в плечо и гадко рассмеялся… Тут в голове у Даландина наконец оглушительно лопнула лампочка, и в глазах погас свет. Скульптора замкнуло. Бывший хулиган схватил опешившего обидчика за грудки, несколько раз тряхнул его как грушу и потащил в угол вагона. Чернокожий скис: в этого кудлатого молодого человека, обвешанного стильными шарфами, похоже, вселился бес злобы. Французы в большинстве своем продолжали хранить молчание, но нашлись и те, что вступались за… чернокожего. Какой то помятый очкарик в берете что-то требовал от Кирилла, но скульптор лишь отмахивался от него, как от назойливой мухи. Из противоположного конца вагона до Кирилла уже до летало робкое: «мафия», «Россия». Кирилл все тряс негра, держа его за грудки и по-русски разъясняя тому что к чему, а очкарик в берете все более распалялся: вероятно, он голосил что-то в защиту потомков несчастных людоедов. В глазах чернокожего заблестели огоньки надежды, и он начал жалобно подтявкивать очкарику. Не ослабляя своей мертвой хватки, Даландин попытался объясниться с очкариком, но тот с маниакальным упорством продолжал отстаивать базовые европейские ценности, обращаясь уже ко всему вагону…
Грозно склонившись над чернокожим, Кирилл изрек:
— Ну что, черножопый, доволен?
Порядком обмякший негр с опаской уста вился на Кирилла, и выражение его лица вдруг стало меняться: на место отчаяния, которое еще минуту назад сменило допотопную ярость, приходило чувство смирения, уважения и даже благодарности. Его черная физиономия уже светилась тихим светом раскаяния, так понятного душе бывшего питерского хулигана и закоренелого прогульщика Даландина.
— Pardon msier, pardon! — пискнув, чернаягора родила мышь.
Кирилл широко улыбнулся, ослабил хват ку и великодушно похлопал чернокожего по плечу:
— Ладно, живи, бумбарашка.
Продолжая извиняться, чернокожий отдалился от скульптора на безопасное расстояние. Французы с пресными, ничего не выражающими физиономиями переводили взгляды со скульптора на чернокожего и обратно. Лишь помятый очкарик не сдавался: вещал что-то травоядной паре старперов, показывая на Кирилла.
— Они говорят, что вы русский расист, и хотят вызвать полицию, — неожиданно услышал Даландин родную речь и повернул голову. Рядом стояла усталая женщина лет пятидесяти. — Весь вагон подтвердит, что вы этого парня жестоко избили.
— И вы подтвердите? — все еще улыбаясь, спросил Даландин. — Ведь правда на моей стороне!
— Забудьте, это тут не работает! — усмехнулась женщина.
— А что работает? — искренне удивился Даландин.
— Закон!
— Значит, закон выше правды?
— Здесь выше. И выходите скорей из вагона, если не хотите в тюрьму…
Вечером за рюмкой коньяка Дина учила уму разуму русского медведя:
— Дикарь ты, Даландин. Да тебя здесь только за слово «негр» могли за решетку упечь!
— За что, это нечестно! — негодовал скульптор.
— Дурак ты, кому ты нужен здесь со своей честностью? — недоумевала Дина.
Последний вечер перед возвращением скульптора в Питер плавно перешел в ночь. Даландин щедро угощал расстроенных предстоящим расставанием хозяев винами и за кусками из китайского кафе. Его парижский вояж себя вполне оправдал, но лишь… материально. Дома его с нетерпением ждали друзья-приятели с их веселыми попойками, новые творческие свершения, семья… И вообще дух родины неудержимо тянул его обратно.
Отвлекшись на телефонный звонок, Нико ля вышел из гостиной.
— Ну, решил? Будешь сюда перебираться? –трепеща ноздрями, нервно спросила скульптора Дина.
— Нет. Не выйдет из меня француза, — усмехнулся Даландин.
— Это почему?
— Я из другого теста. Знаешь, у нас мужики всегда крепко жмут руку, а ваши суют свои влажные ладошки, словно чего-то боятся.
— Конечно, боятся. От таких, как ты, всего можно ожидать! Ишь, что в подземке учинил!
— Вот именно, дорогая! — Кирилл осклабился, но уже через мгновение стал непривычно серьезным.
— И вот еще что: я не хочу жить там, где закон выше правды. Не смогу… Здесь все внеш не очень хорошо, пристойно, но сами люди какие-то не горячие и не холодные, а пластмассовые что ли…, кроме, пожалуй, моих китайцев да и этих самых несчастных негров.
— Выходит мы тут все мертвые? — с обидой спросила хозяйка.
— Да нет. Только выпить да поговорить не с кем. Даже большинство наших тут вылиняли. А тебя твоему Николя стоило бы хорошенько отодрать ремнем по совокупности подвигов! — усмехнулся гость миролюбиво.
Порозовевшая актриса грустно вздохнула:
— В том то и дело, что здесь меня некому драть. — Потом, сверкнув глазами, она выпалила: — Ну и катись ты в свою Россию, дурак. Алкоголик…

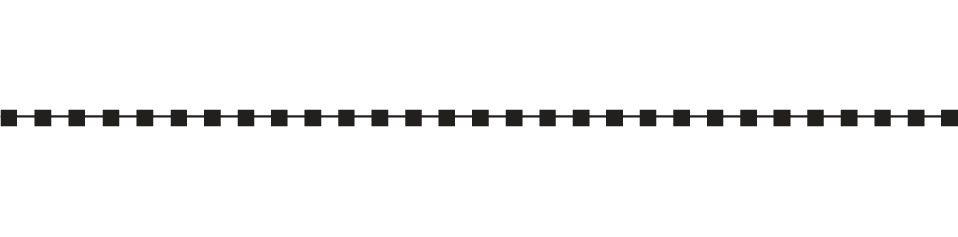
ЖЕНИТЬБА БУРКОВА
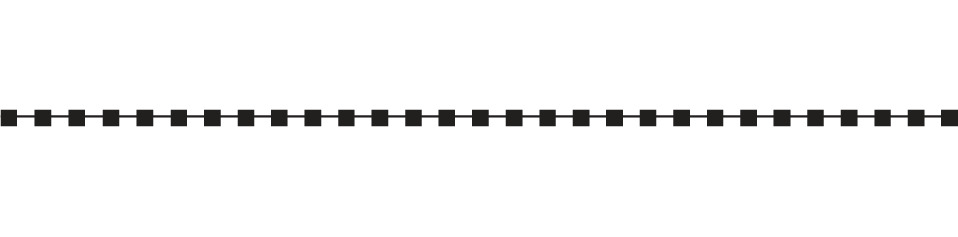
Художников Бурков всегда пользовался ус пехом у женщин.
Особенно хорошо дела шли в молодости, когда его нос еще не приобрел настораживаю щей лиловой окраски. Одна молодая особа в те годы умудрилась даже наперекор родите лям женить его на себе.
Буркову было в ту пору всего двадцать шесть. Он имел вид эталонного хиппи и вольно перемещался с кистями и мольбертом по окрестностям Вологды, ловя на себе взгляды романтически настроенных девиц, уставших от комсомольского однообразия. Возле Феропонтово к нему как-то и прибились две симпатичные барышни. Художник на пленэре был особенно хорош: косматые власы, сияющие глаза, расхристанный вид и кисть, шныряющая по холсту, как шпага фехтовальщика, все это буквально кричало о причастности художника к загадочному миру, в котором таится выход в эмпиреи.
Одна из барышень — Наташа — первая обратила внимание на живописного молодого пижона и потянула в его сторону подругу…
К радости девиц художник оказался разговорчив и естественен как ребенок: бесхитростно улыбался, отвечая на дурацкие вопросы, без остановки острил и даже позволил Наталье сделать мазок кистью по своему холсту. При этом его лапа уверенно и одновременно мягко направляла девичью руку, и этот дуэт оставил эффектный завиток на холсте.
— Как красиво получилось! — умирала от удовольствия Наташа.
— Да ну, обычное дело, — сверлил ее своим огненным взором художник.
Девица была на седьмом небе от счастья. Радостно щебеча, Наташа написала Буркову свой телефон и кокетливо вложила листок с номером ему в ладонь. Художник, не отрываясь от холста, с беззаботной веселостью скомкал эту бумажку и сунул в карман, не заметив, что Наташа слегка нахмурилась, задетая подобной небрежностью. Однако уже через мгновение девушка расплылась в улыбке: при всем желании долго обижаться на этого сияющего хиппи было просто невозможно. В такие вдохновенные минуты он напоминал не то заигравшегося ребенка, не то щенка, беззаботно катающегося на спине по залитой солнцем поляне…
Дочь директора строительного треста двадцатичетырехлетняя Наташа во всех смыслах была завидной невестой. Миловидная и не злобная, она была пропитана идеалами русской литературы девятнадцатого века, и восторженная душа ее томилась в поисках того единственного и неземного, которого она могла бы полюбить всем сердцем. Обыкновенные, так сказать, правильные молодые люди ее со всем не привлекали. Она не желала идти по жизни путем, заготовленным ей родителями, и ее твердый целеустремленный характер не мог не вызывать уважение даже у отца начальника. Нет, только самое возвышенное, самое удивительное существо было достойно Наташиной любви, и случайно подвернувшийся ей во чистом поле Бурков, что называется, попал на благодатную почву.
Девица вбила себе в голову, что полюбила, и стала беззастенчиво ухаживать за расхристанным хиппи. Бурков не возражал, тем более что у Наташи всегда можно было вкусно пожрать. Кроме того, она сносно разбиралась в искусстве и получала секретарскую зарплату, на которую нет-нет да и приглашала своего художника в кафе.
Бурков с его случайными заработками и пустым холодильником не сопротивлялся настойчивой ухажерке. Обитал он в комнате одноклассника Николая, работающего где-то на стройке, а по вечерам занятого в народном театре. Этот пронырливый актеришко по дешев ке пристраивал картины Буркова, не забывая о своем интересе. Бурков был счастлив получать от него жалкие рубли, поскольку не знал истинной цены своим «художествам». При самостоятельных попытках сбыть живопись плату за холсты он частенько получал в водочном эквиваленте. Подобные сделки шли час то ниже себестоимости и не окупали даже за трат на масляные краски.
Непритязательность Буркова доходила до безалаберности, граничащей с монашеским аскетизмом. Отсутствие денег не тревожило его, но когда краски и водка, которая лилась в этой квартирке рекой, заканчивались, его охватывала лихорадка, за которой неминуемо следовал глубокий творческий кризис…
Зайдя как-то к Николаю, Наташа пришла в ужас от условий жизни своего возвышенно го принца и всю вину за это взвалила на хозяина квартиры:
— Как ты не понимаешь, Бурков, что он эксплуатирует тебя!
— Нее, Колян свой человек, — ухмыльнулся Бурков.
— У тебя все хорошие. Ты хоть знаешь, чтоон твои деньги прикарманивает?
— Нее, не прикарманивает. У меня и денегто нет.
Одним словом не художник, а святая про стота…
Наташа, однако, твердо решила устроить жизнь любимого и ринулась спасать его. Первым шагом к спасению стало переселение Буркова под надзор к Наташиной бабушке, Марии Николаевне, бывшей учительнице литературы, обитавшей в трехкомнатной квартире с котом. Бабушка нежно любила внучку и после знакомства с художником согласилась его приютить. Мария Николаевна, также как Наташа, любила искусство и все, что с ним связано, и Бурков сразу пришелся ей по сердцу…
За чаем бабушка с внучкой с умилением переглядывались, наблюдая за художником, жадно рассматривающим альбомы Моне, Гогена и Коровина…
— Красота! Можно мне копии с этого сделать?
— Еще успеете, молодой человек, лучшепейте чай!
Расчет внучки оказался верным. Бабушка, имевшая внушительный опыт работы с трудными подростками, крепко взялась за безалаберного художника, и тот покорился ей, как глина скульптору, с готовностью выполняя заказы, подбрасываемые ее многочисленны ми знакомыми. Картины и их автор стали постепенно приобретать популярность у вологодской интеллигенции. Некоторые знакомцы стали специально заходить к Марии Николаевне, чтобы переброситься парой сентенций об изобразительном искусстве и вживую понаблюдать за его рождением: Бурков творил, и день и ночь не отходя от мольберта. Квартира педагога превращалась в подобие светского художественного салона, а сама педагог, обладавшая и вкусом, и чувством меры, буквально на глазах превращалась в ушлую галерейщицу. Бурков теперь почти не пил водку, и у него, наконец, появились настоящие деньги, а на обеденном столе более изысканные, нежели «Пшеничная», напитки, потреблением которых дирижировала хозяйка.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.