
Бесплатный фрагмент - Звук натянутой струны
Артист театра «Красный факел» Владимир Лемешонок на сцене и за кулисами

Автор благодарен Олегу Колесинскому за создание идеальных условий для работы над этой книгой.
Автор не претендует на точность и объективность изложения.
Автор заранее просит прощения, если его мнение расходится с общепринятым, или если о ком-то из действующих лиц сказано меньше, чем следовало бы, или не так уважительно, как он того заслуживает.
Автор предупреждает, что в книге содержатся антирелигиозные высказывания, и рекомендует соответствующей категории лиц воздержаться от чтения, дабы не травмировать свои чувства.
На обложке — фото автора.
Вместо предисловия
Любовь к театру автором книги заявлена с первых же слов. Причём к театру — вполне определённому, отдельно взятому. Интонация самоиронии, однако, ведёт эту линию в сторону крутого виража — и первое лицо повествователя уходит в тень. Ангел превращенья уносит его из открытого пространства диалога с читателем во внутренний монолог героя — артиста Владимира Лемешонка, спешащего на спектакль.
Происходит чисто театральный прецедент: перевоплощаясь в иносказание, авторская интонация обретает полную свободу полёта. Эта органичная метафора преображает пространство и время героя, жизнь его близких и далёких, атрибутику его провалов и побед. Хладнокровие этого закона не знает, рассудку чужды эти экскурсы в детство и юность, эти жизнеописания отцов и детей, друзей и подружек, одиночества и неповиновения в школе, армейских страданий и профессиональных терзаний. Но ведь мы и на спектакль нередко приходим равнодушными, а уходим — воспламенёнными. Если режиссёр своих персонажей любит, он их не только оживит, но и тебя как зрителя втянет в свою игру — и ты не сможешь сопротивляться, ты тоже окажешься внутри и увлечёшься не только героями, но и их владениями.
Как человек театра, прослуживший ему большую часть своей жизни, я почувствовала эту авторскую завороженность театром с первых страниц. Я жила и училась в Новосибирске, потом я там бывала по личным и служебным делам. Мне казалось, что я знаю Владимира Лемешонка: я видела его в самых разных спектаклях. Стройный красавец с умным и чуть насмешливым лицом, вполне самоуверенный премьер — кто ж его не знает! А вот, поди ж ты, это мне только казалось. Вряд ли кто догадывается, сколько было ухабов на его пути к освоению профессии, сколько сегодня горечи и сомнений роится на дне его души, сколько беспощадного самоконтроля и тайн внутри и вокруг каждой роли!
Автора книги ведёт вдохновенный импульс исследователя. Точкой отсчёта становится своего рода парадокс: это какой же путь должен был пройти артист, чтобы роль Афанасия Казарина в спектакле «Маскарад» — роль второго плана — стала в его исполнении блистательной ролью рокового вершителя человеческих судеб. Автор явно взыскует правды. Той самой правды чувств, без которой не только полноты театра нет, но и полноты жизни. Лирика внутреннего монолога артиста то и дело прерывается эпосом — рассказом о событиях его жизни. И это тоже своего рода театральная уловка — эффект остранения ради свежести читательского восприятия, когда герой тебе и слышится, и видится словно бы от первого лица, хотя явлено — третье. К тому же, у новосибирского зрителя (и читателя) есть дополнительные дивиденды: пойти в театр и сверить свои впечатления от облика Владимира Лемешонка в книге с образом его персонажа в спектакле. В книге Яны Колесинской представлена исчерпывающая галерея таких персонажей — можно выбирать. И читатель (он же зритель) наверняка будет вознаграждён.
Написать книгу об известном актёре, человеке публичной профессии — это ещё и огромный риск. У каждого зрителя он свой, и автор с первых страниц рискует вызвать если не неприязнь к себе, то ревность к герою. И всё это необходимо преодолеть, чтобы завоевать читательское доверие. Я уж не говорю о восприятии своего жизнеописания самим героем — положительные примеры крайне редки. Однако язык автора вполне непринуждённый, книга свободно читается, легко воспринимается, чем и подкупает. К тому же, беспристрастную позицию рассказчика обогащает неподдельная искренность, так что едва уловимый отзвук натянутой струны мы слышим не только в биографии героя, но и в подтексте самой книги.
Галина Ганеева, завлит Прокопьевского театра драмы
От автора
Уже не помню, как я начала писать эту книгу (вру, конечно). Но помню, что после журфака много лет работала в новосибирских СМИ, постепенно и неуклонно перемещаясь в сторону театра. За всё это время, к сожалению, я так и не научилась делать заказуху, и это смешно. Никто не вмешивался в процесс, не надиктовывал мне правильную точку зрения, не назначал дедлайнов, не выплачивал гонораров, не вручал грантов. Никто не объяснял мне, что первое издание, вышедшее в конце 2016 года, надо кардинально переделать и дополнить, воспользовавшись возможностью писать в режиме онлайн, являясь не расспрашивателем и вспоминателем, а непосредственным наблюдателем или даже участником событий.
Данное обстоятельство позволило мне напевать по утрам: «Каждый пишет, как он дышит, не стараясь угодить». Вернее, за отсутствием слуха я повадилась слушать Окуджаву онлайн. Эта песня периодически звучит в тексте, так как не только я ее люблю. В общем, книга написалась, а затем переписалась сама собой, вне каких-то организационных и дисциплинарных усилий. Однако на создание окончательной версии ушло в десять раз больше времени, чем первой.
Предмет моих изысканий — то, что меня влечет, радует, волнует, удручает, возмущает, отвращает и бесит, то есть театр. Сначала для меня понятие «театр» включало драматический театр вообще, но со временем произошел естественный отбор, и остался один «Красный факел». Убежденный атеист, я верю в Дух театра и знаю, что он обитает в «Красном факеле». Именно там мне снесло крышу — в глубоком детстве на спектакле «Аленький цветочек». Или нет, это было раньше, когда я впервые попала за кулисы — моя бабушка работала в «Красном факеле» вахтершей и приводила меня туда по ночам. В кромешной тьме, мерцающей зелененькими огоньками, я выбралась на сцену — и поняла, что существует другое измерение, мне неведомое.
Вот его-то мне и хотелось передать через героя, которому удалось приблизиться к чуду настолько, чтобы черпануть из этого громадного незримого бездонного колодца. Хотя он сам полагает, что его жизнь лишена чудес и не представляет никакой ценности — ни для него, ни для кого бы то ни было. Она, как кажется ему, забита такой пылью, такой рутиной, такой беспросветной безнадегой, что влачить ее тяжело и бессмысленно. Уныние, считающееся у кого-то главным грехом, утвердилось как фоновое состояние художника. Мне же как автору биографической саги безмерно интересны и дороги слагаемые этого уныния — не только процесс собственно творчества, но и то, что к нему ведет, что ему предшествует, мешает, питает и слагает. Здесь я созвучна с Евгением Водолазкиным в «Брисбене»: «Не в музыке дело. Не музыку нужно описывать, а жизненный опыт музыканта. Это он потом становится музыкой или, там, литературой».
Поэтому для меня удивительны самые, на первый взгляд, обычные подробности трудовых и праздных будней, которых не хватило в первой версии книги. Важно попристальнее всмотреться в людей (родных, друзей, врагов, коллег, зрителей и просто знакомых), пространство (его притяжение или отторжение), предметы (включая марки алкоголя, модель смартфона, цвет и форму портфеля), в события — во все эти детские дерганья и капризы, подростковые протесты и метания, студенческие заморочки и обретения, пьяные выходки и трезвые выходы. Хотя бы приблизительно представить, как, из чего, откуда, почему и зачем личность получается именно такова — и, как говорится, больше никакова.
Если не мерить глубь и ширь, то наше мировоззрение родственно, но по большому счету мы не совпадаем в главном: во взгляде на него самого. Как истинный гений, он себя таковым не считает, и это логично, потому что таковым себя считает только непризнанный гений. Мое же призвание в том, чтобы почувствовать, распознать и воспеть гениальность. Никакого другого таланта у меня нет.
При этом я прекрасно понимаю, что гений не поддается исследованию, и вторю нашему любимому писателю: «Разве можно совершенно реально представить себе жизнь другого…? Уже сама мысль, направляя свой луч на историю жизни человека, неизбежно ее искажает. Всё это будет лишь правдоподобие, а не правда, которую мы чувствуем».
Особенно это трудновыполнимо, если биограф спохватывается только после смерти Себастьяна Найта. Будто бы на похоронах включается условный рефлекс почитания и преклонения, а при жизни масштаб личности был незаметен. Но никакими воспоминаниями и заклинаниями не воссоздать химическую формулу света, излучаемого художником. Никакое видео не передаст особый состав атмосферы, окутывавшей фигуру творца. Театральное искусство сиюминутно, текуче, истончаемо, не воспроизводимо — театрального актера нужно ценить при жизни, идя за ним по горячим следам, а то и след в след. Человека вообще нужно ценить при жизни, а не наверстывать упущенное запоздалыми молитвами, выходящими за рамки некролога.
1. На рубеже
27 февраля 2016 года народному артисту Сибири Владимиру Евгеньевичу Лемешонку исполнялось 60 лет. Владимир Евгеньевич спешил в театр «Красный факел» играть спектакль «Маскарад». Скользя по гололеду, размахивая руками и чертыхаясь, Владимир мечтал о глотке коньяка. Плечо оттягивал битком набитый желтый портфель на потертом ремне. Вечерело.
Вот жизнь! — размышлял Володя, с трудом удерживая равновесие. Яркая обрывается на взлете, тусклая длится до конца. В этом возрасте, полагал Лем, лучше всего заснуть и не проснуться. Да куда там — даже заснуть стало проблемой. Накатывает полоса бессонницы, опрокидывающей в утреннюю тоску. И где-то в ее мутной метельной мгле маячит махина юбилейного вечера, который, хочешь ты того или нет, обозначит рубеж. Рубеж между стремительно промчавшейся творческой жизнью и полосой мучительного завершения с неотвратимостью ухода со сцены. Желательно добровольно. Поздравляю: вот ты и стал пенсионером.
Самый подходящий для бенефиса спектакль — «Маскарад», он и заявлен в афишу на 27 февраля. Красивая, эффектная, аншлаговая постановка знаменита закаленным в боях дуэтом Владимир Лемешонок-Игорь Белозёров. Сюжет Казарина и Арбенина рифмуется с их личными историями, давней дружбой и суровой конфронтацией, комфортным партнерством и болезненным соперничеством, общими тропами и разными мировоззренческими позициями.
Но закон подлости неусыпен. Именно сейчас Москва забрала Белаза в жюри «Золотой маски», и в роли Арбенина выйдет не он. Поэтому Юбилейный вечер перенесен на 3 марта, а это значит еще неделя сплошной нервотрепки. Отвечать на звонки, давать интервью, составлять политически корректный список гостей, и ведь не получится позвать всех, кто уверен, что достоин получить приглашение в первую очередь. Наверняка, как обычно после премьеры, при встрече на тебя посмотрят с укоризной, покачают головой, намекнут: я к тебе со всей душой, а ты! И ведь не будешь объяснять, что до сих пор невозможно переступить через свои комплексы, ощущение никомуненужности, липкий страх провала. Разобраться с официозом поможет супруга Ирина Георгиевна, а вообще скорее бы всё закончилось. В праздники от тебя всегда чего-то ждут и ничего не получают.
Каждый день он ходит по этому маршруту: отрезок улицы Димитрова вдоль административных зданий, промежуток между театром кукол и Коброй, переход через проезжую часть улицы Ленина к колоннам сияющего дворца, над которым нависла туша сбербанка, вытеснившая с этого участка бутафорский цех. Виток по улице Революции, неприметный служебный вход с низким козырьком. Темнеет рано. Ветер лезет за ворот. Крыльцо покрыто льдом.
Когда-то на вахте сидела уютная гардеробщица с вишневыми глазами. Принимая его тужурку, вся сияла, спрашивала, как погода, метет небось, метет по всей земле, во все пределы? Гардероб на вахте давно упразднен, и непроницаемый охранник в черной униформе сурово кивает в ответ на приветствие. Навстречу по коридору выбегает отбившийся от родителей шустрый отпрыск, чуть ли не врезается тебе в живот, и удивляешься, что вроде еще вчера малыша привозили сюда в коляске. Сын Женя тоже шастал по закоулкам закулисья, тоже врезался, и вот вымахал в театрального художника…
Как там у Тургенева, думает он, поднимаясь на второй этаж в свою гримерку. Веселитесь, растите, молодые силы, у вас всё впереди. А мне остается отдать вам последний поклон — сказать: «Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!».
Но он еще сыграет «Маскарад», еще проживет эту драму жестокого и бессмысленного успеха. Через пять минут одевальщица принесет пальто с каракулевым воротником, цилиндр и трость, которые весьма к лицу Афанасию Палычу Казарину, этому респектабельному господину с фальшивым сердцем. Он ударит тростью о подмостки, и всё произойдет так, как он того пожелает.
Гримерка Владимира Лемешонка — ближайшая к сцене. Всего несколько шагов отделяет от пространства, где время течет по-другому. И раньше, будучи начинающим актером, и теперь, став мастером с сорокалетним стажем, он робеет, переступая черту. Миг телепортации из темноты кулис на сияющие подмостки летуч и неуловим, но от этого зависит, как он сыграет сегодня спектакль, в каком самочувствии уйдет домой — объятый презрением к себе или в перемирии с собственной персоной хотя бы ненадолго.
Казалось бы, уже не надо никаких усилий, чтобы заявлять о себе. Его считают одним из сильнейших актеров российского театра, он многократный лауреат, номинант и фигурант. Сие позволяет остановиться, успокоиться, делиться опытом с молодняком. Его ученица Евгения Туркова, первая исполнительница роли Нины в «Маскараде», уехала работать в Москву, и вот адресовала юбиляру 15-минутный телефонный монолог о значении учителя в своем становлении. А тот опять задался риторическим вопросом: что я могу им передать, кроме бесконечных разочарований в самом себе?
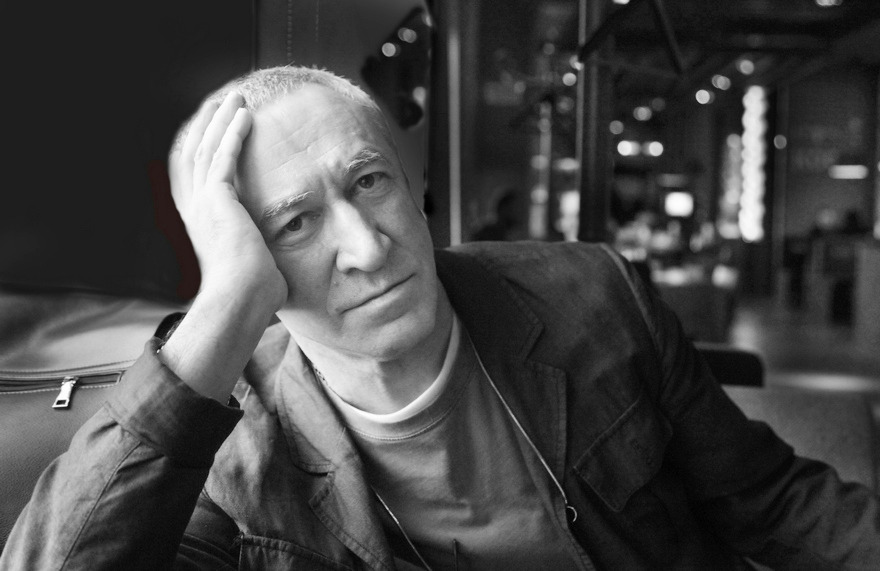
Гоголь попал в точку, которая мерцает холодным светом где-то в недостижимой вышине: «Что есть жизнь? Это разрушение мечты действительностью». Не бывает так, как мечталось, даже если мечты сбываются. Сбывшаяся мечта отличается от мечты бесплотной так же, как явь от алкогольной эйфории. «Настоящее — это сомнения и надежды, что по-прежнему мечутся и скандалят где-то в гулких лабиринтах души», — писал Лем полжизни назад, в пору буйного расцвета таланта и бешеной популярности, кудрявой гривы и пышных усов, любовного сумасшествия женщин и тихой зависти коллег. Писал, «сидя у берега жизни на венском стуле и попивая вино личных чувств».
Нынешнее настоящее — это больничная палата для надежд-доходяг, которым больше не с чем и незачем скандалить, ибо они умирают. И умирают последними. «Будущее — я весь им набит, как мягкая игрушка ватой, — писал он тогда. — Отними у меня будущее — и большой, зеленый, ушастый лягушонок, как звали меня в детстве, превратится в тряпку. Зачем же все это, если не наступит завтра, где я извлеку из себя звук, который сам назову безупречно чистым?».
Звучать нечему, устало признает Лем. Но ведь вся его жизнь на сцене и есть этот звук, звук разного тембра, высоты и тональности, но всегда безупречно чистый — звук струны, натянутой до предела. Находиться в состоянии натяжения неудобно, больно, трудно, почти невыносимо. Но, по условиям негласного договора с Судьбой, в каждодневном душевном сумраке и самоистязании только и возможно черпать энергию творчества.
2. Шарада для игроков
Договориться с Судьбой по большому счету невозможно. Всё решено еще до твоего рождения, стезя уготована без твоего на то согласия. Уготована и твоя сущность — материал, из которого она сработана, замене не подлежит. Оставаться самим собой — безапелляционный приговор; твоя собственная оболочка — пожизненная тюрьма; амнистии не предусмотрено.
Характер, выданный при рождении, его категорически не устраивает. Бесит отсутствие самых необходимых качеств, не хватает таланта, который поднимал бы ввысь и не позволял свергаться наземь. Именно в этом заключается его главная претензия небесам. Но на сцене он проживает другие жизни, озаряя своих героев светом далеких звезд, вдыхая в них сердечное тепло, присваивая себе их болевые точки, чувства, мысли.
Недюжинной силой духа Владимир Лемешонок наделил Казарина в «Маскараде» — шараде в трех действиях, как обозначил жанр спектакля молодой режиссер Тимофей Кулябин. Вряд ли еще более молодой Лермонтов вкладывал во второстепенного персонажа такую мощь — в списке действующих лиц Афанасий Павлович Казарин значится пятым. Но в спектакле «Красного факела» он — первый.
На бытовом уровне сюжета можно воспринимать Казарина всего лишь как профессионального шулера. Он — владелец игорного заведения, где бизнес движется по накатанной колее, система взаимоотношений с клиентурой отлажена, персонал вышколен, натаскан. Сотрудники банкуют, раскидывают карты, подчиняясь тайным знакам хозяина, — взмаху, удару об пол или падению его трости. Запустив колесо очередной аферы, Казарин молча стоит на авансцене, исполненный собственного достоинства с налетом самодовольства. Во всём его облике читается спокойствие сильной личности.

А кровь бурлит в жилах! Предвкушая большую игру, с упоением выплескивает себе в лицо стакан воды. Игра пойдет на равных, Казарин умело сканирует противника: «Глядит ягненочком, а, право, тот же зверь». Какой уж вам ягненочек, это Афанасий Палыч так шутит. Поначалу может показаться, что властелин положения — Арбенин. Держится победителем, с мелкотой не церемонится, с Казариным на дружеской ноге. Демонический взгляд, зычный голос. Не так-то просто его обломать. Он сам обломает кого угодно. Как безжалостно и вместе с тем изящно он уничтожает князя Звездича! Как жестко запугивает баронессу Штраль! Но это пиррова победа. Поражение пустозвона обернется Арбенину крахом всей жизни, а светская львица высокомерно посмеется над этим. Он расплатится за свой нрав, и поделом ему, поделом.
Подавая Нине отравленное мороженое, Арбенин уверен, что это его собственное решение. На самом деле мир, крутящийся вокруг него вихрем карнавальных масок, только этого и ждет. Проглоту нужна пища; Арбенин — лакомый кусок; Казарин всё сделает его руками.
Вернувшись из любовного заточения в общество манекенов, Арбенин забыл, как это общество устроено. Искусный игрок, он не заметил другой игры, куда более коварной. Не учел, что сам может оказаться картой в чужой колоде, что его могут элементарно развести, как лоха, а он до последнего не будет догадываться об этом.
Казарин рассчитал комбинацию задолго до начала интриги. Дабы заполучить Арбенина, он решил сыграть на самых тонких струнах души — и своей, и товарища. Он настраивает себя на высокий регистр, ведь не бесчувственный же он монстр, ведь не бездушный же он механизм. «Женька!» — устремляется Афанасий Палыч навстречу Арбенину после многих лет разлуки, и его глаза лучатся счастьем.
Романтический эпизод снегопада во втором акте не то что Арбенина, а и зрителя заставляет забыть, что у Афанасия Палыча включен хладный ум. Он мастерски изображает мечтателя. Сама интонация Казарина, использующего тончайшие модуляции голоса, действует гипнотически: «И если победишь противника уменьем, Судьбу заставишь пасть к ногам твоим с смиреньем. Тогда и сам Наполеон тебе покажется и жалок и смешон!». Казарин произносит монолог в напевном ритме, в мажорной тональности, на взлете вдохновения, на апогее одержимости, серпантином посылает его в небеса и превращает в созвездие. Осыпанные снежными блестками, облитые сиянием фонарей, парящие на сотканной из серебряных кружев воздушной галерее, эти двое уносятся в иное измерение, в потусторонний мерцающий свет, где они были теми, кем хотели, и с теми, с кем хотели.
Преграды устранены, цель достигнута, представление окончено. Совершенно другой Казарин совершенно другим тоном, обмениваясь с залом взглядом заговорщика, бросает отрывистую реплику в сторону: «Теперь он мой!». Так медиум-аферист, закончив обработку клиента, сбрасывает маску профессионального благодетеля — и довольно потирает руки.
Казарин руководствуется принципом, который транслируется в американских блокбастерах: бизнес, и ничего личного. Тасует людей, как карты, раскидывает пасьянс из судеб, заранее планируя, кого оставить в дураках. В пьесе ведь всё написано: «Что ни толкуй Вольтер или Декарт, Мир для меня — колода карт».
Но никакой он не предатель, у него свой кодекс чести. Арбенин наказан за самоуверенность, высокомерие, «адское презренье ко всему». Перед тем как окончательно уничтожить Арбенина, Казарин снисходительно и слегка насмешливо раскрывает карты: «Мы с тобой актеры». В организованных им финальных аплодисментах у гроба убиенной Нины слышится не только благодарность за развлечение, а еще и циничная издевка над проигравшим. Автор шарады искренне аплодирует вместе со всеми. Аплодирует и себе тоже…

Аплодирует отборная театральная аудитория. Межрегиональный фестиваль «Ново-Сибирский транзит-2010» наградил дипломами лауреатов художника спектакля «Маскарад» Олега Головко за лучшую сценографию и актера Игоря Белозёрова за лучшую мужскую роль. А через полгода жюри театральной премии «Парадиз» Новосибирского отделения СТД того же ранга, но в другом составе объявило лауреатом в номинации «лучшая мужская роль» Владимира Лемешонка за роль Казарина. Критики оценили особенность мастера самостоятельно сочинять образ, превращать второстепенную роль в главную, укрупнять ее объем, открывать в ней глубинный смысл.
Фигурант на торжественную церемонию не явился, несмотря на звонок ему лично. Скептическое отношение к призам и наградам, ничего общего не имеющим с сутью вещей, передалось и его сыну. В следующем году Женя поступит точно так же. Зато его отец с удовольствием поднимется на сцену «Парадиза», чтобы получить награду Евгения Лемешонка — за лучшую работу художника-сценографа в спектакле «Толстая тетрадь» театра «Глобус».
Вскоре к нему придет признание на более высоком уровне. Лемешонок Третий выступит еще и художником по костюмам, его раз за разом станут выдвигать на высшую национальную театральную премию России «Золотая маска». Он оформляет постановки по всей стране, но главной точкой на карте остается Новосибирск.
3. Лемешонок Первый
…Его отец Евгений Семенович Лемешонок (1921—2011) рос в простой рабочей семье. Мама Анна Андреевна — продавец в гастрономе, папа Семен Петрович — связист на железной дороге. Родители недоумевали, в кого пошел малец, который годикам к четырем нежданно-негаданно обнаружил одну, но пламенную страсть — выступать на публике. Женя обожал слушать радио, а еще больше пластинки, всё быстро запоминал, и этот объем знаний охотно предъявлял миру. Освоил табуретку и карабкался на нее каждый раз, когда приходили гости. Если в стишках забывались слова, то заменял своими, когда кончались выученные тексты — произносил пространные и не всегда понятные зрителям монологи. Мама глаз с него не сводила, восхищалась: «Арти-ист!». Отец посмеивался. Шли годы. Выбор сына они одобрили.
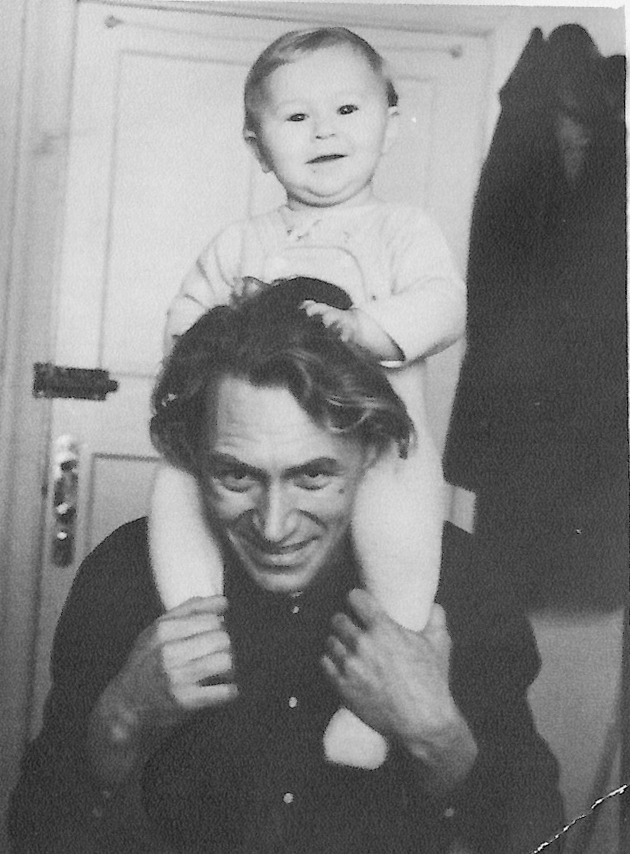
Евгений поступил в студию актерского мастерства при «Красном факеле» — театре, который станет главным в его биографии. Но не сразу, а через многолетний опыт, приобретенный на других площадках. А сначала он и курса-то окончить не успел — забрали в армию, едва исполнилось 18 лет. Там рядовой Лемешонок разочаровался в разумном мироустройстве и подорвал здоровье. Охраняя секретные объекты на промозглом ветру, он застудил уши. Это имело весьма печальные последствия, через десятилетия поставив точку в его карьере. Простывший, больной, голодный, он еще не знал, что главные жертвы только предстоят. Заканчивая службу в войсках МВД на Дальнем Востоке, он предвкушал, как вернется в Новосибирск — и сразу на сцену. Попасть домой довелось нескоро. Началась Великая Отечественная Война.
Его направили в военный ансамбль — ездить по фронтам, выступать с патриотическими стихами, поднимать боевой дух советской армии. Он чувствовал себя не бойцом, но артистом, которому подвластно даже под вой снарядов владеть аудиторией. Сияя медалью «За победу над Германией», а также «За победу над Японией», 27-летний Лемешонок вернулся в краснофакельскую студию. И попал в молодняк. Он, взрослый мужчина, фронтовик в наставники им годился, а не в сокурсники. Пошел работать в ТЮЗ, где его, за отсутствием образования, приняли во вспомогательный состав.
В ТЮЗе (ныне «Глобус») этот огромный человечище несколько лет выходил на сцену в массовке. На его счету полчища солдат, стражников, слуг, леших, птиц, зверей. Наконец ему стали доверять более значительные роли, но и они были малы по размеру. Не об этом он мечтал на войне, выступая с кузова грузовика, не такую участь представлял себе, чуть ли не через всю страну добираясь до родного города. Возомнил, что в других краях больше свободы, больше простора. Негоже артисту сидеть на одном месте, пора, подобно Несчастливцеву, осваивать маршрут из Вологды в Керчь, шутил он. От добра добра не ищут, а он пустился на поиски, расставшись с молодой женой, с которой познакомился здесь же, в ТЮЗе, когда она по просьбе руководства делала на труппе разбор полетов.
Первым пунктом скитаний случился Борисоглебск. Очень скоро стало ясно, что Судьба закинула его не туда, и в марте 1951 года он писал коллегам в Новосибирск: «Настроение жуткое… Если есть возможность рекомендовать меня в областной передвижной театр, то согласен на любые вводы».
Так назывался новосибирский театр облдрамы, в будущем «Старый дом». Много позже этот театр станет авангардным и отправится гастролировать по заграницам. А тогда был полусамодеятельным коллективом, разъезжал по деревням да совхозам, буксовал по бездорожью, квартировал в избах, сооружал подмостки в полях, давал спектакли под мычание скота и чавканье сапог по грязи. Евгений Лемешонок, как и обещал, соглашался на любые вводы, но если и был романтиком, то не до такой же степени. С гастролей он приезжал простывший, измотанный, раздраженный, хотя и сохранял юмор в рассказах о захватывающих путешествиях. А в начале 1953 года получил приглашение в Иркутский театр драмы.
Ему сразу дали комнату — светлую, просторную, в расчете на вторую половину. В письмах домой он чертил схему жилища, делился хозяйственными планами (побелка, покраска, покупка матраса), уговаривал жену поскорее переехать к нему. Она медлила, несмотря на то, что были открыты вакансии в местных газетах. «Давай решай. Невмоготу. Я за шесть репетиций ввелся в спектакль „Свадьба с приданым“. Сыграл уже три спектакля подряд. Очень волновался, хочется, чтобы ты была рядом, поддержала морально», — писал он Марине Ильиничне. Только через полгода разлуки она вняла призыву мужа. Светлую, просторную комнату обустроили, но ненадолго.
Постоянства на чужбине они не обрели: Иркутск-Ташкент-Ленинабад. В Ленинабаде стали родителями. Денег катастрофически не хватало, как и сил. Зритель тамошнего музыкально-драматического театра запомнил Евгения Лемешонка по роли Фомы в оперетте «Вольный ветер», и тот же ветер подул в родную сторону. В 1958 году они вернулись домой уже втроем.
Обнадеживающие вести с родины подхлестывали нетерпение взяться за работу. Евгений Семенович дважды вошел в ТЮЗ, и теперь это была совсем другая река. Расправлял крылья молодой режиссер-реформатор Владимир Кузьмин, которого вскоре назначат главным. В ТЮЗе они пройдут бок о бок дюжину славных лет, став не только соратниками, но и друзьями.
Кузьмин должным образом организовал творческий процесс, сбалансировал репертуар, наладил взаимопонимание с актерами. Взял разгон в сказках, чтобы, набравшись опыта, приступить к освоению русской классики. С превеликим удовольствием Лемешонок Первый сыграл в героической комедии «Приключения Чиполлино», оценив взрослый подход к детскому материалу. Владимир Кузьмин совместно с Виктором Орловым написал собственную инсценировку, впервые предложил попробовать импровизационный метод работы, занял не только молодежь, но и ведущих артистов труппы. Лем вспоминает, каким уморительным был барон Апельсин, редко в своей жизни он так смеялся. Тогда и оформилась его тяга к театру не просто как к развлечению, а к фабрике по производству чудес, которые бередили душу, увлекая в заоблачные выси.
ТЮЗу предписывалось воспитывать юную смену на патриотических примерах — главреж планомерно и методично отходил от тюзятины. Фактура Лемешонка-старшего располагала к ролям первых лиц партийной обоймы, и они вместе искали решения, как это обыграть не только визуально, но и смыслово. Дзержинский в спектакле 1962-го года «Именем революции» по Михаилу Шатрову был признан критиками самым значительным героем того периода, особенно после успешных гастролей в Москве на сцене Кремлевского театра.
Он сыграл Дорна в «Чайке», Актера в «На дне», а Курослепов в «Горячем сердце» был настолько колоритен, что даже непреклонный театральный критик Марина Рубина, принципиально не писавшая о муже ни плохого, ни хорошего, на этот раз сделала исключение: «Этакая бородатая глыбина, ошалевшая от беспробудного пьянства, потерявшая облик человеческий».
Евгений Лемешонок и сам был глыбина, только полная противоположность своему персонажу. Он всё больше отдавал себе отчет, что нужно находить способы примирения с действительностью, идти на компромисс с эпохой, ладить с системой, если ты в ней живешь. Хрущевская оттепель давала такую возможность, приоткрывая форточку, а Кузьмин незамедлительно подхватил врывавшийся в нее вольный ветер. Он убедил Лемешонка вступить в КПСС, продвинул его в партийный актив, распорядился подать документы на звание заслуженного артиста России.
Пора было в «Красный факел», куда переходили из ТЮЗа укрепившиеся в мастерстве актеры. Кузьмин ускорил карьерный рост Лемешонка: в 1970-м, будучи приглашенным в «Сибирский МХАТ» главным режиссером, увел его (вместе с почти половиной труппы) за собой, и тот получил звание уже на новом месте. Правда, Кузьмин задержался здесь всего на три года, приняв предложение из Москвы, Лемешонок же врос корнями.

В ТЮЗ он будет возвращаться по индивидуальному приглашению на звездные роли. В 1980-м Владимир Кузьмин приедет из Москвы на постановку военной драмы «Соловьиная ночь» и, конечно же, не обойдется без Лемешонка Первого. «До сих пор стоит перед глазами его генерал. Он был замечателен по сочетанию скупости выразительных средств и глубине содержания», — отозвался Владимир Евгеньевич об этой работе. Вскоре главреж ТЮЗа Лев Белов поручит ему совершенно иную роль — откровенно комедийную. Это будет Городничий в гоголевском «Ревизоре» — очень важная, очень значительная персона. Сыну посчастливится выходить на одну площадку с отцом в роли Хлестакова.
ТЮЗ остался театром его становления, а «Красный факел» — театром творческой зрелости. Лемешонок Первый прослужил здесь четверть века, заработав звание народного артиста РФ, чин основателя династии, репутацию упертого труженика и тонкого, вдумчивого партнера. В семье хранится новогодняя открытка 1989-го года от «национального достояния России», легенды сибирской сцены, народной артистки СССР Анны Покидченко. Быть ее партнером почитал за честь каждый актер, а она считала честью играть с Лемешонком. Анна Яковлевна составила поздравление из цитат и названий их совместных спектаклей: «Дорогой Евгений Семенович! „Поговорим о странностях любви“ в духе „Старомодной комедии“, искупив „Долги наши“. Но все пройдет, увы, увы, и будет только то, что будет. Забудете артистку Вы, зато она Вас не забудет!».
ИЗ АРХИВА. ПРО МЕЧ И ПУЛЮ
«Рыкающий старец Сила Грознов сваливался в барабошевский дом невесть откуда, как меч карающий», — описала его роль в спектакле Дмитрия Масленникова «Правда хорошо, а счастье лучше» театровед Валерия Лендова. В статье «На пути к Чехову и Островскому» она большое внимание уделяет роли Серебрякова в спектакле 1980-х «Дядя Ваня»: «Острота ситуации усугубляется тем, каков в спектакле Серебряков (Е. Лемешонок). Ему как раз не дано ничего, что могло бы вызвать у зрителей сострадание. Не принимается во внимание ни его болезнь, ни горечь по поводу безжалостной старости, отнявшей всё, чем он жил прежде. В свое время Лобанов, репетируя „Дядю Ваню“ (1952), говорил актерам: „Серебряков должен быть в первых актах сыгран так, чтобы заслужить себе пулю“. Новосибирцы исходили примерно из того же посыла. Роль, задуманная режиссером и сыгранная исполнителем по театральному броско, балансирует на грани сатиры… Забыв о подагре и не замечая подавленного состояния домочадцев, он стоит у рояля в кокетливой позе любимца публики и приступает к своей торжественной речи, как к концертному соло, которому Мария Васильевна восторженно аккомпанирует. Но вот смысл речи дошел до Войницкого, и разразился скандал».
Лемешонок Первый переиграл Шекспира, Шиллера, Голсуорси, Уильямса, Чехова, Островского, а также многоликую плеяду советских авторов. Но протяженность артиста во времени доказывает не количество и даже не качество сыгранных им ролей, а какой след он оставил для нового поколения. Журналист Ирина Ульянина описывает спектакль «Старомодная комедия»: «Я помню так ясно, словно это было вчера, как Лемешонок играл в дуэте с экстравагантной Аматой Смирновой любовную сцену. Она провоцировала, соблазняла, и с его лица постепенно сходила маска всегдашней угрюмости. Сильный, высокий, несгибаемый мужчина таял на глазах, натурально влюблялся на сцене, не будучи влюбчивым и легкомысленным в жизни». Театровед Галина Журавлева отмечает, что Иван Крутов в спектакле «Долги наши» в детском возрасте был воспринят ею как реальный человек с подлинной судьбой и остался одним из самых значимых театральных впечатлений. В воспоминаниях о нем она пишет: «Умение создавать крупные характеры сильных людей в победах и поражениях — одна из самых привлекательных черт творческой индивидуальности Евгения Семеновича Лемешонка».
Сильной личностью даже в поражении был партократ Судаков в легендарном спектакле Семена Иоаниди «Гнездо глухаря» по пьесе Виктора Розова. Но прежде, чем проиграть, он сделал свой выбор, предпочтя всему прочему карьеру и ради нее задавив лучшее в себе. Евгений Лемешонок убеждал: ничто не сдвинет Судакова с его точки зрения. С мертвой точки, с закостенелых убеждений, с заледенелой жизненной позиции. Его герой считал себя правым во всем, он даже вроде бы добрые слова о своих детях произносил приказным тоном: «Они просто обязаны быть счастливыми!». И делал их несчастными.
Евгений Лемешонок не был актером-мыслителем. В пьесе средней руки иной раз суетился, педалировал черты персонажа. Но если материал давал возможность, то возникал яркий, объемный характер, появлялся герой с четко выраженным личностным началом. Так и Судаков в «Гнезде глухаря» получился простым и значительным — крупная личность, взращенная и извращенная советской системой. Сила образа заключалась в том, что Судаков в своем прозрении поднимался до трагической высоты.
ИЗ АРХИВА. ПРО ЖИЗНЬ СНАЧАЛА
«Тем страшнее расплата. Эти мгновения прозрения у Лемешонка почти трагичны. Вот когда мы понимаем, что у человека было своё хорошее прошлое, что оно не убито привычкой не тревожить себя так называемыми второстепенными делами. Вот где рождается оправдание финальному выходу Судакова-Лемешонка в парадном костюме при всех орденах, когда отправляется он повидать давнего фронтового друга. Нет у нас сомнения, что такой человек способен начать жизнь сначала», — описывал свои впечатления после премьеры театровед Лоллий Баландин в 1979 году в газете «Советская Сибирь».
«Гнездо глухаря» обычно открывало гастроли. В 1980 году «Ташкентская правда» под истинно советским заголовком «Мир нравственных исканий» очень хвалила и отца, и сына. Лемешонку-старшему достались, в частности, строки: «Актер несколько смягчает образ, обнажает корни того перерождения, которое произошло с ним, изменило его жизнь». Затем следует кивок в сторону Лемешонка-младшего: «Зрительское внимание всё время приковано к Прову, образ которого, так удачно вылепленный молодым актером, стал одним из основных в спектакле».
«Гнездо глухаря» стало первой совместной работой отца и сына и обозначило начало династии. В «Тринадцатом председателе» (1979) они играли судью и прокурора, в «Ревизоре» (1983) Городничего и Хлестакова, в «Кафедре» (1985) профессора и аспиранта, в «Комиссии» (1985) кулака и белого офицера, в «Ромео и Джульетте» (1990) Эскала и Бенволио. В «Восемнадцатом верблюде» (1983) они — соперники в любви. Евгений Лемешонок — моложавый профессор, Владимир Лемешонок — молодцеватый геолог. Много лет спустя сын перелопатит пьесу Самуила Алешина, осовременит ее и поставит в актерской антрепризе. В этой глубоко личной истории он сыграет уже не геолога, а профессора — роль, принадлежавшую отцу.
МОНОЛОГ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ. ПРО ПЛОХИЕ ПЬЕСЫ И ХОРОШИХ АКТЕРОВ
— Ни я, ни отец не любили пьесу «Восемнадцатый верблюд». Пьеса, на мой взгляд, фальшивая и безвкусная, не о чем в её пространстве серьезно поразмышлять. Седой элегантный мэн — профессор-мудрец, философ, Эверест, Монблан… И юная девушка, которая не понимает масштабов его личности и выбирает человека попроще — молодого геолога. Под Монбланом драматург вполне очевидно подразумевал себя. Дмитрий Масленников поставил в «Красном факеле» эту пьесу в расчете на успех у зрителя. Такие истории нравились публике. Когда еще не было «Санты-Барбары», они заполняли пустую нишу. А я поставил спектакль в память об отце. При этом старался снизить пафосность моего персонажа, сделать его проще и живее — таким, каким был мой отец в жизни.
Ноябрь 2009 г.
Евгений Семенович не упускал возможности всласть порассуждать о театре, когда их семью приглашали на исторические юбилеи и творческие встречи. С добродушной охотой и легким артистизмом рассказывал театральные байки, от официоза непринужденно переходя к юмору, чем снижал пафос воспоминаний. Был словоохотлив и красноречив, блистал остроумием, сыпал шутками. «В нем, импозантном и важном, сидел клоун», — определил сын.

Лемешонка-старшего было видно и слышно издалека. Он был могуч и громогласен, с тяжелым носом, широким лбом, косматыми бровями. Взгляд из-под этих бровей был порой грозен, а то и насмешлив. С такой фактурой — только на экран! Но не всё сошлось по звездам. Пробы в картину «Горячий снег» он, в отличие от нескольких новосибирских коллег, не прошел, и в результате генерала Бессонова сыграл Георгий Жженов. И уже был утвержден на роль директора завода в фильме «Укрощение огня», но опять не повезло, и в картине сыграл Евгений Матвеев.
Зато на местной студии «Новосибирсктелефильм» был своим человеком. В пору ее расцвета с 1966 по 1977 год режиссер Вадим Гнедков, называвший Евгения Лемешонка «мой талисман», снял его во всех своих шести фильмах. Три из них сделаны в полном метре: «У нас есть дети…», «Не потеряйте знамя» и «Сердце». Лемешонок-младший, будучи школьником, а затем студентом постоянно отирался на съемочной площадке, был рад пособить, принести-унести и, конечно, втайне мечтал попасть в кадр. В короткометражке «Ночной сеанс» на целых пятнадцать секунд засветился семнадцатилетний Лем. Он выскакивал из кабины грузовика с вопросом «Вася, цепи есть?» и, не дождавшись ответа, убегал в кусты, а за ним, ровно как в жизни, поспешала смазливая блондинка. Съемочная группа потешалась над этим ничего не значащим эпизодом и долго еще приставала к бегуну с глумливым вопросом про цепи.
Его отец сыграл в этом фильме автомеханика — вытирая промазученной ветошью рабочие руки, весьма органично смотрелся в кадре с всклокоченной гривой, в кирзовых сапогах и старом вытянутом свитере. Он руководил ремонтниками, возвращавшими к жизни ржавую колымагу, на которой прошел всю войну. Этот сюжет тоже в какой-то мере отражал действительность. Благодаря кино Евгений Семенович заработал на автомобиль, который оставался его страстью многие годы. Водил машину ловко, но осторожно, лихачества не допускал. Сервисных служб не было, обхаживать средство передвижения приходилось самому. После спектакля до ночи пропадал в гараже — вымазанный машинным маслом, перебортовывал шины, заливал тосол, крутил гаечным ключом, приобщая к этому делу сына. Нимало не склонный к такого рода грязному труду, тот зарекся когда бы то ни было сесть за руль и зарок выполнил.
Зато статус Евгения Семеновича возрастал: отремонтировав старую «Антилопу Гну», он поменял ее на подержанную «Волгу», а после на новые «Жигули», которые исправно доставляли семью в Кудряши на дачу. От данного мероприятия Лем пытался улизнуть, на грядки его можно было заманить лишь хитростью. Зато обожал ездить по грибы, далеко в лес, в сторону деревни Ояш. Тут уж уклонялась Марина Ильинична, ворча, что эти ваши маслята — чисто лемешонковское предприятие. Бабушка Анна Андреевна устраивалась рядом с водителем, Лемешонок-младший забирался на заднее сиденье и не сводил глаз с дороги. Отец показал ему одно из чудес, существовавших помимо искусства, — поляну, усыпанную крепенькими кругляшами моховиков. Их можно было собирать не вставая с места, а только поворачиваясь во все стороны. На обратном пути он засыпал, а Евгений Семенович и Анна Андреевна дискутировали о тонкостях маринования и засолки.

Под хрустящие грибочки, в узкий просвет между двумя силами притяжения — театром и автотехникой — Евгений Семенович умудрялся втиснуть рюмку-другую. Питием не увлекался, за исключением отдельных случаев, но каких! Они вошли в анналы, коллеги еще долго смаковали их. Например, как во время спектакля Лемешонок Первый не мог вставить саблю в ножны, всё время промахивался. Коллекция редких вин стояла у него в шкафу под замком нетронутая, гостям предлагалось лишь рассматривать диковинные бутылки, мерцающие заморскими этикетками. Но друзья-то знали, что емкости попадают к нему пустыми, ибо добыты по случаю в качестве сувениров, после распития в компании, и ценны как украшение скудного советского интерьера. Разлит по ним обыкновенный самогон.
Точнее, самогон был не совсем обыкновенный. Евгению Семеновичу в наследство от родителей достался самогонный аппарат, тут и появилось хобби, при социализме, мягко говоря, не поощряемое государством. Он особо не прятался, но доверял дегустацию своего изделия только проверенным людям. Подход к производству священного напитка был отнюдь не утилитарный, а воистину творческий. Лемешонок Первый придумывал всевозможные рецептуры, разрабатывал разнообразные сорта, экспериментировал с ингредиентами и дозировкой. Друзья-актеры дали авторскому изобретению название Лемовка и не упускали случая употребить в меру и без меры, смотря по обстоятельствам.
Компания Лемешонка-младшего тоже пристрастилась к фамильному самогону, и сын, сильно погорячившись, вдруг решил, что присвоил от своих родителей вместо достоинств весь негатив и приумножил его, градусы же необходимы затем, дабы компенсировать проблемную генетику. Отцовская трепетная вера в профессию, считает он, ему не передалась.
Евгений Семенович был горд тем, что он артист. Его убежденность в благородстве призвания была непоколебима. Сын в своем знаменитом «Письме к актерам» писал: «Я всю сознательную жизнь провел под впечатлением творческой цельности старшего Лемешонка, его до сих пор молодого, никакими годами и обидами не сломленного стремления к высокой простоте».
А обид хватало. Слишком быстро пролетела молодость. Невпопад подступила старость. Помнится, в короткометражке 1976-го года «Сегодня полеты, завтра полеты» его герой, указанный в титрах как «летчик на пенсии», на вопрос маленькой девочки, тяжело ли расставаться с небом, отвечает: «Тяжелее некуда. Понять это могут только летчики». Оказалось, не только летчики.
Новый главреж «Красного факела» Михаил Резникович впервые увидел Евгения Лемешонка в спектакле «Ретро» и обрадовался: «Этот артист мне нужен!». Пробивает звание народного, назначает на главные роли в «Виноватых» и «Зимнем хлебе», открыто восхищается работой в «Кафедре», любовно похлопывает по плечу. Евгений Семенович называет его «мой режиссер», говорит, что благодаря Резниковичу открылось второе дыхание. Но недолго музыка играла. Как вдохновил — так и растоптал. Поссорились во время репетиций «Дворянского гнезда». Организм корифея труппы дает сбой, и Резникович резко меняет тон: в театре, оказывается, никто ничего никому не должен. Снимает с роли, публично заявляет, что Лемешонок неубедителен. Евгений Семенович сопротивляется, бунтует, требует заседания худсовета, показывает, как профессионально владеет ролью, коллеги прячут глаза.
МОНОЛОГ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ. ПРО ПРЕДАТЕЛЬСТВО И ПРОТЕСТ
— Мне было любопытно репетировать в «Дворянском гнезде», это был новый для меня опыт, и тут случается неприятность: отца снимают с роли. Для него, как и для меня, было невыносимым что-то доказывать, но он набрался мужества, чтобы выступить перед худсоветом, показывал какие-то куски… Он уже совсем плохо слышал, но не мог с этим смириться, не мог понять, что его время ушло. Может быть, я отчасти предал отца, продолжая репетировать как ни в чем ни бывало. Я был возмущен тем, как с ним поступили, но не до такой степени, до какой бы следовало. А что мне нужно было делать? В знак протеста уйти из театра? У Толстого: делай как должно, а там будь что будет, а я часто давал слабину и презираю себя за это.
Мы с отцом эту ситуацию не обсуждали. Если с матерью говорили черт знает о чем, то с отцом нет. По типу мышления я был ближе к матери; с отцом мы были в чем-то похожи, но, по сути, оставались очень разными людьми. Мы с ним находились в разных тональностях — интеллектуальных и профессиональных. И конечно, мы были людьми разных поколений: я всегда любил всё новое, авангардное, неожиданный подход, режиссерские находки, он же ко всему новому относился очень осторожно.
Апрель 2016 г.
Казалось бы, он еще полон сил, он еще о-го-го! Может владеть ситуацией, помогать друзьям, давать советы. Навещает больную коллегу Валентину Мороз и громогласно командует: «Подруга, собирайся, увезу тебя в Кудряши, в баню!». Принимает у себя дома компанию и весь вечер смешит ее театральными анекдотами. Но невозможно совладать с прогрессирующей глухотой, и после «Ромео и Джульетты» он выговаривает сыну за то, что тот нарочно бубнит реплику себе под нос, чтобы вывести его из себя.
Директор театра Галина Булгакова объявляет, что отныне давать Евгению Семеновичу новые роли нецелесообразно. Пусть доигрывает свой репертуар — и на заслуженный отдых. Надвигаются годы прозябания, выхода из которого уже нет. Или есть, но обманчивый, после чего становится еще тяжелее.
Народный артист РФ Анатолий Узденский ставит в театре «Старый дом» комедию «Лес», приглашает 75-летнего Лемешонка на роль второго плана. Евгений Семенович всё еще выглядит внушительно благодаря царственной осанке, но походка стала нетверда, и он всё чаще переспрашивает, что сказал собеседник. Тем временем недавний краснофакелец Слава Росс, ныне студент режиссерского факультета ВГИКа, получает курсовое задание сделать фотоочерк на свободную тему. Он пишет сценарий про старого актера и предлагает эту роль Евгению Лемешонку. Вернее, просит его сыграть самого себя.
Слава Росс использовал простую мыльницу, качество съемки оставляет желать лучшего, но не за это ставили ему оценку. Снимки проникнуты печальным очарованием ухода, прощания со всем близким и дорогим, когда даже природа дышит в унисон с тобой, но ничего нельзя изменить.

Старый актер выходит из подъезда, двери которого так же потрепаны, как и его портфель. Подходит к родному театру, с которым он всегда был одной крови, а теперь они вместе состарились: осыпающиеся колонны, облупленный фасад, и даже снег обветшал, как износившаяся декорация. Поздним вечером гаснут огни, он сидит в гримерке перед зеркалом, из серой мути выплывает лицо с припухшими веками. Примеряет костюм своего персонажа, чье имя уже не помнит, стоит на пустой сцене, простирает руки к безмолвному залу. Сюда он больше не придет.
Последней ролью стал король Лир, изгнанный из собственных владений. Это был спектакль одного актера, и зрителей было ровно столько же. Евгений Семенович, насупленный, косматый, с развевающимися полами халата, по утрам грозной поступью входил в комнату жены. Гремя всей мощью голосовых связок, которые, в отличие от слуха, нисколько не пострадали, произносил страстный, гневный, полный трагизма монолог о катастрофе мирового масштаба. Рефреном через его речи проходило: «Они меня вышвырнули!». Марина Ильинична, к тому времени уже парализованная, только вздыхала.
Когда ее не стало, закончился и спектакль. Евгений Семенович выбирался из дома лишь изредка, да и то затем, чтобы добрести с маленькой кастрюлькой до стройки и покормить беспризорных собак, которые, едва завидев покровителя, радостно бежали к нему, улыбаясь во всю пасть. Но постепенно он стал терять ориентацию в пространстве, не понимал, где находится, почти не разговаривал, не считая скупых реплик, обращенных к коту: «Пойдем, Миша, кефир пить». Сыну, приходившему к нему каждый день, он повторял: «Пора мне к мамочке. Зачем Господь держит меня здесь?». Господь держал его до 90 лет. Не может же Господь каждому актеру даровать смерть на сцене.
4. Золотое перо
Марина Ильинична Рубина (1924—2008) росла в зажиточной еврейской семье. С родным Киевом семья простилась, когда отца перевели на более высокую должность в Москву. Но и там не задержались, спасаясь от сталинских репрессий. В этом им крупно повезло, если считать везением бегство от расстрела в нищету. Генералу НКВД Илье Зусьевичу Рубину был выписан ордер на арест, и его друг нашел в себе мужество тихо шепнуть: «Уезжай». Мать Вера Абрамовна была морально к этому готова. Собрались в одночасье, сели в первый попавшийся поезд и рванули в неизвестность.
Ближайшим городом к поселку Тавда, где они обитали в войну, был Свердловск. Там Марина Рубина выбрала Alma Mater — Уральский государственный университет имени Горького. С ее аттестатом можно было поступить на любой факультет, она могла стать и биологом, и математиком. Но сердцу не прикажешь: журфак, только журфак.
В студенческие годы затеплилась любовь к драматическому искусству. Местом силы стал Свердловский академический театр драмы. Она не могла понять, как такое возможно — в лютой стылости, в беспробудной хмари люди не просто остаются людьми, а еще и ставят спектакли. «Парень из нашего города», «Жди меня» и особенно постановка Ефима Брилля «Дядя Ваня» формировали ее художественный вкус.
Театр давал впечатления, отвлекавшие от голода и холода, помогал вытерпеть промозглый быт. Спасал от невыносимого отчаяния, от дикой душевной боли, когда с фронта пришла похоронка: ее муж-летчик погиб в воздушном бою. По ночам она плакала и не высыпалась, но на учебе это не отражалось.
Она решила, что будет работать честно и по совести, во благо искусства, которое учит принимать действительность такой, какая она есть. И никто не собьет ее с этой траектории. И никогда она не посрамит память убитого мужа. Для этого нужно было уметь не только писать, как считаешь нужным, а еще и не писать того, что от тебя требовали.
После четвертого курса она проходила практику в газете «Известия», но предложение войти в штат отклонила: видите ли, ей не дают публиковать очерки об интересных людях. Окончив в 1947 году журфак с красным дипломом, два с половиной года работала по распределению во владимирской газете «Призыв», но и там не захотела остаться: скучно быть звездой в пустоте. Следующим пунктом на карте стоял Новосибирск.
В областной газете «Советская Сибирь» снова оказалось, что профессиональная оценка искусства с точки зрения именно искусства невозможна в издании партийного диктата. Постепенно приходило понимание, что красная цензура непререкаема, но надо искать способы ее обходить.

Сегодня преподаватели говорят студентам, что историю новосибирского театра нужно изучать по статьям Марины Рубиной. Ее «тексты можно назвать образцовыми с точки зрения следования канонам жанра, и одновременно — увлекательным чтением для всех, интересующихся театральным искусством», — писала коллега Валерия Лендова в аннотации сборника рецензий «Театральный роман», изданного в 2010 году посмертно под редакцией Ирины Яськевич — кандидата искусствоведения, проректора Новосибирского театрального института, супруги Владимира Лемешонка.
Два других сборника вышли в Западно-Сибирском книжном издательстве при жизни — творческие портреты «Актеры и роли» в 1968 году и очерки о деятелях культуры и науки «Покой нам только снится» в 1973. В то время ни один журналист не имел подобной библиографии.
Ей нужно было состояться и в личной жизни тоже. Начав сотрудничество с театрами, она познакомилась с актером ТЮЗа, вышла за него замуж, уехала вслед за ним в Иркутск. В «Восточно-Сибирской правде» специально для нового сотрудника создали должность заместителя ответсека по вопросам культуры. Она круто взялась за дело, слишком круто. Лемешонок Первый вовремя сориентировался: «Давай-ка смоемся отсюда, пока тебя не исключили из партии». Карьера в Иркутске у него не складывалось. И в Ташкенте тоже. Добрались до Ленинабада.
Все эти годы жили тяжело, особенно когда родился ребенок. Грудного молока не было ни капли, искусственную смесь добывали чудом. Любовная лодка неистово билась о быт, ничего не оставалось, как отправиться восвояси. Евгений Семенович вернулся в родной театр юного зрителя, Марина Ильинична — в родную газету «Советская Сибирь».
Родители Лемешонка-старшего помогали поднимать малыша, но в их коммунальной комнатушке невозможно было развернуться еще одной семье. В личном архиве сохранилась фотография: они сняты на даче, где их на лето приютили друзья. Переезжали с одной съемной квартиры на другую, обставляли временное жилье мебелью из списанных спектаклей. Так в романе Людмилы Улицкой «Лестница Якова» колыбелью театрального младенца стала кроватка Бобика из спектакля «Три сестры». Через много лет эта пьеса оставит значительный след в биографии артиста Владимира Лемешонка.

Порой приходилось ночевать в редакции. Марина Ильинична, сидя под настольной лампой, исписывала кипы бумаги. Утром приходила машинистка, привычно разбирала дебри ее мелкого почерка с зачеркиваниями, вставками, пометками на полях. К полудню выдавала в набор готовую рецензию. В этом жанре, как и в очерках о деятелях культуры и науки, Марине Рубиной равных не было. Все это поняли и замолкли. В очередь на квартиру она «стояла» не так уж долго.
В 1962 году Марина Рубина получила от газеты «Советская Сибирь», где числилась заведующей отделом литературы, искусства и науки, полногабаритные хоромы в сталинском доме на улице Свердлова. Вовка остался с бабушкой и дедушкой, потому что родители приходили домой поздно вечером, а брать его на работу было еще рано. Но вскоре удалось обменять две квартиры на одну, огромную, четырехкомнатную, в том же доме, на пятом этаже. Семья воссоединилась, жилищный вопрос был снят. Долго привыкали к тому, что можно приглашать толпу друзей, и не на кухне тесниться, а располагаться за большим круглым столом в просторной гостиной.
У них стала собираться творческая интеллигенция, тяготеющая к культурным дискуссиям, те, кому, как писала Валерия Лендова, «предстояло сделать в театральном искусстве Новосибирска новый шаг — молодой режиссер Владимир Кузьмин и близкая ему группа актеров». Не пирогами привлекала Марина Ильинична гостей, она не любила готовить, ее фирменным блюдом было яйцо под майонезом. Гораздо важнее был дух свободы. Ирония Судьбы заключалась в том, что дом находился напротив обкома партии (ныне художественный музей), окна выходили аккурат на герб СССР — лепнину над парадным подъездом здания, сохранившуюся до сих пор. Но звукоизоляция была идеальная, а среди друзей стукачей не наблюдалось.
Творческие личности группировались вокруг нее, тянулись к ней, нуждались в ней, доверяли замыслы и воплощения. Хотя заранее знали, что вежливых комплиментов не дождутся. Прошла половина века, а легендарный киновед Роза Литвиненко до сих пор вспоминает, кто помог ее становлению в профессии на заре знаменитой телепередачи «Кино и зритель».
МЫСЛИ ВСЛУХ ОТ РОЗЫ ЛИТВИНЕНКО
— Я только начинала свою работу на ГТРК и жутко комплексовала, нервничала, сомневалась. Мнение маститой коллеги было очень важно. Марина Ильинична пригласила меня на чай, и мы долго сидели у нее на кухне. Она говорила с таким почтением, с интересом и пониманием дела, что я поверить в это не могла, — и не могла не поверить. Лил дождь, кипел чайник, за окном темнело, в своих рассуждениях об искусстве мы и не заметили, как детское время вышло. Часа в три ночи я спохватилась, ведь у меня маленькая Настя с бабушкой! Поэтому я не могла остаться до утра. В общем, я вскочила, напялила резиновые сапоги и умчалась. И была под таким впечатлением от встречи, что не заметила, как пронеслась в чужой обуви по лужам пять кварталов до дома. А утром раздался звонок: «Розочка, как вам удалось влезть в мои сапоги? Я надела ваши и утонула в них — они на три размера больше!»
Август 2016 г.
Многие знаменитости знали твердое рукопожатие Марины Рубиной. Андрей Вознесенский, в 1959 году приехав в Академгородок, лично вручил ей рукопись своей первой поэмы «Мастера». Она, в очередной раз рискуя карьерой, воевала и с редактором, и с обкомом за опубликование опуса в газете, будто знала, что с него начнется слава молодого поэта.

Ей было важно оценить и поддержать талант, событие, явление. С неимоверными усилиями пробила создание в «Советской Сибири» отдела науки, ведь у нас появился Академгородок! Отстаивала на редколлегии публикацию скромной заметки о выходе в Москве альбома опального н-ского художника Николая Грицюка. Разборки проходили и на более высоком уровне. Глава обкома Федор Горячев вызвал ее на ковер и устроил разнос: «На вас пожаловался мэтр живописи Василий Титков! Вы написали рецензию на его выставку с критическими замечаниями! Вы противопоставили его молодым художникам!». Автор вела себя вежливо, но независимо, на попятную не шла.
Эта независимость, продиктованная убеждением жить по правде, не раз откликнулась ей большими неприятностями. Когда не удалось отстоять свою точку зрения, написала в знак протеста заявление об увольнении. Уговаривали забрать — стояла на своем. Тогда разослали указания никуда не принимать, пол-года сидела без работы. Наконец, удалось устроиться завлитом в оперный театр (НГАТОиБ), который благодаря ей вошел в анналы: в 1979 году (в соавторстве с Инной Вершининой) вышла книга «Новосибирский академический». Это было первое исследование крупнейшего музыкального театра Сибири.
Но не всем сестрам досталось там по серьгам, добрые люди передали угрозу уважаемой балерины: «Если я увижу ее, то дам по морде». Но не увидела, ибо их пути успели разойтись. В редакции так и не нашли достойную замену Марине Рубиной и позвали назад. Там она и проработала вплоть до ухода на пенсию.
К середине жизни Марина Ильинична нажила себе столько же врагов, сколько и друзей. В театрах на нее обижались за то, что мало хвалила, боялись, потому что неудачи подвергались честному и пристальному разбору, уважали, цитируя точное и емкое слово. Знали, что пустых комплиментов от нее не дождаться. Доморощенные остряки, едва ее сын заявил о себе на сцене, пустили в народ перефразированную эпиграмму Гафта: «Россия! Чуешь этот страшный зуд? Три Лемешонка по тебе ползут».
Ей приписывали верное служение системе, хотя прекрасно знали, что ни один спектакль она не похвалила за идеологический пафос. Она предпочитала вообще ничего не писать о проходных поделках, если по тем или иным причинам не было возможности сделать разнос за халтуру. Но она не была и несгибаемым борцом за правое дело в советском смысле этого слова, не считалась диссидентом, идущим наперекор власти. В ее ранней юности случился роман с европейским дипломатом, который настойчиво звал замуж, но она и мысли не могла допустить, чтобы покинуть родную страну. Марина Рубина была просто порядочным человеком. Производила впечатление сильной, решительной, волевой личности, и только близкие знали, насколько она ранима и беззащитна.
Сомневалась, мучилась, взвешивала каждый аргумент, прежде чем высказаться о том, что старейший театр Сибири перестает быть «Сибирским МХАТом», теряет свой уровень. Что главреж «Красного факела» Константин Чернядев — творец, но не лидер. Чернядев возмутился, явился в обком, бросил заявление об уходе. Уговорили остаться, и в общей сложности он возглавлял «Красный факел» целое десятилетие, вплоть до 1971 года. В конце своей деятельности в Новосибирске Константин Саввич сделал великое дело — стал главным Педагогом ее сына, развившем потребность в самостоятельном мышлении. Что было большой, точнее, недопустимой роскошью для советского человека.
ИЗ АРХИВА. ПРО ИСТИНУ И ЛОЖЬ
«Она учила думать. Не обольщаться, не принимать за истину „ложь по мысли и ложь по исполнению“, как говорили старые критики. Никогда не забывать о смысловых планах спектакля. Не стесняться вопроса — зачем это поставлено? во имя чего? В ее статьях ответ всегда был, потому что была точка схода, куда устремлялась мысль», — писала театровед Валерия Лендова в аннотации к сборнику «Театральный роман».
Решив сплотить круг единомышленников, Марина Рубина и Валерия Лендова основали секцию театральной критики при Новосибирском отделении ВТО (ныне СТД РФ), учредившем театральную премию «Парадиз». Это была единственная периодическая премия в Новосибирске, объедившая все профессиональные театры города. Жюри «Парадиза» работало под их началом. Они же стали выпускать газету «Новосибирская сцена» (впоследствии «Авансцена»). Это была первая и последняя в городе газета, полностью посвященная одной сфере искусства. Раз в год она давала аналитическую картину театрального сезона. Новая плеяда театральных критиков оперилась и вошла в профессию с их помощью.
Марина Ильинична объясняла младшим коллегам, что история театра не пишется одной светлой краской. Судьба художника всегда противоречива и чаще горька, чем безмятежна. Театр нельзя ругать — с ним нужно спорить, и быть при этом всегда доказательным. «Профессия критика не может быть до конца объективной. Но честной — может быть!» — подчеркивала Марина Рубина. Ее внук Евгений Лемешонок подтверждает: «Бабушкин талант был глубок. При всем своем жестком характере она была справедливой. Потому что не понаслышке знала, что на сцене всё дается трудом и потом».
Лучше всего цену и меру этой честности испытали на себе муж и сын. Жена и мать актеров, Марина Ильинична опасалась, как бы ее не уличили в излишней лояльности к театру, в попытке использовать свое положение для привилегий своим мужчинам. Даже вне работы она никаких привилегий не давала. Иногда им казалось, что они стоят перед ней по стойке смирно.
МОНОЛОГ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ. ПРО ССОРЫ И УПРЕКИ
— Мама никогда не пела дифирамбов актеру Евгению Лемешонку. На этой почве у них возникали конфликты. В начале моей карьеры она и меня не принимала всерьез. Часто приходилось в этом убеждаться. Председатель областного художественного совета Николай Чернов, человек тоже порядочный и честный, после обсуждения спектакля «Гнездо глухаря» выразился кратко: «Марина Ильинична, если бы мне было что сказать о вашем сыне, я бы сказал». Мама передала мне эти слова. Знала, что я буду беситься и мучиться, но скрывать не стала. Не щадила меня и тогда, когда выходили критические замечания в мой адрес. Валерия Лендова, имевшая большой авторитет театрального критика, достаточно резко высказалась об одной из моих ранних ролей, а претензии я предъявил матери. «Она не лучше критик, чем я артист!» — выкрикнул я, совершенно не владея собой, и мама так на меня посмотрела… Столько жалости и презрения к этому ничтожеству было в ее глазах… Ничего не сказала, только посмотрела на меня, покачала головой — и отвернулась.
Она была атипичной матерью… С раннего детства относилась ко мне сурово, никогда не хвалила, опасаясь, как бы я не возомнил о себе лишнего. Будучи убежденной, что себя нельзя любить, себя нельзя жалеть, она раз за разом внушала мне беспощадность и презрение к себе, требовала самокритики, ни в ком не терпела самолюбования и не могла его допустить в своем сыне. Могла сказать: «Какой же ты у меня некрасивый». Когда у меня появилась первая девушка, она поджала губы: «Ну и зачем ты ей нужен?». Благодаря ей я и мысли не допускал, что могу кого-то заинтересовать. Даже если сам это замечал, то думал, не может этого быть, показалось, мне нужны были конкретные доказательства, прямым текстом, в лоб.
Потом ей стало возвращаться сторицей. Я, выросший в атмосфере родительских скандалов, обрушивал на нее упреки и требования. Кричал, обличал, доводил до слез. Сейчас понимаю, что нельзя было этого делать. Выросшая в НКВД-шной семье, она была продуктом и жертвой этой системы, изуродовавшей и ее, и мою психику.
Февраль 2016 г.

В этой семье всё было наотмашь, на нервах, на конфликте. Хлопали дверьми, орали, молчали, расходились, сходились, страдали бессонницей, постоянно доказывали свою правоту и свою правду. Ревностно следили за творчеством друг друга, в неудачах утешительных призов не раздавали, уважали чужое мнение, старались принять иную точку зрения, встать на позицию другого. Своевременный совет был ценнее скупой похвалы.
— И Евгений, и Володя — из той породы артистов, которым все дается большим трудом, — рассказывала Марина Ильинична, уже будучи на пенсии, стройная, подтянутая, с утонченными чертами лица и пристальным взглядом. — Они проделывали над собой гигантскую работу. Постепенно набирали — и вдруг вспышка таланта! Володе понадобилось очень много времени, чтобы количество сыгранных ролей перешло в качество. И еще он говорит: я играю на сцене потому, что больше ничего не умею. Но я-то знаю — умеет. Из него мог бы получиться неплохой журналист, писатель, художник. А какие он стихи пишет! Его однокурсник и друг Толя Узденский в своей книжке «Как записывают в артисты» вспоминал: поначалу думали, что в театральное училище Лем, как они его прозвали, поступил по блату. А позже убедились, что он умнее, интеллектуальнее, начитаннее многих…
С возрастом она всё отчетливее стала ощущать, что время ее уходит. Она теряет остроту пера, а карьера сына складывается гораздо успешнее. Он состоялся и в актерстве, и в писательстве. Все его эссе, как и статьи о нем, Марина Ильинична методично отслеживала, аккуратно подписывала дату, очерчивала красным стержнем посвященные ему абзацы, страницу к странице складывала в солидную картонную папку с дерматиновым корешком. С каждым годом папка становилась всё объемистей. Папка раздувалась от важности. Сам бы он ничего подобного делать не стал.
Семейный архив можно было пополнять год от года, но работы и заботы Марины Ильиничны прервались в одночасье. Ее застали врасплох. Эту полную энергии и мудрости женщину постигла участь многих, вне зависимости от того, кем они были и чего достигли. Высшие силы выхватывают человека из потока дней и бросают в пропасть, откуда нет возврата.
С утра беспокоило какое-то мрачное предчувствие, и вдруг раздался телефонный звонок. Вздрогнула, резко схватила трубку. Незнакомый голос сообщил, что ее сын попал в аварию, увезли на скорой, срочно требуются деньги. Дома она сидела одна, некому было остановить. Ничего не помня от ужаса, прибежала по темноте, принесла на место назначенной встречи требуемую сумму. В тот же вечер выяснилось, что Володя цел и невредим, а скорая помощь потребовалась ей. Она рухнула дома в коридоре и больше уже не встала.
После инсульта Марина Ильинична сохранила ясность ума, но потеряла возможность не только передвигаться, но и двигаться. Прикованная к постели, она не могла с этим смириться, надеялась, что поправится, встанет на ноги. Сын и внук делали для этого всё возможное, не жалея средств на таблетки и мази. Лем достал по блату дорогущий импортный массажер и проводил сеансы терапии. А пока сдвигов не было, приладил к кровати приспособление, с помощью которого можно было подтягиваться на одной руке и хоть немного менять положение тела. Мужчинам пришлось взять на себя обязанности, на выполнение которых они, как правило, по природе своей не годятся. Но существует другое правило — отдавать долги родителям, причем не в свободное время, а постоянно, день за днем. Даже если ты ничего не брал в долг, появившись на свет без собственного на то согласия и так и не уразумев, кого и почему ты должен благодарить за это.
Несколько раз навестила секция критиков. Одна из коллег молвила, что с Христом в душе было бы легче. «Галочка, неужели вы до сих пор верите в эти сказки», — отозвалась Марина Ильинична. Ей помогало другое — фонды библиотеки СТД, книги по ее формуляру брал сын. Держа перед собой на вытянутой руке книгу, она прилагала особые усилия, чтобы перевернуть страницу. Деменция ей не грозила, тем трагичнее было затянувшееся прощание с утратившей хоть какой-то смысл жизнью. Самое страшное для человека — вовсе не жизнь и вовсе не смерть. Самое страшное — промежуток между жизнью и смертью.
«Тебе жалко меня?» — спрашивала она у сына. Лем пытался шутить. Ведь именно в такие моменты чувство юмора становится альтернативой фальшивому оптимизму. Не умея избавить родного человека от пытки, еще острее сознаешь свое тотальное безверие. Сентенции типа «бог тебя любит» начинают казаться издевательством. Рассуждения о бессмертии души имеют утешительный характер. Теория расплаты физической болью за грехи неубедительна. Земной разум не способен постичь, для чего дано это испытание. Ладно, оно дано тебе — допустим, для усиления человекости. Но отказываешься понимать, для чего это испытание беспомощному старику, который не может себя защитить и что-либо изменить, страдая еще и от того, что стал обузой для близких. Неизбежность старческой немощи — позорный закон бракованного мироустройства. Медленное унизительное умирание — исчерпывающее доказательство ничтожности человека как вида. Облегчение от того, что отмучились оба — глумливая гримаса высших сил. Способ спасения ближнего показал кинорежиссер Михаэль Ханеке в шедевре «Любовь», но для этого мы слишком слабы.
Марина Ильинична ушла в 84 года. Пережив смерть матери, а затем отца, Лем смотрит вдаль: «Ужасно боюсь, что и мне уготовано затянувшееся угасание. От родителей я, скорее всего, унаследую еще и мучительную старость».
5. Инопланетное чудовище
Его характер слагался из абсолютно не соединимых для среднестатистического человека компонентов, происходящих, с одной стороны, из редкого природного материала, с другой, из сурового воспитания. Противоречия, раздирающие его с детства, вылились в утонченные черты лица — и под суженной переносицей нашлепку тяжелого крючковатого носа из другого комплекта; не поддающуюся возрасту стройную подтянутую фигуру — и обрюзгший характер. Нутро с застывшей глыбой свинца и фамилия с уменьшительно-ласкательным суффиксом совершенно не впрягаются в одну телегу. Да ведь и театр, усмехается Лем, — это бордель, который корчит из себя храм.
МОНОЛОГ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ. ПРО ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
— Я находился в прекрасном месте, где меня не было, и вот меня извлекли оттуда и поместили туда, где я есть. Я не хотел рождаться, маме сделали кесарево сечение. У меня всегда было ощущение насильственности моего появления на свет. С первого писка началось сплошное насилие. Жизнь — гнет. Гнет — и существительное, и глагол. Высшей мерой для меня стал приговор к жизни.
Март 2016 г.

Есть подозрение, что он родился в рубашке, пусть и холщовой. Судьба определила ему место в уникальной семье, предоставив условия для самовыражения, интеллектуального развития, формирования актерской индивидуальности. Обеспечила травматическим опытом детства, сформировавшим неврастеника, но и давшим направление творчеству. Одарила благородным обликом, аристократической худобой, голосом необыкновенного тембра. Не говоря об ослепительном таланте, помноженном на одержимость актерским трудом. Он с остервенением рванул рубаху, превратил ее в рубище. Нагородил на ровной дороге преград, накопал ям. Пустился в путь, спотыкаясь и падая, чтобы, отталкиваясь от колдобин и кочек, взлетать, парить и снова падать.
Начинал он веселым, открытым, любознательным карапузом, да еще упитанным, мордатеньким, словно был создан для поглощения сплошных радостей. Тянул ручонки к книжкам с картинками, быстро запоминал прочитанное мамой вслух. На третьем году жизни с удовольствием разыгрывал перед восхищенными гостями образцово-показательный этюд: открывал сборник русских народных сказок и шпарил, как по писаному, в нужных местах переворачивал страницы, имитируя чтение. К четырем годам уже читал сам. Живо интересовался устройством кубиков, машинок, попадавшихся на пути предметов, вглядывался, исследовал, удивлялся, удивлял.

Трудности возникли, когда начал осознавать себя. Его память была специально устроена для собирания негативных впечатлений. Таково одно из самых ранних воспоминаний детства, очень рано заполнившегося рефлексией и тоской. Малыш, закутанный в шубу и шаль, выкатился из подъезда в зимний двор, раскинул ручонки, радостно бросился навстречу первому встречному. Им оказался хулиганистый пацан из соседнего дома. Старший приятель был занят решением своих личных вопросов и отреагировал по-простому, то есть толчком в грудь. Вовка, выкарабкиваясь из сугроба, сделал не по-детски суровый вывод: этому миру нет до тебя никакого дела, ты всегда будешь в нем чужим.
Он и внешне начал меняться: вытягиваться и худеть, вместе с пухлявостью истощалось жизнелюбие. Становилась осмысленной реакция на мамины строгости, замечания, придирки, требования. Появились вопросы, на которые не бывает ответа: почему я такой, почему такой мир вокруг меня. Проблема собственного уродства всегда была для него первичной, проблема несовершенства мира — вторичной. Обрушивал претензии на мать, требовал объяснений и оправданий, нападал, упрекал, орал, психовал, доводил до слез — она была бессильна под натиском гнева, но и она же являлась его причиной. Ну потому что он же не просил его рожать!
С детства полюбил быть один, чтобы предаваться размышлениям и мечтам. Глядя на облака, представлял, как откуда-то из небесных глубин явятся к нему инопланетяне и заберут с собой, в иные миры, устроенные совершенно иначе, чем заселенная людьми планета Земля. Очень скоро понял, что это несбыточная мечта, а его удел — тосковать о том, чего не бывает.
Будущий Художник категорически отказывался вливаться в социум. Отрицание началось еще в детском саду. Родители, с трудом выбившие место, тут же осознали, что зря они это сделали. Он забился в угол, завращал глазами, закатил истерику, едва воспитательница попыталась внедрить его в группу. Наутро его тащили туда волоком, он упирался и орал.
Дедсад был упразднен, но бабушка Анна Андреевна нуждалась в передышке. На помощь пришли бабушка Вера Абрамовна и дедушка Илья Зусьевич. Вовку отправили к ним в Чернигов. Там понравилось: деревянный дом, волшебный запах в сенях, большая добродушная собака, таинственный сад, спелая вишня прямо с ветки, сбитые коленки, свобода, свобода, свобода. И да, там он забывал, что всегда виноват и во всем неправ.

Дальше предписывался пионерлагерь как универсальный для советских ребятишек вид каникулярного отдыха. Детсадовский бунт повторился в более изысканном варианте. Ярко выраженный социопат уже имел опыт борьбы за свои права. Шагая в строю на линейку, он больше не демонстрировал протест — потихонечку отстал, а потом помчался наутек. Вскоре оказался у забора, ограждавшего территорию, вцепился в него и застыл в глубокой печали. Так и просидел под забором до самого обеда и с тех пор стал регулярно там спасаться от своры оголтелых ровесников. Пока не приехала бабушка Анна Андреевна. Звонко лязгнули за ними металлические ворота.
У него оставалось летнее время для благодатного одиночества, в запасе имелись прекрасные дни сомнений и тягостных раздумий, но впереди неотвратимо маячил День знаний. Школа номер 99 была заточена явно не под него. Он невзлюбил ее сразу, причем взаимно — прежде всего за то (а потом уж и за всё остальное), что в связи с переездом всей семьи в новую квартиру пришлось покинуть школу прежнюю, где он проучился весь первый класс и вроде как привык, прикипел. Никто не оценил его героическое примирение с действительностью, наоборот, лишили единственной радости. Плакал, топал ногами, умолял не отнимать единственную радость, но никто не собирался возить его со Свердлова на Сибирскую. Ну и не учли серьезность проблемы. Подумаешь, привыкнет и здесь.
Но школа — это вам не лагерь, оттуда не сбежишь. Особенно если к малолетним преступникам приставлен несгибаемый надзиратель — учительница начальных классов Марья Михална. Своих детей у нее не было, всю себя она посвятила работе.
Марья Михална являлась типичным продуктом системы, за что пользовалась беспрекословным уважением руководства. Ее ставили в пример коллегам, но звание заслуженного учителя СССР так и не присудили. Мегера в толстых линзах сумела наладить железную дисциплину, никто пикнуть не смел. Стригла всех под одну гребенку, диктовала родителям, в какой парикмахерской ученик советской школы обязан сделать полубокс. Назначала универмаг, где следовало купить галстук, — пока до пионерского не доросли, полагался, как решила надзирательница, строгий мужской аксессуар в придачу к обязательной школьной форме. Евгений Семенович терпеливо учил сына наглаживать стрелки на брюках, от чего Лем пытался уклоняться, но не тут-то было. Эти единственные в его гардеробе серые брюки были ненавистны, как и галстук.
На перемене ребята из других классов умудрялись пронестись туда-сюда по широченной рекреации, как бы специально предназначенной для разминки конечностей, а Марья Михална стриноживала коней. Ставила контингент в пары и заставляла чинно ходить по кругу, рявкая на них во всю мощь своей гортани. На уроках била указкой по голове.
Конфликт с новеньким начался сразу, с первого дня. Он развалился за партой и уставился в потолок. Едва повелительница занесла над еще не обкромсанными вихрами указку, как он посмел перехватить ее руку и отпихнул! Ну и подписал себе приговор на изгоя, оставаясь таковым все школьные годы чудесные.
Училка запретила классу какие-либо контакты с Лемешонком, бдительно отслеживала неблагонадежных, запрет нарушавших. К нему осмеливались приближаться лишь в туалете, где и закипало нерегламентированное братство. Но звенел звонок, и воительница хваталась за свой меч: «Посмотрите, он у нас из актерской семьи! Может, я бы тоже могла по сцене прыгать! Но надо же кому-то и работать!». А когда из него поперли актерские выкрутасы, то всю силу своего презрения вкладывала Марья Михална в реплику «ишь ты, артист!».
Огромными красными буквами она писала в дневнике изгоя жалобы родителям, гневным росчерком пера вызывала их в школу. Реагируя на эти вопли, папа разводил руками, мама делала строжайший выговор, а бабушка шла на ковер, после чего высказывалась на семейном совете: «А че ему, суке, сделается? Хоть кол ему на голове теши!». Ситуацию пустили на самотек.

Достигнув пионерского возраста, Лемешонок уже слыл законченным негодяем. Негодяя, коли от него было невозможно избавиться, отсадили на камчатку. Там он жил своей, отдельной от учебного процесса, жизнью — читал книгу под крышкой парты, созерцал плывущий за окном самолет. На все, абсолютно на все замечания взрослых реагировал нервно, то есть враждебно. Критиковать его никто не имел права, поскольку на это есть он сам, в чем этот «сам» явно преуспел. А если в кои-то веки удостаивался похвалы, то, как и полагается сомневающимся интеллигентам, делил ее на тринадцать.
Учителям советской выправки было чуждо явление инопланетного чудовища. У них, в целях самосохранения, выработалась на него идиосинкразия. В его поступках они усматривали наглый вызов, злонамеренный бунт, покушение на свой авторитет. Бесила его живость, бесили дерзость и независимость, бесили вопросы невпопад, бесил распухший портфель, который валялся в проходе между партами.
Юный Лемешонок втиснул в него все имеющиеся у него учебники и с тех пор ревизию не производил. Ярко выраженный холерик, он яростно швырял их об стену, когда его заставляли делать уроки. Настал момент, когда на глазах математички он в знак ненависти запихал в рот и сжевал страницу из учебника. Классная руководительница грозилась, что поставит в журнале напротив его фамилии пометку у. о. В смысле, умственно отсталый ученик.
МОНОЛОГ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ. ПРО ЗЛОБУ И НЕНАВИСТЬ
— Учебу я возненавидел с первого класса. Быстро понял, что не люблю и не хочу учиться. Особенно меня бесила математика! Мозг отключался, едва я открывал учебник. Тошнило от всей этой абракадабры — цифр, скобок, примеров, формул. Мама наняла репетитора, а я засыпал — сначала вырубался внутри, потом снаружи. Литературу я тоже невзлюбил. Всё, что я говорил и писал, учителям не подходило. Сочинение на тему «Береги честь смолоду» я написал про Гамлета, и оказалось, что неверно всё понял. Как можно было существовать в советской школе, где не учили думать, а диктовали, как нужно думать? А я был склонен к самостоятельному мышлению, что было категорически не приемлемо, и поэтому был двоечником…
Мама очень любила фильм «Доживем до понедельника». А я считал его приторно-лживым, не имеющим никакого отношения к советской школе, да и к самой жизни. Правда, в седьмом классе у меня возникла светлая полоса. Директор школы, литератор, часто сидел у нас на уроках литературы. Он оценил, как я прочитал монолог Чацкого. Что-то он во мне узрел — и стал вызывать меня к себе в кабинет, беседовать, в общем, курировал. Но эта светлая полоса быстро закончилась. Я подвел директора, продолжая получать двойки по всем предметам. Он разочаровался во мне — и потерял всякий интерес.
Апрель 2016 г.
Обычно из подобных отщепенцев получаются неплохие штукатуры или плотники. Но беда в том, что сын актера и журналистки не был склонен к работе руками. Хотя если возникала необходимость, то не отлынивал — и кран умел починить, и теплицу сколотить. Беда в том, что он был склонен работать головой.
6. Интеллектуал
«Бестолочь!» — огорчалась бабушка Анна Андреевна, добрейшей души и редкого природного ума человек, когда внук, отказываясь разбираться в хитросплетениях шахматных ходов, с яростью сметал фигуры с доски. Он мог концентрироваться лишь на том, что сам выбирал, усваивать только то, что ему было интересно, думать над тем, что, по его незрелым ощущениям, того стоило. Повзрослев, он не раз посетует, что не научился учиться, не выработал навыков к получению даже неинтересных знаний, без чего не может состояться по-настоящему образованная личность. Он выработал в себе другое — игнорирование правил, если они не соответствуют его внутреннему кодексу.
Его пионерский галстук приобрел подозрительно рыжеватый оттенок, был прожжен утюгом и завязан как попало. Священный атрибут советской школы часто забывался дома. Вернее, забрасывался за диван. Вступать в комсомол Лем отказался. Да никто туда его и не звал. Какой с него спрос — «бестолочь».
Лем четко разделял склонность думать — и собственно ум, то есть житейскую смекалку. Он не считал себя умным, поскольку был категорически не способен состыковываться с реальностью. Его территория была не здесь, а существует ли она вообще, сие не ведомо. Бесполезно было давать ему простейшие поручения и втолковывать очевидные вещи. Из гастронома выходил без покупок, из парикмахерской нестриженый. Он тупо не вписывался в повседневность с ее обязательной политинформацией раз в неделю перед математикой, общественными нагрузками, торжественными сборами, смотрами строя и песни, потасовками в раздевалке, давкой в транспорте, очередями в магазинах. Напитавшись дома духом свободной мысли, он возненавидел стандарты, клише, фальшивый энтузиазм комсомольских собраний, приторное лицемерие учителей, казенные формулировки школьных учебников. Собственные приоритеты вытеснили список обязательной литературы, ознакомиться с которым он не удосужился.
Невероятные сокровища он получил от родителей в подарок к Новому году. Проснулся, продрал глаза — и обнаружил под елкой стопку томов из серии «Современная фантастика» плюс талоны на подписку. Всё, жизнь налаживалась, впереди замерцали лучи волнующих открытий. Лем проштудировал чуть ли не всё опубликованное советскими издательствами в этом жанре, включая Азимова, Кларка, Уэллса, Беляева, Михеева, а также второстепенных пропагандистов коммунистического завтра. Братья Стругацкие встали на первое место, особенно «Понедельник начинается в субботу», прочитанный с десяток раз.
Помимо фантастов встречались другие достойные авторы. Лем год за годом исследовал огромную домашнюю библиотеку, таившую целую вселенную. Она сохранена по сей день, несмотря на пристрастие к электронным носителям. Наводя уборку, он протирает дерматиновые корешки и ощущает скрытую связь с каждой книгой, окунающей в воспоминания о других мирах.
Собрания сочинений советских и зарубежных классиков дарили юному Лемешонку блаженное погружение в пучину неизведанного. Ровные ряды фирменных томиков перемежались с книгами, добытыми по случаю. На одной полке стояли романы Достоевского и Ильфа с Петровым, соседство которых отражало единство и борьбу противоположностей в его характере — темную мрачную бездну и светлое легкое остроумие. Майн Рид и Фенимор Купер, увлекавшие в головокружительные кульбиты приключений, излистаны до лоска. Среди литературных кумиров фигурировал Даниэль Дэфо с «Робинзоном Крузо», влекомым неиссякаемой тягой к жизни, какой бы эта жизнь ни была. Знакомство с богатейшим наследием Дюма началось с «Трех мушкетеров», поразивших совершенно новым для него романтизмом, явлением настоящей мужской дружбы, безбрежными авантюрами, той неформулируемой магией, что приближает к тайне, но не открывает ее. А дальше предпочтение отдавалось «Графу Монте-Кристо», особенно второму тому, восхищавшему непреклонным стремлением героя к цели, даже если это была такая недостойная, а точнее, недостижимая для него самого цель, как месть. Поражало умение низвергать врагов до нуля, а самому оставаться человеком.
На 14-летие отец подарил двухтомник Сервантеса, и Лем, уверовав, что это лучший роман мира, поглотил «Дон Кихота» ни на что больше не отвлекаясь, мужественно преодолевая скуку в некоторых длиннотах, попеременно замирая от восторга и удивления.
Следом явился Шерлок Холсмс и ошеломил магнетическим сюжетом, интеллектуальными изысками, железной логикой заглавного героя. Вот что такое, оказывается, детектив — позволяет забыть о презрении к себе! Дал Конан-Дойля дедушке Семену Петровичу, извелся в ожидании его вердикта. Тот читал долго, размеренно, не спеша, сдержанно оценил: «Спасибо, очень хорошая книга».
Дедушка, кстати, был не читатель, дедушка был писатель. Весьма неприхотливый в быту, не ходок по пустым магазинам и дорогим рынкам, он предпочитал сидеть дома и сочинять мемуары в большой общей тетради под картонной обложкой. Периодически вручал свой опус невестке для опубликования в газете. Но так и не опубликовался. Марине Ильиничне было достаточно прочесть пару страниц, чтобы развести руками. Вовка был единственным читателем Семена Лемешонка, осилившим почти весь его труд. Правда, повести советских писателей о партизанах нравились ему больше.
Страсть и чутье к печатному слову Лем унаследовал от матери, к тому же она в свое время получила отличную гуманитарную подготовку. Но относилась к ней избирательно. Преподаватель техгаза (техники газетного дела) у них на журфаке любил повторять: «Чтение газеты „Правда“ каждый день в течение шести лет может заменить высшее образование». Марина Ильинична добросовестно штудировала вышеупомянутую газету, постепенно убеждаясь, что такое идеологические и стилистические штампы, и переходила к другим источникам. А Лем туда и вовсе не заглядывал и высшего образования не получил. Не получил он его и в университетах, ограничившись средним специальным. Высшее образование заменила мировая классика, которую он переплавлял в образы будущих персонажей и собственную картину мира.

Пробил тот час, когда Лем открыл для себя глубины и вершины поэзии. Тайно сочинял сам, доверяя сокровенное общей тетради, следы которой утеряны в веках. Восторгался Пушкиным, декламировал во весь голос сам себе, постепенно проникаясь масштабом его личности, ощущая, что где-то клубятся другие измерения, ему недоступные. Много знал наизусть из Лермонтова, Блока, Маяковского. Открыл для себя трех китов современной поэзии — Евтушенко, Рождественский, Вознесенский, попав под магнетизм и их текстов, и их славы. Особенно притягивал Вознесенский — не без влияния мамы, лично принявшей из рук поэта рукопись поэмы «Мастера». Позже поэма вошла в сборник «Антимиры», и юный Лемешонок, заполучив его, сразу прибрал в желтый портфель. В театральном училище на зачете по сценической речи он прочитает эту вещь так, что преподаватель Лидия Николаева смахнет слезу. А потом, будучи молодым актером, во время гастролей по области умыкнет «Дубовый лист виолончельный» из сельской библиотеки — сунет его под ремень, справедливо рассудив, что в формуляре сборника нет ни одной отметки.
Наблюдая за формированием ценителя поэзии, Евгений Семенович привел пытливого семиклассника в открывшуюся при ТЮЗе детско-юношескую поэтическую студию «Спутник». «Что ж ты за кулисами болтаешься, давай скорее к нам!» — была с ним солидарна руководитель студии Кира Павловна Осипова. В школе Лем видел фальшь и муштру, а здесь был совсем другой расклад, совсем другие лица. Это был первый и последний внешкольный коллектив, где он не только согласился заниматься, но и делал это с завидным рвением, и первый (но не последний) педагог, кто распознал в нем талант и нашел ему применение.
Кире Осиповой было всего 35 лет, она общалась со студийцами на равных и была обожаема ими всеми, без исключения. Благодаря ей молодежь погружалась в пучину театра и не желала выныривать. По выходным просиживали у нее дома в однокомнатной хрущевке, вкушая не какие-то дворовые «Три семерки», а элитные вина «Фетяска» и «Тамянка», под это дело влюблялись, танцевали, целовались и, разумеется, читали стихи.
Главный студийный чтец Женька Покровский сразу же протянул новичку крепкую ладонь, почуяв в нем не конкурента, а преемника. Женьке настала пора поступать в театральное училище, надо было взрастить достойную смену. Он даже просил достойную смену сходить с ним на первый тур для моральной поддержки, ну и заодно осмотреться, ведь достойной смене предстоит там учиться, в чем Женька был уверен еще больше, чем в себе.
За полтора года до поступления в театральное училище Лем вышел с чтецким дебютом на сцену ТЮЗа и в одночасье сделался широко известным в узких кругах. «Я — по собственному велению, — сердцу в верности поклянясь, говорю о Владимире Ленине и о том, что главное в нас», — декламировал он, не особо задумываясь о смысле. Потом, много позже, он посмеется над своей незрелостью: «Сплошной Ленин-переленин, туши свет, хрень собачья», а тогда упивался ритмами и рифмами. Поэтический спектакль «Письмо в тридцатый век» по произведениям Роберта Рождественского был ярким достижением студии «Спутник».
Одноклассники располагались по другую сторону искусства. Для них стих был тарабарщиной, бессмысленным набором звуков. А одноклассницы восхищались тому, как чудесным образом преображаются скучные безликие строки из книжки, как сияют глаза, в которых отражаются планеты. Они начали понимать, что учебные оценки не имеют никакого отношения к размеру разума. Отличница Танька Гудилина выговорила мудреное слово «интеллектуал», и оно навсегда приросло к нему в качестве амплуа. Хотя, когда он станет актером, то интеллектуалов будет играть с таким же успехом, как и дураков.
Девочки стали оказывать ему знаки внимания, сам бы он не решился, ведь он себя ненавидел, проще говоря, не переваривал. Особенно когда смотрел в зеркало на свою физиономию, покрытую юношескими отметинами. Тем более что у него был серьезный соперник. Первым в рейтинге популярности у созревающего женского пола значился его закадычный одноклассник Лёха Аксанов — человек, который пройдет через всю его жизнь. Правда, не так лихо и весело, как намечалось.
7. Земные утехи
Аксанов из параллельного класса заметил Лемешонка на перемене: все дети одинаковые, а этот другой. Когда по окончании начальной школы и переформирования классов они оказались в одном коллективе, Аксанов сразу сделал решительный шаг. Познакомились они детьми, а вышли из школы, усмехается Аксанов, взрослыми мужиками. Каковым Лем еще долго себя не считал. Он считал взрослым только Аксанова. На тот момент каждый из них полагал, что другой значительно опережает в преодолении жизненных преград, и с радостью тянулся за ним. В этом и заключается прелесть и равенство дружбы. Пока она не перейдет в иную стадию.
Пацаны периодически порывались устроиться за одной партой, но учителя «не могли позволить нам сидеть рядом из соображений дисциплины и порядка». По отдельности эти двое были вопиющие отщепенцы, а вместе — сила, сводящая взрослых с ума.
Аксанов в отличниках, понятно, не числился, не числился и в хорошистах. Но учился гораздо лучше Лемешонка, потому что, как полагал Лемешонок, хуже него было уже некуда. А по рисованию Аксанов вообще был первый ученик в классе, он мог изобразить кого угодно, его рисунки нравились даже учителям. Позже он стал показывать некоторые успехи в черчении и геометрии, не прилагая к этому абсолютно никаких усилий. Учеба интересовала его мало. Точнее, не интересовала совсем.
Алексей Аксанов, в народе Лихач, сочетал в себе качества, которые Лем считал основой всего: красив, высок, дерзок, неуправляем. Эффектно дрался и нагло матюгался. Свистел, как соловей-разбойник, плевался далеко и метко. То есть морально повзрослел раньше своих ровесников. А Владимир Лемешонок, в народе Интеллектуал, мог одной непринужденной фразой сразить какого угодно оппонента, будь то первая красавица класса или замученная нарзаном учительница алгебры. Но никакого значения не придавал своим достоинствам.
Нервный, непокорный и независимый, Лем сознательно, подсознательно и бессознательно попадал под влияние персон, которых считал личностями. Во мне, рассуждал он, ничего интересного не содержится, а у других, без ущерба для них, можно много чего почерпнуть и обогатиться.
Аксанов залихватски играл на гитаре, чем периодически завоевывал слабые женские сердца и тела. Он, даже если лыка не вязал, мог автоматически перебирать гитарные струны, и оттуда непостижимым образом выливалась связная мелодия. Вот и Лемешонок замыслил самоутвердиться на этом поприще, к тому же дома на гвоздике висел побитый жизнью инструмент, на котором время от времени бренчали то дед, то отец. Гитару отдали в починку, чтобы мальчик взялся за ум. Мальчик взялся за ум решительно: несколько раз сходил на занятия по специальности и сольфеджио, пытался стараться. Но вскоре пришел в ярость: «У меня нет слуха!». На самом деле у него не было прилежания к не предназначенным для него занятиям. С тех пор за музыкальные инструменты он не брался вообще.
Засим почти все мальчишки из 7 «А» под предводительством Аксанова записались в секцию бокса, и Лемешонок решил превзойти сам себя. Но на первой же тренировке его азарт разбился о железные кулаки противника. Тренер сразу дал понять, что перед ним как педагогом стоит задача растить чемпионов для советского спорта, а у тебя, Володя, слабые руки и вялая реакция. Ха, зато высвободилось время для прочтения нового тома Дюма!
Любимый писатель так увлек своими сюжетами, так взбудоражил фантазию, что в двоих бездельниках проснулась страсть к сочинительству. Интеллектуал и Лихач заделались авторами детективно-эротического романа — главу писал один, следующую главу другой. Рукопись ходила по классу, вызывая краску стыда у девочек и гогот восторга у мальчиков. Опусы нуждались в иллюстрациях, и вслед за Аксановым Лем пристрастился к художествам, стал рисовать не хуже наставника. Их тетради были испещрены ковбоями с револьверами, скачущими на лошадях по прериям, черепами и скелетами, рассыпанными на просторах вселенной, ударными установками, шариками и роликами, а главное, обнаженной натурой. Но мало было самим рисовать — надо было где-то черпать визуальные образы. Почтовые марки были выбраны в качестве существенного источника познания. Аксанов сказал, что это круто, и пошло-поехало.
Книги, прочитанные на много раз, потихоньку сдавались в букинист, но только не второй том «Графа Монте-Кристо, первый берите, а второй не отдам ни за какие деньги! На вырученные средства приобреталась бутылка винища, это святое — и марки, эти таинственные послания потомкам. В целях обогащения коллекции возникла потребность обзавестись дополнительными коммуникациями.
Кореша выяснили, что по воскресеньям в Первомайском сквере тусуются одержимые люди. Хвастаются своими достижениями, обмениваются раритетами, рассказывают удивительные вещи. Торгуются, расхваливают товар, делают бизнес. Бродя среди взрослых дядек, пацаны приглядывались, прислушивались, наловчились находить и выбирать, завели полезные знакомства. Квалификация повышалась, появилась необходимость переключиться на отдельную тему, и Аксанов выбрал негашеные английские колонии. Король, королева, изысканность, стиль, пинцет, кляссер. В марках было столько же неизведанного, как и в книгах, но добывать сведения о марках приходилось, как и сами марки, по крупицам, тем и были ценны. Однако даже марки не затмили простых земных утех.
Аксанов первый в классе вкусил алкоголь. Именно он открыл Лемешонку эту омерзительно-упоительную субстанцию — летом, на Валухе, как прозвали неформальный клуб под открытым небом. Парни со Свердлова и близлежащих кварталов, дабы на каникулах не слоняться без пользы, собирались на Фабричке, под мостом, у железнодорожной насыпи, на покатом склоне, в кустах, скрывавших их от глаз людских. Электрички и поезда пролетали мимо, грохотали железом, обдували ветром странствий. Экспериментаторы раскладывали на рельсах припасенные для этой цели гвозди и шурупы, ждали, как, дрожа от тяжести колес, засияют под солнцем длинные плоские куски металла. Жгли костер, пекли картошку, сидели перемазанные сажей, ржали. Аксанов великодушно выставил на поляну «Три семерки», то есть, попросту говоря, «777», с удовольствием наблюдая за реакцией коллектива.
И пошли ребята вразнос! К восьмому классу заделались вылитыми мэтрами этого дела. Состояние опьянения им нравилось гораздо больше, чем вкус дешевого пойла. Главной целью было забалдеть и оторваться. Вечно не сиделось на месте, вечно тянуло на подвиги. Лем и Аксан чинно прогуливались по вечерней улице Свердлова и, пошатываясь, кричали в слепые окна обкома: «Долой Горячева!». Почему-то никто не отзывался.
Но горячевские праздники отмечались с размахом, ведь они давали прекрасную возможность для коммуникаций. 7 Ноября и 1 Мая дисциплинированные школьники шагали в колонне бодрых демонстрантов, вздымая над толпой портреты мордатых вождей, и предвкушали, как при очередной остановке, когда все будут топтаться на месте и ждать команды к дальнейшему передвижению, они нырнут в ближайший двор и стремительно откупорят с трудом добытую емкость.
Самым умным одноклассницам оказывалась честь составить компанию, но им не всегда удавалось держать планку. Лучший друг Танька Гудилина, зажав под мышкой огромную бутыль винища, поскользнулась и еле удержала равновесие. Бесценный сосуд грохнулся оземь, точнее, на лед. Пока он, сверкая темным стеклом, долго-долго катился в рапиде, собутыльники, не сводя глаз с сокровища, решали, какое наказание изобрести преступнице. Но тара чудом осталась цела, содержимое было распито на шестерых, и очень быстро придумалось, где взять еще. Отдельным номером программы значилось подымить в минуты долгожданного распития.
МОНОЛОГ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ. ПРО КУРЕНИЕ И КУМИРА
— Курить я начал не для удовольствия. Не сладострастием согрешил, но тщеславием. С сигаретой я казался себе значительно больше похожим на Стива Маккуина, чем без. Случилось это, кажется, в пятом классе, а в шестом начал даже удовольствие получать. А бросить решил лет в тридцать пять с целью опять таки тщеславной — доказать себе, что могу быть похожим на Стива Маккуина теперь уже не сигаретой, а моральной силой. Бросал долго, постепенно снижая количество сигарет. Получилось бросить. Доказать не удалось. Теперь уже вовсе ничем не похож на Стива Маккуина. Чего, в прочем, и следовало ожидать.
Сентябрь 2016 г.
Валуха закрывалась до следующего лета, подворотни становились непригодны, хотелось в тепло. Три советских семерки дегустировались, разумеется, не под торшером. Лем, обретя законный статус студента, будет приглашать однокурсников к себе домой, и Марина Ильинична, уважая разговоры о поэзии, неоднократно нарежет большое блюдо бутербродов. Но школьников совсем даже не тянуло под родительский надзор.
Лихач, живший на Красном проспекте в доме под часами, облюбовал для распития закуток на черной лестнице. Знаменитый памятник архитектуры отличался укромными уголками и даже был похож на дворец, если не обращать внимания на усыпанные сигаретным пеплом и порезанные перочинным ножичком подоконники. Хорошо сидели, уютно, но нашелся вариант поинтереснее. Интеллектуал обнаружил в подъезде аккурат над своим пятым этажом ведущую на чердак необитаемую и вполне приемлемую для всех смыслов площадку. И вот там стали собираться близкие люди, которые, никому не мешая, проводили досуг с пользой. Сливки студии «Спутник» тоже постепенно оприходовали чердак, ибо поэзию требовалось вознести под самую крышу. Часто Лем, возвращаясь из школы, даже не заходил домой, а прямиком шнырял туда.
В 14 лет он начал осваивать телесные удовольствия, это и было, не считая алкоголя, самое главное в жизни. Его соблазнила первая красавица класса, но с ней не заладилось, и он безмерно страдал. А кто-то безмерно страдал по нему, сидя в подъезде на подоконнике с книжкой, до полуночи ожидая возвращения гуляки праздного. Он мог мимоходом бросить «привет» и не останавливаясь проследовать в свою квартиру, не пригласив ни туда, ни на чердак. Назавтра он планировал встретиться с другой подружкой, от волнения екало сердце. Ведь любому нормальному человеку жаждалось полного уединения вдвоем, как взрослому. «У меня сегодня вечером никого не будет дома» звучало как признание в любви. Высшим знаком доверия между парнем и девушкой считался сияющий на ладони ключ. В эпоху повального ханжества и вранья это была самая высокая мораль.
8. Горе бедного студента
Двоечнику, напротив фамилии которого в журнале грозились поставить пометку «у.о.», было отказано в праве на 9 класс. «Твое место в ПТУ либо оставайся на второй год», — приговорили в школе номер 99. Он был рад бежать из тюрьмы, но и ПТУ был не выход. Деваться было некуда. Пришлось идти в театральное училище.
Ну что значит «пришлось». Лем, в отличие от отца в раннем детстве, на табуретку не вскакивал, что давало основание бабушке Анне Андреевне качать головой: «Нет, Володя не артист. Женя — да, а Володя — нет». Но как только внучек подрос, она изменила угол зрения. То с опаской, а то и с радостным удивлением замечала, какие искры от него летят. Родители воспринимали его особенности как должное.
Как и положено детям из актерских семей, он вырос в театре. Первым романтическим впечатлением был громадный зеркальный шар, который покачивался над зрительным залом и мерцал миллионами граней, пуская солнечных зайчиков в стремительный полет по стенам и потолку. На сцене творилось волшебство, но пыль кулис ничуть его не щекотала, а была составом будничной атмосферы. Кругом репетировали, учили роли, спорили с режиссерами, отмечали премьеры, сплетничали, влюблялись, ну и он воображал свой театр, а чаще кино. Увязывался за отцом на съемочную площадку, неотрывно следил за процессом, представлял, что его снимает камера, а он играет роль. Бормотал себе под нос, вел диалоги с воображаемым партнером, а чаще сам с собой. Мечтал, как он, кинозвезда, а лучше сказать киноастероид, произносит длинный монолог, и камера дает его крупным планом, а у афиш с его портретами замирают юные девицы и дамы постарше.
Но Судьба лишь раздразнила его, подкинув мимолетное шуточное участие в фильме «Ночной сеанс», несмотря на авторитет отца на съемочной площадке. В театре тоже не довелось участвовать в спектаклях, ведь в ТЮЗе детей играли актрисы-травести. Но у него появилась студия «Спутник», и она будоражила, звала, бередила, мучила, изводила, обещала, вдохновляла и направляла. У него всё было впереди. Ему даже мысли не закрадывалось, что будет кем-то другим, например космонавтом. Лет с тринадцати начал отдавать себе отчет, что иные стремления, кроме как в артисты, отметаются. А лет с пятнадцати стал ощущать какую-то смутную тревогу, какое-то невнятное ожидание, какую-то летучую тоску по неосязаемому чуду, молекулы которого витают над сценой и больше нигде не встречаются…
Окончил бы десятилетку, поехал бы в Москву, поступил бы в ГИТИС, блистал бы на лучших сценах России. Но после восьмого класса не только в ГИТИС, а и в НГТУ было рановато. Постановление о приеме в училище после восьмилетки вышло только-только, руководством к действию для преподавателей не стало, ибо сулило им сплошную головную боль. Владимир Лемешонок был единственным в том наборе абитуриентом, не окончившим среднюю школу. Да и взяли-то его, вернее, допустили до творческого конкурса, по протекции отца, которой Лем воспользовался в первый и последний раз.
Курс в Новосибирское театральное училище набирал главреж «Красного факела» Константин Чернядев. Евгений Семенович, сожалея, что другого пути нет, обратился к Константину Саввичу с личной просьбой прослушать его малолетнего сына. Чернядев спрашивал, Лем давал витиеватые ответы, в результате был допущен к вступительным экзаменам. На первом туре читал рассказ Бабеля «Смерть Долгушова» из «Конармии». Чернядев немного помолчал, переваривая, и сказал: «Думающий мальчик, возьму его кандидатом».
У Чернядева объявились серьезные оппоненты. Директор училища Любовь Борисовна Борисова была категорически против Лемешонка-младшего. Ее аж передергивало от одного вида этого оболтуса. В воспаленной памяти всплывали постоянные стычки с его отцом в недавнюю бытность актрисой театра «Красный факел». Лемешонок-старший ее лидерские качества игнорировал, помыкать собой не позволял, на женское обаяние не реагировал. Вот и отпрыск его такой же, кто бы сомневался. Веселый, дерзкий, независимый, все дрожат от страха перед директором, а этот нагло улыбается, глядя прямо в глаза. Нет, такого издевательства она не потерпит.
Слабое место в системе найти просто, например, новое и мало кому известное постановление о зачислении в училище после восьмого класса. И Любовь Борисовна сунула документ под сукно, будто его и не было. Но мало вы Чернядева знаете. Сказал примирительно: «Любовь Борисовна, вы всегда успеете его отчислить, тем более он у нас кандидат».
Скольким выдающимся актерам пришлось годами доказывать свой талант! На них ставили крест, их считали профнепригодными, не принимали в театральные вузы, советовали идти на завод. Череду испытаний и унижений прошли будущие звезды, прежде чем завоевали себе имя. Владимира Лемешонка педагоги признали сразу. Непримиримая директор училища, не переставая его «терпеть не мочь», вскоре воскликнула: «Да он талантлив!». Не говоря о Чернядеве, который сразу распознал пацана в желтых клешах: этот — настоящий. Но расслабляться было рано. Точнее, вообще нельзя было расслабляться. Всю жизнь он доказывал прежде всего самому себе, кто он такой и что он значит.
А еще нужно было доказать однокурсникам. На пороге Новосибирского государственного театрального училища Лем вглядывался в чужие лица и пытался угадать, кто поймет его и примет, а с кем не срастется, кто станет его другом, а с кем придется враждовать. Сюда поступили солидные господа и прекрасные дамы, то есть законные выпускники средней общеобразовательной школы. Печальный демон, дух изгнанья не только был недоучка, а еще и выглядел малолеткой, особенно рядом со своим громадным отцом. Абитура восприняла его как недоросля, была уверена, что взяли по блату. Якобы сыну актера и журналистки всё дается легче в разы, ни труда не надо, ни таланта, двери распахиваются левой ногой. Ничего, злился Лем, я им еще покажу. Они, предвкушал Лем, еще пожалеют… Вскоре настал подходящий случай. Сердце ухнуло в пропасть и медленно вернулось назад.
Начинающие студенты решили устроить день рождения курса и познакомиться поближе. Раздобыли винца, собрались на квартире, расселись на полу, читали отрывки, с которыми поступали в училище. Слушали друг друга уважительно, заинтересованно, что не мешало иногда посмеиваться, перешептываться, осторожно чокаться стаканами, употребляя только что освоенную студенческую поговорку «чтоб декан не слышал».
«А теперь ты!» — приказала первая красавица курса Оля Розенгольц по прозвищу Роза, огненная брюнетка с огромными карими глазами, в которую все успели влюбиться с первого взгляда. Встал пацан в желтых клешах, испещренных записками на манжетах, чернильными почеркушками, рисунками Аксанова, названиями любимых ансамблей Beatlеs и Rolling Stones. Рядом валялся под стать штанам желтый, разрисованный, размалеванный, расхристанный, раздолбанный, видавший виды бомжеватый портфель, набитый всевозможными вещами по принципу «всё свое ношу с собой».
Лем пихнул ногой портфель, сердито оглядел публику, кашлянул. Девочки ободряюще улыбнулись. Мальчики иронически переглянулись. Кто-то завозился, полез в тарелку за бутербродом. Загудел холодильник. Скрипнула дверь. Колыхнулась штора. И вдруг среди зрителей образовалась мизансцена из детской игры «Морская фигура, замри». Все смотрели на него, а он смотрел и на них, и мимо них, поверх них, в бесконечность.
Нервные руки, одухотворенное лицо, промельк улыбки, печальная самоирония, удивительного тембра голос, и вот это его непревзойденное интонирование, с неуловимыми цезурами между слогами, с каким-то летучим ритмом рассыпания слов в воздушном пространстве:
«Он сидел, прислонившись к дереву. Сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли на колени, и удары сердца были видны.
— Наскочит шляхта — насмешку сделает. Вот документ, матери отпишешь, как и что…
— Нет, — ответил я и дал коню шпоры.
Долгушов разложил по земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво.
— Бежишь? — пробормотал он, сползая. — Бежишь, гад…
Испарина ползла по моему телу. Пулеметы отстукивали все быстрее, с истерическим упрямством»…
Горькую историю о невозможности поступка и несвободе выбора, гуманной жестокости и жестокой гуманности, ужасе смерти и убийства, привыкании к тому и другому Лем рассказал так, будто сам только что оттуда, из военной бригады, от вздыбленной земли. Сейчас прогремел выстрел в раненого товарища, избавивший его от страданий, и вот взведен курок и у него за спиной, мигом покрывшейся холодным потом. Он беспомощно оглянулся. Оседала пыль из-под конских копыт.
Первым вскочил Мишка Аблеев, пожал руку. Роза решительно встала, подошла, тряхнула кудрями, поцеловала в щеку. Наверняка это означало, что салага пробил брешь во взрослый мир.
МЫСЛИ ВСЛУХ ОТ МИХАИЛА АБЛЕЕВА
— В тот момент, когда он читал Бабеля, я понял, что он уникум. Это для меня было потрясение. Нельзя было это мерить обычным понятием «хорошо» или «очень хорошо» — это было из ряда вон выходящее куда-то за пределы. И все это поняли. Его выступление вдохновило нас! Он был недоволен собой, и это как-то сравнивало его с нами. Мы испытывали фантастические ощущения — мы вместе, и нас ничего не интересовало, кроме того, что происходило между нами. Мы стали курсом Новосибирского театрального училища.
Май 2016 г.
С того дня новообразованная троица плюс примкнувшая к ним подруга Розы Люся Лосякова, в силу своей великолепной комплекции получившая прозвище Лося (Аблеев чуть было не женился на ней), стала неразлучной. Образовалось ядро курса, внутри которого вызревали грандиозные планы, рождались сногсшибательные идеи, делались сверхновые открытия. Вокруг ядра крутились планеты, носились кометы, группировались созвездия.
В большом перерыве между парами, прихватив с собой пузырь, бегали в пельменную за углом, где в лучшие времена брали «четыре гарнира», а в худшие сооружали бесплатную закуску из хлебушка с намазанной на него горчичкой. По вечерам умудрялись скромно кутить по ресторанам, где своим человеком, как, в общем-то, и на курсе, считался Аксанов. Лилась и Лемовка рекою, толкая на ночные безумства, например, проникновение в пустую аудиторию через заранее приоткрытую форточку.

Но салага лихорадочно искал путь самоопределения. Ровесницы его больше не прельщали — он страдал от недоступности великосветских дам, что окружали его на лекциях и после занятий. Первая красавица курса Ольга Розенгольц крутила романы с парнями посолиднее, а этого малолетку считала всего-навсего своим закадычным однокурсником. Роза подтрунивала: «Какая у Вовки мальчишеская фигура», и кто-то при этом ржал. В их кругу выработался такой способ общения — подкалывали друг друга, подначивали беззлобно, но метко, и никто не обижался, по крайней мере старался не показывать вида, иначе дурной тон. Но намеки на неравенство лет его изводили, «царапали за самое больное». Комплексы хватали за горло, сжимавшееся в беззвучных рыданиях.
Он даже представить не мог, что пройдет время, и женщины будут применять невероятные усилия в завоевании его благосклонности, но никто из них так и не завоюет его постоянства. Журнал «Театральный мир», обозревая его творчество, отметит и такую подробность: «Про его любовные приключения на курсе ходили легенды». Причем именно с той поры его будут привлекать подруги слегка постарше, что не помешает молоденьким особам влюбляться в него, в каких бы годах он ни находился. А тогда…
Они не отдавали себе отчета, что юность — недостаток, который быстро проходит. Младший еще достигнет возраста старших, а старший уже никогда не сделается моложе. Каждый совершенно искренне думал, что старость уготована другим, а ты будешь всегда молод, с небольшими перепадами давления. Им было не до диалектики, они были непосредственны, задиристы, насмешливы. И очень ранимы.
На собрании курса решали текущие вопросы. Начали о чем-то препираться, кто-то с кем-то повздорил. Заспорили горячо, порывисто, перебивая друг друга, а Роза заехидничала: «Да вы лучше у Вовки спросите, он у нас самый умный». Лем, себя не помня, вскочил с места и выплеснул на злодеев наболевшее. Повествовал о том, как ему одиноко среди них, таких взрослых и состоявшихся. Как невозможно существовать в этом жестоком мире. Как он презирает себя, такую бездарь. Как не хватает родной души. Неостановимым потоком лилось из подростка страстное признание в изгойстве, трусости, малодушии, во всех своих унизительных слабостях, во всем самом обидном и невыносимом.
Сгорал от стыда за то, что не мог унять слезы, щекотавшие щеки. Сейчас его поднимут на смех, закидают жеваными бумажками. Он провел ладошкой по лицу и в упор уставился на окружающих. Девочки тоже плакали. Роза и Лося сидели, опустив голову. Аблеев гонял желваки. Это был настоящий актерский триумф. Зритель был покорен сокровенной исповедью души, что впоследствии станет уникальным качеством артиста Владимира Лемешонка.
9. Мужская дружба
После первого года обучения состав их курса значительно изменился. Кого-то отчислили, кто-то ушел сам. Но также в полку прибыло, причем один боец стоил всех убывших. В коллектив внедрился дембель советской армии Толя Узденский — уроженец Павлодара, намеревавшийся завоевать Новосибирск с потрохами.
Он еще в колыбели решил, что везде и во всем будет первым. И вот отслужил срочную службу, окреп, возмужал, заматерел — и теперь волен выбирать, до кого снизойти, чьим лидером стать, кем окружить себя, звездного. Узда с порога почуял, где находятся точки притяжения — и без экивоков шагнул в ядро курса. Но далеко не сразу отдал должное пацану с желтым портфелем.
Ну че смеяться-то. Он, Толян, — бывалый солдат, солидный мужчина, почти состоявшийся артист, имеет опыт, в том числе любовный, девушки курса краснеют от одного его взгляда, умеет рассказывать армейские байки, приправив крепким словцом, а этот что? По носу его щелкнул и дальше пошел. Одним словом, Дурашка.
Кличка не прижилась, да и сам дембель осознал ее нелепость, оправдывался, что прилипла от обратного. Не мог же матерый боец не замечать, к чьим оценкам и мнениям прислушивается народ. Чей вердикт признается истиной в последней инстанции. Кого после каждого этюда припирают к стенке, чтобы выслушать приговор себе, любимому. Кому на занятиях по актерскому мастерству нет равных. И это при том, что курс талантлив, как на подбор.
Дурашка же, едва приглядевшись к новенькому, был стремительно покорен его мощной харизмой. Много позже он напишет, что Узденский «способен долететь на ядре своего обаяния аж до Луны». Энергия, бившая ключом из этого титана, захлестывала шестнадцатилетнего мальца как стихия. Он ловил себя на том, что норовит перенять походку, манеры, интонации своего кумира. Ему казалось, что Узда ведет всех за собой, как факир с дудочкой. Лем уступал ему в весовой категории лишь потому, что был младше на целых четыре года.
Много лет спустя Анатолий Узденский в своей книжке «Как записывают в артисты» сообщит: «Подозрение, что Лем зачислен в училище по протекции, улетучилось, когда я прослушал его на зачете по сценической речи — он читал прозу Хэмингуэя. Читал искренне, страстно, и даже удивительно было, откуда в этом тщедушном мальчишеском теле столько силы.
В нем было много любопытного: например, несмотря на то, что держался гением, отзывался о себе всегда в уничижительном тоне, и мне это казалось странным: ведь люди обычно приукрашивают свои достоинства. Володя в ответ на мое недоумение отвечал классической фразой: «Я странен, а не странен кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож»».
Далее автор повествует, как в процессе короткой стычки на глазах у однокурсников Лем дал понять, кто есть кто: «Я замахнулся и… нет, не ударил его, удержался, просто сильно толкнул в грудь. Володя отлетел на несколько шагов, схватился за стол, медленно выпрямился. Наши взгляды встретились. В этот момент я понял, что значит читанное много раз „побледнел как полотно“. Лем оглядел примолкнувшую аудиторию, потом еще раз посмотрел мне в глаза, губы его шевельнулись, будто он силился что-то сказать, но не мог, и вышел из комнаты. Я попытался рассмеяться, чтобы разрядить атмосферу, но заткнулся, не получив поддержки. Стояла гнетущая тишина. Никто не смотрел в мою сторону. Мне было безумно стыдно. Я вышел вслед за ним».
Лем гораздо раньше описал этот случай в эссе «Сбивчивый монолог на венском стуле»: «Однажды достал я своего друга так, что ему пришлось основательно меня пихнуть. Отлетел я тогда далеко, обиделся ненадолго, а запомнил его силу навсегда. И по сей день это качество в нем я считаю главным, хотя, конечно, не о физической силе идет речь».
Их антагонизм начался раньше, чем дружба. Лем вскоре распознал в Узде явные зачатки самолюбования, прививку от которого в свое время ему поставила мама. Узда высмеивал в Лемешонке болезненную склонность к самоуничижению. Став друзьями, они продолжали беспрестанно конфликтовать, скрытое и явное соперничество было во всем — и в творчестве, и в личной жизни. До поножовщины не доходило, всё-таки интеллигенция, но споры были непримиримые, с каждым годом всё жарче. Их взгляды расходились во всем, а главное, в отношении к себе, в восприятии себя. Это были две крайности одного явления, которое называется артист.
Что касается кличек (не тех, что даются в насмешку), то весь курс считал их признаком тесных товарищеских отношений. Как заметил персонаж одной пьесы, если у тебя нет клички, значит, ты скучный человек и не имеешь друзей. Клички так органичны, что вытесняют имена и впоследствии заменяют их. Имя дано тебе в самом начале жизни, покуда ты еще никто, следовательно, звать тебя никак. И даже внешности у тебя нет, не то что характера. По имени называют все — и свои, и чужие, вне зависимости от того, подходит оно тебе или нет, нравится ли тебе самому или приходится мириться с выбором родителей, который часто навязан модой. Поэтому имя, особенно распространенное, формально, номинально, обезличено, лишено индивидуальности. Какая индивидуальность может быть в имени Владимир, что привлекательного в тезке героя анекдотов Вовочке? Тут и выясняется, что имя надо выбирать, когда уже что-то собой представляешь. Вернее, друзья это сделают за тебя. Они нарекут тебя так, как не зовут больше никого, вложив сюда свое особое отношение, свое понимание и восприятие тебя, окрасив оттенками и обертонами. Новое имя сразу покажет степень родства с окружающими, выявит, кто свой, а кто чужой.

Больше всех повезло неразлучным подругам, коих окрестили Розой и Лосей, — они получили незыблемые прозвища еще на абитуре. Прочим пришлось изрядно помыкаться в ожидании идентификации. Когда началась работа над учебными спектаклями или эпизодическое участие в постановках театров, тогда и посыпались клички как производные от имен сценических героев. Многие из них были случайны, а значит недолговечны, прилетали и улетали, придумывались и забывались. В комедии дель арте «Венецианские близнецы» ведущий артист краснофакельской труппы Альберт Дорожко так всех уморил («Я маркиз Лелио, синьор Холодной горы, граф Лучистого фонтана, подданный Тенистых ущелий…»), что все мигом переименовались в маркизов и кабальеро, среди которых затесался дон Лемио. Стоило сплоховать, совершить малейший промах, как Вова Лемешонок сразу становился доном Лемио, и произносилось это, естественно, с насмешкой и подковыркой. Однако предстояло еще немного отсечь, чтобы достичь совершенства.
Дипломный спектакль «В день свадьбы» имел эпохальное значение. Там обнаружилась сакраментальная реплика, которая вошла в анналы. Один из второстепенных персонажей обращался к персонажу Лемешонка: «Таких, как ты, без Узды оставь — наворочают!». Эффект был тот еще. Выражение в одночасье стало крылатым. Фразочку смаковали так и эдак, стебались на тему, что будет, если Лемешонка оставить без Узды, а сам Узденский неоднократно произносил афоризм с подчеркнутой назидательностью. С тех пор на всю жизнь остались клички от сокращенных фамилий: Узда, Аблей, Лем. Лет через сорок однокурсница, прилетевшая в Новосибирск из Москвы (они не виделись с тех самых пор), блеснула отменной памятью, сохранившей осколки юности: «Что, Володя, поди, никто уже не зовет тебя Лемом?». «Володя» рассмеялся: «До сих пор только Лемом и зовут!».
Писатель-фантаст Станислав Лем здесь совершенно ни при чем, но случаются фантастические совпадения. Дмитрий Быков в очередной литературоведческой лекции сказал не иначе как о Владимире Лемешонке (с которым ни разу не знаком): «Главная интонация Лема — тоска и неустроенность; очень неспокойный, очень неприятный, очень неправильный мир».
Эта интонация с возрастом только усиливалась. Но тогда, в период учебы в НГТУ, мир был относительно приемлемым, потому что в нем были, во-первых, девушки, а во-вторых, настоящая мужская дружба. Или сначала дружба, ну а девушки — а девушки потом.

Лем, Узда, Аблей и примкнувший к ним Петров, учившийся на год младше, были, можно сказать, неразлучны. Лем познакомился с Сергеем Петровым во дворе училища на перекуре — ни о чем таком важном не беседовали, но первое впечатление составили. Как говорят в народе, оно оказалось обманчиво. Потом на одной задушевной пьянке они разоткровенничались, что в тот момент подумали друг о друге одинаково: небольшого ума парень. Поржали, побратались и пустились передавать этот случай из уст в уста, как легенду.
Петров взялся переманивать Лемешонка к себе на курс, и способствовала тому ни кто-нибудь, а директор училища и руководитель курса Любовь Борисовна Борисова. Она испытывала к Лемешонку любовь-ненависть: «Когда я его вижу, то хватаюсь за валидол!», но далеко ушла от школьных учителей, которые предпочитали повелевать серой массой. Берясь за постановку «Старшего сына», она посулила Лемешонку главную роль. Петрова же назначила на Васечку, и те, кто это видел, потом много лет вспоминали: ах, какой это был Васечка, умереть и не встать.
Было бы прикольно поработать в партнерстве с таким ярким явлением, как Петров (но это случится только лет через десять). К тому же, Борисова пригласила вторым педагогом курса Киру Павловну Осипову, и Лем сразу же побежал к ней советоваться. Она едва не повлияла на его решение, а тут еще Константин Саввич Чернядев был вынужден оставить курс, распрощался, уехал в Одессу. Всё шло к тому, чтобы уйти к другому педагогу, тоже очень значимому и любимому, заполнить образовавшуюся в душе пустоту.
Не тут-то было. Два лидера не сработались, наметился раскол, одна половина коллектива встала горой за Борисову, другая за Осипову. Начались интриги, склоки, валидол, а этого Лем не переносил. На кой мне лишний год учиться? — рассудил он, да и с какой стати вдруг бросать Узду, Аблея и всю честную компанию. Нет уж, спасибо, от добра добра не ищут. И он остался там, где был на своем месте и в свое время, и ни разу об этом не пожалел.
Аксанов тоже считал себя на своем месте, где бы он ни находился. Он протоптал тропу в НГТУ сначала из школы, затем из Сибстрина, где планировал обучиться на архитектора, желательно без интеллектуальных и моральных затрат. Ближе к каникулам выжидал, когда толпа перестанет крутиться возле его лучшего друга, чтобы оторваться по полной. Узденский укатил в Павлодар к родным, Аблеев всерьез занялся личной жизнью, Петров нашел халтуру, Лем поступил в полное распоряжении Аксанова. И под каждым им кустом был готов и стол, и дом.
Аксанов отличался невероятной способностью доставать выпивку из-под земли. Или из других источников. Одним особо выдающимся образцом изобретательности и везения он будет гордиться и рассказывать о нем на протяжении многих лет угасшего веселья.
Летом родители Лема уехали в отпуск на целый месяц. На абсолютную свободу намекал многоуважаемый шкаф, запертый на добротный замок. За стеклянными дверцами красовалось штук 200 коллекционных бутылок Евгения Семеновича, заполненных фамильным самогоном, проще говоря Лемовкой. Не в натуре Аксанова было отступать. Он придумал способ проникнуть в хранилище. Дружки поднажали, отодвинули шкаф, оторвали картонную стенку, вторглись в винотеку с тыла. Отпивали нектар большими жадными глотками, в целях сокрытия преступления доливали в бутылку воды. Стены жилища становились тесны, хотелось размаха, хотелось раздолья. Поехали в Заельцовский бор.
По дороге к райским кущам зашли в гастроном, Аксан прикупил два десятка яиц. «Зачем?» — не понял Лем. «Увидишь», — был ответ опытного товарища. Расположились на желто-буром игольчатом пледе, в шатре из сосен, дающих живительную тень. Разлили по граненым стаканчикам. Учитель, продырявив яйцо и держа его наготове, опрокинул Лемовку себе в пасть, следом отправил туда содержимое скорлупы. Лем проделал то же самое и остался доволен, точнее, восхищен. Закуска-запивка оказалась идеальной. После сырых яиц теплело внутри и снаружи. Опьянение получалось приятное, мягкое, в то же время твердое, суровое. С насиженного места уходили нормальной, уверенной походкой двое серьезных мужчин, отдающих отчет в своих действиях.
Через Заельцовский бор путь пролегал к Аксанову на дачу. Там по соседству обитала славная компания. У поставщиков дармового алкоголя завелись взрослые друзья, которые их уважали и всегда были рады встрече. Но нельзя было забывать и про девушек.
Одна из милых веселых подруг, с которыми Лем по ночам лазил в форточку театрального училища, а когда потеплело, развлекался в Первомайском сквере, чуть было не сделалась Ирой Лемешонок. Даже свадебные кольца приобрелись, пару дней Лем был счастлив и горд. Но стремительным потоком дней планы на семейную жизнь были сметены и размыты настолько, что Лем решил не жениться вообще никогда. Аксан, делающий неплохие успехи на поприще ювелира, в силу чего у него образовались выгодные клиенты, нашел покупателей для священных символов брака. Деньги были дружно пропиты. Не прошло и пол-года, как Лихач без труда заработал на новые кольца, и Ирочка стала Аксановой.
Аксанов подался в ювелиры, так и не окончив Сибстрин. Выяснилось, что стричь купоны можно и без диплома. Жаль только, что пришлось покинуть и самодеятельную студию при институте, в которую наведывался, если не было охоты тащиться в театральное училище, и где его ни разу не видели трезвым. Аксанова не тянуло в актеры; лидер по натуре, он полагал, что его дело командовать другими, то есть режиссура. Но так и не доказал ни себе, ни людям, ибо вышел приказ об его отчислении из института. Теперь ничто ему не мешало каждое утро исправно являться к кинотеатру «Победа» на опохмелочную тусовку, а дальше как бог даст.
Во время свирепой драки на просторах Центрального кабака, в которой местные одолевали первомайских, молоденький мент долбанул Аксанова по затылку рукояткой «Макарова». После травмы черепа девятнадцатилетний Аксанов чудом родился второй раз — c металлической пластиной в голове. Но совсем другим человеком стал только в 45, после инсульта, из последствий которого долго и мучительно выкарабкивался. Многое из той жизни позабыл напрочь, живет в тишине и покое, водка ему только снится. Раз в неделю позволяет себе бутылочку пепси-колы под предлогом «надо же иногда себе и навредить». Друзья-актеры жалеют его и снабжают контрамарками на свои спектакли.
10. Курс Лемешонка
Славное боевое студенчество приходилось совмещать с ненавистной вечерней школой. Она располагалась всего за пару кварталов от училища, на улице Ленина, в старинном деревянном особняке. Но времени катастрофически не хватало даже на кратковременный забег туда. Лем ловко скрывал от предков неизбывные прогулы, на которые они закрывали глаза. Близились выпускные экзамены, всем было ясно, прежде всего ему самому, что этот барьер не одолеть. Родители нашли выход из беспросветного тупика.
В клинике Мешалкина их непутевый сын состоял на учете с диагнозом «ревмокардит», благодаря чему удалось получить справку, освобождающую от экзаменов. Ну и всё, хоть плохонький, но аттестат был в кармане. Качество жизни взметнулось на неимоверную высоту. Наконец-то он занимается только тем, чем желает, навсегда забыв об ужасах алгебры и геометрии, а также физики и химии.
Третий курс — все они красавцы, все они таланты, все они поэты! Их поэтический клуб называется «Шанзэлизе». Девиз клуба — «Всё что ни проза — то стихи». Берут туда каждого, кто рифмы плесть умеет. Упражняются в прекрасном, сочиняют всякую фигню, читают друг другу вирши нараспев, с простиранием длани, еле сдерживая гогот. Лем плетет рифмы задорно и непринужденно. Особенно гордится четырехстопным амфибрахием, над которым пришлось попотеть. Жуткая сюрреалистическая поэма от 7 мартобря 1972 года отразила упадочническое мировосприятие автора, им самим же и высмеянное:
Всё в мрак и пустыню кругом обращалось.
Багровое вымя в пространстве вращалось.
Вперил в бесконечность я взор воспалённый:
В белёсую вечность рояль раскалённый
Вгрызался хрустальною клавиатурою,
Струя меж светилами музыку бурую.
Четыре шага на балконе надломленном.
Всего лишь четыре удара по клавишам.
Четыре удара по жизни загробленной.
Ты слышала музыку рук его пламенных.
Ты видела муку таланта безумную.
Но ты не вместила в душе своей каменной
Весь мир равнодушный, все улицы шумные.
Он брёл по дорогам, в дожди окунаяся.
Он бился ладонью о лоб свой обветренный
И муками творчества умственно маялся,
Свой путь поверяя верстами заветными.
И вздыбилось время! Пространство восстало!
Звучащее бремя, взметнувшись, пропало.
Что быть, что не быть… похоронены звуки...
К чему бы прибить непослушные руки?
Влача свою «жизнь загробленную», он слывет компанейским парнем, постоянно развлекает народ безбашенными импровизациями, тонко копирует преподов, обожает не то что посмеяться, а натурально поржать. Частенько закатывается на добрую пятиминутку, не в силах унять смех, переходящий в истерический. Еще лучше у него получается смешить, и тогда вповалку валяется весь курс.
« — Анализ мочи на стол мечи!
Общий хохот, три секунды паузы, и опять:
— Анализ мочи на стол мечи!
Это Лемешонок фразой Ильфа и Петрова, истерически выкрикивая ее на разные голоса, развлекал однокурсников. Дело было в учебной аудитории, все ждали запаздывающего мастера и рады были поразвлечься… Ржали так, будто вовек не слыхали ничего смешнее. Но, если честно, было действительно забавно видеть, как Вовчик изображал какого-то шизофренического доктора, требующего почему-то, чтобы анализ мочи ему на стол непременно метали, как мяч в баскетбольную корзину. И он настойчиво и неумолимо обращался с этим указанием к каждому поочередно, пальцем очерчивая на столе именно то место, куда должен быть предъявлен этот злополучный анализ… Аудитория заходилась от хохота» — припомнил Анатолий Узденский в новелле «Дембельский синдром».
А уж как они куролесили в слиянии с природой, знают все окрестные пни, сосны, ромашки и король сибирских лесов буйный папоротник. Сохранилась видеозапись 1972 года, сделанная с любительской пленочной камеры, очень плохого качества и без звука, но напитанная колоссальной витальной энергией, от которой воздух сгущается, вибрирует, лопается на тысячи радужных брызг. Птицы расправляют крылья и качают ветки, бабочки трепыхаются в животе, гормоны бурлят, клокочут, требуют выхода, дофамин и тестостерон подбрасывают гибкое девичье тело, кидают его в самозабвенный танец на поляне, ликующий и влекущий в распахнутые объятья, в прыжки и скачки всем вместе, обнявшись, хохоча, с восторгом подкидывая ноги, размахивая бутылками, откуда льется, булькает, звенит, искрится, сияет, не истончается. Весна, Заельцовский парк, отдыхаловка, студенты НТУ, скоротечная юность.
Это наиболее позитивный в его жизни период и самый комфортный коллектив. Не забывая проклинать и презирать себя, Лем одновременно существует в ином измерении, где раскрываются его актерские ресурсы, вызывающие восхищение преподавателей, если им удается зажечь интерес, пробудить вдохновение, обострить кураж, направить, расковать, раскрепостить и обуздать.
Педагог по движению Николай Васильевич Косырев, смягчая тяжесть физических нагрузок, учил всё делать легко, бесшабашно, непринужденно, по-пушкински. На каждом шагу сыпал шутками-прибаутками, которые запоминались на всю жизнь. Придумал актерское сено-солому: «Лево — где перстень, право — где часы». Нес емкую мудрость: «Публика — дура, и, коли скучает, нужно научиться тросточку крутить». Тросточка появится у лирического героя «Пылинок в луче бытия», у Антонио Сальери в «Амадеусе», у Афанасия Палыча Казарина в «Маскараде», у Павла Петровича Кирсанова в «Отцах и сыновьях», у барона Шафирова в «Шуте Балакиреве». Лем будет «крутить» с особым шиком, и не только тросточкой: Порой я стих повертываю круто, Все ж видно, не впервой я им верчу.
Педагог по вокалу Анна Дмитриевна Прудникова заставила петь с утра до вечера даже тех, кому медведь на ухо наступил, а это были Лемешонок с Аблеевым. Под ее одобрительным взором оба заливались соловьем: «Скажите, девушки, подружке вашей, что я ночей не сплю…». Масть пошла, время их урока истекало, расписание сбивалось с графика, за дверью нарастало роптание. Вывалившись из аудитории, вокалисты были захвачены толпой ожидающих своей очереди однокурсников, в которой лидировал взбесившийся отличник: «Вы мое время забрали, я зуб сломал из-за вас от злости!». Предъявил обломок зуба, дабы злодеев замучила совесть. Но их не замучила. Ведь на экзамене по вокалу даже обладательницы абсолютного слуха Роза и Лося, наши, по выражению Аблеева, главные девки, получили четверки. А эти двое обормотов удостоились пятерок. Пианистка Таня, одарившая его особой благосклонностью (Лем чуть было не женился на ней), по секрету шепнула, что, все-таки, в его пении не хватает музыкальности.
Был еще предмет на потеху. Препод почтенного возраста, имеющий соответствующую его деятельности фамилию Красильников, очень ответственно относился к своей работе. Ничего смешного он не видел в практикуме «Грим молодого лица». Разгильдяи воспринимали боевую раскраску как клоунаду, и только Лем втайне от окружающих считал ее крайне необходимой для собственной персоны, так как стремился замаскировать свое уродство (которого, разумеется, кроме него никто не замечал).
И вот Владимир Лемешонок, загримированный под дона Фернандо, поет серенаду под окном Ольги Розенгольц в образе доньи Инесы. Дуэт в дипломном спектакле «Живой портрет» по испанцу Агустину Моретто ребята сочли самым пылким за всю историю мирового театра. Комедия плаща и шпаги выявила романтические наклонности этой парочки, кои прекрасно сочетались с нарушением норм советской морали.

Образцом поведения ядро курса не являлось. Мастер по сценической речи Лидия Алексеевна Николаева была более других терпима к детским дерзостям, но не всегда. Она приглашала студентов к себе домой на душевную беседу за чашкой чая, что потом не мешало ей вершить высший суд. Безжалостно удаляла из аудитории Лемешонка и Аблеева, которые накануне, как плохиши, уплетали ее клубничное варенье. А на лекциях они разлагают дисциплину. Их ирония выводит из себя. Насмешники. Циники. Негодяи. Ничего святого. Даже на похоронных церемониях они ржут, как ненормальные.
Михаил Аблеев ныряет в толщу времен:
— Нам невмоготу было выносить эти фальшиво-скорбные лица, весь этот похоронный пафос. Эта хрень раздражала! Роза и Лося от стыда опускали глаза. Мы с Лемом пытались подкрасться к ним, как из-под земли, поймать наших девушек неожиданно, со своими дурацкими рожами, и мы уже ржали вчетвером. Это был наш легкий такой мягонький перформанс.
— Разумный человек не приемлет серьезного отношения к чему бы то ни было. Таков тот, кто пытается не врать, — подтвердил Лем.
Их главный педагог был именно тем, кто учил не врать, — ни в жизни, ни на сцене. Главреж «Красного факела» Константин Чернядев был мастером курса всего год. Но этого года хватило, чтобы сформировать у молодежи понимание профессии. Через много лет Лем посвятит Чернядеву личное признание: «Каким умом и какой эмоциональностью, какой мягкостью и какой силой была полна каждая его фраза… Мой первый и единственный подлинный учитель дал мне главный урок — урок общения с личностью. Его дар смотреть и видеть стал моим идеалом на всю жизнь. Этот человек, а не методики и учебные планы, был моей школой. Школой, которой я горжусь».
В эссе «Сбивчивый монолог на венском стуле» ученик выделил главное, что оказало воздействие на его формирование как актера: «Мой педагог вырастил и закрепил во мне убеждение, что человек театра — это прежде всего личность, что театр — альянс самостоятельных и независимых личностей (потому и не может быть в привычном смысле „коллективом“). От столкновения мощных разнозаряженных частиц высекаются искры искусства. Так смешно получилось, что именно режиссер заразил меня неизлечимой болезнью, которую большинство режиссеров приравнивают в актере к профессиональной непригодности. Актер, требующий пространства для самостоятельного творчества в роли, актер, которому для полноценной работы необходимы свобода и уважение, для многих режиссеров и не актер вовсе».
Новосибирские друзья Чернядева отправили номер газеты «Советская Сибирь» ему в Одессу. Тот, уже пожилой человек, читал этот текст и плакал. Вспоминал свой последний педагогический курс в новосибирском театральном училище, когда мысленно прочерчивал судьбу своих студентов и почти не ошибался.
Однако дебют Владимира Лемешонка на профессиональной сцене не попал в анналы и даже не стал намеком на то, какое место займет для него этот театр. Чернядев поставил в «Красном факеле» спектакль «Венецианские близнецы» по пьесе Карло Гольдони, где доверил любимому ученику крохотную роль носильщика. В репзале будущий мэтр дурачился и развлекался, но на сцене был ослеплен светом рампы и полностью обезоружен, потеряв ориентацию в пространстве, как и сундук, который ему полагалось волочь за хозяином. Новичок не понимал, где вправо, где влево, где вперед, где назад, где карман сцены, где кулисы, единственная полагающаяся ему реплика застряла в горле и выползла тихим хрипом. Сцена, такая пленительная снаружи, обернулась чуть ли не Зоной из «Сталкера». Много времени утечет, прежде чем она одарит дивным, но мгновенным ощущением полета, которое по заказу не получить, никакими приемами и уловками не создать — неизвестно, как это приходит и почему так быстро пропадает… Чехов сказал об этом проще некуда: «Что непонятно, то и чудо».
Поначалу Лем пытался выявить закономерность душевных состояний. Ступив из гримерки в темень кулис, закрывал глаза, сжимал кулаки, шептал: «Иже еси на небеси, да приидет царствие твое да будет воля твоя…». Бесполезно, и он, как и его любимый писатель Набоков, стал безбожником с вольной душой в этом мире, кишащем богами. Отношения с женщиной вдруг давали волну, на которой головокружительно взмывалось над кромкой океана и стремительно неслось в необозримость, где пульсировало, пылало, плавилось, дымилось, вздымалось, но образовывалась тупая пустота, как только сознательно шел на это. Надеялся поймать вдохновение с помощью напитков. Оказалось еще бесполезнее, чем молитва.
Ничего не осталось от юношеских ритуалов, заговоров, приворотов, только осмысленное профессиональное волнение перед выходом на сцену. И мамино серебряное колечко, которое он надевает на мизинец, если это не противоречит образу. От талисмана мало что зависит, просто на душе чуть-чуть теплее.
Азы профессии студенты проходили в ТЮЗе. Это были роли даже не второго, а десятого плана, к которым прилагались усы и борода, что превращало производственную практику в балаган. Но на третьем курсе Лем получил серьезный урок профессионального мастерства от своего будущего друга, который поначалу смотрел на него не иначе как свысока. Обогнав Лемешонка на восемь лет, окончив театральное училище с красным дипломом (а вслед за этим еще и ГИТИС), Игорь Белозёров слыл звездой первой величины, красавцем с роскошными кудрями, стальным взглядом и громовыми раскатами зычного голоса.
Репетируя влюбленного в учительницу Алёшу Смородина в спектакле «Ключ без права передачи», Лем очень старался. В сценах с Игорем Белозёровым Лем старался неистово. В очередной раз он бросился на партнера и схватил за грудки, вложив в сей порыв всю страстность своей кипучей натуры. Белаз вылил на салагу ушат холодной воды: «Осторожно, не помни мне рубашку». Так на съемках фильма «Марафонец» юный Дастин Хоффман психовал, бесился, сходил с ума, падал как подкошенный, лежал пластом, и великий Лоренс Оливье сказал ему: «Молодой человек, а играть вы не пробовали?». Ничего, он ему еще отомстит, правда, очень нескоро. Пройдет целая эпоха, и в непостижимом 2021 году, когда сцена остынет от Игоря Белозёрова, Владимир Лемешонок будет играть Тургенева в спектакле «Достоевский». Оставаясь невозмутимым и ироничным, он, усмехаясь, скажет заглавному герою: «Пуговицу отпустите. Оторвёте».
Ну а первая интрига настигла на четвертом курсе. Лем наконец-то получил главную роль. В паре с ним репетировал актер, который недавно был зачислен в труппу ТЮЗа. Удачливый карьерист с младых ногтей отдавал себе отчет, какие действия следует предпринять, чтобы добиться успеха, мощно заявить о себе, стать ведущим актером театра. В ход шли сплетни, подметные письма, жесткое давление во время работы, доклады режиссеру о хамстве партнера. Едва почувствовав мышиную возню, Лем просто-напросто перестал ходить на репетиции. Ну а че, выпускной курс ведь требует полной отдачи на лекциях, тщательной подготовки к экзаменам. Соперник сыграл главную роль достойно. И стал ведущим актером театра. У Владимира Лемешонка успех был впереди.
Первая значимая работа пришла в 1975 году. Педагог курса Александр Левит в дипломном спектакле по пьесе Виктора Розова «В день свадьбы» отдал роль Мишки Узде и Аблею, а роль его детдомовского друга Васьки — Лему. Он вытащил из ребят важные свойства их актерской природы: из Михаила Аблеева мягкость и обаяние; из Анатолия Узденского значительность, весомость, габеновский взгляд; из Владимира Лемешонка лихость и кураж.
Васька Заболотный предстал ярко выраженной индивидуальностью: врожденная веселость и разгульность, детдомовская развязность и дерзость, презрение к запретам и «слабость по женской части». «Трахальщик», определил для себя Лем и придумал особый раздевающий взгляд, бросаемый на женский пол. Васькины жесты были резки и порывисты, он двигался быстро, наотмашь принимал решения. С Мишкой они яро спорили о свободе и нравственности, ответственности и выборе. Формально Михаил был прав. Но прописные истины давали крен, их приходилось подвергать проверке и пересматривать.

Васька таил в себе духовную глубину, которая удерживала его от лжи, не позволяла сделать вид, что происходящее его не касается. «Не люблю, когда мне жизнь на завтра откладывают. Завтра, мол, тебе будет хорошо, а теперь потерпи», — сердился Васька, настаивая, чтобы и друг немедленно совершил честный поступок и отменил свадьбу с нелюбимой девушкой. Не признающий никаких уз, он в результате оказывался прав в том, что слушать нужно только голос сердца. За этим персонажем хотелось идти, сверять с ним свое отношение к жизни, к событиям в семье и за ее пределами. А Мишка благодаря ему открывал новую правду и нового себя.
Профессор ГИТИСа знаменитая Евгения Козырева приехала в НГТУ как председатель аттестационной комиссии. Посмотрев дипломную работу, поставила Лемешонку «отл.», резюмируя: «Этого мальчика я могу устроить в любой театр Москвы». Сообщила коллегам о своих намерениях взять его в ГИТИС сразу на третий курс. Те отрезвили профессора: «Проблема одна: этот мальчик сильно пьет». — «Алкашей у нас и своих хватает», — безутешно вздохнула Евгения Николаевна.
«Этот мальчик» получил другое заманчивое предложение. Покупатель из Златоуста пожелал видеть Владимира Лемешонка в своей труппе, о чем осведомил его лично, сразу же обещав Гамлета. Златоуст, несмотря на красивое название, не прельстил, режиссер доверия не внушил, но Гамлет растравил душу. После некоторых колебаний Лем решил, что звездная роль от него никуда не денется, ведь вся жизнь впереди, надейся и жди. Новосибирск от него тоже никуда не денется, как и он от Новосибирска. Он навсегда останется сибирским артистом, а в театральном училище курс 1971—1975 годов еще долго будут называть курсом Лемешонка.
11. Человек места
О приверженности к месту он будет размышлять многие годы. Почему так вышло, его ли это собственный выбор или Судьба так распорядилась? Впрочем, Новосибирск не выбирают. Он сам выбирает. Выбирает, кого оставить, а кого выдавить за ненадобностью, как пасту из тюбика, вне зависимости от прописки, дарования, намерений жить и творить именно здесь. Странный город: огромный, неуправляемый, коварный, жестокий. Насколько театральный, настолько криминальный. Непробиваемый в своей закостенелости и устремленный в будущее.
Областной центр пестрит лозунгами вроде «Хорош и летом и зимой Новосибирск родной!», претендует на статус третьей столицы России и считает себя столицей Сибири. Летом — духота и пыль, зимой — заваленные снегом дороги, сплошные пробки и аварии, неуправляемый гололед и переломы всех конечностей, весной — стихийное бедствие, вселенский потоп, несанкционированная помойка. Раскинувшийся по берегам Оби, заняв собою недавние степи и луга, прославленный победившим захолустье железнодорожным мостом и обрастающий новыми, Новосибирск деформируется от точечной застройки, где как попало нагромождены сталинские пятиэтажки и современные небоскребы, убогие хрущевки и претенциозный новодел. С плеча рубятся рощи и скверы, в зеленые зоны втыкаются витиеватые особняки, как шагреневая кожа ужимается Заельцовский парк ради обкомовских дач и бизнес-дворцов. Торговые центры втискиваются в щелочку между метро и театром, а обещанные храмам искусств помещения превращаются в долгострой. Зато церкви, которые тоже зовутся храмами, успешно переквалифицируются в коммерческие предприятия и заполняют собой утрамбованную землю. Осыпающиеся халупы на крохотных пятачках зажаты громадами респектабельных коробок с забетонированными дворами, вплотную заставленными авто. Так и художник, требующий простора, задыхается в тисках социума с его условиями и стандартами.

Границы Новосибирска уже, чем пределы амбиций. В златоглавую устремляются вне зависимости от того, достиг ли уже потолка здесь, или только начинаешь путь, а зря напрягаться неохота. Нужду, бездомность, неизвестность, ностальгию на чужбине нужно перетерпеть, и случится, как ты захочешь. Плеяда краснофакельцев разных поколений и разных возможностей оставила Новосибирск ради карьеры в Москве. Каждый с той или иной степенью сопротивления утвердился на хлебном поприще, будь то сцена или экран. У кого-то карьера удалась: фестивальный режиссер, штучный актер! Или снимаются во всём подряд, утрачивают индивидуальность, идут в расход, впрягаются в ремесло, скачут туда-сюда, мало спят, обустраивают виллу в Испании…
К юбилею своего театра в 2020 году крансофакельцы подготовили обширную фото-киновыставку «#ФАКЕЛ100_СНЯТО!», отразившую фильмографию всех причастных. Исторический зал представил 19 уже ушедших актеров, многие из которых, покинув провинцию, сделали блестящую карьеру в Москве: Анатолий Солоницын, Евгений Матвеев, Андрей Болтнев и далее по списку. Зал побольше вместил наших современников. У новоявленных москвичей сложился огромный послужной список фильмов и сериалов, на просмотр которых могут уйти месяцы, а может, и годы. У новосибирцев списки поскромнее, и это понятно. Четыре строчки отведено Владимиру Лемешонку, успевшему засветиться на киноэкране во время питерских гастролей и признать, что это не его стезя.
А вот Анатолий Узденский, ставший медийным лицом, вообще не попал в фигуранты этой выставки, хотя служил в «Красном факеле» в далекие доперестроечные годы. Правда, совсем недолго, ничего значительного не сделал, и о его присутствии здесь давным-давно забыли. В «Старом доме» дело пошло успешнее. Почти всю жизнь, точнее, 22 года он отдал этому театру, взамен получил квартиру неподалеку, а также звания заслуженного и народного артиста России. Зрители ходили на Узденского, от поклонниц отбоя не было, он их ценил, но держал дистанцию, сохраняя иллюзию доверительных отношений.
На поприще режиссуры ступил уверенно, делал простые, внятные, душевные спектакли. Его «Семейный портрет с посторонним» собирал аншлаги целое десятилетие. «Голого короля», в котором главную роль отвел себе, он поставил к своему бенефису, который длился аж два дня, столько было желающих попасть на мероприятие. Пора, пора было брать в свои руки руководство театром, вывести его на передовые позиции, это было бы логическим продолжением карьеры. И тут обнаружился камень преткновения.
Московский театральный критик Владимир Оренов, появившись в «Старом доме», вскоре дебютировал здесь как режиссер и стремительно увлекся многообещающим хобби. И началась взаимная (хотя и недолгая) любовь Оренова и «Старого дома», вплоть до приглашения возглавить труппу. Народный артист и художественный руководитель были невысокого мнения о спектаклях друг друга. Двум лидерам на одном поле было тесно. Но один обладал властными полномочиями, а другой не обладал, хотя заслужил их непосильным трудом.
И тогда кумир всея поколений не побоялся в 50 лет круто изменить свою карму. Он умел принимать решения, а с каким трудом они давались, никто не ведал. Накрыл поляну, тепло распрощался с коллегами: «Отдохнете тут без меня, а потом я вернусь». Лем пожал ему руку: «Не сомневаюсь, у тебя получится». Еще раз восхитился качествами, коих за собой не числил.
Узденский уехал в Питер. В Питере не получилось. Уехал в Москву. В Москве получилось. Каждый раз, приезжая в Новосибирск, говорил, что хочет остаться, потому что только здесь его дом, но опять уезжал на заработки. Москва затянула, засосала, сериальный конвейер задал ритм жизни, стоимость съемочного дня возрастала. В «Современнике» Анатолий Узденский прославился ролью Чебутыкина, а главных ролей так и не получил.
Обычно не спрашивают, почему уехал, это ж и так ясно. Спрашивают, почему остался. Чаще всего спрашивают у именитых, таких, как Владлен Бирюков. Он был первым маститым партнером Владимира Лемешонка, если иметь в виду их трехсекундное взаимодействие в «Венецианских близнецах» на сцене театра «Красный факел». Бирюков — главный герой, точнее, оба героя-близнеца, а Лемешонок всего лишь носильщик, которому полагается приволочь поклажу, поймать причитающуюся за труды монету и уйти восвояси. Дебютант так переволновался, что себя не помнил, не то что текст, который следовало произнести на реплику Бирюкова, хотя монету из его рук поймать удалось. Владлен Егорович подавал какие-то знаки, а потом подбадривал за кулисами. Тогда и прошел Владимир Лемешонок боевое крещение.
В следующий раз они встретились на площадке только на переломе веков — в «Трех сестрах», где Бирюков исполнил свою последнюю роль. А за кулисами общались эпизодически. Лем как-то появился на работе в новых штанах — сплошные строчки, заклепки, карманы, блямбы. «Где брал?» — подкатили коллеги. «Не брал. Женщина сшила», — не без гордости ответствовал модник. «Пусть мне тоже сошьет», — приказным тоном молвил Владлен Егорович. «Боюсь, вам она не сошьет», — смутился Лем. «Не сошьет? Мне???» — рассмеялся народный избранник во весь свой белозубый рот. Медные трубы слишком громко играли туш в его честь.
Бирюков был наипопулярнейшим актером Новосибирска конца 80-х — 90-х. Таким его сделало кино, в его фильмографии 30 картин, а главным фактором славы явился многосерийный фильм «Вечный зов» с чекистом Яковом Алейниковым. Не иначе как про него Байрон изрек крылатую фразу «проснулся в одно утро знаменитым».
Благодаря звездной роли на Владлена Егорыча глазели на улицах, норовили бесплатно отпустить продукты на рынке, уступали место в автобусе. На него ломилась разномастная публика, можно было уже не напрягаться, спокойно почивать на лаврах, что он, в общем-то, и делал. Личность яркая, независимая, своевольная, он мог позволить себе то, о чем простые смертные и помыслить не смели: озвучить свои претензии, потребовать повышения зарплаты, поскандалить с режиссером, осадить директора. Он ничего не боялся, ни от кого не зависел, никому не подчинялся. Не все роли получались у него триумфальными. А кино — кино да. Вся страна знает его благодаря кино.
Журналистам он раз за разом отвечал, что он деревенский человек, сибиряк, его корни в селе Никоново, его не манит чужбина! А может, чувствовал, да сам себе не желал признаться, что там бы пришлось ежедневно самоутверждаться, каждый раз заново доказывать свою цену. Он, обвешанный премиями, орденами и медалями, там был бы один из тысячи, а здесь — единственный, непревзойденный, первый среди первых. Но даже у непревзойденного с возрастом закрадывалось опасение не соответствовать заявленному уровню, не удержать самим же поднятую планку. Стал отказываться от работы — в «Талантах и поклонниках», в «Плейбое — гордости Запада», и еще, и еще. Прятался за браваду, за алкоголь. Выпивки требовалось всё больше, а ролей оставалось всё меньше.

Тридцать лет и три года Бирюков проработал в «Красном факеле» — и был уволен. Руководство театра решило избавить труппу от балласта, с почетом проводить уважаемых мастеров на пенсию. Департамент культуры это решение отменил. Но с того момента что–то окончательно надломилось в душе Владлена Бирюкова. Больше на сцену он не вышел.
У каждого свои мотивы и свой масштаб. В 1975-м, получив диплом выпускника Новосибирского государственного театрального училища, Владимир Лемешонок слегка огорчился, что надежда на Москву мелькнула и тут же пропала, и он сам тому виной. Тот эпизод растаял в глубоком прошлом. Новосибирск навсегда пригвоздил его к этой земле, и каким бы жестким и бездушным ни был город, он у него останется один.
И театр у него будет один: театр-дом, театр-обитель, театр-пристанище. Именно этот театр сформирует его личность как воплощение уникальных черт большого артиста.
Все свои силы, кои отпущены природой, Владимир Лемешонок отдаст провинциальной сцене. Он будет ценить сложные роли выше успешных и затыкать уши при звуке медных труб. Никакие призы и звания не поколеблют его беспощадной самооценки, и трескучее слово «успех» будет казаться хотя и приятным, но пустым. Штучное качество. Практически невозможное.
12. Школа молодого бойца
«Февраль 1975 года. Мне в атмосфере, сотканной из ароматов и привкусов легкого веселья и дешевого вина, вручают диплом об окончании театрального училища. Я становлюсь специалистом (так написано в дипломе — по специальности „актер драмы“)». Так он начнет свое воспоминательное эссе «Сбивчивый монолог на венском стуле» через 22 года после выпускного вечера.
После окончания НГТУ курс Лемешонка рассредоточился по разным точкам мира и с тех пор ни разу не собирался в полном составе. Кто-то из выпускников уехал-таки в Златоуст. Ольга Розенгольц выбрала супругом завмуза «Красного факела» Лёву Богуславского и отправилась с ним на ПМЖ в Израиль. Людмила Лосякова распределилась в Абаканскую драму, где и осталась. Анатолия Узденского отхватил Томский драматический театр, откуда он ненадолго перебрался в новосибирский «Красный факел», а оттуда надолго — в «Старый дом». Михаила Аблеева отправили в «Старый дом», а после армии взяли в «Красный факел». Владимира Лемешонка затребовал новосибирский ТЮЗ, где он обосновался на целых восемь месяцев.
Он мечтал попасть в «Красный факел», и вовсе не потому, что там работает отец. «Красный факел» манил недоступностью, вызывал смутное и непонятное ощущение чего-то потустороннего, бередил душу стремлением к неведомому чуду. А ТЮЗ был прост и понятен, ведь там он вырос, познал первый успех как чтец студии «Спутник», со студенческой скамьи был занят в репертуаре. Эта сцена была ему знакома, в этом здании он знал каждый закоулок. Здесь он видывал, как королям клеят бороды, а золотые короны сооружаются из картона. Здесь он понял, что обман бывает прекраснее правды, но проще, чем правда. Здесь он был свидетелем того, как крутится зеркальный шар, пуская солнечных зайчиков в пляску по занавесу и потолку.
В период расцвета Новосибирского театра юного зрителя главрежем значился Лев Белов, который искренне любил искусство, театр, актеров, зрителей. На многое закрывал глаза, и жилось в этих стенах весело и легко. ТЮЗ, прежде чем стать «Глобусом», до своего переезда в огромное, специально для него построенное здание почему-то в виде парусника, располагался в самом центре города, в уютном и компактном Доме Ленина. Все находились друг у друга на виду, и дружить было легче, чем враждовать.

Инцидент с подметными письмами не вспоминали — ни тот, кто из него самоустранился, ни тот, кто его затеял. Недавние противники быстро стали добрыми приятелями и многократно чокались за искусство. Сбрасываться по рублю цвет труппы начинал с утра. Брали обычно портвейн плюс пиво, за алкоголь не считавшееся; ограниченность наличности и ассортимента обостряла кураж. Телепаться от служебного входа до сборища, нарушая условную конспирацию блямканьем стекла, было лень, засим проникали в гримерку через окно. Набивались туда под завязку, развешивали топоры, к вечернему спектаклю успевали протрезветь, но не всегда. Свято блюли традиции русского театра, взрастившего знаменитых пьяниц. «Мы артисты, наше место в буфете», — цитировал Лем комика Шмагу из Островского, разливая бурду по стаканам (такую роскошь, как рюмки, позволить себе не могли).
На выговоры Лем не реагировал, а всего их за период тюзовской эпопеи было четыре. Это была относительная свобода, опробованная еще в училище, — та ее максимальная форма, которая допустима при невозможности свободы вообще, то ее бытовое проявление, которым травит душу экзистенциальная несвобода, та реакция на советский застой, который вытравливал из человека личность, низводил его до винтика, крутящегося по воле великой коммунистической партии. Самоконтроль отсутствовал напрочь, потребность в самодисциплине не вызрела, ибо всё это на тот момент было бессмысленно. Теплые отношения внутри коллектива обесценивались повальным хамством, лицемерием, приспособленчеством снаружи.
Владимир Лемешонок был занят в трех постановках для школьников, и тут режиссер Виктор Орлов взялся за музыкальную сказку «Емелино счастье». Володь, сказал он, ты так здорово пел в «Живом портрете», давай-ка ты у нас исполнишь главную партию. Лем аж поперхнулся. Смеетесь, что ли: нет ни слуха, ни голоса. И волшебная роль досталась Игорю Белозёрову — у него есть и слух, и голос, он этого не скрывает. А Лем играл его брата-разгильдяя. Слов не так много, зато есть где подурачиться.
Едва Лем начал входить во вкус, только-только привык каждый день спешить на работу, как лафа закончилась. Пришла пора отдавать долг Родине, повестка свалилась в почтовый ящик откуда не ждали. Лем не планировал ходить строем, но и откосить было не в его характере. Они подробно обсудили проблему с Уздой, тот подошел к вопросу основательно, выдал весьма ценные рекомендации.
Организовали проводы, куда Лем заявился с юной бухгалтершей Нюшей, которая вот уже полгода помогала ему осваивать науку страсти нежной. Нюша к тому времени испытала муки ревности, недавно встретив его в обнимку с другой девушкой, очень красивой, между прочим, актрисой, и поняла, что пропала. Она даже всплакнула у него на плече, таким макаром закрепив горечь расставания и наградив преференциями из категории «буду ждать». Дома он последний раз отоспался, мама накрыла прощальный завтрак, папа отвез на сборный пункт, откуда начался кошмар длиною в армейский срок.
Его доставили в учебку военной части Омской области. Принудительная присяга, автоматический прием в комсомол, мол, перемол, валидол. Самый лживый лозунг из всех советских: «Армия — школа мужества». У офицеров своя речевка: «Есть такая профессия — Родину защищать». Родину защищали непонятно от кого, а от дедовщины защиты не было.
Каждый день начинался с абсурда: встать! лечь! встать! лечь! И затем эти изуверские 45 секунд судорожных манипуляций с обмундированием. Утренний кросс заставляет забыть, кто ты такой и как тебя зовут. Понятия личной собственности не предусмотрено. В первый же день службы украли мыло, затем настала очередь сапог, бритвы, присланных родителями денег. Армейская зима показала, что такое школа мужества — носки из посылки немедленно были изъяты. Холод и голод ощущались постоянно, круглые сутки. Беспрестанно кашлял, не проходил насморк, повыскакивали прыщи, всё тело болело и внутри, и снаружи. Много курил, в основном «Приму», и еще больше кашлял.
Письма писал тайком, урывками, на самоподготовке, обрисовывал всё как есть, не греша лукавством позитивного мышления. Тут с какой точки ни посмотреть, везде получалась мерзость. «Тоскливо мне здесь, как в темной, глубокой яме, — сообщал он матери. — Всё думаю о вас, мысленно брожу по квартире. А время будто бы встало по стойке смирно и испытывает мое терпение своей медлительностью. Такое чувство, что наконец-то Судьба нашла для меня пригодное место, что я так и останусь здесь навсегда — такой жалкий, покинутый всеми, одинокий. Сейчас я опять плачу, опять отчаяние напало на меня. Оказывается, самое важное из всего, чего я лишен теперь, — это возможность поговорить с тобой. Очень часто (и всё чаще и чаще) мне кажется, что ни секунды нельзя жить, не видя тебя. Как ужасно понять, до какой степени ты мне необходима, только тогда, когда нас разъединила разлука».
Встреча Нового 1976-го года была самой депрессивной в его жизни. Телевизор, лимонадик, печеньице, конфетки-батончики, ни капли спиртного, чужие лица, тупые шутки, пошлые подначки, сплошное одиночество в толпе, недоступность уединения, ужас от осознания того, что весь его культурный багаж не только лишний, а мешает и вредит, и он не сможет вернуться в профессию, ибо становится другим человеком, точнее, недочеловеком, ничтожеством, лагерной пылью. Были и удовольствия — зачеркивать в календаре отмаявшийся день. Ему что-то вдалбливали, к чему-то готовили, будущего не существовало, незаметно растаял снег, и он, стянув гимнастерку и бухнувшись на молодую траву, тут же обгорел на солнце.
В конце весны он вышел из учебки младшим сержантом и был назначен командиром мотострелкового отделения, о чем сообщил домой: «Это дело требует омертвения всех чувств». Но чувства не омертвлялись, как и убеждения, прежде всего то, что никем нельзя командовать. Не научился он и подчиняться. За это его били втроем, пинали по ребрам. Хоть бы убили насмерть, молил он бога, а толку. Будучи на посту, вставлял дуло Калашникова себе в горло. Но даже решившемуся на выстрел набоковскому Смурову, в которого он вчитается много позже, сей трюк не удался.
Выдержать всё это невозможно, зато возможно привыкнуть. Впоследствии в нескольких источниках он вычитает мысль, что ад находится на земле, это всего лишь одна из форм жизни. Касается это не только армии. Год за годом он продолжал убеждаться в этом.
МОНОЛОГ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ. ПРО МУЖЕСТВО И ЛОЖЬ
— Самое отвратительное, что я увидел в армии, — строгая иерархия. Лейтенант трепещет перед своим начальником, а тот перед своим, а тот еще перед большим начальством. Я видел полковника, который дрожал, когда на него орал генерал, а потом этот полковник отыгрывался на лейтенантах, а те измывались над рядовыми. В чем мужество? В том, что тебя унижают, и ты терпишь. А потом унижаешь ты. Мужество в том, чтобы это выносить, понимая, что изменить не в твоих силах. Доблестная советская армия оказалась концентрацией советской действительности, в которой всё глупо, бездарно, омерзительно, цинично. Сплошная ложь и подтасовка, и при этом кругом патриотические плакаты. Армия — это выжимка из всего происходящего, беспощадная пародия на социум. А народ на параде с восхищением смотрит, как они с треском и грохотом провозят по площади свою смертоубийственную херню.
Я разговорился с одним неглупым офицером, разговор был свойский, будто я не солдат, а он не майор. «Зачем работать, если и так можно всё получать? Всё тебе дадут, оденут, накормят», — разоткровенничался типичный советский офицер.
Когда у меня родился сын, я страшно переживал, что когда-то его заберут в армию. Но пронесло. У него что-то было с шеей, и ему дали белый билет. Всё получилось без каких бы то ни было усилий с моей стороны, я до последнего не мог в это поверить…
Июнь 2000 г.
Спрашивал у матери про свою девушку: «Как там Нюша, носу не кажет? Боится, дурочка, ну бог с ней. Я тут ее писем жду, как манны небесной, а как приходит письмо, и если оно мне понравится, то жизненный тонус поднимается и дня на три мне всё нипочем делается». Нюша приехала к нему в Топчиху, страшному, тощему, злому, на целые сутки. Расставались словно навсегда, еще не ведая, что совсем скоро, еще скорее, чем наступит дембель, они смогут видеться сколько захотят, но в таком случае идиллии обычно капец.
Родителям в кои-то веки пришлось пустить в ход связи, авторитет, положение, и оно возымело. Не верилось, что так бывает, но так бывает: относительное прекращение кошмара. Пехотинца перевели в Новосибирск, в военный городок на Воинской, в ансамбль песни и пляски Сибирского краснознаменного округа. Там он и дослужил второй год срочной службы.
По прибытию на новое место случилось еще одно чудо, о котором и помыслить-то было бы чересчур дерзко. Чудо-юдо называлось Аблеев. Отсрочки закончились, и ему тоже выхлопотали поблажку. И отправили не куда-нибудь, а в ансамбль песни и пляски Сибирского краснознаменного округа. Однокурсники стали, так сказать, однополчанами. «Апофеоз», — лаконично обозначил Аблеев момент их встречи.
Проговорили всю ночь. Разработали план увольнений и самоволок, придумали маршруты побегов и прибегов. Достигли соглашения брать от жизни всё, даже если условия тому противятся. По-прежнему совпадали у них юмор, оценки, реакции, взгляды, и даже синекуру поделили пополам: Аблей — секретарь комсомольской организации, Лем — его заместитель. На гражданке хлебные должности были бы оскорбительны, но здесь вынужденный формат выживания. Личная жизнь у обоих тоже была на высоте.
«Я твоя душой и телом», — призналась Нюша. Неуклонно приближался дембель, еще немного, и Нюша его дождется. Всё было так хорошо, что дольше продолжаться не могло. Он уже это проходил (и пройдет еще не раз): его любили больше, чем он, он не мог дать столько же, сколько давали ему. Нашел, к чему придраться, вернее, к кому, то есть к себе самому. Стал себе противен до такой степени, что был готов на любую глупость, вплоть до того, чтобы отказаться от девушки. И он совершил поступок, солдату совершенно не свойственный, как правило, случается наоборот. «Нам надо расстаться», — печально сообщил Нюше, проводил на автобус, поцеловал в щеку.
Эта девушка оказалась редкой породы — она не стала донимать вопросами, устраивать сцены, выяснять отношения. Но и убеждать его, что он, несмотря ни на какие недоразумения, всегда будет для нее единственным, она тоже не стала. Нюша пришла в часть на концерт ансамбля песни и, разумеется, пляски инкогнито, свидания с ним не искала, а он сделал вид, что ее не заметил. С тех пор они не виделись.
Друзьям повезло больше. Одним из тусовочных пунктов на карте военнослужащих значилась гостиница «Обь». Там собиралась тайная масонская ложа. Узда ради этого специально приезжал из Томска для дачи дельных советов. Накатили у него в номере портвейна и сразу отрубились, даже поговорить толком не получилось, очнулись — и бегом в казарму. Наутро на пост, Лем уже научился спать стоя на посту. Удостоился и гауптвахты — за то, что ушел в самоволку и опоздал на построение. Товарищи позвонили ему домой, но нереально было в один миг добежать до казармы, и скрыть преступление не удалось. Его гоняли на жаре по плацу до потери сознания. Но выводов не сделал. Ему не нужны были выводы, он намеревался забыть армию как страшный сон. Несмотря на то, что она квинтэссенция жизни.
Главное, была возможность бывать дома! Весь прошлый год он неистово мечтал о доме, о том, как увидит родных, как прогуляется по Красному проспекту, вдыхая полной грудью его дымный воздух. Правда, прогуляться не удавалось, только пробежаться туда и обратно, чтобы успеть на построение. Зато он удостоверился, что приобретенный в его отсутствие цветной телевизор реален, а ремонт в квартире сделан скромно, но со вкусом.
И не сразу заметил во время коротких набегов, что бабушка Анна Андреевна не просто отдыхает, а уже не встает с кровати. Его отпустили в увольнение официально — для визита в больницу. Она сгорела от рака за считанные недели. Еще вчера он слал ей письма из Топчихи и получал от нее посылки с носками и тушенкой, а сегодня стоит у могилы и глотает слезы. Дедушка Семен Петрович тоже будет сильно горевать, но намного ее переживет. Он дотянет до 92 лет, практически не меняясь — оставаясь всё тем же малообразованным, недалеким, наивным, бесхитростным и очень добродушным человеком.
На следующий день после похорон — в путь. На месте ансамбль песни и, соответственно, пляски не сидел. Надо же было просвещать народ, нести культуру вглубь и вширь, миссия была высока. Армейский коллектив объездил с концертами полстраны, Лем и Аблей называли это трясиной самодеятельности. Они выступали дуэтом: чтецы. Всё чин чинарем: трехэтажный хор, духовой оркестр, а комсорг и его зам поочередно декламируют вирши казенного патриота Ивана Краснова: «Партия — великий архитектор всех свершений наших и побед. Партия — немеркнущий прожектор, что вперед ведет нас много лет!».
Серьезно читали, без дураков, даже где-то с пафосом, это вам не занятия по сценической речи. Иронию маскировали, а следом ржали или матерились. Всласть поиздевались уже на гражданке, показывая стишок, в частности, Белазу на очередной пьянке. Через много лет Игорь Афанасьевич вспомнит этот текст и предложит ввести его в спектакль «Довлатов. Анекдоты» — в эпизод, где оголтелый замполит ставит патриотическую сценку про Ленина и Дзержинского. Действие происходит на зоне — в родственной армии структуре.
13. Старт в профессию
Незадолго до дембеля стало сниться, что он возвращается в ТЮЗ, — и просыпался с ощущением ужаса. И ни разу не приснился «Красный факел», где студентом он ощутил священный трепет перед выходом на сцену и упоение этим непостижимым пространством, вобрал в себя притяжение родины, силу места, магию постоянства.
Поздней осенью 1977 года заслуженный артист Российской Федерации, актер театра «Красный факел» Евгений Лемешонок привел сына на работу — затем, чтобы тот остался здесь навсегда. Навстречу вышел главреж Семен Иоаниди и широким жестом пригласил за собой.
Здесь сам воздух родной, специфический театральный воздух с примесью дерева, краски, лака, пыли, цветов, вина, сплетен, тоски, счастья, любви, чего-то неопределимого и непреодолимого. Отовсюду раздаются голоса, смех, топот, стук молотка, хлопанье дверей, звяканье посуды, скрип оконных рам, в актерском фойе клубы сигаретного дыма колышутся в столбах солнечного света, медленно меняя форму изгибов и завитков, обволакивая силуэты курильщиков. Снуют туда-сюда кокетливые актрисы, оборачиваются через плечо, посылая воздушные улыбки. Легкая фигурка одевальщицы Оли, мелькая крыльями белоснежных рубах, проскальзывает мимо, мимо. Вслед за ней копошатся шершавые шуршания, шелестят едва уловимые шорохи, овевает дуновение бестелесного Духа, устремленного к колосникам, откуда видно и сцену, и зал, и закулисье, и, если закрыть глаза, пелену густого дрожащего сияния. И надвигается особого рода тишина, когда во всем помещении постепенно гаснет электричество, отзываясь случайными бликами, и всё исчезает, погружается в ночь. И тогда Земля растворяется в невесомости и начинается Космос.
Наставник бросил новичка в гущу самых важных событий, то есть в репетиционный процесс спектакля тоже с новым, каким-то тревожным названием — «Гнездо глухаря». Рассказывал, что встречался с Виктором Розовым в Москве, выхватил пьесу чуть ли не из-под пера. Театр Сатиры успел поставить ее раньше, зато «Красный факел» стал вторым! А в провинции, разумеется, первым.
Это было настоящее, ради этого стоило потрошить нутро и бросать на сцену всего себя, которого за пределами театра уже и не оставалось. Было море куража, океан энергии! Было замысла в избытке! И из собственной Судьбы он выдергивал по нитке…
МОНОЛОГ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ. ПРО МУДРЕЦА И НЕСМЫШЛЕНЫША
— Я благодарен режиссеру за то, что он идеально подобрал команду в «Гнездо глухаря», а мне, несмышленышу, дал главную роль. Вел я себя безобразно, беспрестанно дерзил, Семен Семенович темнел лицом, но сносил мое хамство. Он был мудр и уважал в актере умение самостоятельно мыслить, отстаивать свою точку зрения, чем обладает мало кто из постановщиков, в этом мне все время приходилось убеждаться на своей шкуре. Мой первый режиссер помог мне встать на ноги в профессии.
Май 2010 г.
Теперь он был рядом с отцом и дома, и на работе. Оба Лемешонка играли в «Гнезде глухаря» тех, кем были на самом деле, — беспрестанно конфликтующих отца и сына, каждый из которых по-своему пытался разобраться с действительностью. Конечно, порой и ссорились, но не враждовали, не было на то причин, а давление партийных догм ощущалось всегда. Двойная мораль была обычным делом: на семейном совете часто приходилось решать, как повести себя в щекотливой ситуации, каким маневром обойти указы и приказы, выполнять которые обязывал партийный билет, но не позволяла совесть. Дома говорили одно, на работе порой совсем другое, или ничего не говорили, не вынося за пределы своей крепости откровенные суждения о советском беспределе.

Но многие знакомые и коллеги, начальство и чиновники вели себя гораздо гибче. Делать вид, что партия всегда права, или даже уверовать в это было проще и безопаснее, чем сомневаться и сопротивляться. «Гнездо глухаря» было об этом.
То, что происходило со страной, сконцентрировалось в истории одной семьи, — по виду образцовой, а на поверку состоящей из чужих и чуждых друг другу людей. Судаков-старший, пропитавшийся партийной отравой, внедрял в домашний уклад стиль трибун и кабинетов. Но был бессилен внедрить его в мозги и душу жены и детей. Судаков-младший рано почувствовал, что неблагополучно в этом доме, и в меру своих юношеских возможностей протестовал против его устоев. Все его поведение строилось на «против». Звали его Пров.
Смелость и решительность — качества, о которых Лем мечтал, но не признавал за собой, — он взрастил в своем герое. Битком набитый противоречиями, он снабдил ими Прова. Этот парень выделялся из компании сверстников взрослым оценивающим взглядом и подростковой угловатостью, злобной вспыльчивостью и беспомощной колючестью перед отцом. Так Владимир Лемешонок прорисовывал упорство героя в неприятии «оскотинивания», в стремлении к честности, пусть в ущерб себе. Навязываемые ему нормы так называемой советской морали вызывали у него отторжение, как помесь показухи с абракадаброй. Понимание Прова о нравственности произрастало не из воспитания, а из подсознания, из интуитивных представлений о мире. Конфликтное состоянии души, усиленное юношеским максимализмом, приводило в итоге к спорным, но искренним поступкам. Если семья и есть ячейка общества, то спектакль вселял в зрителя уверенность, что общество небезнадежно, раз в нем формируется личность с твердым нравственным стержнем.
Спектакль «Гнездо глухаря» стал стартом актерской карьеры Владимира Лемешонка. Роль Прова можно зачислить в десяток лучших, точнее, самых значимых и знаковых его работ. После армии, как и полагается, пошел новый отсчет биографии, а начало отсчету дала первая серьезная актерская удача. Наверное, это и повлияло на его восприятие «Красного факела» как родного дома и единственного театра в Судьбе. Потом, и даже очень скоро, случатся проходные роли, вынужденные конфликты, горькое отчаяние, но всё решил первый аккорд.

«Гнездо глухаря» было самым аншлаговым спектаклем в репертуаре театрального Новосибирска конца 70-х–начала и середины 80-х. За билетами в кассу «Красного факела» выстраивались очереди, и в них говорили о том, что надо успеть увидеть правду, а то снимут с репертуара. И так целое десятилетие. Совдепия пала, а «Гнездо глухаря» продолжало волновать и будоражить. Лем посмеивался, что ему уже 30 лет, а он всё еще играет пятнадцатилетнего пацана.
Да и не одного. На волне успеха очередной режиссер Юрий Спицын поставил «Кабанчика», но, считает Лем, это был перепев старой темы для всех участников процесса, включая драматурга. Позже он назовет своих героев «гамлетами советских времен», а тогда журналисты окрестили их «типичными розовскими мальчиками».
Индивид иного склада явился из загадочной пьесы Карло Гоцци «Ворон». Принца Дженнаро играл совершенно другой артист, не иначе как двойник Лемешонка. Тихий, мягкий, осторожный, интеллигентный вьюноша никакого подвига не жаждал, к героическим деяниям склонен не был. Но фатум кидает тебя в пекло помимо твоей воли. Какое решение принять, если на карту поставлены и твоя жизнь, и счастье брата? Углубляясь в психологию персонажа, Лем искал в нем ростки сомнения; его интересовало, как человек выходит на поступок. Они с режиссером Дмитрием Масленниковым придумали, что все действия Дженнаро продиктованы страхом. И тем душа его становилась чище, чем отчаяннее, шаг за шагом, юный принц этот страх преодолевал.
Работу именно в этом спектакле оценил отец. Если в «Гнезде глухаря» они были партнерами, то теперь он смотрел на сына как зритель и делал лестные для них обоих выводы. Поздравляя с премьерой, торжественно вручил ему блокнот. Да не простой блокнот, а рукотворный сувенир! На обычной пластиковой обложке он выгравировал шилом дарственную надпись «Поздравляю с рождением артиста Лемешонка». Это было самое ценное признание. Это был самый дорогой подарок в его жизни. У него в горле першило, когда он вглядывался в эти слова. Казалось, больше ничего и не надо, жизнь удалась. Но куда уж там. Судьба постаралась уравновесить триумф суровым психологическим испытанием.
Через много лет, когда Владимир Лемешонок станет заслуженным артистом России, критики и пресса примутся дружно его хвалить. Сам себе он останется наистрожайшим судьей, и это не будет зависеть ни от чьих оценок. А тогда суровость по отношению к роли посмели присвоить циники, равнодушные к его изнуряющему труду. Некоторые из них упивались своей значимостью при разборе полетов, бросая тень на весь цех. Но их имена забылись, а критикуемые ими актеры вошли в историю театра.
МОНОЛОГ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ. ПРО КРИТИКОВ И СМЕРТЬ
— Жанр «Ворона» был для меня нов, образ Дженнаро давался с трудом. Центральная роль, героический персонаж, весь из себя такой благородный, жертвенный, произносит высокопарные монологи — не сразу у меня получилось найти баланс между героической и иронической интонацией. На премьере, подозреваю, был малоубедителен. Но я думал, искал, набирал, в общем, обживал роль. Не ранее чем через год жизни спектакля почувствовал, что мне за нее не стыдно. А вначале получил массу пинков.
После сдачи «Ворона» секция критики организовала в Доме актера обсуждение спектакля, куда пригласили меня. Досталось по полной программе. Кто-то из критиков вполне беззлобно заметил: «У тебя там всего две позы». Затем встала первый директор театрального училища Софья Болеславовна Сороко и устроила разнос за беспомощность, однообразие, пластическую невыразительность, сказала, что меня нужно уволить за профнепригодность. Я вскочил и в непозволительно резком тоне заорал что-то вроде «для вас было бы лучше, если бы я вообще умер!». Она меня осадила: «Молодой человек, нельзя так болезненно реагировать на критику».
Шел по улице, состояние истерическое, принимал решение уйти из театра, а куда? Тогда уж сразу из жизни уходить. Потом остывал, успокаивался, но перед выходом на сцену волновался так, что всего трясло и колошматило, нога самопроизвольно сгибалась, ходила ходуном, и ничего нельзя было с этим сделать! Вскоре я понял, что бесполезно бороться с этим состоянием, нужно направлять его на пользу, на дело, в спектакль, в сценическое присутствие.
Я всегда болезненно реагировал на критику. Она мне нисколько не помогала, наоборот, выбивала из колеи, приводила в бешенство. А если в рецензии на спектакль, где я играл, меня не упоминали, то считал это плевком в лицо. Мне казалось, весь мир обернулся против меня, и я ненавидел этот мир. Много лет изживал в себе эту черту. Преуспел незначительно.
Сентябрь 2016 г.
14. И счастье в личной жизни
Вернувшись из армии, он вознамерился пить любовь большими глотками, без перерыва на сон и еду. И захлебнулся. Временно упустил из виду, что отношения со слабым полом придуманы для сплошных мучений. Осталось только выяснить, кто кого сильнее мучил.
Господи, сколько женщин говорили ему «я тебя люблю»! Самая умная из них добавила: «Я понимаю, что это не взаимно». Приближаясь к нему, эфирные создания намагничивались надолго, а то и навсегда. И даже если он решал увеличить расстояние и отрубить по живому, магнит продолжал притягивать без его на то согласия. «Те, кто его любил, были с ним, как правило, несчастны, а без него — еще несчастнее», — через много лет напишет Дмитрий Быков о Маяковском в одной из его любимых книг «Тринадцатый апостол».
Мамины уроки не прошли даром. Галерея страдающих девиц никак не могла повлиять на его самооценку. Самолюбие алкало более утонченных доказательств собственной значимости — и не находило их. А если он влюблялся, то именно в этом состоянии наиболее остро сознавал свою ничтожность. Что за слово нелепое — любовь, почему его произносят всуе. Как глупо отождествлять физическое влечение с духовным. Как пошло находиться под алкогольным очарованием подвернувшейся особы. Как страшно попасть в зависимость от своей страсти и не мочь с этим совладать. Как уныло ощущать приземленность и внекрылость. Как упоительно поймать мимолетный прилив вдохновения при воспоминании, когда она…
Лем, с его долбаным максимализмом, требовал от любви абсолюта, а не получая его, проклинал недостижимую бесконечность.
Одевальщица Оля Скрябина возникла случайно, но надолго. Она была светлая, легкая, веселая, и чуть-чуть его старше. Выступающей нижней челюстью Оля ассоциировалась с Алисой Фрейндлих, чем и покорила. Оля была единственной из громадного донжуанского списка, с кем он явился ярым инициатором отношений. Подруги предупреждали Олю, что не надо бы с ним связываться, и она ненадолго сумела остаться равнодушной к его уловкам.
Первый послеармейский праздник — новый 1978 год — договорились встречать вчетвером: Оля и ее подруга пригласили в гости Лема и Узду. Женихи, нагруженные мандаринами и шампанским, постучали в дверь коммуналки у черта на куличках, где-то возле сада Дзержинского, куда их доставил насквозь промороженный трамвай. Однако за столом уже расположились два кавалера и чувствовали себя как дома. Друзья растерялись, уходить так сразу в пургу не решились. Сели на кухне, выпили собственное шампанское, посовещались. Из комнаты тем временем раздавался игривый Олин смех. Решительно встали, покинули этот гостеприимный дом по-английски. Узденский выводы сделал сразу и внес обеих девушек в черный список. Лем всегда восхищался силой его характера.
Следующий Новый год Вова и Оля встретили как законные супруги. Но прежде были свидания на морозе, куда она не стеснялась приходить в валенках, объятия в гримерке, выяснения отношений, пустяковые обиды, хлопанье дверьми, мольбы и слезы, горький привкус мезальянса, интересное ощущение на пальце обручального кольца. Лем был не прочь поскорее съехать из респектабельного центра в спальный район, где у них не переводились звон бокалов и разборки с соседями.

На ней — взятое напрокат белое платье с сиреневым отливом, на нем — совершенно не свойственный ему галстук-бабочка. Денег на свадебное торжество в ресторане не наскреблось, расхристанная коммуналка для этих целей не годилась. Олина подруга пустила гульбу в свою квартиру — и не прогадала, поскольку удачно познакомилась с одноклассником жениха и через несколько месяцев тоже вышла замуж.
Наутро после свадебного пира Лем подскочил на автопилоте, кое-как поплескался в ванной, жадно попил из ковшика, машинально напялил одежду и помчался в театр на танцевальную репетицию. Голову не включил, потому что голова не работала. В театре покрутили у виска: ты же вроде женился? Тебе три выходных полагается. Семен Семеныч! — хлопнул он себя по лбу и погнал назад, в праздник и веселье.
В коммуналке новоиспеченные супруги не засиделись. Путем тройных родственных обменов молодому семейству удалось улучшить жилищные условия. Оно благополучно осело на верхнем этаже типовой девятиэтажки по улице Ипподромской. Там всё время ссорились и протекала крыша. Дождь залил позаимствованное у родителей ПСС Бальзака, которого Лем намеревался изучить от корки до корки. Это знак, догадался Лем. Натягивал куртку с капюшоном и хмуро шагал на Свердлова. В глазах матери читался немой укор: «А я тебе что говорила?».
И опять его разбудил шум дождя. Подошел к окну и узрел, как по зеленым верхушкам берез хлещет беспросветный ливень. Из тех, что смывает с души досаду, злость, мерзкий осадок от перепалок с женой, изнуряющую творческую неудовлетворенность. Это знак, опять догадался Лем. Наспех собрался, сбежал по лестнице. Едва вышел из подъезда, как вместо вселенского потопа на него обрушилось оголтелое птичье разноголосье.
До Воскресенского собора он, вдыхая весеннюю свежесть и нервно огибая лужи, летел стремительной походкой, придерживая болтавшийся на ремне портфель. Церковный двор был умыт, как перед новым пришествием. Лем пытался внимательно слушать крестившего его попа, отнесся к обряду с подобающей серьезностью. Даже временно поверил, что крещение как-то влияет на обстоятельства.
Он носил нательный крестик несколько дней. Потом повесил над кроватью. Приехав с гастролей, обнаружил, что вещь пропала. Родители отрицали свою причастность к исчезновению главного христианского атрибута. Больше никто в комнату не заходил. Видать, это знак, догадался Лем, бесполезно вот это всё. Он предпримет еще немало попыток достучаться до небес, прежде чем произойдет его окончательное расцерковление. Ни в творчестве, ни в отношениях он не находил точек опоры, а душа отторгала и отвергала веру как сладкий самообман, как малодушный побег от правды жизни, которая, по большому счету, никому не нужна.
МОНОЛОГ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ. ПРО ВЕРУ И БЕЗВЕРИЕ
— Жуткое дело — доходишь с близким человеком до того уровня, когда взаимопонимание утрачено полностью. Дальше становится так сложно, что закипает мозг — и перед тобой закрывают дверь. Просто встают и уходят, даже не пытаясь разобраться. В этом месте и начинается бог. Бог рассудит. Бог даст все ответы. Дланью своей покроет, и снова всё хорошо. И не надо думать, искать самостоятельные решения, пытаться разобраться в себе и других. А для такого человека, как я, есть единственный способ поверить — если придет Бог, явит мне себя, предоставит доказательства, и тогда деваться будет некуда. Но Бог существует в других измерениях и остается за пределом нашего восприятия. Людьми он придуман таким, какой для них проще и удобнее.
Июнь 2005 г.
Странное дело, они познакомились на работе, но Оля была в театре человек случайный. Творчество было отдельно, личная жизнь отдельно. В зрительном зале Оля была редким гостем. Ее больше волновало, как муж ведет себя в быту, сколько денег отдает на хозяйство, и чтобы ночевал дома. Не вдаваясь в тонкости искусства и духовных метаний, она элементарно хотела семью и детей. Она вышла замуж не за того человека. Лем не перестанет терзать себя, что искалечил ей жизнь.
В один момент захотелось замыслить побег безвозвратный. Хоть куда, лишь бы отсюда. Он, неумелый семьянин и ничтожный лицедей, начнет чистого листа. Для этих целей Лем выбрал Омский театр драмы, где происходил творческий взлет. Легендарный директор Мигдат Ханжаров согласился принять в труппу молодого, но уже известного артиста. Стали обговаривать детали, собеседник задумался, куда поселить приезжего, задал уточняющий вопрос: «Вы женаты?» — «Если останусь здесь, то уже нет». Директор понравился, театр понравился, город понравился. Проблема обозначилась в нем самом: он — человек места. Каким бы ни было это место, оно у него одно, и другого не будет. И поэтому невозможно жить в чужой квартире, в чужом городе, в чужой стране. Работать в чужом театре. Вечером Лем заскочил в поезд и покатил назад.
В дороге ему приснился сон про то, что он все-таки ушел из «Красного факела». И оказалось, что возможности вернуться в родной театр нет. Отрезана такая возможность, нельзя ни при каких обстоятельствах, всё, финита. Он вскочил и уставился в пустоту. Горел тусклый свет, колеса мерно стучали, отмеряя километры до дома. И вдруг наступило тихое, умиротворяющее спокойствие. Вопросы о трудоустройстве растворились в предзакатном небе. Он облегченно вздохнул, свалился на плоскую подушку и проспал до самого прибытия.
Но брак длиною в 12 лет был под вопросом. Вся жизнь была сплошной брак. За исключением сына Жени.
Свойственная человеческой природе тяга к увековечиванию себя в потомстве всегда была ему абсолютно чужда. Лем не планировал взваливать на себя такую ответственность. Он категорически не представлял рядом с собой ни комнатных растений, ни домашних любимцев, не говоря уж о детишках. Внушенный советским менталитетом стандарт счастливой семьи, где обязателен звонкий детский смех, ему претил, как и всякое клише. Одна из его любимых писателей Людмила Улицкая напишет в «Лестнице Якова» про гениального математика Витасю, которому собственная жизнь виделась «навязанной и мучительной, и производить на свет еще одно страдающее существо, подобное ему самому, он не желал».
В 24 года Лем стал отцом и приступил к взращиванию Лемешонка Третьего.
МОНОЛОГ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ. ПРО ДЕТЕЙ И НЕРВЫ
— Я не считаю Женю другим, то есть отдельным от меня человеком. Считаю его частью себя. Он — это я. У нас одна кровеносная система. Предчувствовал, что это произойдет, что на детей придется тратиться так же, как на себя, что они никогда не будут отдельно, и всё это будет моим бюджетом, моими нервами, и никуда от этого не деться. Поэтому не хотел детей, не видел в себе для этого сил. Но когда появился Женя, я понял, что люблю это крошечное существо, а теперь горжусь им, многому у него учусь и слушаю практически не перебивая. Сын — самый главный человек в моей жизни.
Июнь 2016 г.
Никто Женю особо не воспитывал, ведь понятие «воспитание» принадлежит кисейным барышням. Разве что прививали ему любовь к животным. Ну как прививали — стихийно. Мама считала, что ребенку необходим питомец, а папа был против безответственного приручения. У них обитали то пудель, то эрдельтерьер, то очаровательный таксик Гаврила. Их тоже никто особо не воспитывал, вернее, не воспитывал совсем. Собаку отпускали во двор безнадзорно, не утруждая себя выгулом на поводке, и она рано или поздно пропадала. Став взрослым, Женя никакой живности больше не заводил.

Наличие в его организме театральной бациллы выявилось в три года. В понедельник, то есть в актерский выходной, наступили благословенные часы перемирия. Родители в обнимку уселись смотреть по телевизору недавно отснятый спектакль «Три поросенка» — первую за многие годы сказку, которая, как признал худсовет, имела художественную ценность. В динамичной, остроумной, увлекательной постановке Дмитрия Масленникова Наф-Наф, Ниф-Ниф и Нуф-Нуф были прикольными пацанами, а заправлял всей этой оравой волк. Из всех волков, в разные годы сыгранных Владимиром Лемешонком, этот был самый креативный.
Женя невозмутимо ползал по полу. Вдруг поднял голову от игрушек и заявил о своем открытии: «Папа — вок!». Застыл у ящика. Не шелохнулся на протяжении всего зрелища. Теперь родители смотрели не на экран, а на него. В общем, с ребенком стало всё ясно. Отцовская наследственность пригвоздила его к театру, правда, не совсем в том качестве, в каком предполагалось изначально.
В почтенном возрасте пяти лет Лемешонок Третий впервые вышел на сцену. Вместе с дедом играл в спектакле «Виноватые» по Арбузову. Роль главного героя в детстве была эпизодическая, но возвышенная — Женя взлетал туда-сюда на качелях, читая при этом стихи Блока. Стихи выучились легко, на сцену бежалось вприпрыжку. Он даже на гастроли ездил как полноправный участник спектакля. Но эта роль так и осталась единственной.
Если его появление на абитуре в театральном училище вызвало волну оживления (Лемешонок Третий!), то уже на первом туре комиссия поскучнела. Владимир Евгеньевич жутко переживал, что Женю не приняли, долго не мог освободиться от обиды на коллег, которые не заметили в его сыне актерского таланта. Следующим ударом было то, что и в художественное училище Женя не поступил. Друг семьи Владимир Фатеев, набиравший курс, честно сказал, что искра божья в парне есть, но он еще «сырой», и обещал взять на следующий год.
Какой-то несгибаемый оптимист, убоявшийся суровых реалий, придумал, что всё что ни делается — к лучшему, но в данном случае оказался прав. Женя как следует подготовился, Фатеев обещание сдержал, художника вырастил и даже отправил учиться дальше. В 2003 году Марина Рубина в возглавляемой ею газете «Авансцена» под рубрикой «Самые яркие впечатления минувшего года» обозначила: «У меня были и семейные радости. Мой внук Евгений Лемешонок-младший прошлым летом поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства на отделение „художник-постановщик“. В театральной династии Лемешонков прибавилась еще одна театральная профессия». Правда, Женя академию не закончил, потому что ушел работать в театр «Дерево», а потом вернулся в Новосибирск.
Судьбой ему уготовано выходить на сцену только на поклоне, да и то лишь в вечер премьеры. Зато он присутствует в каждой своей постановке весомо и зримо, вещественно и доказательно, с начала и до финала. Неприятности его не обходят, но «Женина мама своим генетическим вкладом спасла его от похожести на меня. Жизнелюб, он защищен от жизни позитивом, который смягчает удары, попадающие в меня напрямую», — констатирует отец.
Если характером Женя вышел в мать, то с годами окружающие всё чаще стали замечать, что Женя — вылитый отец. Будто бы он один в один скопировал с оригинала и походку, и мимику, и жесты. А главное, удовлетворил его родительское самолюбие — вырос в большого профи, династию продолжил. В общем, привязанности-женщины-друзья приходят и уходят, а сын остается.
15. Зачатки богемы
Банда единомышленников в «Красном факеле» сплотилась отборная: Аблеев, Белозёров, Болтнев, Узденский. Лем был в компании мушкетеров опять самый младший, как Д, Артаньян, но постепенно разница в летах стиралась, они становились на равных. Впрочем, равных Узденскому не было. Он считался самым амбициозным и в то же время самым бесбашенным из всей шайки-лейки. Был серьезно озабочен своим авторитетом, популярностью, успехом, но сам рубил сук, на котором восседал. Если уж загулять, то с лихим свистом, с плясками да цыганами. И не заботясь о последствиях.
Он и устроил Лемешонку первый послеармейский отпуск. Измученный нестабильной личной жизнью, Лем был рад оторваться. Дружки умчались на родину Узденских предков, поставили на уши Павлодар, зарулили на озеро Алаколь, соблазнили с десяток местных девиц, о работе не думали, хотя и торопились. Но быстрее поезда не побежишь, мало того что не попали на сбор труппы, так еще и опоздали на прогон сказки «Аладдин и волшебная лампа», явившись в почти невменяемом состоянии. С Лемешонка взятки гладки, он играл всего-навсего эпизодическую рольку, а Узденского-Визиря не пустили лезть на верхотуру, где должна была вершиться важнейшая мизансцена, и прогон был сорван. Оба получили строжайший выговор с предупреждением о последующем увольнении. Никакого значения не придали — они же звезды, им всё можно.
Можно было не так уж долго. Карьера Узденского в «Красном факеле» полетела под откос, «последующее увольнение» не заставило себя ждать. Лем очень переживал за друга, чувствовал свою вину, которой не было, взялся улаживать его дела. Руководство «Красного факела» осталось глухо к его аргументам — кредит доверия к «этому алкашу» был исчерпан. Тогда он инициировал встречу со своим дальним приятелем — главным режиссером театра «Старый дом» Изяславом Борисовым. Долго убеждал его, что Узденский — актер редкого таланта, он может играть абсолютно всё, хоть телефонную книгу. Борисова смущала сомнительная репутация кандидата, но согласился рискнуть. На новом месте Узденский трезвенником так и не стал, но обрел себя и добился заслуженной славы.

Андрей Болтнев добился заслуженной славы раньше всех, причем в кино. До этого работал в Майкопе, откуда и переехал в Новосибирск. Краснофакельская труппа приняла его в 1977 году, незадолго до Владимира Лемешонка. Казался провинциальным, неотесанным, неорганичным, пока не исполнил роль Мефистофеля в спектакле Дмитрия Масленникова «Святой и грешный». И друзья, и недруги без обиняков признали, что он обыграл самого Владлена Бирюкова, назначенного на ту же роль.
Не всем это понравилось. Не нравилось и то, что часто улетал на съемки. Он и не стремился нравиться, не скрывал этого, и к нему относились настороженно, а то и с опаской. Слишком много на себя берет. Чересчур прямой, резкий. Что думает, то и говорит. Гнет свою линию, не печется о карьере. Никакого уважения к начальству, никакого почтения к старшим. Главный режиссер Виталий Черменёв призывает: «Если коммунисты скажут: встань с нами к стенке — встанешь?», Болтнев нагло усмехается: «С вами, коммунистами, — не встану!».

Фото Н. Соничевой.
А самым близким другом всегда оставался Аблеев, с которым взаимопонимание развилось на уровне полуслова, полувзгляда, полунамека. У них выработался птичий язык, для окружающих загадочный и непонятный, а иногда и вовсе не замечаемый. Аблеев, когда находился в добром здравии, проявлял себя веселым и остроумным человеком. Даже с похмелья у него рождались бодрые, милые, хотя и непритязательные шутки. Так и не сделав ни одной значительной работы, он подтрунивал над собой и над своим великим будущем, ждущим его где-то на иных просторах земли. Завистью не страдал, напротив, умел вовремя сказать точное и емкое слово в поддержку талантливого собрата, благодаря чему пользовался поголовным уважением в труппе.
Долгоиграющая конкуренция развивалась на поле Лемешонок-Белозёров. Именно у них сложилось многолетнее партнерство, подхлестываемое болезненным самолюбием, стремлением к профессиональному росту, эпизодической борьбой за трезвый образ жизни. Неразлучная компания распадется, каждый пойдет своим путем, и только эти двое никуда отсюда не денутся. При востребованности каждого во всевозможных проектах театр «Красный факел» останется основным местом работы и непреодолимой точкой притяжения, хотели бы они того или нет.
Младший безоговорочно признавал и лидерство, и превосходство старшего. Особенно когда они играли одну роль на двоих — прокурора в однодневке «Тринадцатый председатель», сына в напряженном «Долгом путешествием в ночь», корреспондента советской газеты в незатейливых «Моих надеждах». Работали они и в дуэте. В их первом совместном на этой сцене спектакле «Аладдин и волшебная лампа» расклад опять, как и в ТЮЗе, покамест получался неравный. Белаз сочинял Аладдина, а Лему достался всего-навсего какой-то нелепый евнух. Недоумевая, как вертеть эту дурацкую роль, он придумал тонкий издевательский голосишко и на этом успокоил свой мятежный дух.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
