
- Все
- Экономика и бизнес
- Промышленность
- СМИ и индустрия развлечений
- Издательская деятельность и журналистика
Бесплатный фрагмент - Запрещено для детей
Электрожурнал. Пятый-штрих номер
Основной графический стиль издания — отсутствие какого-либо стиля вообще.
В целом весь журнал — постмодернизм во все поля. (Вова Лупандин)
Основная концепция журнала — здесь и сейчас, пофигу какое место это занимает в литературном процессе. (Виктор Дробек)
бывает, поэт с именем и всякими регалиями пишет казалось бы ебанину, но ебанину крутую и прикольную (Лев Колбачев)
Дисклеймер-мантра
В Н И М А Н И Е! Электрожурнал запрещен для прочтения. Тут сплошной мат.
Любой желающий может распечатать PDF и дарить людям. Запрещено для детей и взрослых нарушать авторские права. Все права принадлежат их авторам.
Редакции и администрации тут нет, «тут нет» не несет ни за что ответственности — сажайте в тюрьму самих авторов, если они будут оскорблять ваши религиозные чувства, призывать к экстремизму и долбиться в жопу в общественных местах. С уважением, Тут Нет.
В этом номере есть права разных авторов: Виктора Дробека, Варвары Нафеевой, Тихона Корнева, Елены Соловьевой, Тима Фея, Льва Колбачева, кучки поэтов, как то: Алексея Шмелева, Cергея Жадана, Фахриёра (Фахриддина Низамова), Константина Рубинского, Андрея Полонского, Людмилы Казарян, Ануара Дуйсенбинова, Олега Бабинова, Галины Рымбу, Еганы Джаббаровой, Ивана Старикова.
Рубрика Благодать и Хуйня

Возможно, самое важное, что довелось увидеть
в жизни — камни посреди города, из которых вырастают
деревья. Гранитное основание скандинавских столиц, пейзажи, наполненные стойкостью и любовью.
Сомнительная радость быть деревом, сомнительная честь — ровно держать спину, чувствуя под собой смертельный холод отчизны, стоять на ветру, который учит сдержанности, цепляться за твердость, как за последнюю надежду.
Друзья-деревья, вы — брошенные на камни, как проповедники на растерзание животным, испытывали ли вы сожаление хоть когда-нибудь, что явились на свет во мраке, что не познали от рождения легкость
средиземноморских побережий?
Друзья-деревья, стенали ли вы хоть когда-нибудь
из-за ветра, сделавшего вас столь несокрушимыми?
Роптали ли вы хоть иногда на берег, которым ограничивалась для вас ветряная линия родины?
Мы будем брать от жизни все, что только сможем. Мы будем выкрикивать слова благодарности в солнечные небеса наших городов. Мы будем плакать от счастья
и смеяться от невозможности все изменить. Мы станем укреплять береговую линию: страна, похожая на холодный камень, люди, похожие на теплые деревья.
© Cергей Жадан, пер. с украинского Ия Кива
≈≈ ≈≈
ВЫХОДНОЙ
сегодня выходной
и чтоб взглянуть на себя со стороны
а голову набитую всякой всячиной
привести в порядок
ненужные мысли
выкидываю из окна своей квартиры на пятом этаже
вниз одну за другой
как окурки на тротуар
люблю этот звук с которым они
стукаются об асфальт
и потом качаются из стороны в сторону
словно человек с сотрясением мозга
хочется побыть садистом
когда нечего делать
наверное куда лучше
казнить мыслеформы
чем скажем ругать жену
они лежат под солнцем
блестя чешуей
у одной разбита голова
у другой носом кровь
вот оно облегчение
и наслаждение
от того как я ловко это придумал
наблюдать за их отдельным от меня
шевелением
когда и это надоедает
вхожу в комнату
дабы восполнить утраченное
открываю ницше
большего упрямца чем я
пришедшего в этот мир
заменить умерших богов
сверхчеловеком
начинаю дремать
жена толкает
пугаюсь
вскакиваю с курпачи
твои? — говорит
указывая на руки
семилетней дочери
смотрю
в ладошках ее
словно извлеченные из воды сазанчики
рты разевая судорожно трепещут
брошенные мною утром из окна
постмодернизм
метанаррация
и деструкция
______________________
Курпача (узб.) — узкое ватное одеяло.
© Фахриёр (Фахриддин Низамов). Пер. с узбекского Санджара Янышева.
≈≈≈≈
Где петляет дорога
и домов серпантин — три постбрехтовских бога
заглянули в один.
В нем глухая на ухо
и слепая почти
их встречала старуха
у горящей печи.
Спрятав взгляд в половицы
от старушьих седин: — И чего ей не спится? — удивился один.
Ох ты, Господи Боже, добрый Боженька мой. — Не устала похоже — оглянулся второй.
Бесполезный и лишний
третий сел на кровать: — Что-то мужа не слышно
и детей не видать.
В чём нужда ей бескрылой
кроме спичек и дров? — Тихо топку закрыла
и не стало богов.
© Алексей Шмелев
≈≈≈≈
На одном фестивале поэзии
Мне рассказали про столичную критикессу,
Которая приехала в какой-то Когалым, страшно представить,
С творческим вечером,
Робкий молодой поэт принёс ей в подарок книгу, А вдруг прорецензируете,
Но она руки за спину завела: «Детка, а вот не возьму; Если ваша книга хорошая, она сама до меня дойдёт».
И мне помстилось, Что книга понимает это буквально: Собирает манатки
И уходит от папы в столицу.
Конечно, пешком.
Идёт через Сибирь и Урал, С обязательной УПэШа-тусой в Челябе, Холодеет, худеет (ей на пользу), Растрёпанная, теряет стикеры-закладки,
Сделанные для чтения на презентациях.
Ковыляет за восемь тыщ километров
К этой треклятой дуре, Венере русской критической словесности,
Ненавидя её,
Но понося при этом
Своего молодого отца.
Нелегально ночует в сельских библиотеках, Не брезгует букроссингом
(Грех, конечно, но кто кинет камень),
Избегает встреч с лакированными кирпичами Есенина
(Выпущенными в серии «Русь читальная»),
На берегу Волги пытается пересмотреть свой богатый внутренний мир,
И тоскует: говно, какое же говно,
Я заложница этой архаичной, спекулятивной силлабо-тоники, Кто меня ждёт?
Кто любит?
Ломоносов сраный наоборот, Даже на Флибусте не примут.
И вот, Пройдя всю новую карту русской литературы, Стоптав снизу корешок
Приходит в Москву и попадает сразу
В довольно пыльную комнату,
Где ей делает непристойные предложения
Последний сборник Брянского Шиша: А не забацать ли нам общий альманашек страниц так на 69?
Потом полное Чемоданова
С избранным Витухновской
И рукописным Лукомникова
Начинают распахивать её наугад и расчитывать вслух, Хихикая что-то о транссибирской реалистической школе.
Она от стыда вырывается и забивается
Меж подозрительно тихих папок. А это стопка, Нанесённая в «Новый мир» самопальными авторами, И из стопки можно вернуться в старый мир
Только через вспыхнувший в редакции пожар —
То есть, дымом и пеплом в окна.
В стопке она помирает дня через три,
Но до последнего перебирает ножками (ножками?)
Будто идёт к своей критикессе,
И хватает губами (губами?) воздух,
Но Воздух и Новый мир — это разные комнаты,
Да и об Озоне тут не слыхали.
…Она разложится через год абсолютно без запаха,
Так что никто и не узнает о путешествии
Из Когалыма в Москву.
…А в соседнем, допустим, доме,
Наша критикесса будет всё это время
Попивать что-то тёплое,
И говорить молодому сожителю,
Видному культуртрегеру:
Как же мало осталось
Честной, блять, упрямой литературы,
Книги стали малоподвижные, Безногие, Бесцельные, Неживые.
© Константин Рубинский
≈≈≈≈
НЕ НАХОЖУ СЛАВЯНСКОГО СЛОВА
Никогда, боюсь, у нас больше не выйдет
Большого дракона на страх маленьким постояльцам отеля,
Мы устали, втянулись в ежевечерние разговоры, покупаем приличные вещи,
И их обустроенный мир нам кажется вполне пригодным для проживания.
Наши союзники в кожаных куртках не шьют их больше из выдолбленных кож животных, убитых на охоте, Они покупают их в эргономично устроенных — не могу подобрать славянского слова — супермаркетах,
Наши враги вообще не носят мехов и кожи, защищают права животных,
И даже лучшие женщины, те, которые могли бы стать идеальной добычей,
Вместо того, чтоб распалять свое воображение и трахаться направо и налево
В поисках совершенного выхода за пределы гибнущего тела,
Выбирают, нет не участь невест Бога, а вегетарианство, нежное дружество, а то и — опять не могу подобрать славянского слова — сепаратный феминизм.
В ящике, считающем наши грёзы,
Любовные сны прочитываются,
Как ошибка — снова не нахожу славянского слова — программы.
©Андрей Полонский
≈≈≈≈
пропавшие без вести не умерли
так сказано в табличках с острова Рапа Нуи
известного как остров Пасхи
и колыбель загадочной цивилизации
там сказано
все тенали бороговы
и гуко свитали оводи
эти огненные слова видят лётчики
и самолёты падают в океан уже пустыми
их видят моряки
и марии селесты разгадавших смысл
плывут дальше по воле волн
и чашечки с кофе ещё дымятся
они уходят
сами не зная куда
следуя закону открытой двери
следуя порыву пойдём посмотрим
там другие измерения и всё другое
может не лучше
но самолёт падает
и снаряд взорвётся через секунду
от такого приглашения нельзя отказаться
© Людмила Казарян
≈≈≈≈
модернизация 2.0
Все станет ясно
Огнеопасно
Отец наш к богу когда вернешься
Тогда рухани жангырнешься
В бога упираемся как в молчание
В молчание упираемся словно в бога
В безмолвие это когда вернешься
Отец наш тогда рухани жангырнешься
Богу богово кесарю кесарево
Ет етке мұнай президентке
Сорпы народной когда напьешься
Пастырь наш тогда рухани жангырнешься
Огнеопасное станет ясным
И можно будет искать песочек
Вдали от рухнувших пантеонов
Где вечный ветер мой свеж и светел
Где и казахов сжирает хронос
Где мне алеющий мак цветочек
Подарит рослый степной мальчишка
И будем мы с ним под звездным небом
Ставить кевларовый шанырак
На ховербайках летать в кокпарах
Переназначивать чабан-дрона
Чтобы отару гнал на жайляу
Есть курт заряженный кислотой
На интертрайбных степных кюй-рейвах
И на кошме возносить Аблая
Пока Столица кричит сгорая
Бураном белым
Вновь становясь святой
© Ануар Дуйсенбинов
≈≈≈≈
РАТАТОСК
Хрёсвельг говорит: «Белка!
Скажи этому лысому пидарасу, что мать его портовая шлюха
и потому питаться ему объедками — душами грабителей, прелюбодеев
и клятвопреступников!»
Белка говорит: «Окей, босс!».
Внизу белка говорит: «Уважаемый господин Нидхёгг!
Ваш верный партнёр Хрёсвельг
заверяет Вас в своём неизменном почтении. Он и впредь будет Вашим надёжным
поставщиком сырья. Как Вы знаете, он питается исключительно плотью, а души грабителей, прелюбодеев и
клятвопреступников, столь любезные
Вашему изысканному вкусу, он и впредь будет поставлять Вам
по новому дуплопроводу Иггдрасиль II».
Нидхёгг говорит: «Белка!
Передай ощипанному бройлеру, грязному трупоеду, что я нахер отгрызу корень дерева, на вершине которого сидит этот
жалкий импотент».
Белка говорит: «Окей, босс!»
Наверху белка говорит: «Ваше превосходительство Хрёсвельг!
Ваш учёный друг Нидхёгг
выражает Вам неизменное уважение. Он и впредь будет способствовать Вам
в приобретении замков
во владениях данников своих — грабителей, прелюбодеев
и клятвопреступников — англов».
Хрёсвельг говорит: «Белка!
Я взмахну крылами — и сделаю ветер, но чтоб слизняку вечно сосать то место, из которого я делаю дождь!»
Белка говорит: «Окей, босс!»
Посередине ствола
Рататоск останавливается
в маленькой таверне
подкрепиться от гнилого
дерева жизни
и говорит себе: «Ахули!
Уже меня увольте, плиз!
Я что вам девушка в июле
соединять ваш верх и низ!
Вот так и русская поэзия, отогреваясь и дрожжа, то жизнь крошит нажимом лезвия, то душу хрямкает с ножа.»
© Олег Бабинов
≈≈≈≈
МОЙ ОТЕЦ СПИТ НА ПОЛУ
мой отец спит на полу, и мы ждем
его зарплаты, как чуда, как мессию, как в детстве, как конец света,
когда мы все вместе обожремся и умрем
и увидим сияние мира без времени, — так мы ждем,
вечерами вдавливая взгляды в наше единственное окно в единственной комнате,
покрытое серой фольгой от летнего солнца;
мой отец спит на полу
в кухне, а мы с мамой и с моим сыном в комнате и, кажется, дышим синхронно
и ночью, просыпаясь, слышим друг друга;
на ТЭЦ-5 опять пробивают трубы и слышен их гул, а временами и рев самой большой трубы,
рассеянный по району — так, как будто бы он выпрыгивает из неба
и несется по нашей гнилой земле, как злой дух. и август
синих быков своих гонит по темному небу, по нервным холмам мусорных свалок,
по заросшим прудам и дворцам пригородных супермаркетов —
к нашим сложным сообществам, сбитым в один дом, один рой ума,
омывающий землю дурацкими слезами,
когда мы ждем зарплату отца и ругаемся,
потому что ее все нет, и мы не можем просто убить, попросить уйти
тех, кто виноват в этом; поэтому иногда мы просто хотим убить друг друга,
когда август разрывает мозги своим черным свечением,
когда деревья становятся живыми и обнимают пьяных людей на окраине,
баюкают их, как малых, опуская потом тихонько к мусорным бакам,
когда старый кот на кухне грызет сухой укроп и плачет неясно отчего чем-то животным;
мы хотим друг друга убить, как родные, но засыпаем снова,
и даже во сне мы с мамой ждем папиной зарплаты,
чтобы купить шампунь и гель для душа, чтобы покатать моего сына на лодках,
чтобы сесть на маршрутку и поехать в центр на выставку цветов,
а еще, чтобы, наконец, поесть то, что хочется, есть и есть,
пока не кончится время; а папа спит на кухне и кашляет,
его легкие не распускаются алым цветком, как в поэзии, а глухо бултыхаются внутри,
кожа мучается ночным запахом;
он спит и сам ничего не знает о своей зарплате,
он говорит во сне по-молдавски с братом.
© Галина Рымбу
≈≈≈≈
расскажи свой сон воде
можно просто из крана
мать учила, что так не придет шайтан
не случится зло, ты останешься самым
чистым из всех человеческих существ
помимо всего
если ты молился в мечети
или читал Корана потом неожиданно начался проливной дождь
то значит, Бог простил тебе грехи
как бы ни были они тяжелы- говорит тетя
мне хотелось, конечно, расспросить про каждый грех
но совесть не позволяла, я кушал хлеб
и думал, что в Африке все грешны, раз там так мало воды.
© Егана Джаббарова
≈≈≈≈
Машины с наклейками KZ, UZ
Поскольку как местность великий пересечён уже
не устланный шёлком путь конкистадоров имени Ермака
двигаясь не по прямой из столичной А. в областную К. Сами пересечения здесь коррелируют положи-
тельно: Азия — Африка, мавзолей/пирамида, Алжир и АЛЖИР
Не засыпай на ходу водитель в этой именно что глухой
Или же Троица в пыльных шлемах
склонится молча надо мной и тобой
Гумилёв-отец, Гумилёв-сын, Гумилёв-дух степной
© Иван Стариков
Рассказ. И ТВАРИ ВНУТРИ НАС. Елена Соловьева
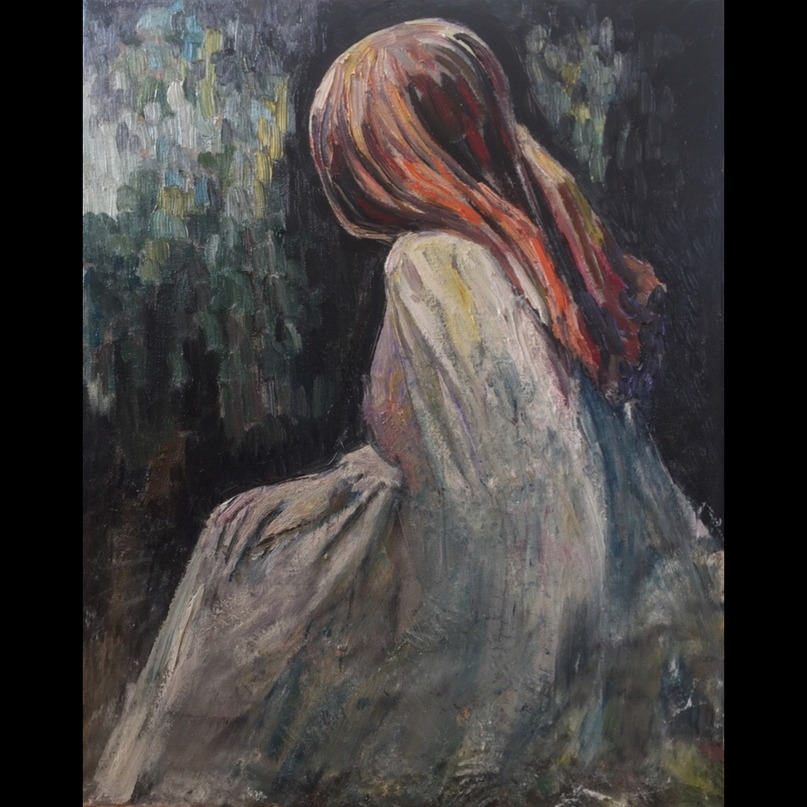
(почти венок сонетов)
I.
Рваная рана души моей, заноза моего сердца. Звучит почти как заклинание. Вот только бабка, которая лечила меня в детстве от ночных кошмаров, приговаривала по-другому. Что-то про трынку, волынку, гудок и «матери их козодойки». Потом крестила мелко. Поплевывала. Топталась кругом. Охала. Тонкая свечка потрескивала сухо, быстро таяла смуглыми слезами на потертой клеенке стола. А я сквозь отяжелевшие ресницы, будто смазанные жидкой карамелью, рассматривал бумажные цветы. Картинки на бумажных иконах. Еще — беличьи шарики прошлогодней вербы, которыми гномам, должно быть, так сподручно играть в мяч. Серый пушистый мяч. А бабка все тянула свое: «Лихорадка, — бубнила, — веснуха, отвяжись»… «Отвяжись, супостат, волыглазая церва, Иродова сестра»… «Трепалка, тетка, лихоманка болотная». И все твердила матери о белом ночном мотыльке, который приносит болезнь, когда садится душной ночью сонному на губы.

Мать только отмахивалась. Мы жили в поселке под Пермью, со всех сторон окруженном еловым лесом. И названия населенных пунктов в этой местности щелкали, как камешки — бесконечные «камски» да «солегорски». Еще Пушкин два раза упомянул наш поселок в связи с восстанием Пугачева, да Мандельштам, отправляясь в ссылку, написал: «Как на Каме-реке глазу темно, когда». Но это я узнал уже значительно позже, став студентом. А тогда, засыпая почти под бабкины бормотания, смотрел на замерзшее окно. И ледяные узоры на нем, разгораясь от темных слов, искрились все ярче, вспыхивая радужным светом. И мне представлялось в полудреме, что я на салазках скольжу по узким языкам этих злых лилий. И дух захватывает гораздо сильнее, чем когда, зажмурившись, мчишь с горки и слизываешь со щеки что-то соленое. Будто весь снег здесь замешан пополам с соляной пылью.

А самая большая горка поселка стоит посреди пруда, как раз за бабкиным окном. Там сейчас ветер раскачивает со скрипом тяжелую гирлянду крупных цветных лампочек. И два истукана с рыбьими безглазыми лицами — Дед Мороз со Снегуркой — стоят как раз над тем местом, где этим летом утонул мой брат. Едва вернувшись из Армии. Конечно — пьяный. Конечно, в теплую звездную ночь, когда таинственный пруд перекрещен был двумя дорожками: лунной и электрической, идущей от дальнего прожектора, горящего в садах. Потом в этом неглубоком, так хорошо знакомом всем с детства пруду, утонуло еще два человека. И так случалось каждый год — будто кто-то собирал человеческих мотыльков в жертву темной воде. Как я потом понял: нелепые, сладкие смерти… от избытка жизни, от незнания, что с нею делать.
И я не то, чтобы стал бояться воды. Я стал внимательно к ней присматриваться. Особенно ночью, когда старший брат (нас как в сказке — было три брата, я — младший) брал меня с фонарем охотиться на щук в дальний, заросший камышами конец водоема. Мне часто снились потом эти щуки, застывшие на мелководье в столбах лунного света — не спящие — заколдованные, — и их глаза, где упорная кровожадность навсегда слилась с абсолютной бесстрастностью и каким-то всепроникающим покоем голубого лунного света. Неумолимое: так должно, так есть. И чего нельзя найти — того и нельзя искать.

II
Чего нельзя найти — того и нельзя искать. Но я искал, в том-то и дело. Наверное, с того времени, как мне исполнилось 13. Когда я прочитал «Олесю» Куприна. И когда на самом дне дежурного (не чаще двух раз в месяц) кошмара впервые различил женское присутствие — неясное и волнующее. Молодое — что там «трынка-волынка-гудок». А страх во сне был чаще всего связан вовсе не с реальными картинками. С ощущениями. Одно запомнил навсегда: темно, кто-то рядом, страшно — до невозможности двинуться. Я понимаю, что вокруг — кромешный сон, и от этого только хуже: ощущение, что тебя все глубже всасывает в сторону, противоположную пробуждению, разбухает. Давит, словно обещая, что когда-нибудь ты не вернешься вовсе. А это предчувствие женщины во сне не имело лица. Я только сладко бредил, что она — ведьма. Мне было почти все равно, как она выглядит. Я тогда уже чувствовал — это существо никогда не будет иметь возраста. Она всегда останется такой, как я ее получил (именно получил). Как сердцевина времени — темное кольцо внутри векового ствола, которое, чем дальше от центра, расходится все более золотыми и светлыми кругами.

Еще — она точно не была похожа на мою мать. Не внешне — внутренне. Мама — сухонькая птичка с легкими кудряшками перманента. Она не распространяла вокруг себя той уютной, мягкой и какой-то влажной, чисто женской субстанции, из которой, собственно, и складывается Дом. У нас его никогда и не было. Нет, имелась, конечно, квартира, даже трехкомнатная, окнами на пруд. Доски пола выкрашены коричневым. Стены в кухне — казенно-синим. Но и вещи, и люди в квартире казались как-то — «не навсегда». Будто вот-вот выдует их сквозняк. Пахнущий так же, как листья осин после первых заморозков. Я и два моих брата родились от разных отцов, которые легко и безболезненно исчезли с горизонта. Соседки иногда смеялись, что наша мать приносит детей из леса. Наверное, лес и был ее настоящим домом. Она подолгу жила там с собакой и ружьем в легком домике-времянке. Собирала ягоды, сушила грибы. Охотилась на мелкую дичь, удила хариуса в прозрачных ручьях. Но ее любовь к лесу не была любовью охотника или хозяина-добытчика. Это сильное, ни разу не выразившееся в словах чувство, ближе всего стояло к поэзии. Из всех ее сыновей оно передалось только мне.
Я навсегда запомнил, как мама первый раз взяла меня пятилетнего с собой. Лес встретил нас салютом тетеревиных крыльев. Птицы с шумом взорвали траву чуть ли не у нас под ногами. Тропинка была испещрена следами. «Это — лось», «Это — медведь» — говорила мама. А я опасливо озирался, ожидая, что «лось-медведь» вот-вот обнаружат свое присутствие. Но они не появлялись, хотя были рядом, может быть, смотрели из чащи. С возрастом я научился видеть и выслеживать их. Но к окончанию школы, бродя с ружьем по ворге, все чаще думал не о добыче, а рассеянно мечтал, представляя, что вот сейчас, как в «Олесе» — забелеет за деревьями бок убогой хибары, и я увижу… Кто прячется в чаще моего сна, в самой сердцевине кошмара.

III
Кто прячется в чаще моего сна, в самой сердцевине кошмара? Не надо было себя обманывать, я, в общем-то, всегда знал, что этим кончится. И я останусь один на один со смертью в таких вот бутафорских декорациях. Будет слегка пованивать цирком, и будет тихо. И я будет ждать, когда то, что произойдет, превратит мою жизнь в фигу, в дырку от бублика. Лежа на брюхе. В ночи. В черной траве. В закрывших глаза до утра одуванчиках. Нелепо светясь белой рубашкой в темноте. Светлячок. Пустой после проблева. В руке — «розочка». Слева — шаги и гогот идущих мимо. То ли шпана, то ли наряд ППС. Но хорошо хоть больше не кажется, что я один на цирковой арене, где медленно оседает рыжая пыль, и вот-вот понесется по кругу что-то совсем несусветное: курицы в лаптях, раки на хромой собаке, зайчики в трамвайчике, жабы на метле, компьютерные динозавры или, не дай бог, тигры на мотоциклах. Словом, весь гоп-парад сумасшедшего старика Чуковского. Который бредил почище Гойи, вот только выдавал все это за смешные детские сказочки.
Так не пахнет жизнь, так пахнет — картон. Косые декорации пьяного бутафора. Но ведь были же, были и в моей жизни дни, такие трепетные и живые — что хотелось плакать. Они складывались в июль, глубокий до обморока, когда к вечеру медленно остывало небо, серое от зноя. И улицы большого города пахли скошенным сеном. А городские пруды светились ближе к сумеркам так тихо и таинственно, что как-то не думалось уже о лежащих на их дне дохлых котятах, ржавых трубах и строительном мусоре. Думалось о беззубках — озерных моллюсках, под невзрачными створками которых — перламутр и влажная розовая плоть. Гребешки и язычки. Мякоть раздавленного абрикоса. Словом, все то, что особенно волновало меня в эти дни в теле моей Светки. Мы познакомились на вступительных экзаменах, и в июле остались одни в ее квартире. Коротали дни на слабом озерце в черте города, где на берег, заросший крапивой, выходили окунуться в обед местные жители. Скучные — как азбука умеющему читать. Я говорил Светке, что у нас в поселке такой беспощадный зной всегда называли «варом», и для здоровья он фантастически опасен. А потом с поспешной жадностью тащил свою Цокотуху домой. За плотно сдвинутые шторы. В темнеющую тайну тени и запах кефира, которым я долго и осторожно смазывал ее обгоревшую кожу.

У обоих это было в первый раз. И поначалу мы по полдня не вылезали из постели. Хотя, как я понял через полтора года, когда Светка стала моей женой и родила мне сына, к сексу она относилась очень спокойно. Вот именно просто — давала и просто — ждала. Собственно, занимаясь этим вместе, мы находились совершенно в разных местах. Я не знаю, какие ландшафты видела она, закрывая глаза во время любви. Иногда, стараясь вообразить ее мир в этот момент, я видел что-то нечленораздельное. То, должно быть, что видит человек, когда стоит на плоту, медленно плывущем вдоль туманного берега.
И несмотря на то, что Светка была мне безусловно и слепо предана, со временем я начал ловить себя на странном раздражении. Мне казалось, что она воспринимает нашу любовь как молот и наковальню, где я — удар за ударом, толчок за толчком — выковываю цепь, с которой уже не сорвусь. А потому по-хозяйски спокойна. И совсем не спешит разделить со мной участие в этой гонке. Я же, стараясь за хвост ухватить наслаждение (а может то, что больше наслаждения, а может то, чего я совсем не знаю) едва успеваю фиксировать багровые вспышки за влажной полутьмой век. Мимо. Со скоростью трассирующих пуль. Взахлеб. В скрученные хитрым узлом коридоры. Там искажены обрывки голосов и мелькают иногда странные рожи. Оттуда явился, наконец, и этот сон, из-за которого я здесь. В черной траве, в темноте, в слепых до утра одуванчиках.
IV
В черной траве, в темноте, в слепых до утра одуванчиках. В сантиметре от нелепой смерти, такой же летней и пьяной, какой умер мой брат. У братьев, видать, и смерти — сестры. Залетные шалавы: случайно, мимо, просто так. Только ему — ласковая вода, а мне — бутсой в висок или лезвием под дых. Пахнет сырой землей. Звезды в небе, как осыпавшиеся цветы. А во сне была женщина, каких сотни. Я сразу же забыл и лицо, и фигуру. И то, во что она была одета. Только помню — будто помехи в черно-белом телевизоре. Глядя мне в глаза, она просто назвала адрес: Парковая 36, дробь 1, квартира 47. Дальше кино прекратили, полог задернули. Но адрес в память врезался, будто вытравленный кислотой. Неужели меня услышали? Неужели совсем скоро сбудется то, о чем я смутно мечтал, кружа с ружьем по ворге — болотистой и кустистой лощине?
И ЧТО произойдет? Я встречу настоящую ведьму? Прекрасную и любвеобильную? Испытаю то, что редко улыбается смертным? Эликсиры сатаны. А как же изнанка всех договоров с нечистым? Вдруг что-то, лишенное собственного существа, просто использует меня, как дверь? Вопьется в мое нутро? Вскочит мне на закорки? Чтобы просто просочиться в наш мир? На манер обычного сквозняка. Вдруг оно просто ищет слабое звено?
В общем, несколько дней я ходил сам не свой. Чувствовал себя шизофреником. Никак не мог решить — ехать мне по адресу из сна или нет? Вконец измучившись, позвонил Севке. Своему единственному приятелю. Когда-то на абитуре нас поселили в одной комнате, и я не на шутку испугал соседа, решив однажды вечером почистить свое ружье. Уж не помню, зачем я тогда привез его из дома. «Ну, ты это… представь, — часто вспоминал потом Севка, — селят тебя с каким-то угрюмым чуваком… Он всю дорогу молчит. А однажды достает из шкафа ружье. Вот так просто… Ага… Ружье из шкафа. А что ли мало психов на философский поступают? Через одного с приветом вообще-то». После зачисления Севка поехал со мной в лес. И с тех пор не пропускал ни одной весенней охоты. Как-то в вальпургиеву ночь мы сидели у костра. И я рассказал ему про ведьму. Севке было можно. А потом, распив бутылку, мы долго глядел на звезды, поджидая, когда какая-нибудь хорошенькая пролетит мимо на метле. Но в этот раз мой приятель не смеялся. «Я бы… это… не пошел, — сказал он, подумав, — …ерунда какая-то… не вернешься еще… это… ну его… Или давай, что ли, я с тобой. И вообще… зачем тебе?»
Зачем? Откуда я знаю… Мне всегда казалось, что настоящая человеческая жизнь вовсе не сводится к совокупности внешних событий. Типа женился, родил сына, закончил ВУЗ. Самое важное решается и происходит очень глубоко, в абсолютной темноте. Зачастую неясное даже тебе самому. Я хочу знать. Я хочу видеть. Единственное, что я сделал, отправляясь искать Парковую, позвонил Севке и сказал: «Пошел».

И вот тут началось странное. Я чувствовал, что не принадлежу себе полностью. Вернее, не совпадаю что ли сам с собой до конца. Я брел по улице. Серый асфальт, кое-где мягкий от жары. На газонах — чахлая городская трава. Глаз с фотографической точностью фиксирует каждый бычок под ногами. Каждый отблеск слепящего солнца в стекле. Но одновременно я как бы вижу себя со стороны, с высоты. Парня в белой рубашке. В светлых брюках. Он идет — руки в карманах — спальным районом одной из городских окраин. Минует трамвайное кольцо. Углубляется в арку. Проходит один квартал. Второй, неотличимый от первого. Останавливается перед единственным подъездом блочной шестнадцатиэтажки. Внимательно рассматривает эту воплощенную мечту любого террориста. Из подъезда выходит старик с собакой. Пока домофон не щелкнул, парень поспешно протискивается в дверь. Лифт грозит оборваться при каждом лязгающем всхлипе, но все же довозит его до нужного этажа. На секции — черная железная дверь. Пять кнопок. Надпись «Россию спасут ученики школы №69, бля…» Кнопка 47. Фашистская свастика. Оставшийся почему-то без тела член-истребитель. Парень поднимает руку к звонку и опускает. Какое-то время прислушивается к тому, что происходит за дверью. Еще раз поднимает руку. Опускает еще раз. Долго стоит. Потом отступает на шаг. Выходит на балкон, соединяющий жилую площадку с черной лестницей. Закуривает. С высоты 14 этажа рассматривает город. Купола, заводы. Совсем близко горы, поросшие соснами. С левого края видно даже хорошо знакомое ему озерцо, где на дне, в кромешном иле молчат, намертво захлопнув свои пасти, беззубки. А по укромным заводям цветут, источая мерзкий аромат, мелкие восковые соцветия. Белая рубашка расцветает темными пятнами пота. Он ничего не может с этим поделать. Он ни с чем не может ничего поделать. Только чувствует, как одолевает его странное оцепенение, хорошо знакомое по ночным кошмарам. Ни проснуться, ни убежать. Есть что-то тошнотворное в том, как не самые лучшие из твоих снов обретают реальность. Они жадно всасывают ее оттуда, где неизбежно остаются черные дыры. И больные цветы кошмара хорошеют. Дети-вампиры. Только на пухлых губах, в самом углу — улика-предатель — рубиновая капля живой человеческой крови…
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.