
Бесплатный фрагмент - Записки москвича
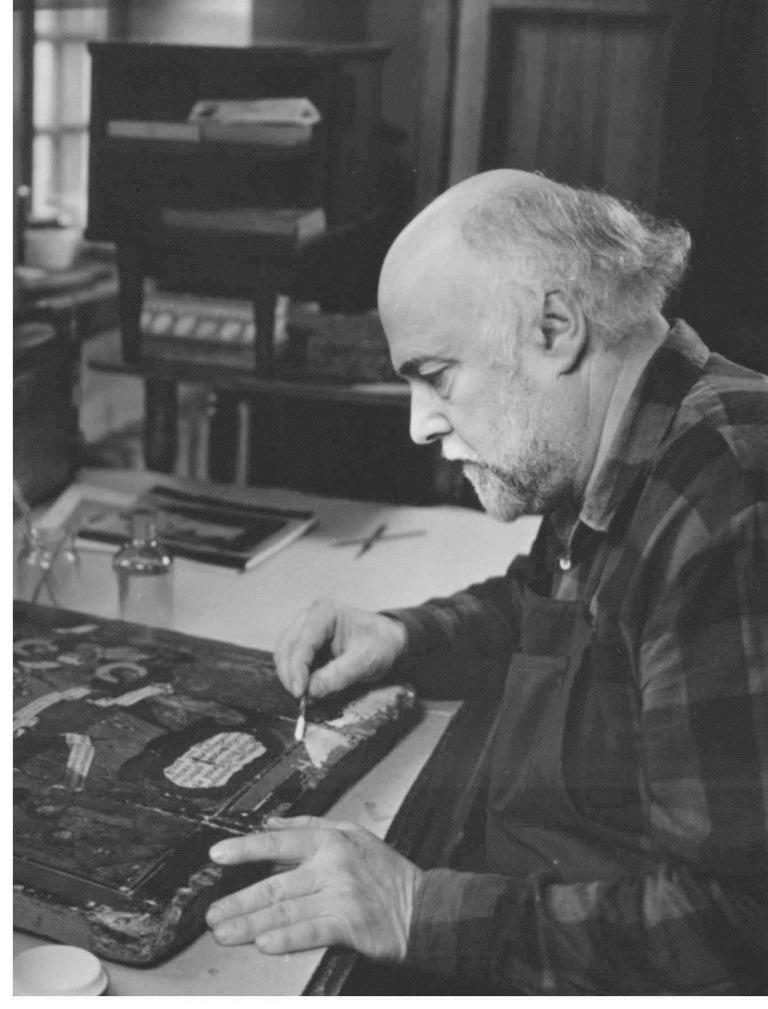
ОПЫТЫ БЫСТРОТЕКУЩЕЙ ЖИЗНИ
Из опытов быстротекущей жизни, кои ничему не могут научить и ничего исправить, однако могут быть любопытны, ибо описанные события происходили в прошлом веке — двадцатом. Это время нескончаемых перемен и потрясений — вряд ли какая другая страна удержалась бы, но, как сказал незабвенный поэт: «В России самодержавие — сама держится!» И даст Бог — продержится еще очень долго и счастливо! Многие ей лета! И нам, грешным, пребывать в ней.
Покушаться на творчество я начал довольно рано. Еще в детстве любил имитировать оперные арии на разных языках, особенно удавались куплеты Мефистофеля. Соседи по парте удивлялись, просили повторять. Исполнял также итальянские и индийские песни — на «их» языках. Этого «полиглотства» хватило на всю жизнь. Ни одного языка, кроме родного русского, так и не освоил.
Оперные пристрастия были отмечены матушкой, и меня отдали в музыкальную школу — учиться игре на скрипке, хотя дома был рояль, и мама неплохо на нем играла. При прослушивании определили, что у меня абсолютный слух. Скрипка меня сразу невзлюбила — струны рвались, из смычка лезли конские волосы. Гаммы нещадно визжали и скрипели, приводя в ярость соседей по коммуналке. Но была и польза от гамм. Соседи были шумливы и гневливы, все время на полную мощь орало радио — мама изнемогала, ее постоянно мучили мигрени. Она обреченно просила: разучивай! И я наяривал что есть мочи! Двери с треском захлопывались, наступала кратковременная тишина.
Были некоторые подвижки на уроках пения, но они совпали с оставлением на второй год в общеобразовательной школе. В итоге из музыкальной школы я был изгнан. От того времени сохранилась нотная папка с профилем П. И. Чайковского и программой концерта в Малом зале консерватории, где я что-то с кем-то пел — фамилия набрана крупным шрифтом. Изящные линии скрипки, запах канифоли, тончайшие нежные звуки — все это удел небожителей, мне осталось только восхищаться и завидовать их бытию.
Но дух творчества неугомонен — он прорвался в пионерлагере, где я был барабанщиком и бренчал в музыкальном кружке на домре и балалайке. Впрочем — весьма посредственно. Вот барабан пришелся по душе — я его холил и лелеял. Спал с ним ночью. Натягивал на него струны, чтобы добиться характерного сухого треска шотландского барабана, сопровождающего игру волынки. Выбивал зорю и отбой, возглавлял колонну на марше.
Однажды пошел с друзьями-пионерами в поход за подушечками — была такая карамель. Их как раз завезли в сельмаг. Взял с собой барабан. Туда шли нестройной толпой, спешили. К нашей радости, магазин был открыт, и удалось пополнить нехитрый запас вожделенных подушечек, которые отроки грызли по ночам.
Возвращались опять толпой, привлекая внимание поселян отсутствием дисциплины — а ведь «пионер всем ребятам пример»! Белые рубашки, красные пилотки и галстуки были несовместимы с расхлябанностью. Я решил навести порядок — барабан обязывал. Выстроил наш небольшой отряд, возглавил его и застучал палочками: «Старый барабанщик, старый барабанщик крепко спал…» — задал ритм. И мы затопали по шоссе. Я был в упоении! Дубасил, что есть мочи. Деревенские бабы и детишки выскакивали на крылечки и ошалело смотрели на нас. На меня почему-то показывали пальцами, а встречные водители хохотали и куда-то показывали руками. Наконец я решил перевести дух и проверить строй. Как только барабан замолк, меня оглушил неистовый вой клаксонов! Обернувшись, я увидел, что вся команда разбежалась, а я возглавляю длиннейшую колонну машин с разъяренными водителями.
Пионерлагерь оказал на меня благотворное влияние: пробудились дремлющие творческие силы. Барабан, домра, неистовый танец — что-то наподобие лезгинки, участие в драмкружке с неизменными чеховскими персонажами. Все это привлекло ко мне внимание. Нужен был волк для детской оперы о Красной Шапочке — и выбор пал на меня. Из серого солдатского одеяла была сшита шкура, где-то куплена оскаленная гуттаперчевая волчья харя с длиннющими клыками, и дело пошло. Арию волка я гудел грозным басом — аукнулись любимые куплеты Мефистофеля! Красная Шапочка трусила, бабушка причитала, соколики-дровосеки маршировали с топориками и грозили наглому волку: «Мы в лес пойдем, соколики…» Автор и постановщик сего творенья был симпатичный и интеллигентный человек по фамилии Черняк.
Наступил учебный год, а опера наша набирала силу. Выступали мы в клубах, домах культуры, в Доме композиторов и, наконец, — на телевидении! Как тогда было принято — в прямом эфире. Тут я выложился по полной программе: пробасил арию, вошел в раж и в пляске волка повалил половину леса. Искусный оператор сумел отвести вовремя камеру, и этот смерч в кадр не попал. Мама пошла к подруге смотреть передачу, но — как назло! — телевизор испортился! Так мама и не увидела триумф сына. После этого репетиции и выступления следовали одно за другим. Бывало, что возвращался я уже ночью. Волка я таскал с собой в фибровом чемодане. Один раз ночью был остановлен милиционером на пустынной улице — чемодан вызвал подозрение:
— Кто? Куда? Что в чемодане?
Я сказал, что я с репетиции и что я — Волк. Милиционер напрягся, когда я открыл чемодан с оскаленной харей, он отпрянул, потом с любопытством — почтительно — посмотрел на меня. Пожелал доброго пути, сказал: «Не стоит ходить так поздно» — и отдал честь. Все же народ наш любит людей искусства — в этом я убеждался не раз. В бытность «скрипачом» я пожинал лавры из-за профиля классика на нотной папке — вроде как был причастен: вон музыкант идет!
Я стал вести себя как капризная примадонна: опаздывал на репетиции и выступления, истязал милого, замечательного композитора — сейчас понимаю, как это гнусно. За гордыню свою был быстро и сурово наказан, как и положено: опять оставлен на второй год, уже в более зрелом возрасте. Получилось, как в старом еврейском анекдоте: отец берет дневник сынули за четверть и видит — по всем предметам двойки, а пение — «пять». И он еще поет!
Нечто подобное случилось и со мной — отец забрал меня из группы, а шкуру Волка с харей оставили коллективу. Стало скучно и нудно жить. Ходил в школу по булыжной мостовой Фурманного переулка и воображал у себя на ногах кандалы — входил в образ борца за народное счастье. Никто этого не замечал, ставили нещадно двойки — и по делу. Решил в корне поменять судьбу. Недалеко от нашего дома, в переулке Стопани, был замечательный Дворец пионеров со множеством кружков. Я выбрал военно-морской — уж тут-то дело точно пойдет, решил я. Теперь самое время! Смастерил желтые сигнальные флажки, купил в Военторге медную бляху с якорем, у дядюшки полковника выпросил старый ремень, соорудил — нечто матросообразное. Мама расклешила брюки — почище юбок! Но сигнальная азбука, как назло, мне не давалась. Водоизмещение боевых судов, количество узлов, подсчет по параметрам, тоннаж — коварно отдавали математикой. Я путался в цифрах, ничего не мог сосчитать. Линкор путал с крейсером. Стало ясно, что меня выбросят за борт. Опережая крушение, подал в отставку.
Дворец пионеров был восхитителен! Я заглядывал в другие кружки — их было много. Прекрасные аудитории, смышленые кружковцы, симпатичные педагоги. После некоторого раздумья я выбрал скульптурный кружок, потому что там пахло мокрой глиной и стояли станки. Кругом были мокрые тряпки. Приветливые молодые люди, по возрасту старше меня, что-то ваяли. Красивый пожилой скульптор делал замечания, поправки. Меня приняли, просмотрев нехитрые рисунки. Выделили станок, глину, тряпки.
Мать одобрила выбор, хотя до этого у нее были раздумья — не отдать ли меня в ученики к сапожнику (видимо, рассказы ее любимого Чехова сделали свое дело). Сапожнику гарантирована работа и заработок, а мне грозило третий раз остаться на второй год! Маму прорабатывали за неуспеваемость сына на родительских собраниях, и будущее сапожника ей представлялось избавлением от мук. Но такового не нашлось. Сапожники работали в государственных артелях и фабриках, а я был малолетка — да и времена Ваньки Жукова давно прошли.
В кружке мне дали кусок серого пластилина, чтобы я вылепил эскиз задуманной скульптуры — а задумал я Илью Муромца. Мне нравился богатырь, который тридцать лет спал на печи и ничего не делал, зато потом всех сокрушил. Этот образ я весьма нахально примеривал на себя. Я вылепил мощного бородача, из фольги приладил ему шлем, сапоги, приделал щит и меч. Показал преподавателю, тот озадаченно посмотрел на меня и одобрил. Студийцы весело переглянулись.
Работа закипела, бесформенная глыба обретала черты народного героя. Уходя, я заботливо кутал его в мокрые тряпки. Но каждую ночь с богатырем происходили разительные перемены: у него безвольно обвисали руки, клонилась на бок голова, лицо становилось каким-то бабьим — расплывчатым, капризным и плаксивым. Фигура грузно оседала — было похоже, что он еще не вставал с печи, и до сражения с Соловьем-разбойником еще очень далеко. Студенты с любопытством наблюдали эти превращения, но от комментариев воздерживались. Преподаватель сначала пытался помочь богатырю, но потом махнул рукой и пустил все на самотек. Образ, задуманный мною, его явно разочаровал. В один прекрасный день я застал богатыря поверженным. У него отвалились голова и рука с мечом, а сам он весь пошел рубцами и трещинами, как после жестоко проигранной битвы — меня несколько дней не было, и глина рассохлась. Восстановлению богатырь не подлежал. Преподаватель и студийцы прятали глаза, а мне стало понятно, что не надо людям мешать работать. Больше в студию не ходил.
На некоторое время я как бы завис в воздухе. Вплотную занялся успеваемостью, сложным подсчетом двоек и троек. Важно было при равном соотношении в конце получить тройку, чтобы она перекочевала в отчет за четверть. В противном случае грозила третья «отсидка». Сейчас я благодарю моих школьных учителей, которые приложили немало усилий и искусства, чтобы дать мне возможность закончить школу — терпение надо было иметь адское!
Первые попытки «художества» проявились случайно. Как-то во двор забрел художник, поставил этюдник и стал писать наши липы и клумбу — тогда еще дворы были огорожены высокими заборами, и жильцы выращивали там цветы. Художник купал кисточки в душистом разбавителе (сейчас я знаю, что это было льняное масло), водил ими по холсту. Был худ и серьезен. Потом художник появился еще раз. Очень меня привлекли краски и сам процесс живописания, особенно этюдник. Мне нестерпимо захотелось обладать таким же ящичком с его содержимым. Где-то впереди маячил день рождения, который я терпеть не мог и не праздновал. Но в этот раз попросил маму купить мне в подарок ящичек с красками. Рассказал про художника — тоже хочу так рисовать! Хотя данных никаких для этого не проявлял, изображал в основном солдатиков в киверах со штыками — героев Бородина. Наконец наступил день рождения, и мне вручили подарок — это действительно был ящичек с красками — деревянный пенал с акварелью в кюветах. Я изобразил радость, потом стал мямлить про другой ящичек, но мама отмахнулась — таких денег у нее не было. Этот пенал хранится и поныне, хотя содержимое, конечно, менялось.
Раньше в школах были уроки рисования и труда, их вел один преподаватель — как у классика: землю попашет, попишет стихи! Эти скромные, благородные люди делали добрые дела, не ожидая благодарности. Сколько таких было у нас в школе, а я даже имен их не помню! Ящичек мой пригодился — я что-то мазюкал, преподаватель одобрял. И я опять поспешил в Дом пионеров, но на этот раз уже в районную изостудию, которую вел умный ироничный художник. Он отметил мои новации — вместо художественных композиций у меня получались яичницы-глазуньи, иногда яичницы-размазни. И был прав.
Один раз, набравшись храбрости, я взял блокнот и пошел рисовать в Музей изобразительных искусств. Пытался рисовать скульптуры, наконец добрался до Давида Микеланджело. Пристроился на лестнице около головы и начал рисовать профиль. По лестнице поднимались двое. Один — в сером костюме — спросил:
— В художественной школе учишься?
Я ответил, что нет. Тогда морда искривилась и изрекла:
— Не позорься!
Вот так и позорюсь уже несколько десятилетий. Я уже вдвое старше того советчика, а «напутствие» это помню. Но — нет худа без добра! Я сделал вывод на всю свою жизнь: надо всегда поддерживать благие начинания, где бы они ни проявлялись, и стараюсь следовать этому всегда. Лучше не скажешь, чем Ф. И. Тютчев:
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется!
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать…
«Позориться» я все же не перестал, а наддал с новой силой. Купил на собранные деньги этюдник и набор масляных красок. Этими красками писал, как акварелью — жидко. Мама рассказала о чудном месте под Москвой — Кусково — и посоветовала ездить рисовать туда. Совет был мудрый и на всю жизнь. Первые этюды начал писать именно там. Это была чахлая аллея кустиков лип, теперь мощных, подстриженных. Канавы с осенней водой, дворцовая церквушка — написаны акварелью. Когда писал маслом этюды, почему-то казалось, что написаны ночью — с черным небом.
Кусково было тогда далеким Подмосковьем с остатками роскошных дач. В летние сезоны на кусковский пруд совершались массовые выезды горожан. Их привозили на грузовиках, автобусах. Нещадно орал громкоговоритель — развлекал граждан массовик-затейник. Радостно вопиял: «Отдыхайте, товарищи! Трава — работает, вода — работает, деревья — работают, все — для вашего здоровья!»
Сейчас пруд окован бетонным бордюром, дворцовая территория окружена металлическим забором. Тогда все было открыто. Естественный берег манил к воде. Граждане-товарищи ныряли, фыркали водой. Блаженно тянули пиво на берегу — и кое-что покрепче. Пруд такие нашествия стоически выдерживал. Там же, но гораздо позже, громкоговоритель проорал утробным голосом — в прямой трансляции — что-то вроде этого: «Пастернак нагадил там, где ест, даже свинья этого не сделает»! Дружные аплодисменты. Ругань разносилась над владениями графов Шереметевых, подтверждая — кто был ничем, тот стал всем! Я уже знал — если власть кого-то ругает, стоит обратить внимание. Так Борис Пастернак стал одним из моих любимых поэтов и писателей.
В Кусково я написал много этюдов. Домики, сараи, купальни на заросших, затянутых ряской прудиках. Занесенные снегом аллеи дворцового парка. Как-то стал писать такую аллею. Сыпал снег. Подбегает маленькая старушка — люблю таких: в сером шерстяном платочке, кацавейке и валенках.
— Сынок, ты снимать будешь?
Я подтвердил.
— Ты где снимать будешь?
Я показал на аллею.
— Я вот сейчас по ней пойду, а ты меня сними!
Я сделал собачью стойку. Старушка поблагодарила и весело затрусила по аллее, которая вела из одного конца парка в другой. При всем желании я не смог бы написать ее, так как до сего дня не умею этого делать — в два-три приема, а только путаюсь в «ногах-руках».
Неисповедимы пути Господни! Как-то сидел на скамейке в Кусковском парке. Солнечный теплый осенний день. Сижу и мечтаю: жить бы здесь рядом, ходить рисовать, гулять по парку и окрестностям. Мечта, да и только! А вот и сбылась мечта милостью Божьей и волею судьбы — живу в благословенном уголке теперь уже Москвы. Отметил я из опыта быстротекущей жизни, что если уж чего очень хорошего хочется, то оно рано или поздно сбывается. Многое у меня сбылось такого, о чем мечталось, но казалось несбыточной фантазией!
Все хорошее и доброе охотно западает в детскую душу. Матушка как-то рассказала мне про импрессионистов, картины которых видела в Музее изящных искусств в старом здании на Пречистенке — потом музей переехал на Волхонку. Какой там был портрет актрисы Жанны Самари работы Огюста Ренуара: «Кожа живая — дышит, воздух ощущается! Обязательно посмотри импрессионистов»! Долгое время их негде было увидеть. В Музее изобразительных искусств была устроена выставка подарков Сталину. Я запомнил только рисинку с портретом вождя, видимым в микроскоп — работа китайских умельцев. Потом вождь отошел в мир иной, музей открыли, импрессионистов выставили, сделав оговорку: «упадническое буржуазное искусство». Но можно было ходить и смотреть. Стали привозить выставки — лед тронулся. Это время потом назвали «оттепелью».
Близких друзей и компаний у меня не было. Их заменили Третьяковка, Музей на Волхонке, выставочные залы на Кузнецком Мосту, многочисленные богатейшие московские музеи — Исторический, Политехнический, мемориальные квартиры-музеи и другие. Так, в школу я ходил мимо квартиры художника Аполлинария Васнецова.
А однажды поднялся по старой темной лестнице в квартиру В. Маяковского. Позвонил в старый звонок, впустили в бывшую коммунальную квартиру — двери комнат соседей запечатаны. Слева от входа открыли дверь в маленькую комнатку. Сильно и кисло пахло старым диваном. Маленький стол, тумбочка. Скромнее некуда. Классик был пуританином, ничего себе не приобрел. Я представил, как он, застрелившись, упал и перегородил собой всю комнату…
Мне Маяковский казался советским хамом, приспособленцем — а тут скромная обстановка, потертая одежда на вешалке. Мама как раз читала его переписку с Лилей Брик, изданную в литературном наследии. Зачитывалась вся московская интеллигенция. Начал читать — Маяковский подписывался «твой Щен», то есть Щенок. Стало жалко загубленный талант. Видел его фотографии — грубый мужик с папироской на выпяченной губе. А в гробу лежал красивый юноша с тонким одухотворенным лицом… Развешивать ярлыки — последнее дело, но это понимаешь слишком поздно.
Мои родители радовались, что я вроде бы наконец приткнулся к чему-то путному. Поощряли мои робкие попытки. Отец сам хорошо рисовал. Он учился в 1-й Владикавказской гимназии — ее же окончили Вахтангов, Лисициан. Учился отец хорошо, но особенно его выделял учитель рисования, который сам окончил Училище живописи, ваяния и зодчества. Фамилия у него была, кажется, Гусев. Он советовал мальчику стать художником, предлагал рекомендацию для поступления в училище. Отцу тоже хотелось, но он любил еще математику, поэтому был в нерешительности.
Но потом наступили смутные времена. На Кавказе тогда строго придерживались семейных традиций — «этикету», как говорил отец — почитали старших. Поэтому судьбу его решил совет старейшин — учиться на землемера. Это была почтенная и хорошо оплачиваемая профессия на Кавказе, так как в горах надо было прокладывать дороги к рудникам и населенным пунктам. Козьи тропы превращались в современные дороги, которые функционируют и поныне.
Отец воспитывался у деда, который имел дело и несколько домов во Владикавказе. Все это хозяйство хотел передать отцу, как юноше серьезному и способному. Но наступила революция, и все пошло прахом. Родственники предлагали деду все продать и уехать — у него были связи. Но дед только посмеивался и повторял: «Эта заварушка скоро кончится». Он почитал Государя Императора и верил, что тот спасет страну. Одного внука — моего отца — в честь императора назвал Николаем, другого — Романом, в честь всей династии.
Кончилось тем, что дед остался ни с чем. В одном из его домов ему выделили комнатку в подвале. В ней он и доживал в полной уверенности, что его ограбили разбойники, так как никого никогда не эксплуатировал и всего добился своим трудом. Единственной его радостью остались папиросы, которые он курил одну за другой, что не помешало ему дожить до очень преклонных лет. Когда ему было уже за девяносто, прорезались новые зубы, и он удивлял людей молодой белозубой улыбкой! Всю жизнь он мало ел и не пил вина. Работал с молодых лет — может, в этом секрет.
Отец окончил гимназию, которая стала общеобразовательной школой, и по семейному совету его отправили учиться на землемера (геодезиста) в Московский межевой институт. Старики снабдили его письмом, удостоверявшим, что он сын бедняка-крестьянина. Бедняк-крестьянин с отличием поступил в институт и стал впоследствии заслуженным геодезистом и путешественником. В свободные минуты он делал зарисовки и фотографии быта и природы. Любил рисовать архитектуру. Когда писал инструкции по профессии, сам их иллюстрировал. Работу свою любил и никогда не жалел о выбранном пути. Благодаря профессии он объехал (буквально облазил!) всю страну. Полюбил простых русских людей и особенно интеллигенцию, которая была для него высшим примером культуры, скромности и порядочности.
В среду рафинированной русской интеллигенции отец попал уже в студенческие годы. Сначала это были преподаватели с профессорским дореволюционным стажем. Потом судьба свела его с родственниками моей матушки и их друзьями. Его товарищ-сокурсник как-то сказал, что его дядя (мой дед по материнской линии) дружил с известным осетинским журналистом Ахметом Цаликовым, редактором «Синего журнала», после революции эмигрировавшим в Англию. Отец захотел познакомиться и засвидетельствовать свое почтение другу столь популярного в Осетии журналиста.
На звонок дверь открыла моя мама, которой тогда было тринадцать лет. Ее удивил стройный юноша в серой черкеске. У отца тогда другой одежды не было. И с тех пор он стал частым гостем ее отца и близким другом ее двоюродного брата. Спустя несколько лет мой дед умер в возрасте пятидесяти лет — умер в день своего ангела-хранителя, архангела Михаила. Мама осталась сиротой, и ее взяли в семью брата. Там она ближе познакомилась с другом своего любимого отца, а через некоторое время они с Николаем поженились и прожили вместе более пятидесяти лет.
Молодой муж повез жену в Осетию показать родственникам. Там ее радушно приняли и тут же одели в осетинский народный костюм. Пришла вся родня, долго на нее смотрели — улыбались, кивали. Остались очень довольны. Оказывается, матроны хотели удостовериться, не кривобока ли, а в костюме горянки это невозможно скрыть. Вся родня полюбила свою «ирон чинз» — осетинскую невестку, но и матушка платила им тем же, всегда вспоминала их только добром. Когда свекровь умерла, поехала хоронить ее, так как отец был в экспедиции. Хотелось проводить в последний путь кроткую Марию и утешить, поддержать овдовевшего Иосифа — так звали крещеных в православной вере моих осетинских предков. Мария и Иосиф.
Если копнуть еще дальше, то можно углубиться в XIV век, когда, собственно, и появилась наша фамилия. Основатель ее, кабардинский княжич Хетаг, бежал в Осетию, так как принял христианство, и родственники постановили убить гяура. Братья настигли его вблизи Алогирского ущелья, на равнине, часть которой заросла густым лесом. Братья были совсем близко, когда лес позвал его в свою спасительную чащу. «Хетаг, ко мне, ко мне!» — звал лес. Хетаг слышал уже за спиной погоню и крикнул: «Если хочешь спасти, сам меня закрой! Не Хетаг — к лесу, а лес — к Хетагу!» Лес сдвинулся и стал непреодолимой стеной перед преследователями. Хетаг был спасен. С тех пор лес этот называется «Роща Святого Хетага». И поныне раз в году в память этого события там происходят пиры и поминания.
Св. Хетаг благословил многих своих потомков на славные и великие дела. Мне досталось жизнеописание этой фамилии, сделанное лейб-медиком Андукапаром Хетагуровым, служившим при дворе государя-императора Николая II. Он составил генеалогическое древо и назвал все поколения Хетагуровых. Там были военачальники, странствующий музыкант и даже воин, сразивший персидского богатыря на виду двух армий — грузинской и персидской! Причем осетин был невелик ростом, но крепок телом. Перс же был огромен, как гора, и страшен видом. Разогнав коней, всадники столкнулись, и осетин под улюлюканье персов повернул к своим. Перс стоял на месте, но вдруг, к ужасу всей армии, верхняя половина тела богатыря качнулась и медленно свалилась к ногам лошади! Перс был перерублен пополам.
Многие потомки фамилии послужили новому Отечеству — России. Один был в числе посольства к императрице Екатерине II с просьбой добровольно принять Осетию в состав Российской империи. Государыня просьбу поддержала, и послы уехали с подарками. Моя тетушка видела подарок императрицы у одного из родственников — драгоценные канделябры. А у самой тетушки я видел на стене красивые турьи рога, оправленные в золоченое серебро. На них была гравировка с поздравлением и благодарностью лейб-медику Андукапару Хетагурову. В один из приездов я их уже не увидел. Тетушка собралась умирать и кому-то их отдала. На мои сетования пожурила — что ж я сам их не попросил и даже не намекнул, она бы мне отдала. Один из Хетагуровых участвовал в русско-турецкой войне за освобождение Болгарии в составе осетинского кавалерийского дивизиона, дослужился до генерала. Вообще военная карьера для осетин была предпочтительнее любой другой.
Самым знаменитым представителем фамилии был, конечно, Коста Хетагуров — поэт, художник, журналист. Отец его был кадровым военным и не мог понять выбор сына. Время от времени он с недоумением спрашивал его: «Сын, кем же ты будешь?!»
Коста с детства хорошо рисовал, любил живопись. Поступил в Петербургскую Академию художеств — учился там одновременно с Серовым и Врубелем. Учился в классе знаменитого Чистякова. Снимал комнату на Мойке, там же, где квартира А. С. Пушкина, только с другой стороны улицы.
Я случайно наткнулся на старый доходный дом с мемориальной доской Коста Хетагурова, поднялся по обшарпанной лестнице с крепким кошачьим духом, поискал место его пребывания — безуспешно: спросить было не у кого. Запертые двери безучастно смотрели на меня и остудили мой пыл. Зимний промозглый петербургский холод пробирал до костей. Я представил, как бедный юный Коста жил здесь, поднимался по этой тусклой грязной лестнице, грелся у печки долгими зимними вечерами — один в чужом неприветливом городе. Конечно, душу Коста согревало сознание того, что он каждый день идет мимо святого места — обители великого поэта, но и тот не любил Петербурга: «Город пышный, город бедный, дух неволи, стройный вид, свод небес зелено-бледный, скука, холод и гранит…» Этот город погубил гения. Еще Коста, конечно, любил Академию художеств и делал успехи, но нужда и тоска по родному краю гнали его прочь. Он так и не доучился в Академии.
Неисповедимы пути Господни: эти строки пишутся в деревне Ново-Раково, рядом Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. Деревня эта когда-то принадлежала прадеду Пушкина, другая — бужарово — его брату. То есть, это родовое гнездо Пушкиных. Не продай они свои деревни, может, по-другому бы сложилась судьба великого поэта. Рядом любимая им Москва, где он родился, где был счастлив с молодой красавицей-женой — «моя Мадонна, чистейшей прелести чистейший образец!». «Москва, я думал о тебе!» — как часто мысленно возвращался он в родной город, который, надо думать, уберег бы его от грядущих бед.
А что говорить о юноше-горце, который как альпийский цветок эдельвейс оказался в петербургской стуже. Не мог он прижиться на чужой почве, замерз бы, завял. Его звали светящиеся в ночи снежные пики гор, яркие звезды на черном небе, искрящиеся в лунном свете бурные потоки горной реки. По берегу неслышно движутся силуэты всадников в бурках с оружием наготове — чуткие кони осторожно обходят камни. Пять-шесть всадников — куда они пробираются? Кто они — вольные люди, абреки? Какая власть над ними? Никакой — один Господь Бог, Святой Георгий — Уастырджи, Фсати, осетинский бог охоты. Нарская котловина, Зарамаг — родовое гнездо Хетагуровых с боевыми башнями, земля древнейшей культуры, мечта любого археолога: копают уже более ста лет, и нет конца удивительным бесценным находкам. Отметим, что первым экспонатом Государственного Исторического музея стал осетинский браслет из археологичексих раскопок основателя музея графа А. С. Уварова — свою коллекцию он передал в фонд музея в 1881 году.
Но как перекликаются судьбы: прародина великого поэта залита Истринским водохранилищем, под водой оказался монастырь Св. Георгия, где наверняка молился прадед Пушкина. У большевиков был раж заливать водой исконные русские земли и гробить славу России. С гордостью тиражировали фотографию, на которой из воды торчала колокольня с православным крестом.
Большевиков давно уже нет, а раж остался. Теперь уже залито водой родовое гнездо Хетагуровых, родина моего отца, селение Цми с церковью, где его крестили. Могила моего прадеда Ивана Хетагурова, взятого при Николае I в Санкт-Петербург в кадетский корпус. По семейным обстоятельствам он должен был вернуться на время в Осетию, да так и остался там, не в силах расстаться с родным краем. Волею судьбы он оказался первым учителем Коста — будущего осетинского поэта, часто наказывая его за нерадивость (вспомним и о Пушкинском лицее — характеристику, данную Пушкину преподавателем словесности: полное отсутствие способностей к литературе).
Трудно учиться хорошо по старым схемам, если рождается в тебе что-то новое — это уж как закон. Так Альберт Эйнштейн получал двойки по физике — он видел ее на много шагов вперед. Модильяни возмущал длинными шеями и пустыми глазами — но нарисуйте в них зрачки, и они погаснут, уйдет душа. А шеи вытягивал и преподобный Андрей Рублев, и никого это не удивляло. Напишите сейчас икону с темпераментом Феофана Грека — да близко не подпустят к церкви. А предки, стало быть, были и свободнее и мудрее. Что папы, что патриархи и митрополиты — заказчики были от Бога, отсюда и расцвет Возрождения, что на Западе, что на Востоке, в России, одинаковый неповторимый взлет.
Коста стал замечательным художником и великим национальным поэтом, публицистом и мыслителем. Его изображали революционным демократом, обличителем и ниспровергателем устоев, а он был — если по совести — Коста Праведный: есть такая святость в нашей вере, ее он рано или поздно удостоится. Коста писал иконы, картины религиозного содержания, расписывал церковь в селении Алагир. Я помню старенькую родственницу, которая в молодые годы часто видела Коста в церкви. Он всегда стоял один, глубоко погруженный в молитву. У него был тяжелый взгляд — в то время Коста уже был безнадежно болен. «Претерпевший до конца спасен будет».
У Коста не было семьи, детей. Любовь народа не могла заменить любви близких людей. Он был одинок и удручен, судьба ему не благоволила: в раннем детстве потерял мать — она тоже была из рода Хетагуровых, но из другого колена, Хетагуровых-Губаевых. Я его внучатый племянник по этой линии, по отцу Коста был из Хетагуровых-Асаевых.
Почему я так подробно касаюсь этих хитросплетений? Да потому, что это интересно: каждый человек идет от своих корней — и где-то, как в густом лесу, они соприкасаются, переплетаются, врастают в одну почву. Все как бы родственники. А поэты — это особь статья, это кроны, которые поднялись над остальной чащей к солнцу, к небу. Они — избраны. Бесценный дар — это Пушкин, на его языке пишут и говорят, сами того не сознавая, миллионы людей. До него был совсем другой язык: откройте книги XVIII века — не язык, а головоломка. Например: «стоит древесна, к стене приткнута, коль пальцем ткнешь, звучит прелестно» — оказывается, рояль! Хорош только церковно-славянский — он божественный и до сих пор непревзойден, как и латынь. А Пушкин — вечен.
Вернемся, однако, в наше время. Я помню свои мучения в школе: почему я все время должен был что-то выучивать, решать непосильные задачи? Чего от меня хотят? Этот стопор в голове сохранился у меня до сих пор. Если я чего-то не могу понять, я уже это не хочу знать. Хотя, бывает, и усилия-то особого не надо. Вот литература, история — там все интересно, там люди, события, жизнь. Можно представлять себя в той жизни и в будущей. Фантазиям не было предела.
Я все время что-то придумывал на уроках, и, когда меня спрашивали повторить, что говорил учитель, — я не знал, так как думал о своем. В таком состоянии я провел все эти долгие и мучительные годы. Их скрашивала моя любимая матушка, единственная радость и свет, а также книги — любовь на всю жизнь. Книги я полюбил сразу — неосознанно — просто за обложки, запах, переплет, шрифт. Я стал покупать книги — но, как всегда, нелепо. Денег не было, только копейки на завтрак в школе. Я никогда в школе не ел, копил на книги. Сначала это были брошюры с выступлениями вождей на каких-то пленумах-съездах, которые я, конечно, не читал, но зато это были мои собственные книжки, своя библиотека. На другие книги денег не хватало, а брошюрки стоили копейки и были доступны.
Покупать я их ходил в какой-то научный институт на Чистых прудах. Книги лежали веером в киоске фойе. На стене был барельеф из черного гранита с уютной старушкой в очках — Крупской. Когда-то она возглавляла институт, читала доклады о вреде игрушек и елок для детей победившего пролетариата. Запрещала «Крокодила», «Мойдодыра» и «Тараканище» — держала автора стихов Корнея Чуковского в подозрении на контрреволюционность: имела на этот счет «острую ноздрю»!
Читать я стал поздно, решил, что не дастся. В школе еле осиливал грамоту. На потеху всему двору не прочел ни одной книжки, хотя уже учился в школе. Потом решил, что дастся, взял у соседей книжку Чарской «Тасино горе», всю ее прочел и потом стал читать, что называется, запоем.
То же и с курами. Во дворах тогда жили, как на дачах. Некоторые держали кур, иногда козу, кроликов. В нашем были куры, я почему-то решил их бояться. Залезал на стул и орал. Потом решил не бояться, и больше не обращал на них никакого внимания. Впрочем, я кур видел впервые — дитё было городское. Помню, как-то в городе Кологриве женщина вошла в автобус с девочкой, довольно большой, которая восторженно пучила глаза и вся светилась от счастья, иногда громко басом хохотала. Женщина объяснила, что девочка из деревни и первый раз едет на автобусе. Вот вам обратная сторона медали.
Когда я прочел дореволюционное издание «Рыцарей Круглого стола», я вооружился мечом и брал приступом выброшенный кем-то во двор унитаз, о чем донесли матери. Вместо уроков часами рубил шашкой врагов, строчил из пулемета по оккупантам. Сидел в засаде, укрытием служил валик от дивана, он же был и конем, верхом на котором я мчался в атаку с шашкой — от каждодневного участия в битвах он не выдержал и отвалился. Зеркало было то другом, то врагом — баталии разыгрывались перед ним. К приходу мамы с работы сражения и поединки прекращались, я мазал пальцы чернилами и делал усталое лицо — мама верила и говорила: ты сделал уроки? Что ж, пора и отдохнуть, пойди, погуляй во двор!
Я устало отмахивался — двор я не любил. Там были грубые и злые люди. Дворовые бабы пугали меня суровыми карами. Одна из домоуправления поймала нас с мамой во дворе, стала кричать: я что-то натворил. Баба грубила и входила в раж, грозила взысканием. Мама молчала, опустив голову. Рядом буксовал грузовик, колеса яростно крутились вхолостую, из-под колес летела земля. Баба не унималась, обижала маму, я подумал: сейчас в бабу должен полететь камень, и она замолчит — через минуту из-под колеса вылетел кирпич и угодил в несчастную! Баба охнула и скрючилась. Шофер выскочил, перепугался, баба завыла. Потом обходила меня стороной. Я понял, что могу делать непонятные вещи!
Когда в трамвае ругались, я проговаривал про себя ругательные фразы — выбирал гражданку и про себя их проговаривал, а гражданка повторяла за мной, как будто слышала. То же делал и с кондуктором. Один раз моя любимая тетушка о чем-то спорила с мужем, он был неуступчив. Я про себя сказал ей: «Ты ничего не понимаешь в песнопениях!» — тетушка тут же это повторила! «При чем тут песнопения?!» — недоуменно ответил он и замолчал. Я вкладывал фразы учителям и соседям. Но не стал развивать в себе эти способности: во-первых, лень, во-вторых — зачем? Никому не вреди, тебе же вернется! Скучно жить злобой, себе дороже. Хотя в нервическом состоянии находился не только я, но и вся страна. Спокоен был только тот акын, который сидел на куче тряпья на вокзале и меланхолично пел: «Домра, домра, два струна, я хозяин вся страна!» А мимо тащили баулы, чемоданы, узлы, шаркали тысячи ног… Вокзальная суета и неразбериха… А перед акыном была степь и безмолвие.
Наш двор на улице Чаплыгина и Чистопрудный бульвар были для меня окном в мир, ибо другого я не видел. Я рано попробовал курить, и не какую-нибудь вонючую папироску, а трубку! У нашего подъезда целыми днями сидел инвалид в военной форме, бывший летчик, тяжело контуженный. Во рту неизменная трубка, а руки плохо держали ее, и она гасла. Знаками он подзывал меня, я набивал ее табаком из кисета и раскуривал, потом засовывал ему в рот — он благодарил кивком головы. Потом приноровился делать это сам без всякого приглашения, к обоюдному удовольствию. И теперь на старости лет люблю потянуть трубочку. А звали инвалида дядя Ваня — один из бесчисленных героев войны.
Военное время я помню смутно: темный коридор, раннее утро и «Вставай, страна огромная!» — из репродуктора. В песне угроза, на душе тоска, страх… Или мальчишеский голос поет, как печатает:
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!»
Многие военные песни я воспринимал буквально, применительно к себе или близким. Например, «Катюшу» — как песню про мою Катю, юную девушку-беженку, которая заботилась обо мне, когда мама была на работе.
Катя была из деревни под Смоленском. Они с братом и сестрой остались сиротами, когда деревню заняли немцы. Брат был слепой, кормиться было нечем, хозяйство разрушено. Брат стал ходить с котелком к немцам, когда у них был обеденный перерыв. Солдаты жалели сирот и доверху накладывали котелок кашей. Потом подошел фронт, немцы ушли, деревня сгорела. Так Катя попала к нам и стала членом семьи, много лет еще жила у нас, потом ушла на завод и получила свою комнату — мы праздновали новоселье. Добрейшая и благороднейшая Катя прожила долгую жизнь, была маленькая и почти не менялась. Последние годы плохо видела, но ежедневно ходила кормить голубей и воробьев. Светлая ей память.
Книги окунули меня в большую жизнь, можно было совершать путешествия по книжным магазинам, коих было множество по всем старым улицам. Огромные букинистические магазины, пахнувшие старой кожей и бумагой. На полках фолианты с золотым обрезом, тисненые переплеты. Можно было брать книги, листать их, но это в знак особой милости продавца, коей я удостаивался редко, так как был не кредитоспособен.
Один раз накопил денег на книгу Диккенса «Холодный дом» в суперобложке с видом старого Лондона. Купить ее было невтерпеж, обошел все магазины — как назло, нигде нет. Помню, около решетки университета на Моховой встал в засаду: наверняка кто-то несет «Холодный дом» в букинистический, который был дальше по маршруту. Останавливал всех с толстыми портфелями: «Мне нужна книга ««Холодный дом»'»! И, как правило, в ответ было: «А причем тут я?!» Было похоже на пароль в знаменитом фильме «Подвиг разведчика»: «У вас продается славянский шкаф?» — «Шкаф продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой». Там, правда, ответ был утвердительный.
Вечер зимний, смурной. Драповые пальто, боты, галоши, шляпы, портфели. В кармане вожделенные скопленные рубли, а книги нет — тоска. За решеткой университета — студенты, отличники, счастливцы. Я держусь руками за холодный металл решетки, с завистью смотрю на недостижимый храм науки, на веселую молодежь: мне никогда не быть среди них, не учиться в университете — может, в каком-нибудь училище, и то вряд ли. Говорят, есть книжный техникум, но и туда с двойками не возьмут. Будущее покрыто мглой, безнадежно. «Холодный дом» я так и не прочел, хотя потом подписался на 30-томник Диккенса, он и сейчас стоит в шкафу. Дорого яичко ко Христову дню.
Всю неделю я ждал воскресенья, и тогда от дома шел по книжным магазинам — от Чистых прудов до Арбата. Заодно заходил в антикварный одноэтажный особнячок на Арбате. Картины, золотые рамы, часы с боем, канделябры. Папки с гравюрами. Иногда совсем не дорого. Зря я помешался на книжках, можно было там купить кое-что интересное, и вполне доступно. Например, Айвазовского. Это были хорошего качества фотографии, на которых маститый старец с раздвоенной бородой-баками с палитрой в руке сидел у мольберта и писал что-то морское. В фотографии на мольберте было прорезано окошечко, в котором вставлена бумажечка с акварелью — иногда парус, иногда волна, но всегда подлинная подпись Айвазовского и год. Стоило весьма недорого — рублей десять-пятнадцать, как хорошая книга. Помню, хотел купить: на деревянной дощечке прекрасная обнаженная игриво взмахнула ножкой — на птичку. Семнадцать рублей, тоже доступно. Но, к сожалению, не купил, постеснялся — родители не поймут, заподозрят!
Как-то около меня стояла старуха в черном, с виду — как монашка. Попросила: снимите мне вон тот морской пейзаж! Он был в золотой раме — морская бухта, вдали берег, вроде как в Крыму. Старуха сказала: это Италия, а написал сын Горького с натуры. Уже давно висит, никто не покупает, решила забрать обратно, все же — сын Горького, а она — жена автора.
Стало быть, это была когда-то знаменитая красавица «Тимоша», с которой связано много историй, и которой так понравилась селедочка на Соловках, где она была «на экскурсии» со свекром-классиком, а «экскурсоводом» был Генрих Ягода. Классик умилялся душегубам: «Черти драповые, какое великое дело вы делаете!». Какое великое дело они делали — отсылаю к А. Солженицыну и В. Шаламову, что побывали в этих кругах ада. «Монашка» картину забрала и, опираясь на палку, пошла в администрацию. Я с интересом разглядывал ее: она была вовсе не старуха — тонкое лицо, внимательные глаза, что называется, остатки былой красоты, но бедность, вдовий век — забвение. Иногда рассматриваю фотографии круга М. Горького, времен его пребывания в Совдепии: среди образин, упырей — хорошенькое девичье личико, не без шарма — одно слово: «Тимоша»!
Особенно оживали книжные рынки, когда проводились декады литературы и искусства союзных республик. Приезжали писатели, поэты. Выступали в книжных магазинах, давали автографы. Продавались книги республиканских издательств, весьма экзотические, например: Фирдоуси «Шах-наме» с золотым тиснением или Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», с красавцами Тариэлом и Тинатин. А «Дни поэзии», когда книжные магазины превращались в клубы, поэты читали стихи, читатели были слушателями. Заказывали авторам прочесть полюбившиеся стихи.
Я помню совсем молодого грузина с усиками — Булата Окуджаву — он многозначительно читал что-то о дураках, на которых навешивают ярлыки. Слушатели понимающе кивали, хмыкали, все было со значением, с фигой в кармане, и не только. А Заболоцкий стоял один у прилавка — золотые очки, дорогая шапка, меховой воротник, пухлое лицо — академик, писатель, таких на улице не встретишь. Протирал очки, что-то прятал в большой кожаный портфель. Был значителен и недоступен. Потом прочел его стихи — оказалось, прекрасный поэт, много выстрадал, и, слава богу, дожил до признания. Востребован и сегодня.
Книгами тогда менялись, продавали друг другу, ночами стояли за подпиской… О, книга, книга! — я бы пропел тебе гимн, но нет хора! Ты окунаешь в прошлое и предвидишь будущее, твои герои бессмертны. Одних ты, читатель, обожаешь, других ненавидишь: в детстве ты — Том Сойер и Пятнадцатилетний капитан, вместе с героями совершаешь путешествие на воздушном шаре, опускаешься на дно океана с капитаном Немо, летишь по небу с кузнецом Вакулой, а внизу занесенные снегом хаты, вокруг них — плетни, на них забытые горшки и крынки. Улыбается острым серпом месяц, обледенелые тополя свечками выстроились по краям дороги. Спит земля, спят ее обитатели. Праведен ее сон. Тебе же не хочется спать…
Я склеил из детского календаря панораму: Диканька, месяц, Вакула на черте, хатки. Через окно луна освещает мою нехитрую экспозицию. Я прочел «Вечера на хуторе близ Диканьки» — «Ночь перед Рождеством», панорамка рядом на стуле. Я смотрю — она оживает! Я опять в любимом книжном мире! На мое счастье отец купил четырехтомник Н. В. Гоголя, все читали по очереди. Синие тома вкусно пахнут новым коленкором, дореволюционные иллюстрации, добротная бумага, четкий шрифт. Гоголь и сейчас на почетном месте.
До сих пор мне снятся книжные магазины: я покупаю старопечатные книги, мне что-то откладывают, я беспокоюсь, не уйдет ли от меня заветный экземпляр. Грустное время наступило: многие книги, которые я с таким трудом доставал — или упустил, я вижу теперь на помойках. Они сиротливо смотрят на меня. Хорошо, если поставили их стопкой рядом с помойным баком, а то и вовсе бросили в бак вместе со всякой дрянью. Много хороших книг я забрал оттуда. Даже прекрасно изданные книги по искусству в хорошем состоянии. Как-то увидел: под угол бака подложен красный том — для ровности сооружения. Вытащил — оказался Маяковский, «поэт великий на все времена», как изрек корифей всех наук и отец всех народов.
Книги поменяли на какой-то технический лохотрон. Разве можно чем-то заменить книгу — это целый мир, культура, эстетика! Сколько художников, умельцев вложили в нее свой труд: одних шрифтов сотни, я уже не говорю об иллюстрациях, заставках, буквицах! А переплеты, корешки, запах страниц! Я с закрытыми глазами узнавал по запаху, где издана книга — у нас или за рубежом, какого она времени. Книжные полки всегда вносят умиротворение, покой. Многие лета тебе, книга! А человек перебесится, ты найдешь себе нового читателя, преданного и любящего.
С какими интересными людьми я общался благодаря книге! Например, в здании гостиницы «Метрополь» был маленький книжный магазин, специализировался на открытках, гравюрах и старопечатных книгах. Иногда совсем не дорого. Я купил там какую-то повесть издания XVIII века — «О Петре Прованском и прекрасной Магелоне», начиналась она так: «Тиранство некоторых вельмож…» Или обличительное сочинение о брате короля Людовика XVI, который перешел на сторону душегубов-якобинцев и упивался вместе с ними кровью, но, конечно, недолго. Предателей никто не любит — его тоже обезглавили.
Я захаживал в магазин просто посмотреть рисунки и акварели, которые тоже там продавались. Продавщица была маленькая, ядовито-злая, всегда старалась срезать безденежного покупателя. Но держала хозяйство в образцовом порядке, с любовью. Иногда в знак особой милости давала полистать папку или потасовать открытки. Но я побаивался ее, смотрел из-за спины счастливцев, которым доверяли сокровища.
Один раз поднялся по лестнице и вместо нее обнаружил за прилавком актера Бориса Андреева, всеми любимого и популярного. Каждому новому покупателю он представлялся густым басом: «Андреев! Андреев!» Хотя все его и так узнавали. Хозяйка гордо стояла в стороне и радовалась сюрпризу — он удался. Артисту явно была по душе роль продавца книг, он играл ее с удовольствием — покупатели, правда, робели и были лишь зрителями. Честно говоря, за все долгие годы я ни разу не видел столь симпатичного и обаятельного продавца. О, волшебная сила искусства!
Я заметил: Борисы — часто фактурны, круглолицы с виду, простаки — но себе на уме, что называется, с русской смекалкой. С талантами, не всегда раскрытыми из-за «зеленого змия», который беспощаден ко всем, ему приверженным.
Моя любовь к книгам оказалась взаимной, для меня благодатной! Учителя по литературе заметили мою любовь к их предмету, и наступил просвет в моем школярстве. Произошло это в девятом и десятом классах, а поскольку я был дважды второгодником, для меня это были уже одиннадцатый и двенадцатый! Первая учительница, Таисия Петровна — яркая дама, с виду мрачная, а добрейшей души! С неизменной папироской на переменах. Углядела во мне плохого актера, который стал блистать на школьной сцене — она была режиссером и постановщиком.
Годичные «гастроли» прошли успешно, я был офицером вермахта, Скалозубом из «Горя от ума», Хириным из «Юбилея» Чехова, «тонким» из «Толстого и тонкого» — другим при всем желании не мог быть ввиду дистрофичной худобы.
В десятом классе «гастроли» продолжались при другом классном руководителе — тоже преподаватель литературы, Зоя Ивановна, интеллигентнейшая, милейшая дама, вспоминаю ее с большой любовью. Благодаря ей я, наверное, и закончил школу. На уроках я много и нахально с ней спорил — подрывал устои. Поражаюсь ее терпению!
Репертуар расширился при другом режиссере — преподавателе английского языка Вилене Марковиче. С виду моложавый, порывистый и очень культурный, он был фронтовиком: пошел на войну добровольцем сразу после выпускного вечера, вместе со всем своим классом. Он ставил пьесы советской тематики, в основном про комсомольцев. Там мне места не нашлось, к взаимному удовольствию. Это был бы нелепо, так как на собрании по приему меня в комсомол я гневно выступил с разоблачениями самого себя. Кандидатуру сняли и больше меня не беспокоили.
Кто-то все же стукнул куда надо, и позднее стал я невыездным до самой перестройки — спасибо ее режиссеру, а то не видать бы мне стран неведомых и людей «с песьими головами». Кто-то очень мстительно гадил: то отбирали билет в день вылета — «а вы не едете!»; то прививали холеру и опять не пускали, выдав справку, что холера привита. Я понял, что органы работают вхолостую: в это время драпали партийные бонзы и перебегали агенты. Когда, наконец, выпустили на юбилей Ван Гога, спросили будничным тоном: «На постоянку?» Я не понял, какая постоянка, зачем? Ведь «дым Отечества нам сладок и приятен»! Нелепо в мальчишеском максимализме видеть крамолу, ведь эта революционность с годами плавно переходит в стойкую реакционность, все возвращается на круги своя.
Великодушные учителя дотянули меня до аттестата зрелости. При вручении аттестата всем играли туш, когда назвали меня, я был уверен, что настанет мертвая тишина, оркестр замолчит — но, к моему изумлению, он и мне отгрохал музыку! Я таки получил заветный аттестат, где были одни тройки, лишь по истории «4» и по поведению — «5», что сомнительно!
В характеристике, приложенной к аттестату, я был назван «любимым актером школы» и вообще как бы неплохим парнем: Зоя Ивановна увидела во мне добрые начала. Рекомендовано мне было поступать в театральное училище и быть актером.
Но я никуда не пошел — двенадцать лет сидения за партой, крепкие двойки и хилые тройки сделали свое дело. Решил закончить свое образование полностью. Мама моего приятеля устроила меня в свой проектный институт чертежником-конструктором. По черчению я тоже получал двойки, так что работник из меня вышел очень «ценный». У меня появился наставник Костя, с плакатной внешностью передовика-комсомольца. На самом деле — конструктор-технарь от Бога. С терпением стойкого комсомольца объясняя мне очередную работу, закуривал ядовитую папиросу «Север» и увлеченно «читал» огромную «синьку», как роман.
Я ничего не понимал, но кивал головой. Потом старался не ошибиться в подводке вентиляции к санузлам. В общем, институт был замечательный и люди прекрасные. Начальник отдела по фамилии Элинсон, инвалид войны, был образцом интеллигентности. Когда кто-то опаздывал или затягивал перекур, он стеснялся и прятался за толстыми стеклами очков. Я раньше не видел такого мягкого и благородного человека, а чтобы держать отдел в руках, у него был заместитель — дама крутая, но справедливая. Словом, не отдел, а дружная семья.
Для праздничных вечеров снимали клубы, фойе больших учреждений — пили вино, танцевали, пели. Как-то такой вечер состоялся в институте в том самом фойе, где я когда-то покупал брошюры Политиздата. Все так же со стены смотрела барельефом старушка в очках. Мне показалось, что теперь она смотрела с каким-то осуждением: что вы тут пляшете?! Ильич этого не любил, он был архи-серьезен.
Запомнилась мне еще чертежница Галя, на всех вечерах она любила петь: «Чтобы рядом всегда бились вместе сердца…» или «Давай никогда не ссориться, никогда, никогда…» — глаза мечтательно блестели, носик краснел в волнении. Девушке хотелось любви, она о ней пела, говорила, читала. Я посмеивался над ней, зачем-то нахамил — она обиделась. Мне стыдно до сих пор. Так и осталась в памяти рейсшина, чертежная доска и милая скромная девушка: «Чтобы вместе всегда бились рядом сердца…» Надеюсь, такое сердце ей встретилось.
С хорошим коллективом пришлось распрощаться — институт переехал на другой конец города, и я нашел другой, опять в районе Кировской, как и предыдущий. Увидел вывеску «ГИПРОМЕДПРОМ» и смело направился в отдел кадров, там без промедления взяли, так как предыдущее место работы было указано как «ГСПИ, чертежник-конструктор» — тропа оказалась проторена. Чертежников, как понимаю, не хватало. Опять хороший коллектив, опять симпатичный деликатный еврей-начальник. В мой первый рабочий день коллектив угощал вином уходящий на пенсию сотрудник — со всеми прощался за руку теплой пухлой ладонью. Впереди отдых, пенсия. Но через неделю сообщили, что он умер! Сотрудники пошли его хоронить. Всю жизнь работал, отдыхать не привык, пенсия показалась катастрофой, а мог бы и дальше работать — его любили. Помню, он был полноватый богатырь с большой лысой головой, с добрыми глазами, полными печали.
Работа была мне знакома, люди тоже. Опять вечера, но уже в отделе. Песни, танцы, походы с палатками и кострами. В общем, прекрасные люди работали в проектных институтах. Чудные девушки, хорошие ребята, старшее поколение журило и делилось опытом. Может, надо было остаться с ними до конца дней, чему-нибудь я бы научился, не только вентилировать сортиры! Платили мало, но приемлемо — больше я не получал, хоть и сменил более десятка мест.
Судьба дает шанс для спокойной жизни, а мы его не используем. Посылает хороших людей и все остальное, а мы опять мечемся: надо найти свое, настоящее — дальше, дальше! Но известно: чем дальше залезешь, тем больнее падать. Ничему не учит чужой пример, все надо пройти самому. Мотылек сжигает свои крылья. Я решил поступать в институт и ушел в отпуск. В курилке говорил, что при МГУ есть хорошая изостудия, поэтому пойду туда — верх нахальства! Я стал готовиться. Собрался идти на исторический в пединститут или в историко-архивный.
Лето сидел в Фирсановке, на мансарде, где снимали дачу у колоритных почтенных староверов. Как-то, сидя за учебником, услышал истошные вопли из леса. Пошел туда: среди елок раздувался и спускался белый пушистый шарик — котенок! Что было сил звал на помощь, не желал погибать. Увидев меня, быстро подбежал, по штанине забрался мне под куртку, а чтобы я его не достал, перелез на спину. Я решил его взять, но проверить смекалку и прыть: достал, поставил на землю и пошел — белый клубок быстро настиг меня и повторил маневр. Дома он не мог напиться молока, пока окончательно не «раздулся». Свалился спать — так и поселился у нас на долгие годы с именем Онуфрий.
Был ума и озорства недюжинного. Любил выкидывать книги с полок — одну за другой, подцепив лапой за корешок, и на этой куче заваливался спать. Если я хотел его наказать, мама просила: «Не трогай его, ты же видишь, в каком он состоянии!», а он был в состоянии предельной наглости. Потом он писал со мной диплом, заваливаясь спать на страницах — морально поддерживал!
Учебники были прочитаны, шпаргалки написаны. Я не пользовался ими, это были как бы конспекты, и мне становилось спокойнее, когда они лежали в кармане — я мог перед экзаменом их просмотреть. Набравшись духу, взял документы и направился в историко-архивный. Стояла очередь абитуриентов. Баба в растянутой голубой кофте злобно орала, что сегодня уже не принимают. Баба была грубая — базарная. Как же так — храм науки и такая баба, из моих нелюбимых, чего же там ждать хорошего?!
Эти бабы, как фурии, возникали периодически в разные годы — похожие друг на друга, как одна и та же баба, только менялись кофты: осатанело орали, не пускали в церковь, театр, столовую, автобус, поезд, магазин, к врачу и т. д. Последний раз не пустили в Изобразительный музей им. Пушкина, куда я решил сводить мою старенькую маму. Времени до закрытия было еще много, но вышла такая же баба и стала орать, что музей закрывается. Несмотря на уговоры и мое музейное удостоверение, так и не пустили. Это был последний выход мамы в люди. Спустя годы я понял, в чем дело. Преодолев грустные воспоминания, решил пойти на экспозицию — и опять, несмотря на дневное время, объявили по радио, что музей закрывается. Смотрители суетились и выгоняли немногочисленных посетителей. Вдали я углядел директора музея с очередным музыкальным светилом, который завернул в музей пофуршетить — у него был день рождения. А посетитель — всего лишь быдло, и чем больше часов стоит оно в очередях на престижные выставки, тем почетнее музею. Нелепо и дико. Канули в Лету славные дела Третьяковых, Кокорева, Морозовых, Бахрушина, Цветаева и других, положивших жизни на алтарь Отечества. В этот музей я больше не ходок.
Я решил пойти узнать, а что там в МГУ, благо идти было пятнадцать минут — истфак находился на Герцена (деканат), а сам факультет — на Моховой, в старом крыле здания. Вошел в старинный особняк, поднялся по лестнице — никого. Лепнина, росписи, книжные шкафы заполнены толстыми томами — корешки с тиснением: «Петр Могила», еще много старинных томов. Храм Науки, да и только!
Выходит откуда-то миниатюрная дама — из моих любимых, с высокой прической, с тонким интеллигентным лицом, на вороте блузки — массивная камея с античным профилем. Я всегда выделял дам с камеями, они вызывали почтение, всегда были интересны внутренне и внешне. Дама оказалась из приемной комиссии, но пришел я не вовремя, хотя сделали мне исключение, раз пришел. У них конкурс был пять человек на место. А каковы мои успехи в школе? Я сказал, что успехи — одни тройки. Это очень плохо, сказала дама.
Тогда еще был в ходу «комсомольский набор» — льготы для активистов и для тех, кто со стажем партийной работы. Я сообщил, что не комсомолец, не вступал. Дама сказала — это совсем плохо. Мы возьмем все же ваши документы, а вы готовьтесь — все зависит от вас. Прочла характеристику, посмотрела аттестат — в нем среди троек сиротливо ютилась четверка по истории. Дама пожелала мне успеха. Я понял — мне здесь не учиться…
Но еще время есть готовиться, и я опять засел за учебники. Наконец, наступили экзамены — я сдавал средненько, ничего не светило. Думаю, что попал в университет из-за государя-императора Александра I. Сдавал последний предмет, историю, экзаменатор — молодой интеллигент в золотых очках, породистое, тонкое лицо, рядом такой же ассистент. На вопросы я отвечал неуверенно, ни шатко ни валко. Что-то о Соборном уложении 1649 года — год мне подсказал экзаменатор, что-то о самоубийстве генерала Каледина, что-то об основных сражениях войны 1812 года. Какой император правил тогда, спросили меня. Терять было нечего, и я ответил: Александр I Благословенный. В школе такого титула не поминали, а я прочитал в пьесе М. А. Булгакова «Дни Турбиных» — знал ее наизусть: это сцена в актовом зале, сбор юнкеров перед портретом Государя.
Повисла мертвая тишина. Я понял, что провалился окончательно. Пауза затянулась. Ассистент пожал плечами — ничего, мол, не поделаешь. Экзаменатор строго сказал, что ставит мне пятерку, а ассистенту — подчеркните красным карандашом! Не иначе, как Благословенному я обязан пятеркой, да еще тому неведомому благодетелю-экзаменатору, имени которого я так и не узнал и которого за все время учебы — к большому сожалению — так ни разу и не встретил. Поминаю его добром и поныне. Дай Бог ему здоровья, если еще жив. «Сто лят ему!» — как говорят поляки. Спасибо, открыл мне дверь в самые лучшие годы жизни — в Московский университет!
Однако до проходного балла я, как считал, не дотягивал и опять впал в уныние. Мама утешала и что-то говорила о «чистых» и «нечистых» из прочитанного фельетона: ты, конечно, «нечистый», так что — не переживай!
Собрался опять вернуться в чертежники. Пошел все же посмотреть списки принятых и, не веря своим глазам — увидел себя! Этого не могло быть, чтобы я попал в университет. Я даже не мечтал об этом. Побежал к маме на работу, вызвал ее в тамбур подъезда и сообщил. Мама совершила какой-то радостный круговой танец по обширному периметру: наконец-то счастлива! После многих лет слез и унижений за нерадивого сына!
Честно говоря, я с таким остервенением готовился и хотел поступить не для себя, а для родителей, которые испытывали из-за меня какое-то постоянное поношение: у всех дети как дети, а тут — пробел в человеческом разумении, бог знает что! Пример для всех — но отрицательный. Многие родственники недоумевали, правда, был один сосед по дому по фамилии Казанцев — интеллигент, преподаватель какого-то технического института, который говорил: дочь моя отличница, но она из обыкновенных, а толк будет из этого двоечника. Семья эта была из репрессированных большевиков. Спасибо ему на добром слове, надеюсь, оправдал, хотя бы частично.
Скажите, было ли на свете место лучше, чем истфак МГУ на Моховой — отвечу: не было и не будет! Там была такая круглая аудитория, названная почему-то «коммунистической», а когда сделали ремонт, открылась надпись: «Вход господам студентам справа». Писано не для коммунистов — ими тогда и не пахло, а для студентов. Идеология, политика меняются, а студенты остаются. Народ этот славный во все времена.
Дед мой учился тоже на Моховой, на экономическом, может, ходил в те же аудитории. А еще раньше учились там многие великие люди. Основан университет в 1755 году государыней-императрицей Елизаветой Петровной, для людей из народа — разночинцев, как тогда говорили. Любой мог поступить в него, учили бесплатно, даже денег давали на кошт. Дух Московского университета неистребим, он и сейчас — лучшее учебное заведение страны. А для меня — так и всего мира!
Поступал я на вечернее отделение, так как туда не надо было сдавать иностранный язык, который я так и не осилил, мне хватало русского. Даже зарубежную литературу недолюбливал из-за иностранных имен — раздражали! Я путался в Томах, Джеках, Мэри, Рудольфах — бросал, не дочитав. Исключение — Диккенс, у которого всегда хороший конец и предел счастья — уютный домик на старость. Ой, как это неплохо, однако! Понимаешь с годами.
Истфак был открыт, демократичен, согревал душу. Преподаватели, все увлеченные своими предметами — я бы переписал эти славные имена, но не все помню. Они учили нас думать самостоятельно, вникать в суть дела, изучать источники. Я не пропускал лекций и занятий, все было интересно. Зачем обманывать самого себя! Когда кто-то хвастался, что не готовился к экзаменам и все сдал, я думал: ну и дурак, что хорошего? Экзамены ведь заставляют тебя окунуться в мир Троянской войны, Крестовых походов, героев 1812 года, и еще бог знает чего, чем полна великая наука — История, мать всех наук. Курсовую можно было выбрать любую, но, конечно, по теме предмета, что я и сделал. Можно было писать о заговоре Катилины, изобличенного Цицероном, о культуре древнего Новгорода — любое благое начинание поддерживалось на истфаке.
Половина преподавателей были фронтовики, прошедшие войну. Они относились к нам, вечерникам, дружелюбно, по-товарищески. Более молодые держали дистанцию, но всегда были открыты для диалога, всегда были готовы ответить на интересующий вопрос. Историки — это особь статья! Увлеченные люди. Каждый несет в себе ту эпоху, которая стала для него смыслом жизни, и ориентируется в ней иной раз лучше, чем в современной. Я много видел таких примеров.
Без истории, историков люди были бы просто стадом, «Иванами, не помнящими родства», как говорили в старину. А еще хуже — «без царя в голове», чего и сейчас хватает с лихвой. Все это мы уже проходили, и расплачивались дорогой ценой: потерей целого поколения. Вспомнили об истории, традициях, когда беда подошла к самому дому. Будем беречь заветы предков — она к нам никогда и не подойдет.
Тревожно, что книгу вытесняет липкая веселуха и чернуха по зомби-ящику. Поэтов, писателей и художников заменили пошлые и наглые шоумены: «бесконечны, безобразны, в мутной месяца игре закружились бесы разны, будто листья в ноябре…» Неужто должны быть новые испытания, чтобы рассеялась, сгинула вся эта гламурная нечисть?! «Яко исчезает дым, да исчезнут…» Вопрос остается без ответа — время покажет.
Агитпункт
Кто сейчас помнит слово «Агитпункт»? Наверное, те же, кто заседал в «красном уголке», ходил в «избу-читальню», был пионером, «соколом», «орленком», звеньевым, вожатым, состоял в комячейке, в партбюро. Избранные заседали в Совнаркоме, Наркомпросе, Совнархозе, Наркомземе, горкоме, обкоме. Получали бесконечные директивы друг от друга, которые благополучно ложились под сукно, поскольку одно их прочтение было «Сизифов труд». Не успел прочесть первую, как поступала следующая, опровергающая предыдущую.
Но все это для граждан «высокопоставленных» и тех, кто их «поставил». Обыкновенным обывателям, рядовым гражданам предоставлялась счастливая возможность соприкоснуться с властью и даже как бы на нее повлиять — явиться в «Агитпункт», а потом на выборы. Правда, результат всегда был один и тот же — 99,9%. Однако это не мешало кандидату в нежданный момент оказаться старым агентом царской охранки, английским шпионом, перерожденцем и т. п. Выборов всяких было много, народ в них не вникал. Шел, опускал бюллетень и заходил в буфет, где было пиво, ситро и бутерброды. Кое-что прихватывал для дома, потому что бутерброды были с хорошей колбасой, недоступной торговым точкам.
Все эти действа начинались, как уже было сказано, с «Агитпункта». Они появлялись чуть ли не на каждой улице. Веселые транспаранты: красные полотнища, натянутые на подрамник, и надпись белилами — «Агитпункт». По бокам такие же вертикальные полотнища. Кого и куда выбирают, «блок коммунистов и беспартийных, рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции». Какая она «не трудовая», никто не знает. Я допытывался у мамы, что такое «блок», мама раздражалась: «Ну, что тебе не понятно? Блок и блок, это когда в одной упряжке скачут».
Были еще лица, которых в заветный блок не пускали — это духовенство. Ими пугали в школе. Но среди них бывали исключения, классный руководитель рассказывала, что есть «красные попы». Они под рясой носят сапоги — вроде как пароль, всегда узнаешь своего. «Что под рясой, гражданин?» — «Сапоги!» — «Проходи, товарищ!» Говорила, что к сапогам полагается еще и галифе, так что снаружи — духовное лицо, а под рясой — «из органов». Рассказывая эту басню, учительница расплывалась в теплой улыбке. Сама видела: поп полез в карман за портсигаром, поднял рясу, а там сапоги и галифе — «красный», свой, социально близкий поп. Но таких мало, в основном попы темные и отсталые, но им позволено и разрешают, потому что у нас свобода совести, а в церковь ходят неграмотные старушки.
В дни выборов на нашей улице появлялась пара-тройка Агитпунктов. Веселая вывеска, можно зайти: бесплатно взять программы кандидатов, партийные брошюры, а главное — полистать годовые подшивки «Огонька» и «Смены», смотри — не хочу! Агитпункт помещался в каком-то научно-медицинском учреждении детских болезней, где проводились занятия повышения квалификации врачей-педиатров.
Кабинет, в котором размещался Агитпункт, специализировался по кожным подростковым заболеваниям. На стенах, под стеклянными колпаками, развешаны части тела, пораженные каким-нибудь недугом. Руки, ноги, полностью зад и другое — все с прыщами и лишаями. Агитпункт всегда был пуст. Там дежурили два матроса, которые скуки ради ставили одну и ту же пластинку на патефоне — с речью товарища Сталина, посвященную форсированию Днепра. Вождь вещал глухим голосом, проглатывая фразы скороговоркой. Матросы знали речь наизусть, иногда комментируя: «Здесь у него больше акцент, а тут меньше».
На подиумах и стендах — гипсовые раскрашенные слепки частей тел младенцев и детей с изъянами. Казалось, это пыточная камера французского барона и маршала Жиля де Рэ, послужившего прототипом Синей бороды, а монотонная речь вождя — заклинания великого инквизитора Томаса де Торквемады. Не скрою, мое внимание привлек женский детский орган, я никогда его раньше не видел. Первый ликбез был мрачен, орган помещался в квадратной витрине под стеклом — гипсовый, жутко раскрашенный, он мне не понравился. К вечеру приходил маленький, худенький, беленький старичок. Очень грустный. Он начинал рассказывать, что здесь работала его жена, она была заслуженным медработником и перед смертью успела получить орден Ленина. Тут у него наворачивались слезы, и он вытирал их платочком. Матросы сочувственно кивали и ставили пластинку с речью товарища Сталина. Мне было жалко старика. Он был безутешен. Седая голова, круглые очки. Этот кабинет был ему дорог воспоминаниями о супруге.
Я пробовал ходить в другие Агитпункты, но там было скучно и казенно. Сердитые тётеньки, толстые дядьки, которые все время что-то писали и хрюкали носами, напряженно зыркая исподлобья по сторонам. А тут матросы! Я сам хотел быть матросом и даже ходил в военно-морской кружок Дома пионеров. Не получилось. Матросы были из соседнего дома «Политкаторжан». Над входом с улицы — барельеф: через тюремную решетку пробиваются лучи солнца. Дом выстроен в 1927 году для старых большевиков. При царе они благополучно пересидели. При товарище Сталине почти все бесследно исчезли. Получили десять лет без права переписки. Что это означало, потомки узнали уже после смерти вождя — расстрел.
В этом доме помещалось какое-то военно-морское учреждение, поэтому у входа всегда стоял матрос. Агитпункт был их детищем — поэтому и матросы. Они были молодые, веселые, опрятные — не чета толстым тёткам и дядькам. Один раз матрос принес целую кипу пластинок с речами товарища Сталина. Совсем новые — в какой кладовке они лежали? Видно было, что их никогда не заводили. Теперь уже вождь шипел безостановочно. Матросы беседовали о чем-то своем, старичок приходил и грустно садился в угол. Я до одурения листал журналы. Почти никто не заглядывал в Агитпункт, разве что агитаторы по делам — где-то расписывались и убегали. Потом проходили выборы, и Агитпункты исчезали до следующих.
Позже, когда я уже работал, меня назначили агитатором. Я по домовой книге заполнил открытки с приглашениями и датой выборов. Почерк у меня отвратительный, один жилец был недоволен, что я заполнил открытку как курица лапой, но все же взял. Другие вообще не брали, одна даже порвала на части. Дом был старый двухэтажный — случались неполадки с отоплением и водопроводом. Жильцы решили бойкотировать выборы, потому что им упорно не делали ремонт. Ситуация была серьезная. Меня отстранили. Выборы прошли, результат — 99,9%. Все дома проголосовали. Я спросил у веселого бригадира: «А как же этот дом?» Он подмигнул: «Да все в порядке! Ты что, наших выборов не знаешь?» Мама моя не любила выборы, старалась не ходить. Но звонили агитаторы и умоляли проголосовать, так как их не отпускали домой, пока все не проголосуют. Приходилось идти. Один раз агитатор принес ее паспорт. Оказывается, в ярости она опустила его в урну вместе с бюллетенями.
Сколько я себя помню, никто из моих сверстников в Агитпункты не ходил. Приятели решительно отказывались. Что меня привлекало в Агитпункте: речи товарища Сталина, матросы, подшивки «Огонька» и «Смены», гипсовая «расчлененка»? По отдельности, пожалуй, ничего, но в целом — часть огромной государственной машины, где ты мог к ней приобщиться и где тебе никогда не скажут: «Мальчик, ты что тут? Сюда нельзя!» Потом Агитпункты пропали, агитировать уже было не за кого. Новые товарищи-господа стали назначать сами себя. Зачем лишний камуфляж — ненужные траты. И так слопают.
Чарли Чаплин
Сегодня трудно представить, но в 50-60-е годы прошлого века Москва в летнее время была свободна от детей. «Цветы жизни» зацветали и расцветали за ее пределами, главным образом в Подмосковье. Детские сады вместе с воспитателями и обслугой выезжали на летние дачи. Детей школьного возраста вывозили в пионерские лагеря, коих было множество — бесплатных, иногда за мизерную цену. Оплачивали местком, профком и т. д. условия жизни, воспитательная работа, культурная программы были вполне приличны. Еда оставляла желать лучшего, но спасибо и на этом — дареному коню в зубы не смотрят. К тому же время было послевоенное.
Меня отправляли в пионерлагерь каждое лето. Если не было места на маминой работе, то оно находилось на отцовской. Мама работала в Академии наук. Их лагерь располагался в имении Поречье графов Уваровых. Для детей были выстроены щитовые домики, в них спали. Столовая, клуб и т. д. — в господском доме. По отцовской линии лагерь был с казарменным уклоном, жили в палатках, упор делался на физкультуру.
Я больше любил Поречье, но если там не было мест, обходился и палаточным житием. В сильный дождь палатки нещадно протекали и продувались ветром. Но главное, в летнюю жару я не мучился в городе, а жил на природе — с походами, кострами, кружками, заплывами на реке. Словом, это было хорошее изобретение, унесенное ветром перемен. Там не существовало ни бедных, ни богатых, а стало быть — зависти, гордости, спеси и алчной злобы — всего, к чему приводит социальное неравенство.
На кружки богат был лагерь в Поречье. Кружок юннатов вели две сухонькие пожилые сестры-учительницы, одна курила «Беломор», другая — «Казбек». Откуда-то они знали о моих школьных подвигах, доложили пионервожатому, его реакция была: «Я так и думал!». В этом кружке я кормил кроликов, воспитывал ежей, но быстро слинял, так как учительницы напоминали мне школу.
Записался в музыкальный кружок — бренчал на домре и балалайке, пытался освоить аккордеон, но все это быстро надоело. Перешел в хореографический, постигал плясы, покушался на лезгинку — для этого мне из кумача сшили сапожки и тюрбан. Исполнил под аккордеон, имел успех. Но, слава Богу, среди зрителей не было кавказцев, меня бы подняли на смех. Когда начали разучивать «Польку-кокетку», с танцами завязал.
Перешел в драматический, увлекся чеховскими персонажами: «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Хирургия». Пионервожатый был режиссером, относился к делу очень серьезно. Потом я запел, и это стало началом конца. За все эти потуги получил в конце смены книгу в благодарность. Пионерские костры я разнообразил песнями Раджа Капура из «Бродяги» и «Господина 420», а свой пионерский барабан использовал как там-там — выбивал индийские ритмы ладонями.
С этим же там-тамом добрался до Ива-Монтана, исполнял его шансоны, все это на полной тарабарщине, но пионерам и вожатым нравилось. Одна вожатая, знающая французский, написала мне текст песни русскими буквами, я разучил: «О, гамен-Пари сэтут он поэмо…» и т. д. — словом, о парижском мальчишке. Получалось, что мы несколько километров перли на эти костры для того, чтобы я выкладывался с там-тамом по полной программе! Правда, делал я это с удовольствием. Эти пионерские костры отдавали иностранщиной, но с прогрессивным уклоном.
Хрущев тогда ездил в Индию, и граждане скандировали: «Хинди-руси бхай-бхай!», а индийские кинофильмы не сходили с экранов. Радж Капур был всеобщим любимцем, заодно и актриса Наргис. Ив Монтан — вообще вне подозрений — сам бывший рабочий-грузчик, пел о трудящихся, обличал. Мама была на его концерте, пришла в полном восторге, ничего похожего раньше не слышала. Какой добрый народ были москвичи — всех любили: еще Жерара Филиппа, Вана Клиберна, Поля Робсона, Иму Сумак, Лолиту Торрес, Дина Рида и т. д. Где вы, москвичи? И вас унес ветер перемен? И даже не записали в «Красную книгу»…
Художественная самодеятельность в лагере «Поречье» била ключом. Помимо этого пионеров развлекали экскурсиями, кинофильмами и заезжими артистами — назывались они артистическими бригадами, имели свои уклоны: песенные, цирковые, танцевальные, драматические. Труд был не легким. Тогда у артистов машин не было, добирались кто как может — в основном на перекладных, на попутках. Если у пионерлагеря был свой грузовичок, его высылали к поезду или автобусу, если нет — пешком, с вещами и инвентарем. В общем, почти как Счастливцев и Несчастливцев.
Запомнилась мне одна такая бригада, в которой собраны были почти все перечисленные жанры. Большая еврейская семья — сейчас бы назвали «семейный подряд» — папа, мама, два сына и дочка. Особняком в бригаде — тенор-лирик, белобрысый толстячок с ласковым лицом. Концерт проходил в клубе. Когда все отряды в сборе в замкнутом помещении — это нечто! Пионервожатые даже не пытались восстановить порядок, это могло сотворить только чудо или смекалка ведущего. Отец семейства, он же бригадир, представил артистов: жена — певица, старший сын — чтец-декламатор, младший — жонглер, дочка — танцовщица, сам папаша — аккомпаниатор. Он был большого роста с крупным носом и несколько ошалело выпученными глазами. И еще — приглашенный тенор, чрезвычайно сладкий.
В зале стоял невообразимый крик и гам, кто-то свистел. Ведущего никто не слушал. Папаша обреченно смотрел в зал, метался по сцене, повторяя: «Дайте тишину! Дайте тишину, ну дайте же тишину!». Все тщетно. Наконец он встал посреди сцены, выдержал паузу и, вознеся руки к небу, воскликнул: «У меня есть чрезвычайное сообщение!». Все на минуту смолкли. И еще громче: «Из совершенно достоверных источников мне стало известно: к нам едет Чарли Чаплин!»
Сначала наступила мертвая тишина, потом — гром аплодисментов. Аудитория — само внимание: «В этом году к нам приедет Чарли Чаплин! Даст несколько концертов в Москве. О билетах лучше позаботиться заранее. Следите за афишами. А сейчас начинаем наш концерт!» Порядок был восстановлен — лицо, приближенное к Чарли Чаплину полностью овладело аудиторией.
Для затравки выступил старший сын, похожий на молодого Аркадия Райкина, он и манеры его копировал, хотя сам был не без таланта. Читал сынуля стихотворение Маяковского о советском паспорте — с выражением, в лицах, преображаясь то в буржуя, то в таможенника, то в пролетария. Когда достал краснокожую книжицу, сам стал «молоткастым и серпастым» — багровым от натуги, патриотизма и гордости. Со скрежетом зубовным он ниспроверг буржуев — книжица победила. Имел полный успех, даже повторил на бис.
Потом выступила мама с романсами, аккомпанировал на рояле папа. Это была типичная еврейская мама с добрым чадолюбивым лицом. Пела вполне профессионально, однако была странность — ее романсы отдавали ботаникой: «Отцвели уж давно хризантемы в саду», «Белой акации гроздья душистые», «Колокольчики мои»… Все исполнялось с чувством.
Следующий номер — жонглер, младший сын. Крутил на палке тарелки, жонглировал вилками-ложками. На одну вилку насадил яблоко и успел поймать его ртом. Потом надевал шляпу при помощи ноги, даже изловчился поддеть ее пяткой и она, проделав сальто-мортале, хлопнулась ему на затылок. Мальчонка имел полный успех. Дальше на сцену выпорхнула девчушка лет тринадцати в белом платье с пышными оборками и весьма грациозно станцевала танец собственного изобретения — как ехидно сказал поэт: смесь французского с нижегородским! Однако и она получила порцию аплодисментов, по-балетному раскинув ручки, раскланялась.
В конце выступал приглашенный певец-лирик с популярным советским репертуаром. Он имел большой успех у лагерной обслуги — у поварих, нянечек, уборщиц и вообще, как говорится, у «простого народа», к которому можно было причислить и местное население, приглашенное на концерт.
Все бы хорошо, но певец не выговаривал звук «р», и — как нарочно! — выбирал песни, где она была в изобилии. Он закатывал глазки и нежно шептал: «Я знаю, ладная, милая, халосая моя!». Или: «Нагадал мне попугай счастье по билетику, я тли года белегу эту алифметику… Ты поплавай по леке, песня безответная пло зеленые глаза и пло лазноцветные…». Закончил выступление популярной: «Что так селдце, что так селдце ластлевожено, словно ветлом тлонуло стлуну…». Этот изъян певцу простили, а может, и не заметили, он еще что-то пробисировал, несколько раз споткнувшись на коварном звуке, и успешно закончил выступление.
В общем, концерт удался на славу. Старший сын премьером вышел к публике, принял поздравления за «серпастый и молоткастый», отвечал на вопросы, делился творческими планами. Подошло время обеда, и всех пригласили в столовую. Бригада оказалась недалеко от нашего столика. Отец семейства попросил чаю. Принесли три стакана — ему, старшему сыну и тенору. Бригадир из-под стола выдвинул портфель, вытащил из него бутылку коньяку. Чай вылил в кашпо с пальмой, а коньяк разлил по стаканам — и спокойно пили, вроде как чай отхлебывали.
Труппа заметно оживилась. Крупный нос бригадира стал сизым, он громко в чем-то наставлял труппу, те кивали. Мама торопила всех ехать домой — путь не близкий. Коньяк был допит, бригада встала и дружно двинулась на выход. «Мы артисты, и наше место — в буфете!» — пророчил когда-то бессмертный Шмага из пьесы Н. А. Островского «Без вины виноватые». Пророчество оказалось вечным.
Я не знал, кто такой Чарли Чаплин. Друзья-пионеры сказали, что это знаменитый комик, очень смешной. Смена закончилась, я приехал домой и стал ждать Чарли Чаплина. Просил маму купить билет, как только он приедет, но мама сказала, что ничего подобного не слышала. Я напоминал ей всю зиму, просил узнать через детскую подругу Марусю, которая работала художником-декоратором в Большом театре, и была не чужда артистического мира — подруга сказал, что первый раз слышит. Я следил за афишами — все тщетно: комик не ехал.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
