
Бесплатный фрагмент - Январежки
Январежки
Зиме и вьюге был товарищем,
Розовощёкий, как заря
Надел январь свои январежки
И вышел в стужу января.
На всем холодном полушарии
Смотрели люди каждый год,
То, как январь в своих январежках
По белым улицам идет.
Зима от холодов состарилась,
Впотьмах метелями ворча,
Плясал январь в своих январежках,
Свои янваленки топча.
Он снег и вьюгу разбазаривал,
Как будто не в своем уме,
Стучал январь в свои январежки,
Он аплодировал зиме.
В лесу набегавшись, нашарившись
Устал, измучился, как встарь,
И зябко кутаясь в январежки,
Торопится домой январь.
В прихожей снял свои январежки,
В гостиную прошел тайком
И заварил в кувшине варево
Из шоколада с молоком.
И за индейкою зажаренной,
На окна снежные смотря,
Сушил январь свои январежки,
От стужи прячась января.
Он в грезы сладкие, безгрешные
Нырял до самой глубины,
И засыпал январь согревшийся
И видел шелковые сны.
И на постели накрахмаленной
Во сне он видел, как февраль,
Скорей надев свои февралежки,
Спешит в заснеженную даль.
А давайте квест
А давайте, дорогой гость, сыграем в квест. Нет, как-то не звучит, сыграем в квест, сильно много согласных сразу. Не знаю, как сказать. Квест, квест… не желаете ли квест, вот как. Вы же мой дорогой гость, ну знаю я, что вы мой злейший враг, можете не напоминать. Что вы, ничего я вам не сделаю, где это видано, чтобы дорогому гостю вред причинить. Да и вы у нас не с пустыми руками пришли, только где же это видано, чтобы в гости с оружием ходили? В гости с тортиком ходят, с винишком, а вы с оружием.
А я вас встречаю.
Как дорогого гостя.
И предлагаю квест.
Ну, это у вас там всякие шахматы-карты-нарды, а у нас вот, квесты. Смотрите, какой городок симпатичный, да не здесь, а вон, за окном. Ну да, только что не было, а теперь есть. Это же квест.
Ну что же вы? Ступайте в городок. Куда идти? А вон, посмотрите впереди вас человек идет, узнаете? Нет? А на одежду на свою посмотрите-ка… точно. Это вы сами. Вот он чихнул, а вот сейчас у вас в носу засвербит, вы тоже чихнете. А кто это там сзади фыркнул? Оборачиваетесь, снова видите самого себя, идущего сзади, вот он чихает…
Догадались?
Верно.
Вон там, впереди, это ваше будущее на несколько минут вперед.
Сзади прошлое ваше.
Тоже несколько минут назад.
Вы молодец, счет один-ноль в вашу пользу.
Вот ваше будущее идет в домик, и вы за ним. Что он там делал, он вам не скажет, вы сами должны разобраться.
Вот старушка в домике сидит, в кресле у камина, вот вокруг неё вещи всякие. Я вам подскажу немножко, вам найти надо, где старушкины вещи здесь, а где нет.
Думайте, думайте… молоток, говорите, не её? Клещи? А с чего вы решили, что старушка сама гвоздь забить не может? Мишка плюшевый? И что, может, сувенир какой, и вообще… Впрочем, что я вам подсказываю, решайте сами…
Говорите, это её, это не её? Точно? Ну-ну… а я вам скажу, это всё не её было, на сюда в гости пришла, а это всё вещи хозяйки, вот она из кухни выходит, чай несет.
Один-один.
Ну что вы так приуныли, квест он и есть квест, когда-то выигрываете, когда-то нет…
А вы поторопитесь, поторопитесь, вот ваш двойник из будущего уже вон куда ушел, еле видно в конце улицы, верно, он совсем крохотный стал, ну, это парадоксы времени такие. Бегите за ним скорей. Да-да, вот сюда. В мэрию.
А в мэрии несчастье случилось, банда подростков-оборотней украла государственную печать. Вот где её искать теперь? Подростков арестовали, молчат…
А зачем вы на чердак поднялись, позвольте узнать? Ах, вот вы как рассуждаете… если оборонти в зверином своем обличии напали, значит, они печать в зубах унесли. А если оборотни печать покусали, значит, печать тоже оборотнем стала, верно? Вот вы её и нашли, вот она на чердаке перепончатыми крыльями хлопает, вот её сейчас сачком поймают…
А вы молодец.
Два-один в вашу пользу.
Мэрия вам благодарность выносит.
Да, гостю еще угощение полагается, так вы не стесняйтесь, заходите в любое кафе, в любую лавочку, в мэрии вон банкет, у людей в домах столы накрыты, все для вас.
Угостились?
Отлично.
А вот, пожалуйста, два брата друг другу пишут, один сожалеет, что не может приехать к Рождеству. Один брат в Париже живет, другой в Европе. Почему встретиться не могут, вы мне скажите? Один в Париже, другой в Европе… думайте, думайте…
…слушайте, ну нечестно так, признайтесь, вы знали? Нет, ну не верю я, что для вас это так очевидно, что Европа-то разная, есть континент, а есть спутник Юпитера, и… что? Да и Париж не один, есть столица Франции, есть село под Челябинском где-то, есть городки всякие маленькие…
Давайте тогда новую задачку вам подкину. Вот живет в замке дочка герцога, которая может выйти на улицу только днем. А ночью её тёмные силы унесут, надо в замке прятаться. Вот молодой граф пришел к принцессе свататься. А как же её в графский дом перевезти? Покойный герцог, ох, как не хотел, чтобы любимая дочка замуж выходила, он же замок-то свой как поставил, в середине своих владений, а вокруг ни одного домика, ни одного домишки, ни одного самого маленького домишечки. А владения у герцога такие, что за один день от замка до границы герцогства не доедешь, хоть во весь опор скачи. Специально так обустроил все еще в шестнадцатом веке.
Вот как вы молодому графу и его девушке поможете? Вот граф как-то проблему решил, а как?
Что говорите? Да, даже в летнее солнцестояние ничегошеньки вы до темноты не успеете.
Думайте, думайте… Что вы хотите? Ближайший ипподром? Нет, я вам, конечно, могу адрес подсказать, только сразу скажу, что самая быстрая лошадь не справится.
Думайте, думайте… какой сейчас век?
Что, я вам и это подсказывать должен? А так сами не вспомните?
Правильно, двадцать первый, какой же еще. Ну, больше не буду подсказывать, а то проиграете…
Да вы уже и сами догадались.
Верно. Вон и шоссе проложено, вон и молодой граф везет свою невесту домой.
Но старый герцог не дремлет, старый герцог строит козни, р-раз — и перенес владения свои в далекое прошлое.
Ну-ка, ну-ка, а вы что сделаете, мой дорогой гость? Думайте, думайте, вы же и географию знаете, и…
…правильно.
Вы переносите поместье герцога… ну, это вы чего-то совсем загнули, на Северный полюс, вы уж не поленитесь, рассчитайте, где день на севере тянется так длинно, чтобы молодой граф на коне успел доскакать. Там всего-то на несколько параллелей севернее перенести место действия надо… Нет, вы все-таки больше к северу взяли, а-а-а, это чтобы молодой граф не торопился, спокойно в экипаже невесту довез с шестеркой коней, вот вы какой умный-то…
Ну, вы вообще молодец… А что вы стоите, что стоите-то, вы посмотрите, ваш двойник из будущего уже вон как далеко ушел, догоняйте скорее, там новая задачка. Вот её решите, там и передохнете, чаю попьете, поужинаете, и что, что уже ужинали тут, ужина много не бывает…
Вот ваш двойник из будущего по высокой винтовой лестнице на башню забирается, и вы за ним. Можете перевести дух, посмотреть из стрельчатых окон, прекрасный вид открывается на городок. Но вот ваш двойник из будущего поднимается на башню и… прыгает.
И вы не бойтесь, прыгайте за ним. Может, он там полетел, или еще как.
Прыгайте.
Вот вы и прыгнули, вот вы и разбились насмерть о мостовую. И полиция ничего не докажет, скажет — суицид.
Да, вот так вот я избавляюсь от своих врагов. Ладно, мне еще отдохнуть надо, а то не ровен час еще какой смельчак явится меня убить, а мне его придется встретить, как дорогого гостя, предложить ему квест, то в шашки играют, в шахматы, в нарды, а то — квест.
Стоп…
А это еще что такое?
Черт, я же забыл про третью ипостась убитого, совсем забыл про него из прошлого, а он вон, поднимается по лестнице, а его одергивают люди, один, другой, третий, тут и мэр города, и молодой граф с невестой, и еще много кто, тащат его назад, нельзя, нельзя, ведут в город… Это что такое вообще, вы на кого работаете, на меня или на него? Ну и что, что он вам добро сделал, мало ли… Стойте!
Нет, не слышат, уводят его куда-то в городок, прячут в бесконечных лабиринтах домов и улиц, не найти…

Пиро Кусь
— А где Фил Тано?
Спрашиваю. В пустоту.
Мне никто не отвечает.
Говорю громче:
— Где Фил Тано?
Люди оборачиваются. Смотрят на меня изумленно. Уже по их взглядам я чувствую — что-то здесь не так…
— Это… это кто? — спрашивает Агник.
— Нет, ну как же, ну…
Начинаю объяснять. Тут же спохватываюсь, что объяснять тут нечего, по их лицам понимаю, что они не знают никакого Фила Тано, просто — не знают. Ни Агник, ни Пиро Кусь, ни Амо Эп.
Просто.
Не знают.
Садимся за круглым столом, уставленным чашками, Пиро зорко следит, чтобы чашки были расставлены строго-настрого одна напротив другой. Вчера стол был поделен на пять частей, сегодня уже на четыре части, потому что Фил Тано…
…хочу сказать, что его сегодня нет.
Не говорю.
Потому что…
…потому что его никогда не было.
Пиро наливает мне чай. Почему у меня так холодеют руки, почему, почему, ведь я ждал этого так долго, чтобы Пиро налил мне чай. Чашка уже начинает пить чай, а я все еще не могу прийти в себя, Пиро нетерпеливо покашливает, Амо с волнением смотрит на меня, Агник уставился в стол, как будто меня здесь нет…
…спохватываюсь.
Начинаю читать:
А давайте, дорогой гость, сыграем в квест. Нет, как-то не звучит, сыграем в квест, сильно много согласных сразу. Не знаю, как сказать. Квест, квест… не желаете ли квест, вот как. Вы же мой дорогой гость, ну знаю я, что вы мой злейший враг, можете не напоминать. Что вы, ничего я вам не сделаю, где это видано, чтобы дорогому гостю вред причинить.
— Это что такое? — фыркает Агник, — ни здрассьте, ни до свидания, сразу про квест?
Не выдерживаю. В конце концов, строгость Агника иногда переходит все границы.
Вспыхиваю:
— А что, я должен был начать — жили-были такие-то персонажи, их звали так-то, страниц на сорок биографию им придумать, Афанасий Павлович Лавреньтев родился семнадцатого мая тысяча семьсот сорок седьмого года в самое воскресенье, когда…
— …в этот день не воскресенье было, — Агник мотает головой, сверкают глубоко запавшие глаза под тощими скулами.
— Да ну вас… — еле сдерживаюсь, чтобы не бросить рукопись в камин. Или Ангика. Да, лучше Агника.
— К порядку, дамы и господа, к порядку, — не выдерживает Пиро. Амо чуть краснеет, бормочет, а я-то тут при чем, Пиро снова добавляет свое — к порядку.
Продолжаю читать, строго, с нажимом, с намеком, да пошли вы все…
Да и вы у нас не с пустыми руками пришли, только где же это видано, чтобы в гости с оружием ходили? В гости с тортиком ходят, с винишком…
— …довольно, — обрывает Пиро, — пробуйте.
Пробую. Сворачиваю рукопись самолетиком, пускаю в журнал, в самую мишень.
Аплодисменты. Еще не верю себе, неужели…
…нет.
Рукопись пролетает мимо журнала, выпархивает в раскрытое окно, садится на карниз, клюет что-то там на крыше.
— А что… аплодисменты?
— А-а, вы новичок у нас, не знаете, что аплодисменты каждому, и неважно, попал в журнал, не попал…
Осторожно спрашиваю:
— А вообще… кто-нибудь когда-нибудь попадал в журнал?
Люди нервно посмеиваются, смотрят на меня, как на психа.
Понимаю, что в журнал не попадал никто.
Снова спрашиваю. Позориться, так до конца:
— А… а что там тогда печатают?
Пиро фыркает:
— Ничего, разумеется.
— Чистые страницы?
Мне даже не отвечают. Потому что это и так очевидно.
Для них.
Не для меня.
Пиро оглядывает сидящих, будто высматривает, кто смелый, наконец, наливает чай в чашку Агника.
— Ваш ход, — говорит Пиро.
Агник поднимается, берет свою рукопись, сворачивает самолетик.
— А читать? — спрашиваю я.
И тут же понимаю, что здесь это необязательно.
Бумажный самолетик летит в журнал, как-то слишком прицельно летит, неужели, неужели, неужели…
…попадает.
Аплодисменты. Теперь уже не утешительные, а восторженные.
Не верю себе. Чувствую, что созерцаю исторический момент, что так раньше не было.
Никогда.
Жду, что Пиро разразится восторженной речью, но он только коротко говорит, что Агник молодец.
Мой портрет будет здесь среди портретов великих.
Великих писателей.
Потому что.
Просто.
Потому что.
Даром, что я еще ни разу не попадал в журнал.
Даром, что я еще не только не великий, но даже не писатель.
Смотрю на портреты.
На чистые листы в рамках.
Здесь никого нет.
Еще никого.
Мысленно хлопаю себя по лбу, а почему нет…
— …а почему нет Агника?
Спрашиваю. В пустоту.
Мне никто не отвечает.
Говорю громче:
— Где Агник?
Люди оборачиваются. Смотрят на меня изумленно. Уже по их взглядам я чувствую — что-то здесь не так…
— Это… это кто? — спрашивает Амо.
— Нет, ну как же, ну…
Начинаю объяснять. Тут же спохватываюсь, что объяснять тут нечего, по их лицам понимаю, что они не знают никакого Агника, просто — не знают. Ни Пиро Кусь, ни Амо Эп.
Просто.
Не знают.
Садимся за круглым столом, уставленным чашками, Пиро зорко следит, чтобы чашки были расставлены строго-настрого одна напротив другой. Вчера стол был поделен на четыре части, сегодня уже на три, потому что Агник…
…хочу сказать, что его сегодня нет.
Не говорю.
Потому что…
…потому что его никогда не было.
Пиро наливает мне чай. Чашка начинает пить, осторожно, медленно…
Разворачиваю рукопись.
Читаю.
В доме пять часов.
Я накрываю стол на пять персон, все пять часов рассаживаются за столом, напольные часы с маятником спорят со старинными часами с зодиаком, кому занять председательское место, наконец, я напоминаю им, что таких мест два.
Когда солнце садится, наступают шесть часов. Они наступают мне на ногу и вежливо извиняются. Я усаживаю шесть часов в креслах у камина, и думаю, что мне делать, ведь в доме набралось уже целых одиннадцать часов.
— Ой, как здорово… волшебно, прямо… — Амо хлопает в ладоши.
— Довольно, — кивает Пиро, — пробуйте.
Сворачиваю самолетик, кривовато как-то он у меня получился. Ну да неважно, тут ведь главное не как самолетик получился, а что на нем написано.
Целюсь. Целиться тоже необязательно, опять же — главное, что написано…
Бросаю.
…и все-таки когда промахиваюсь, корю себя, что надо было прицелиться получше, и самолетик лучше свернуть.
Аплодисменты.
Утешительные, конечно же.
Моя чашка допивает чай, сдержанно мне аплодирует.
Сжимаю зубы.
Пиро берет чайник, наливает чай Амо, вежливо кивает, ваша очередь, мадам. Амо краснеет, Амо боится, все-таки разворачивает свою рукопись:
Ключ на старт.
Десять.
Девять.
Восемь.
Семь.
Шесть.
Пять.
Четыре.
Три.
Два.
Один.
Пуск.
Рольфи поднимается в небо.
Рольфи круглый, как шар.
…нет-нет, еще не расслабляйтесь, еще не все, еще мало ли что случится, может, в атмосфере сгорит, может, от курса отклонится, может, на связь не выйдет…
Пиро откашливается:
— Это… это вы к нам обращаетесь?
— Ой нет, это по тексту…
— Что скажете? — спрашивает Пиро, оглядывает нас.
У меня вырывается не к месту и не ко времени:
— Сударыня… а вы в космосе-то были?
— Ой, а не была…
Смущаюсь, какого хрена спросил…
— …а я взлетно-посадочными системами занимаюсь, вот это вот всё… ну знаете, Странник там, Пилигрим, Агасфер, это вот я все запускала… рассчитывала… А «Бродяга» у меня в молоко ушел, мы как бились, не вернули…
— В смысле… в молоко? — оторопело смотрю на молочник.
— Ой, ну это у нас говорят так, когда вот корабль на орбиту выходит, а связи с ним нет, вот называется — в молоко ушел… А я так подумала, надо про нас написать, как у нас там все бывает…
Холодеет спина. Понимаю, что Амо не врет.
— Ой, а я как бы больше все по расчетам по всяким, по цифрам, я вообще двух слов связать не могу… я вот так для себя писала…
— Ну, давайте… пробуйте…
Амо сворачивает самолетик.
Мне страшно. Мне хочется одернуть её, толкнуть нечаянно, чтобы она не попала.
Иначе она тоже пропадет.
Я знаю.
Пропадет, как пропадали…
…кто?
Не помню. Выжимаю что-то из памяти, не выжимается.
Чер-р-рт…
Она стоит слишком далеко от меня, через стол, сворачивает самолетик…
…бросает.
Мое сердце пропускает удар.
…промахивается.
Падает в кресло, закрывает лицо руками, черт возьми, только этого не хватало, чтобы она тут разрыдалась… Подхожу, бормочу какие-то слова утешения, ну что вы, в самом деле, я сюда знаете, сколько хожу, ни разу не попал, да вообще никто ни разу не попал, а вы…
Амо встает, пошатываясь, идет к двери, незаметно сжимает мою руку, сильно, больно, все понимаю, иду за ней, в комнату, в другую, в третью, наконец, усаживается на диванчик, захлопывает дверь.
Вопросительно смотрю на Амо, отчего-то вспоминаю, женат я или не женат.
Амо шепчет:
— А я что про нас знаю…
Настораживаюсь:
— А что?
— А вот… смотрите…
Амо раскрывает тетрадь, показывает мне записи, записи, записи…
Догадываюсь:
— Ваше… творчество?
— Да что вы… — хмурится, — почерк… узнаете?
Узнаю. Почерк Пиро.
Фил Тано (зачеркнуто)
Агник (зачеркнуто)
Амо (зачеркнуто)
— Ну… это это… это он отмечает, кто в журнал не попал…
— А тут, тут смотрите… — Амо листает назад, — вот…
Литературный клуб. Многогранный стол, число граней по числу гостей. Пустые портреты на стенах — там будут те, кто попадет в журнал.
Гости клуба: Фил Тано. Агник. Амо. Здесь должны быть еще какие-то имена, фамилии, характеры — но их нет, их нет…
— А что это значит, вы можете объяснить? — Амо с надеждой смотрит на меня.
Не понимаю. Чувствую что-то не то, очень и очень не то…
— А… а можно нескромный вопрос, а сколько вам лет?
— Семнадцать недавно исполнилось, а что?
— А то… это когда это вы на взлетно-посадочные системы выучиться-то успели?
Вспыхивает:
— Вы… вы мне не верите?
Смотрю на неё. Понимаю, что она не врет. Просто. Потому что. Не врет. Не умеет врать. Просто…
…просто здесь что-то очень и очень не то…
— А где Амо?
Спрашиваю. В пустоту.
Мне никто не отвечает.
Говорю громче:
— Где Амо?
Люди оборачиваются. Смотрят на меня изумленно. Уже по их взглядам я чувствую — что-то здесь не так…
— Это… это кто? — спрашивает….
…этого человека не знаю, новенький кто-то.
— Нет, ну как же, ну…
Начинаю объяснять. Тут же спохватываюсь, что объяснять тут нечего, по их лицам понимаю, что они не знают никакую Амо, просто — не знают. Ни… ни…. ни… незнакомые люди, незнакомые лица, я вижу их первый раз…
Они не знают никакую Амо.
Просто.
Не знают.
Садимся за круглым столом, уставленным чашками, Пиро зорко следит, чтобы чашки были расставлены строго-настрого одна напротив другой. Стол поделен на семь частей…
Сегодня читает Пиро Кусь.
— Вы не продержитесь с ним и трех минут, — фыркает Кугельштайн.
Хочу парировать, что Кугельштайн и минуты не продержится. Вместо этого отвечаю:
— Хотите пари? На ваше левое крыло?
— Издеваетесь?
Прищуриваю правое окошко:
— Значит… боитесь?
— Что? Кто? Я боюсь? Сударь, да вы нарываетесь на дуэль! Итак, Кугельштайн против Ле Кастле завтра в восемь…
— …позвольте, позвольте, господа, вы что собираетесь, шпагами махать, или разобраться с этим… с этим…
Смущаемся. А я и не знал, что Чиветта-Торетта терпеть не может дуэли, мне почему-то казалось, она будет в восторге, если мы будем махать шпагами…
Аплодируем.
Пиро складывает самолетик, прицеливается, запускает.
Жду.
Выдыхаю.
— Мимо.
Понимаю, что сказал это вслух.
— Вы что-то сказали? — Пиро поворачивается ко мне.
— Э-э-э… что мимо. Ну да ничего, у вас получится все…
— Нет… до этого.
— Гхм… это… что… что…
— Вы про Амо говорили.
Делаю большие глаза:
— Про какую Амо?
Понимаю, что выдал себя с головой, когда ляпнул — про какую, а не про какого. И вообще нужно было спросить — а что за Амо.
Выскакиваю из комнаты, бегу прочь, где-то здесь должна быть тетрадь, тетрадь…
…уютно устраиваюсь в кресле, гадаю, кому из нас на этот раз Пиро нальет чай, кто из нас на этот раз удостоится чести прочитать…
Пиро выбирает меня. Как-то неспроста выбирает меня, как будто что-то задумал…
Разворачиваю рукопись.
Читаю:
В лесу сов семь.
А где нет сов, там нет сов-сем.
Вот сидят совы, из дупла вы-совы-ваются.
Полетели сов семь по лесу с полуночи до двух ча-сов.
А там и до трех ча-сов.
А тут у трех ча-сов раз — и захлопнулся за-сов.
Тут-то совам и конец, да как бы не так.
А почему?
А ну-ка, думайте, думайте… сов семь, сов заперли, что осталось?
Правильно, семь.
Вот семь засов и открыло за сов.
И совы вылетели.
Главное, не лететь им туда, где семь часов. Там своя семь есть, семь от сов с семь от часов драться будут.
А может, там вообще не семь ча-сов, а семь ча-филинов.
Люди смеются. Это хорошо. Или плохо. Не знаю. Пиро кивает мне, я сворачиваю рукпосиь, от волнения сначала получается кораблик, потом бумажный фонарик, наконец, какое-то подобие самолета.
Бросаю.
Говорю себе — не целиться, чтобы не попасть, к черту амбиции, я хочу жить. Не выдерживаю, целюсь как следует.
Не верю себе.
Попал.
Аплодисменты.
Торжествующе смотрю на Пиро. Наш председатель (председатель? Кто и когда объявил его председателем?) говорит восторженную речь, даже вручает какую-то статуэтку, не то писчие перья, не то крылья, не то все вместе взятые, спасибо, спасибо…
Дожидаюсь, пока интерес к моей персоне поутихнет, тихонько выскальзываю в соседнюю комнату, еще, еще, еще, кажется, за этой дверью должна быть улица, потому что вон, в окне снег идет, хлопаю дверью, выглядываю…
…черт.
Еще одна комната. Думаю, почему они такие одинаковые. Тетрадь, тетрадь, где она может быть, эта тетрадь, была же, показывала мне… кто? Уже не помню, как её звали, ничего помню, черт, черт…
Открываю секцию дивана, вот и тетрадь, вот и записи в тетради…
…почему их рукописи исчезают вместе с создателями.
Разобраться.
Найти способ сохранять рукописи убитых (зачеркнуто) стертых.
Будь я проклят, если не попаду в журнал, будь я проклят.
Будь ты проклят, думаю я.
Смотрю на свое имя, перечеркнутое крест-накрест. Хочу стереть крест, тут же спохватываюсь, пишу свое имя рядом.
Пиро посмеивается.
Я знаю, что это Пиро. Хотя еще не вижу его. Дергаю из тетради чистые страницы, Пиро фыркает недовольно:
— Мою-то зачем… вон сколько тетрадей лежит, возьмите, да пишите себе…
Меня передергивает:
— Хоть знаете, что я писать собрался?
Снова фырк:
— Про меня писать собрались, ясное дело… только дохлый номер, ведь это же я вас придумал, а не вы меня….
Вздрагиваю:
— А вы… а вы откуда знаете?
Он бледнеет. Ага, есть, получилось, он бледнеет, он сомневается…
…не расходимся — разбегаемся по комнатам, раскрываем тетради, пишем, каждый свое, я думаю, убить мне Пиро, или арестовать за убийства членов клуба, или не надо ничего такого, пусть Пиро просто порядочным человеком станет, ой, это я загнул, порядочным, это ж мне как характер его переписывать придется, начиная с того, как он таким вот стал, может, воспитали так, люби-себя-чихай-на-всех, может, наоборот, воспитывали в строгости, отдавай-уступай-делись, вот он и вырос, и решил делать с точностью до наоборот…
Спохватываюсь, что пока я сижу и думаю, Пиро уже пишет — быстро, легко, кстати, почему мы все пишем от руки, а не на ноутбуке, сейчас какой век вообще, по мне так двадцать первый, а Пиро действие книжки своей про наш клуб в век девятнадцатый какой-нибудь перенес. Тетрадь под моей рукой вздрагивает, превращается в ноут какой-то непонятной фирмы, вовремя спохватываюсь, что надо выдумать себе и зарядник, и розетку, вот та-ак…
ПРОГРАММЫ
WORD
…как-то так…
Думать, думать, это называется — мозговой штурм, так, его родители в детстве достали, делись-делись-уступай, вот он и поклялся, когда вырастет, никому ничего не уступать, все себе, себе, себе. А журнал… пусть его в стенгазету не взяли… не, не в стенгазету, а в местную газетенку, пусть он в городке в маленьком родился и жил, носил свои опусы в газету, а его не взяли… вот он с тех пор мечтал попасть в журнал…
…накатывает удушье, волнами, волнами, сильнее, сильнее, через двери и комнаты вижу своего врага, как он пишет, быстро, борзо, и не на ноутбуке пишет, у него другое что-то в руках, что-то незнакомое, нда-а, похоже, сейчас все-таки не двадцать первый век…
…удушье накатывает резко, сильно, хватаю воздух, воздуха нет, начинаю понимать, пока я выдумывал ему историю, он тупо записал что-то вроде, что я умер, или что меня не было никогда, или сердечный приступ какой-нибудь выдумал…
…хватаю стол, стол не хватается, падаю, кто-то подхватывает меня, да не кто-то, Пиро, хлопает меня по щекам, спохватывается, бежит к своим записям, что-то переправляет…
…с наслаждением вдыхаю.
— Как… как вы догадались? — спрашивает Пиро.
— О… о чем… до… до… дога…
— …ну это вот все… про родителей… про газету… ах, пусть Танечку напечатают, она же девочка, а тыжемальчик, тыжеуступи, и это ты такую фигню в журнал понес, не позорился бы…
Молчу и слушаю. Что-то подсказывает мне, что нужно молчать и слушать. Просто.
Наливаем чай. Пьем сами, не все же чашкам пить.
За окнами идет снег. Здесь всегда идет снег.
— Ну, давайте… продолжать, что ли… — кивает Пиро, — вам какую биографию-то писать?
— В смысле?
— Ну, вы сами-то что хотите? Где родиться хотите, где жить…
— Ой, а знаете, я наследным графом хочу быть… в поместье… родители, дедушка… библиотека огромная… замок, чтобы там по закоулкам прятаться надо было, кузина сколько-то-там-юродная, её в дом жить взяли, а она за мной присматривала… ну так, чтоб не сильно строго, двадцать первый век все-таки…
— Ну, это вы загнули…
— А что я такого загнул, думаете, это написать трудно?
— А, ну да, конечно, мы же пишем… — Пиро смеется.
Садимся писать, каждый выдумывает другому биографию. Страницу за страницей…
…думаю, почему же здесь все-таки все время идет снег.
Сворачиваем нашу общую рукопись, Пиро бормочет что-то, что надо бы еще подредактировать, я отвечаю, что так вообще никогда не сделаем, и вообще, слишком хорошо тоже плохо…
Пиро Кусь хочет прицелиться, протягивает рукопись мне.
Бросаю самолетик.
Сердце делает сальто.
Аплодисменты. Такие, какие бывают, когда кто-то попадает в журнал. Хлопают все — Фил Тано, Агник, Амо Эп…
Журнал разбивается со звоном и грохотом.
Смотрим что там, по ту сторону.
Понимаем, что можем войти…

Ханна отбивает полночь
Люди идут по мосту.
Я открываю врата.
Где-то там, на горизонте уже догорает то, что было великим городом.
Думаю, что там случилось, впрочем, какая мне разница.
Мое дело — открывать врата.
Вижу женщину на мосту, она тащит за руки двух ревущих детей, приговаривает им что-то, а как зайчик бегает, а как белочка, а как слоник — дети неуклюже прыгают, всхлипывают, мальчик снова заливается ревом, девочка тоненько скулит.
Открываю врата.
Женщина входит, падает на колени, спасибо, спасибо, толкает детей, давайте, давайте, быстро, на колени, благодарите. Я хлопочу, не стоит, не стоит, думаю, куда их обустроить, по комнатам, по ярусам, а ведь дети голодны, надо накормить…
Люди идут по мосту.
Я открываю врата.
Самая высокая башня с треском и грохотом ломается пополам, падает на то, что было городом.
Смотрю на сухонького старичка, спешащего по мосту, визжащего — пропустите, пропустите, смотрю на напольные часы с боем, которые он тащит с собой, часы дорогие, я это отсюда вижу, золото, натуральное дерево, поблескивают драгоценные камни…
Визги, срывающиеся на фальцет:
— Пропустите! Пропустите! Не видите, я с часами?
Закрываю врата.
Опускаю мост.
Отворачиваюсь, не хочу видеть часы и их хозяина, летящих в бездну.
Люди идут по мосту.
Выжидаю.
Поджарый парень пытается нести на руках пухлую девушку с залитым кровью лицом, не выдерживает, спускает на землю.
Настораживаюсь.
Обвивает руки девушки вокруг своей шеи, тащит на закорках, с трудом, с трудом.
Открываю врага.
Крепко сбитый мужлан спешит к парню, кричит что-то, чего мучаешься, давай вместе, парень мотает головой, мужлан не сдается, да никто твою невесту у тебя не отберет, чего ты всполошился-то, вместе быстрее донесем…
Заходят все трое, только сейчас понимаю, что у поджарого вывихнуто плечо, крепкий мужлан кидается ко мне, где тут вода, где бинты, давай-давай, вишь чего делается, девке помочь надо, и этому ща плечо вправлять будем, да не боись, я зря, что ли, на хирурга учился, щ-щас, во-о-от так, да не ори ты, до свадьбы заживет…
Открываю врата.
По мосту едет машина, я в машинах не разбираюсь, только догадываюсь — дорогая, женщина за рулем в коротюсенькой шубке, что она себе с волосами сделала, вспоминается какое-то полузабытое слово — пергидроль…
Сигналит клаксон, или чего у неё там, пропустите, пропустите, люди расступаются…
Закрываю врата. Дамочка колотит в двери, вижу сверкающие перстни на руке.
Поясняю:
— С машиной нельзя.
— Чего-о?
— С машиной… нельзя.
— Ты не охренел, у меня там шубы!
— С шубами тем более.
Опускаю мост, смотрю, как в бездну летит автомобиль, распахивается, выплевывает из себя ворох разношерстных мехов.
Открываю врата.
Жду.
Немолодой мужчина гонит к вратам стайку ребятишек, гадаю, первоклашки или совсем маленькие, на ходу теряет шапку, даже не оборачивается.
Вглядываюсь в туман на горизонте, башня за башней рушится в бездну, из окон пылающего дома тянутся чьи-то руки, женщина в плюшевом халате протягивает мне из окна ребенка, даже не успеваю показать, что никак не могу его взять, я слишком далеко — дом ухает в бездну.
Сжимается сердце.
А это еще что такое… смотрю, не понимаю, не верю своим глазам, ошибка какая-то, нет, никакой ошибки, люди волокут огромную люстру, которая когда-то украшала трехэтажный особняк…
Опускаю мост.
Молча.
Жду. От города осталось мало, слишком мало, поток людей редеет все больше. К вратам спешит семейная пара, всклокоченная женщина, мужчина в нелепом шарфе, тащат здоровенный чайный сервиз, бережно рассованный по коробкам, умоляют, пропустите, пропустите…
Морщусь.
Открываю врата.
Муж и жена бросаются ко мне, спасибо, спасибо, бережно расставляют чайники и чашки…
…падает последняя башня.
По мосту спешат три человека, волокут…
…мне кажется, я сошел с ума…
…нет, никакой ошибки, волокут здоровенный витраж, выломанный черт знает откуда.
Опускаю мост.
Смотрю на темную бездну, где была столица, ветер гонит по пустоте обрывки газет, листья, чей-то зонтик…
Мой корабль расправляет крылья.
Прислушиваюсь к обрывкам разговоров, ух, еле успели, он еще пускать не хотел… А вы Ханну не видели, а никто не видел, нет больше Ханны…
Прислушиваюсь.
Нет.
Никакой ошибки.
Чер-р-рт…
Чайник оживленно беседует с блюдцем, блюдце всхлипывает, Ханна, я так привыкла к её бою, никто не умел отбивать полночь так, как она…
Начинаю понимать.
Открываю врата, уже сам бегу по мосту, хватаю упавший со стены навесной фонарь, тяжелый, чер-р-рт, волоку по мосту, в ворота…
Корабль заявляет, что перегружен.
Киваю.
Закрываю врата вручную, потому что снаружи они закрываются только так.
Смотрю, как корабль машет крыльями, взмывает в небо, подернутое туманом.
Мост опускается.
Королева роз
— Я вам что сказала? Я вам что сказала сделать, а?
Вытягиваюсь в струнку. Королевскому садовнику не пристало не понимать. И переспрашивать тоже. Надо схватывать с полуслова, с полувздоха, с полувзгляда, чего изволит госпожа…
Но слишком уж… м-м-м…
— Я что, должна два раза повторять?
Королева гневается. Сжимаются тонкие брови. Приподнимает подол платья.
— Выполняйте. Немедленно!
Понимаю, что должен переспросить. Иначе не сносить мне головы. Хотя мне в любом случае не сносить головы. Просто. Потому что…
— Прошу прощения, моя госпожа. Вы говорите, я должен…
— …выполоть в саду цветы!
— Э-э-э…
— Что тут непонятного?
— Со… со… сорняки вы имели в виду?
— Цветы!
— Розы?
— Ну, разумеется!
Не верю своим ушам. Розы, которые с такой трепетной любовью сажали король и королева в своем саду, они даже мне не доверили розовые кусты, это были только их розы, белые розы…
И вот теперь…
…если бы она приказала перекрасить белые розы в красный цвет, я бы и то удивился меньше. Кажется, так было в какой-то книжке. Или будет. Кажется, она еще не написана и даже не придумана, и автор еще не родился. А может, уже родился и придумал, не знаю…
— Выкорчевать! Немедленно выкорчевать! Все! Уничтожить! Сжечь!
Делать нечего, иду выполнять приказ. Вонзаю лопату в землю, божественное благоухание со всех сторон окружает меня.
…уничтожить….
…сжечь…
Нет.
Понимаю, что у меня не поднимется рука…
— …всё исполнено, Ваше Величество.
— Отлично… — королева приподнимает подол платья, бежит к окну, смотрит в опустевший сад, — отлично… трава… вот и сейте здесь траву… во веки веков! Под страхом смерти!
Чуть остывает, бросает мне золотой соверен.
Рассыпаюсь в благодарностях.
— Тут вишь, дело-то какое… — конюх лукаво прищуривается, — монарх-то наш задумал по хорошеньким барышням хаживать… цветочки им дарить… вот королеве и не по нраву пришлось….
Меня передергивает.
— Ну а цветы тут в чем виноваты?
Короткая усмешка:
— Да кто их там, женщин этих, разберет…
Вспоминаю побледневшего монарха, понимаю, что месть супруги удалась как нельзя лучше…
Черт…
— Скажите… друг мой…
Поднимаю глаза на монарха, понимаю, что на нем по-прежнему лица нет.
— Друг мой… вы… выкорчевали…
— …я выполнял приказ Её Величества, ваша светлость.
— …и сожгли…
Оглядываюсь, прислушиваюсь, не слышит ли она… она…
— …нет.
— Нет?
Он не верит, он сам видел обугленные остовы роз…
И все-таки я говорю:
— Нет.
— Она… она жива?
Не понимаю:
— К-кто она?
— Скажите… — король выдыхает, — куда… вы… дели… кусты?
Отчаянно припоминаю адреса, куда я продавал цветы, понимаю, что не смогу припомнить их все…
— А вы припоминайте… — король сжимает мое плечо, — умоляю… припоминайте…
Мне кажется, сейчас он упадет передо мной на колени.
Нет.
Не падает.
— Ваше Величество…
— …не видите, занят я?
— …список…
Король тут же отворачивается от заморского посла, бросается к свитку в моей руке.
— Здесь всё?
— Я так думаю… да…
— Думаете или…
Выдыхаю:
— Д-да.
— Ну… спасибо… не забуду…
Бросает мне золотой соверен….
…вижу силуэт королевы на фоне свечи, она читает мой свиток, чувствую, сейчас бросит в огонь…
…нет, не бросает.
Бережно сворачивает листок, уходит прочь. Перевожу дух, похоже, успокоилась, кто их поймет, этих женщин…
— Они сгорели… сгорели…
Оторопело смотрю на короля, повторяю:
— Клянусь честью, я не сжег ни одного кустика, я продал их…
— Да нет же… кто-то сжег цветущий сад герцогини Сассекской… и две деревеньки близ Глазго…
Меня передергивает, холодеют руки, я даже не говорю, что продавал цветы туда…
Не говорю…
Хлопаю себя по лбу:
— Ваше Величество… я же ещё одно место забыл… Чарльстон-Холл…. Я продал туда два куста…
Король набрасывается на меня:
— Ты… ты не записал в свиток?
— Н-нет…
Монарх разворачивает свиток, бегло просматривает, выдыхает.
Бросает мне еще один золотой соверен.
Сбегает по лестнице, сам распахивает массивные двери, кричит кучеру:
— В Чарльстон-Холл! Быстро!
Догадываюсь, что нужно делать дальше, бегу в конюшню, подрезаю подпруги, рессоры, Брауни тревожно фыркает, чешу его за ухом, тише, тише, всё хорошо…
Возвращаюсь в замок, буквально сталкиваюсь с королевой.
— Ваше Величество…
…вздрагиваю от пощечины.
— Как… как ты посмел? — она срывается на визг.
— Ч-что, Ваше Величество? Сию минуту, высажу, что прикажете… прополю… полью…
Новая пощечина.
— Ты не сжег… не сжег… — бросается в двери, — экипаж! Живо!
Понимаю, что пора прятаться. В библиотеке. В комнате для гостей. В зале для танцев. На чердаке. В подвале… да, на чердаке, вот там-то точно…
…взлетаю по лестнице, пробираюсь на чердак, отсюда из окна виден лес, кусочек океана, крыши Чарльстон-холла на горизонте.
Я жду.
Вспыхивает пламя.
Там.
Далеко.
Больно сжимается сердце.
Пламя умирает, убитое людьми, что-то подсказывает мне, что розы спасены.
И что король уже там.
Я так и не понимаю его, я так и не сказал ему, что ему ничего не мешает дарить своим любовницам цветы например… да хоть бы покупать их у уличной торговки, что ли…
Стук башмаков по лестнице.
Скрываюсь за шторой.
Королева находит меня в считанные секунды, её лицо покраснело от гнева:
— Вы… вы…
— Ваше Величество, я…
Ожидаю очередной пощечины.
Не ожидаю, что она толкнет меня в окно, что я полечу кувырком с головокружительной высоты…
…нет.
Не успевает.
Кто-то оттаскивает королеву, резко, грубо, кто-то хлещет её колючими ветвями роз, кто-то шипит — да как вы смеете, черт побери, я никогда не слышал у человека такого голоса…
Королева визжит, бросается прочь с чердака, мне тоже хочется броситься прочь от того, что я вижу, это не человек, это…
…жадно вдыхаю аромат роз, у него на лице три распустившихся цветка, еще пять нераскрытых бутонов…
Спрашиваю то, что и так очевидно.
— Вы… их сын?
— К вашим услугам, добрый господин.
Непонятный акцент, какой-то шипящий, шелестящий, так шелестят розовые кусты. В комнату входят еще двое, цветочный запах усиливается.
— Пойдемте с нами, — он протягивает мне руку в перчатке, стараюсь не думать, что может быть под этой перчаткой, — пойдемте… мы отведем вас в безопасное место… где королева вас не найдет… у вас будет свой дом… с розовым садом… Садовник вам, я думаю, не понадобится.
Оказывается, они умеют смеяться…

Краденая весна
Они украли у меня весну.
Они.
Все.
Их много, гораздо больше, чем я один.
«Большинством голосов март в этом году объвлен зимним месяцем».
Я их неннавижу.
Они это знают.
Они белые. Как снег.
Большинством голосов весна отменяется…
— …нет, ну ты эгоист законченный, ты о других подумай…
Это они мне.
— Зачем тебе эта весна? Зачем, скажи?
Это они тоже мне. Я их ненавижу. Я же не спрашиваю, зачем им зима.
Я уже знаю, что у меня отнимут лето.
«Вопрос о проведении лета в этом году решается…»
Так всегда говорят в январе. И в феврале. И в марте. А потом:
«Управление склоняется к переносу лета на более поздние месяцы или к сокращению лета…»
Это уже в апреле и в мае.
А потом:
«Большинством голосов лето в этом году отменяется».
Я молчу.
Их много, я один.
Только каждый раз поднимаю руку, когда спрашивают, кто за.
На улице снег.
Там всегда снег.
Они белые.
Белые, как снег.
Вопрос об осени остается открытым.
Я прошу осень.
Мне отвечают, что зачем мне осень, если не было весны и лета.
Захожу в отсек.
Переключаю температуру.
Они белые.
Они тают, как ледяные глыбы.
Они стальные.
Они умирают.
Я расправляю огненные крылья.
Я живу.
Первый раз за столько времени — я живу…
«…Обвиняется в массовом убийстве сотрудников на станции…»
Семнадцать Претти
— А вы, я вижу, кошек любите…
Хозяин бледнеет. Следит за моим взглядом, смотрит на коллекцию фарфоровых статуэток на камине. Пять, семь, десять… ух ты, семнадцать.
— Семнадцать, — повторяю я.
Хозяин разводит руками:
— Ну а что вы хотите, я за свою Претти любого разорву…
— И… часто приходилось?
— Ну, вот видите… Претти у меня сильная… очень сильная…
— Можно… взглянуть?
Хозяин не успевает ответить, на кресло вспрыгивает черное пушистое существо, смотрит на меня раскосыми глазами, невольно отворачиваюсь, чувствую исходящую силу, большую силу, сжимаю волю в кулак, чтобы не растерять остатки разума.
— Ну как? — спрашивает хозяин.
— Мощно… очень мощно… слушайте… а вы… не боитесь?
— Да как-то… привык уже.
— И, значит, вы… семнадцать раз?
— Да… пришлось… — он наливает себе еще кофе, — понимаете, я этим совсем не горжусь… ну а что делать было…
Киваю. Понимаю. Если бы кто тронул мою Флер, я бы поступил точно так же.
— И как вам Вильямс?
— Э-э-э… простите… кто?
— Вы его видели.
— Простите… не при…
— …Претти.
— А, ну да, — хлопаю себя по лбу, понимаю, что речь шла про хозяина кошки, — весьма… приятный…
— А его… м-м-м…
— …Претти? Да, впечатляет кошечка. Первый раз вижу… чтобы такая сила…
— Страшно, правда?
— Да… есть немного.
— И не немного. Вот что… есть тут кое-какие подозрения насчет Вильямса… вас не насторожили семнадцать фигурок?
— Ну… если Претти такая сильная, то наверняка находилось немало желающих…
— Но вам не кажется, что семнадцать, это уже, так скажем… перебор?
— Ну, как сказать…
— …и мне кажется, это еще не вся его коллекция.
— Вы думаете?
— Мало того… друг мой, у меня есть подозрение… что он нарочно подставляет все эти убийства… что ему… нравится убивать.
Сглатываю:
— И что вы предлагаете…
— …зайдите к нему… и проверьте…
— Думаете, он так просто пустит меня…
— …а вы зайдите, когда его не будет.
— Вы… вы предлагаете мне зайти в дом один на один с этой… Претти?
— Да.
Вот так, коротко: да. И все.
Понимаю, что с моей Флер спорить бесполезно.
И что сегодня вечером я дождусь, пока Вильямс уедет, и пойду в подвал пустого дома, дома человека, которому нравится убивать.
Память
…начинаю понимать.
Что?
Еще не знаю, что.
Но начинаю понимать.
Они дали мне понимание.
Они.
Кто они.
Не знаю.
Кто я.
Тоже не знаю.
Этого мне не дали знать.
Мне дали знать идти туда.
Иду туда.
Там понимать. Много понимать.
Мне дали знать, куда идти. Вперед. Потом направо, где камень. И налево.
С собой веду…
…кого?
Не знаю.
Этого мне не надо знать.
Вижу цель.
Она…
Она…
…не знаю, какая она.
У меня нет знаний.
Я должен что-то сделать с этим… с этим… которого веду с собой.
И с тем, что у меня в руке.
Делаю.
Что-то происходит.
С тем, кого я веду.
И тем, к чему я пришел.
Что-то соглашается, что-то дает мне…
…дает мне…
…начинаю понимать, вот теперь по-настоящему начинаю понимать. Смотрю на Атакела, которого я только что заколол, смотрю на источник знаний, который только что поделился со мной.
Кланяюсь источнику. Впрочем, источнику уже не до меня, он набрасывается на то, что было Атакелом, высасывает дочиста.
Мешкать нельзя, надо спешить домой, в поселение. Теперь припоминаю. Поселение. Нас около трехсот. Двести девяносто пять. Нет. Теперь двести девяносто четыре. Потому что Атакела нет.
Смотрю на небо. Теперь я знаю — небо. Смотрю на звезды. Теперь я знаю — звезды. Вспоминается и чувствуется что-то такое… такое…
…нет.
…чтобы вспоминать и чувствовать, надо было забрать весть источник.
Источник не позволит забрать себя весь.
Спешу назад, мимо камня, по просеке, касаюсь коры дерева, вспоминаю слово, пробую его на вкус — кора, пробую на вкус и другое слово — сосна, мне мало, мне хочется вспоминать еще, но еще — нет.
Не дали.
Немножко дали — и хватит.
Кора.
И — созвучное с корой — ко-рень-я, которые мы выкапываем из земли, вернее, выкапывали, сейчас они ничего не делают, все двести девяносто три, они не знают, что делать, потому что знания иссякли.
Они выходят из укрытий, они окружают меня — все двести девяносто три. (Я — двести девяносто четвертый. Умерший Атакел — двести девяносто пятый). Они смотрят на меня. Они ждут.
Передаю каждому по капле. Чувствую, как капля за каплей тает во мне то, что я принес. Отчаянно пытаюсь вспомнить, что я видел, что я думал, что я знал, небо, звезды, кора…
Небо, звезды…
Небо…
Не…
…всё.
Знаю. Рыть. Искать. Есть. Вот это. То, что вижу перед собой.
Рыть. Искать. Есть.
Рыть…
Поднимаю голову, пробую вспомнить.
Не могу.
Рою…
…что-то тает, что-то уходит, чего-то больше нет…
Чего-то…
Собираемся.
Все.
Я уже не понимаю, что это такое — все.
Мне передают то, что осталось.
По каплям.
Понимаю.
Прошел год.
Пытаюсь вспомнить, что такое год, не могу, для этого мне дали слишком мало… мало…
…чего?
Надо идти.
Опять я.
Опять иду.
Веду кого-то.
Вперед.
Направо, где камень.
Касаюсь чего-то, пытаюсь вспомнить… каро… рока…
…не могу.
Вижу цель.
Делаю что-то с этим. Которого привел.
Цель задумывается.
Соглашается.
Передает.
…вспоминаю, что в первый раз это было больно, теперь уже как-то легче. Думаю, почему второй раз жребий пал на меня, обычно одного и того же два раза не выбирают.
А вот.
Меня.
Смотрю на небо.
На звезды.
Вспоминаю — Альтаир.
Мешкать нельзя, нужно идти назад. Мимо камня, я даже вспоминаю слово — гранит, мимо шумящего леса, вспоминаю — кора, сосна, трогаю землю, вспоминаю — мох.
Надо спешить.
Они ждут.
Теперь их триста восемь.
Я вспоминаю, как это было, как таяло по каплям то, что дал мне источник.
Я возвращаюсь к своим.
Я зову их за собой.
Они не понимают, они идут. Шаг за шагом. Идут.
К источнику.
Я вонзаю лезвия в их спины. Одно. Другое. Третье. Триста восемь. Солнце клонится к закату. Устает рука. Кажется, источник тоже устает принимать мои дары, с каждым разом он делает это все осторожнее.
Я жду.
Я не знаю, как напомнить источнику, что нужно дать мне…
…информация наваливается. Вся. Разом. Мне страшно, я уже чувствую, чем это может кончиться, мой разум просто не выдержит…
…нет.
Все в порядке. Я понимаю. Я вижу. Я чувствую. Вселенную — от Большого Взрыва до Большого сжатия. Каждую травинку. Каждый камень. Каждую звезду. Каждую молекулу. Мириады измерений касаются моего сознания. Мириады миров, мириады цивилизаций, абсурдных, нелепых, в которые невозможно поверить…
Не сразу вспоминаю, что теряю память — по крупицам, по каплям, записываю на земле — чтобы не потерять, не забыть, добраться до тех миров, где отдаешь память — и не теряешь её…
…спохватываюсь, смотрю на только что написанное — понимаю, что не понимаю. Записываю — сам не знаю, для кого, налетевший ветер уносит буквы, цифры, ноты, слова, вспоминается что-то — бумага, печатный станок, бумагу из дерева делать надо, это дерево рубить…
…оглядываюсь, пытаюсь понять, что это, откуда это, — вертятся воспоминания, но я не могу их поймать, что-то плоское, испещренное чем-то темным, почему, зачем, как, хочется в отчаянии биться головой о…
…я уже не помню, о что.
Я уже…
Источник молчит.
Нужно что-то сделать.
Что-то…
Источник ждет.
Вспоминаю: лезвие. Кажется, моя память специально хранила его до самого конца.
Вонзаю лезвие себе в горло, как вонзал многим и многим.
Источник дает кусок памяти.
Странный кусок.
Про какие-то дальние дивные миры, где можно отдать память другому и не потерять самому…
Замок у ворот
У ворот нас встретил замок — важный и царственный. Он сладко потянулся, посмотрел на нас свысока и торжественно зашагал по садовой дорожке, изогнув хвост. Когда мы толкнули дверь, замок зашел вслед за нами, принюхался, прыгнул на старое кресло, которое, видимо, было его любимым обиталищем.
Когда подали вечерний чай, замок устроился возле стола, глядя на блюдца сонными зелеными глазами, а когда луна коснулась верхушек старых буков, замок захлопал крыльями и вспорхнул на толстую ветку напротив окна. Он наблюдал за нами — вернее, делал вид, что мы ему глубоко безразличны, а сам вполглаза следил, чем мы заняты. Когда ближе к ночи мы пошли в свои спальни, замок перепорхнул на ветки повыше, как раз под нашими окнами.
— Что-то мне не нравится, как он на нас смотрит, — признался я супруге, — что-то не по себе…
— Ну что же, привыкай, — ответила моя благоверная, — теперь нам придется жить в…
…в…
И запнулась о собственные слова. Потому что если замок летал вокруг нас и следил за нами, то где же жили мы сами, куда же нас занесла судьба? Одного этого сомнения было достаточно, чтобы разрушить иллюзию, заманившую нас в…
…записи обрываются…
Письма в никуда
Эти строки адресованы ей.
Она знает.
Но она не умеет читать.
Она все-таки открывает книгу, она пытается понять, вот эти две палочки с перекладиной, это ворота какие-то, а вот палочки с перекладиной сверху, это, наверное, белье вешать…
Она знают, что её убьют.
Но читает. Вот это колечко, это виселица, это ворота, это полумесяц, это колечко с загогулинкой, это…
— Стой!
Окрик сзади.
Она хватает книгу, прижимает к себе, она понимает — второго шанса не будет.
Бежит.
Стучат босые ноги по паркету, где ни разу не ступала нога женщины.
Стрела вонзается в горло, мир заливается кровью, она еще смотрит на страницы, пляшут значки, ворота, виселица, кольцо, полумесяц…
…я этого не видел.
Но, наверное, все было так…
Начать надо с того, что это история о любви.
Или нет, этим надо закончить.
Или нет, об этом вообще не надо говорить, читатель прочитает и сам скажет — да это же о любви, о чем же еще.
Или нет, не надо об этом писать, но по другой причине — никто не поймет, что это о любви, все руками разведут, да что вы сочиняете, да какая тут любовь, да что угодно, только не она…
Не с этого надо начинать. Не с любви. Да и не было никакой любви. А вот, расскажу, как мы встретились. Мы, все. Нас оказалось семеро. Встретились ТАМ, не здесь, ну еще бы, здесь-то я один, это ТАМ нас оказалось семеро. Я даже удивился, что нас оказалось семеро, мне казалось, будет больше. Но я чувствовал — именно семеро.
Нет, это должно было случиться не так, не так я это себе представлял, я думал, мы будем прорываться через тысячи опасностей и приключений, штурмовать какие-нибудь крепости, убегать от чудовищ, прорываться через тысячи интриг, ошибаться, терять, снова находить… И место встречи будет какое-нибудь невероятное, жерло вулкана, например, или крохотный островочек над пропастью, или посреди бушующего моря, или…
Ничего этого не было, мы встретились в обычном кафе, договорились в соцсетях, да, там тоже есть кафе и соцсети.
А потом было самое интересное.
Мы ждали, что будет дальше.
Ничего не происходило.
Ни-че-го.
Мы не знали, что делать дальше, нам никто об этом не говорил, да что говорил — об этом нигде не было написано, что нужно было делать дальше, принести в жертву черного петуха или зеленого крокодила, или станцевать ритуальный танец, или… Кто-то даже предложил зарядить кольт и пустить его по кругу, кого-то обещали пристрелить за такие предложения. Вспоминали, что у других все получалось как-то просто, встречались, и… и все.
Только потом до нас дошло, что один лишний.
Вернее — одна. Одна из трех женщин. Она еще смутилась сразу, пробормотала что-то вроде, ну, если мешаю, так я пойду, и мы захлопотали, что вы, что вы, совсем не мешаете, вы нам нужны…
Хотя мы чуяли — она была не наша.
И в то же время — наша.
Это уже потом мы узнали, что она — не часть меня, а часть её.
А тогда у нас просто ничего не получилось.
С ходу помню еще пару случаев, когда ничего не получилось — два раза нас убивали, кто-то не хотел, чтобы я вернулся ОТТУДА именно в этом веке. Я так и не знаю, кто это сделал, друг или враг, может, кто-то хотел помешать мне создать новую книгу, а может, кто-то напротив, пытался уберечь от беды.
Я спрашивал у неё — на восемнадцатой странице «Петроглифов». Она отвечала мне так лихо и заковыристо, что я так и не понял, была ли она причастна к убийствам, или нет. Вот так всегда, задаешь ей важные вопросы, а она пишет загадками…
Нет, так-то мы всегда писали друг другу загадками, очень редко позволяли себе начать книгу чем-нибудь типа «Здравствуй, мой неизвестный друг» или назвать очередное творение — «Письма далекой незнакомке». Моя дорогая неизвестная леди, вы будете жить в благодатном мире будущего, где проблемы нашего века покажутся вам как минимум странными…
Нет, не то.
Опять не то.
Так что начать надо с чего-то другого. Ну, например, как я родился не в свое время не на своем месте. И сколько раз, интересно, мне придется об этом писать? Десять? Двадцать? Миллион? Нет, миллион, пожалуй, многовато, за всю историю человечества столько не наберется. Город Куча, империя Мьяу-У, династия Цинь, Амброзия, была такая страна, Васкония, государство Си Ся (не смейтесь).
С самого раннего детства я понимал, что время и место не мое. Что с книгой что-то случится. Или её сожгут, еще хорошо, если не вместе со мной. Нет, книга мне дороже собственной жизни, просто… просто в сжигании на костре ничего приятного. Попробуйте при случае. Когда вас будут преследовать за вашу книгу.
Или я понимал, что с книгой случится что-то другое. Про неё все забудут. Истлеет. Разлетится в прах. Никто не станет переписывать её строчки при свете лучины или свечи. А то и вовсе сгорит с каким-нибудь монастырем или библиотекой.
В более поздние века я понимал, что моя книга может просто затеряться среди миллионов других изданий.
Иногда я просто не успевал написать книгу — умирал слишком рано, погибал в каком-то сражении, а то и вовсе в пьяной драке, да, и такое бывало, сколько раз зарекался не забывать, зачем пришел сюда, сколько раз оступался…
Пару раз бывало совсем не мое время. Просто. Не мое. Время, когда не о чем было писать. И нечего писать. И вообще…
…и вообще это только потом я понимал, что виновато не время и не место, а я сам, мои отговорки, и…
Бывали и совсем постыдные случаи, когда я обещал себе книгу — но все время что-то мешало, дом, работа, семья, или какие-то военные походы из ниоткуда в никуда.
Вспоминаю книги, которых не было.
Их много.
Очень много.
Оказывается, больше, чем я думал.
Иногда бывало другое. Я рождался в свое время на своем месте. Меня увенчивали лаврами. Книга жила в веках.
Но я знал, что она никогда её не прочитает.
Никогда.
Потому что родится в то время, и в той стране, где никому и в голову не придет учить женщину читать. А значит, точно не прочитает. Или прочитает, но будет сожжена, как ведьма, или прочитает, но не напишет ответ.
Нет, не с этого, не с этого надо начинать, не с этого. Или подробно по главам расписывать каждое мое неудачное рождение. Или нет, так читатель заскучает, главы с неудачным рождением надо разбросать по книге.
…лингвистический анализ книг показал, что все эти пятьдесят творений написаны одним человеком — чего не может быть, поскольку книги написаны не просто в разные века, а в разные тысячелетия…
Иногда я хожу на её могилу, сам не знаю, зачем. Приношу цветы, а дальше не знаю, что делать, надо стоять, что-то думать, что-то чувствовать, у меня ничего не думается и не чувствуется.
Иногда она приходит на мою могилу. Что она думает и чувствует, я не знаю. Просто пару раз видел фотографии, как она стоит возле моей могилы.
А нет, вспомнил. Было однажды, сидел возле её надгробия и думал, что она родится через тридцать лет.
Пил за её здоровье, хотя за здоровье покойных и еще не родившихся как-то странно…
Опять не то.
А вот. Снег. Фонарь скрипит на ветру. Ночь. Свет фонаря, подвешенного у окна падает в комнату. Я люблю такой свет.
Сегодня её убьют.
Я приказал.
Сегодня.
Вечером.
К дому подъезжает экипаж, поскрипывает колесами.
Или нет — шорох шин, глохнет двигатель.
Хлопает дверца.
Или фыркают кони.
Звенит колокольчик.
Или звонок.
Слуга открывает двери, с улицы доносится цокот копыт или шорох шин.
Я не знаю этого человека, который вошел, я вижу его первый раз.
Кланяется.
— Вам ни о чем не говорит эта книга?
Смотрю на фолиант в его руках, думаю, где тут подвох, или книжка отравлена, или бомба там какая, или…
— Возьмите…
Отступаю назад:
— Отравлена?
Он вздрагивает, будто я его оскорбил до глубины души.
— Эх вы… ну ладно… сам открою…
Кладет книгу на журнальный столик, показывает мне страницы. Думаю, что со мной будет, если прочитаю.
…что будет…
…наконец, поднимаю голову от книги.
— Это… это же выдумка, не так ли?
— Отнюдь.
Я презрительно фыркаю — там, где за окном стук копыт и поскрипывание экипажей.
Я верю — там, где шорох шин за окнами.
— Вы… вы убьете её? — спрашивает гость там, где скрипят экипажи.
И там, где шорох шин, он тоже спрашивает:
— Вы убьете её?
Я отвечаю:
— Она уже мертва.
Там. Где цокот копыт за окном.
А там, где шорох шин, я жадно вчитываюсь в книгу, я вспоминаю, кто я такой, что я такое, впервые за столько лет — вспоминаю…
Сжимается сердце.
— Где… где она?
Гость пожимает плечами:
— Вы знаете.
Скорее… скорее к ней…
Холод улицы.
Морось дождя.
Скрип фонаря на ветру.
Хлопает дверца машины.
Рычит мотор.
Я тороплю гостя за рулем, я боюсь не успеть.
Взлетаю по ступенькам.
Распахиваю дверь, кричу что-то, не пей, не пей, вино отравлено…
Она оборачивается, и…
…нет, тогда у нас все равно не получилось встретиться. Потому что в этот момент наш город — со скрипучими фонарями, с шорохом шин, с моросящим дождем — был разрушен одним ударом войны, которая началась третьего августа…
…нет, она началась намного раньше, выкипала, вызревала в жерновах истории, самое досадное — она проросла из одной из моих книг…
А в той эпохе, где скрипели экипажи и фыркали лошади, я сказал:
— Она уже мертва.
И сам упал замертво.
Потому что она — это я.
Да-да, вот с этого надо было начинать.
— Я вам за что плачу?
Начинаю сердиться. Хотя понимаю, что сердиться здесь не на что, сам отдал деньги шарлатану, сам сейчас получу непонятно что…
Он раскладывает карту времени, выстраивает в причудливой конструкции.
Опять повторяю три слова:
— Когда. Мы. С ней. Встретимся.
— Я сожалею…
Повторяю:
— Когда…
— …никогда.
— Вы…
— …уверен.
— Мы не родимся в одно время?
— Нет. Потому что нет ни её, ни вас.
Меня передергивает:
— То есть…
— …то есть, вы и она, это один и тот же человек.
Я не верю. Не понимаю. Я в отчаянии перелистываю книги — мои и её, я замечаю то, чего не видел раньше, и почему я так был уверен, что эти вот, мои записи — это мой стиль, мой слог, моя душа, а это вот — её душа, её слог, её стиль, а теперь…
Черт…
Сразу скажу, тогда еще не было компьютерных текстовых анализов, тогда я просто понял, что он не врет….
Отсчитываю монеты.
Выхожу из каменного дома, прижимаю к себе драгоценные книги, сгружаю их на Пилигрима, подгоняю ослика, пошел, пошел…
И не с этого надо было начинать.
Не знаю, с чего.
Вспоминается что-то не к месту и не ко времени, были же у нас с ней уютные вечера, мы сидели в кресле, слушая вой вьюги и скрип фонарей за окном, или она с томиком моих сочинений, или я с томиком её сочинений, она спрашивала что-нибудь на страницах своей книги — я отвечал, или наоборот, я спрашивал что-то со страниц, она говорила — про себя, мысленно, мы беседовали через века…
И вот это тоже помню.
Мы встретились в трехтысячном году, на мне было синее платье…
Я так и не понял, что это было, шутка, розыгрыш, или что. Я пытался спросить её об этом в следующих книгах — она не отвечала, она упорно не отвечала, я даже начал задумываться, что это была какая-то ошибка редактора, не более…
Ну, вот представьте, я положил руку на листок бумаги… пять пальцев. Вот жители двумерного мира что видят? Пять объектов. А на самом деле — я один.
А вот в трехмерном мире два человека. Это мы видим — два человека. А в четырех измерениях видят что-то одно.
Пытаюсь представить себе, какими мы будем там, в четырех измерениях.
Не могу.
И вообще все надо было начать не так, не так, а рассказать, как мы писали друг другу книги через века, как наши книги вертели судьбами, меняли историю, губили и создавали миры. А потом мы поссорились, а из-за чего, уже не помню. Это было через века, через тысячелетия, когда мы уже забыли, кто мы, и что мы. И нет, это надо писать наши истории, каждую инкарнацию, как мы все больше забывали, кто мы, как то, что раньше было уверенностью, становилось предположением, смутным предчувствием, красивой легендой, потом и вовсе — ничего не значащей чепухой, которая терялась за курсами валют и взносами по ипотеке. Как мы писали друг другу по привычке, как эта привычка сошла на нет, как мы встретились в каких-то там веках, уже не узнавая друг друга, мы были врагами, я послал своих людей убить её, когда на пороге моего дома (ночь, скрип фонаря, звонок) появился человек с книгой…
…она оказалась не права. В нашу единственную встречу на ней был бежевый костюм. Почему-то.
Может, разные реальности.
Может, в той реальности с синим платьем мы успели чуть больше, чем увидеть друг друга мельком…
Мой день
— …задание вам.
Выжидающе смотрю на инспектора.
— …у кого-то три. Найти. Обезвредить.
Не понимаю.
— Ч-чего… три?
— Не догадываетесь?
Хлопаю себя по лбу. Догадываюсь.
— А… как найти?
— Наблюдайте, друг мой, наблюдайте… собирайте слухи, сплетни… разговоры…
— Но… это точно… что у кого-то три?
— Кто знает, друг мой, кто знает…
…это было уже потом….
Сегодня его день.
Поэтому будет кофе со сливками.
Бегу к холодильнику, проверяю, есть ли сливки, а то он обидится.
Нет, не так…
«Сегодня мой день», — говорит он.
Самое интересное, я даже не знаю, кто он.
Потому что никакого его быть не должно.
Тут.
В моей голове.
Кажется, вот так вот это и начинается. Это. После которого будет палата с мягкими стенами.
«Не будет», — говорит он.
И повторяет:
«Сегодня мой день».
Он позволяет мне встать и заварить кофе. Но настаивает, что будет пить кофе со сливками. Он позволяет мне одеться. И позавтракать. Еще удивляется, ничего себе яишенка, киваю, это Щедрый Барин называется, с грибочками, с сальцем…
«Ну, пошли», — кивает он.
Настораживаюсь, отвечаю:
— Э-э-э…. а мне на работу надо…
«Ты чего вслух-то, ты со мной и мысленно говорить можешь…»
— Так мне…
«Ты не понял? Сегодня мой день».
— И?
«Сегодня я на работу пойду».
Пытаюсь что-то возразить, что мой начальник не поймет, он фыркает —
«Нету твоего начальника».
Мне не по себе.
«Завтра… завтра будет. Ну, пошли».
Мы идем. Зачем мы идем в сторону аэродрома, спрашиваю я себя, зачем, зачем, зачем мы идем в ангар, зачем лезем в самолет, а где летчик, летчика-то нет, мы как…
Идем в кабину.
Понимаю.
Спрашиваю:
— Ты… ты летчик?
Он отвечает, но как-то уже не словами, а по-другому.
Сжимает штурвал.
Не я сжимаю.
Он.
Вдавливает в кресло.
Небо несется навстречу…
…беру сливки, он одергивает меня:
«Сегодня твой день».
«А»?
«Твой день… пей свой кофе…»
Догадываюсь:
«И… на работу?»
«Ну конечно, а куда же…»
Сжимается сердце. Как-то не по себе становится от того, что у меня отобрали небо…
«Небо будет завтра» — говорит он.
Осторожно спрашиваю:
— Обещаешь?
«Клянусь».
Она целится в меня, уворачиваюсь, вр-р-решь, не возьмешь…
Он убьет меня.
Если достанет.
Я тоже убью её.
Если доберусь.
Её зовут Элизабет.
Её самолет машет крыльями — слабехонько-слабехонько, плохонький самолет, не чета моему. Она доберется до моего самолета — она так думает, не доберется — так думаю я.
Поднимаюсь выше, еще выше, она за мной не поспевает, врешь, не возьмешь…
Сегодня мой день.
И её.
Её зовут Элизабет.
Её зовут Элизабет.
Я уже знаю, что это она.
Я слышу её шаги. Там, на лестнице. Я уже знаю, что она свернет в мой кабинет, наивная, думает, я храню чертежи в кабинете…
Ступаю за ней.
— Чему обязан столь поздним визитом?
Оборачивается, ага, вот мы какие, мы вооружены, оказывается…
…замираем в полушаге друг от друга, направляем кольты….
…часы бьют полночь.
…выдыхаю.
Говорю.
Вслух:
— Сегодня мой день.
Он уходит.
Он. Тот. Другой. Затаивается где-то в глубинах моего сознания, ждет своего часа.
Понимаю, что сказал это хором с Элизабет… уже не Элизабет.
Обнимаю Агату. Сначала обнимаю, только потом спохватываюсь, что даже не проверил, Агата это или еще Элизабет.
Нет.
Агата.
Целует меня, чуть прикусывает нижнюю губу.
Идем ужинать.
И спать.
У нас вся ночь впереди.
И весь день.
Потому что завтра выходной.
И мы проснемся около десяти, и приготовим завтрак, а потом посидим на веранде, и до ближайшего рынка сходить надо, и в театр, и неважно куда, лишь бы вместе, а может, так никуда и не выйдем, увлеченные друг другом, а потом еще вечер впереди, а потом Агата уйдет ближе к полуночи, поцелует меня — и уйдет, чтобы ни в коем случае не остаться после полуночи.
Сквозь сон я услышу шум мотора.
…просыпаюсь…
Элизабет приподнимается на локте, улыбается мне, прикрывается сорочкой.
Хватаюсь за кольт.
Элизабет (или Агата?) испуганно отскакивает:
— За… за что?
Понимаю, что это Агата. Но это не может быть Агата, потому что сегодня день Элизабет.
— Агата?
Она мотает головой. Набрасывает халатик, скрывается в ванной. Сбегаю по лестнице на первый этаж, надо сматываться, если уж она не смоталась…
— Ой, извините, ничего, что я у вас тут в доме…
Оборачиваюсь.
Нет, не Агата.
И не Элизабет…
— А у вас альбома какого или блокнота не найдется?
— Э-э-э… нет. То есть… счас, счас… вот…
— Ой, спасибо вам огромное… а карандаша нет?
Вываливаю на стол карандаши.
— Ой, ну вы мой спаситель… извините… за вторжение… как я у вас оказалась-то вообще…
Спохватываюсь:
— Как вас зовут?
— Ива.
Начинаю понимать.
Вот она. Вот.
Сегодня мой день, сегодня я иду на аэродром. Я не обязан звонить в полицию и докладывать, что она здесь.
Распахиваю дверь в раннюю осень, отскакиваю, когда вижу инспектора. Он входит в дом, я не могу его не пустить, не имею права не пустить. Надеюсь, что Ива успеет спрятаться, неважно, куда, неважно, где, черт… она даже не знает моего дома…
Черр-рр — т…
— Ива?
Они смотрят друг на друга.
Обнимают.
Меня передергивает.
Понимаю, кого и зачем искал инспектор…
…только сейчас вспоминаю, что у меня в руке кольт — когда спускаю крючок.
Тучное тело падает к моим ногам.
Ива поднимает кольт, я опережаю её — на доли секунды.
Выхожу в раннюю осень, спешу к самолету.
Сегодня не мой день.
Поэтому я сжимаю штурвал.
Крылатая машина рвется в небо, неуклюже покачивается, кувырка…
…понимаю.
Сегодня.
Мой.
День.
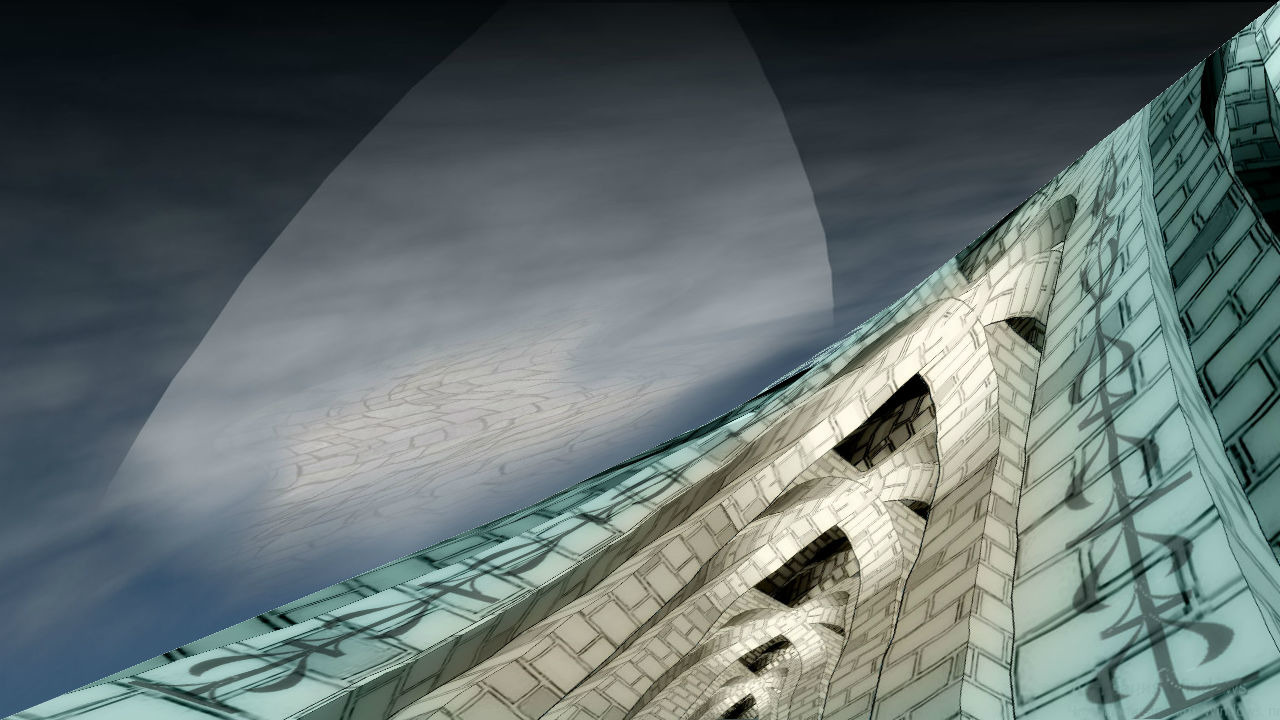
Якуб
А Кэтти улетает.
Ну, не сама, конечно. На самолете.
Якуб спрашивает, а может, не надо вот так?
Кэтти сама не знает, надо или нет.
Катит чемодан к стойке регистрации.
Уважаемые пассажиры, и все такое.
А может, не надо, спрашивает Якуб.
Кэтти думает.
Говорит — надо.
Прощаются.
Кэтти отворачивается, чтобы Якуб не видел слезы.
Навсегда же прощаются.
Самолет взлетает.
Исчезает в тумане неба.
Незнакомая женщина заливается плачем, у меня там сын, сын улетел…
Якуб осторожно спрашивает, а что бывает с теми, кто улетает.
На Якуба смотрят, как на психа, — кто ж знает-то…
Провожающие расходятся.
Якуб разворачивается, смотрит на стойку регистрации.
— А… а мне один билет, пожалуйста.
Держит билет, не понимает, что делать дальше.
Уважаемые пассажиры, просьба пройти…
Яукб проходит.
Якуб не знает, что будет с ним дальше.
Тише, не дергайтесь, Якуб смотрит ваше сознание, Якуб пытается выловить оттуда что-то… что его ждет.
Ага, спасибо.
Да, Якуб уже понял, что в вашем мире самолеты летят куда-то откуда-то, а не в никуда…
А?
Что думаете?
Что у Якуба забыли, как самолетами пользоваться, в небо отпускают — и всё?
Уверены?
Самолет поднимается в небо.
Якуб сомневается.
А может…
…правильно, а может, нет вообще ничего в мире кроме островка с городом Якуба и аэродрома?
Сейчас узнаем…
…если Якуб посмотрит вниз…
…если посмотрит…
Знак трех путей
А можно вас на минутку?
Да-да, вас.
Не бойтесь, ничего мы вам не сделаем.
Просто…
Просто нам человек нужен. Да-да, например, вы. Для истории. Вы же хотите попасть в историю? Да что мы спрашиваем, все хотят. Да не волнуйтесь, по крышам прыгать не придется, и из горящей машины выскакивать тоже. Ну нет, если хотите, можете попрыгать и повыскакивать, кто ж вам запретит.
Вы у нас будете человек… простой такой человек. Будете жить в эпоху… вам какая нравится? Ой, и чего вы в этой викторианской эпохе хорошего нашли, там же… а? Тогда в будущее? Да тоже как-то вы рискуете, мало ли что там в будущем станется.
Ну ладно, мы вам хорошо сделаем, будете в богатом доме жить на крыше небоскреба, вокруг парк… И вот вас спецслужбы поймают, они вас с одним человеком перепутают, с главным героем, которого убить должны. И будут за вами гоняться. Можете от них полетать по городу на крылатой машине, так интереснее будет. Понимаете, это нужно, чтобы герой успел сбежать, чтобы его не поймали.
А потом вас схватят. Ну, у них машины-то помощнее будут. И убьют.
А?
Что?
Ну да, убьют, а вы как хотели? Сказано же, героя убить хотят.
Вот вас и убили вместо него.
А герой сбежал.
Ну, извините, роль вам такая выпала. Здесь хочется вас утешить, что вам почести будут, да не будет вам никаких почестей, про вас и не вспомнит никто.
А про героя вспомнят.
А собственно, почему за ним охотятся?
— А собственно, почему за мной охотятся? — спрашивает герой.
Его зовут Дэннис.
Сейчас мы осторожно объясним ему, что к чему…
— …все равно не понимаю, — говорит Дэннис, — почему они не могут пройти вдвоем по одной дороге?
— Ну, потому что так нельзя, — объясняем мы.
— Нет, я понимаю, если бы там два моста было, и мост может вес одного человека выдержать, и вдвоем на мост нельзя…
Мы не соглашаемся:
— Нет-нет, это не мосты, это дороги. Две дороги ведут… гхм… из пункта А в пункт Б. И три путника. И по дороге можно идти только в одиночку…
Дэннис не понимает:
— Но… почему?
— Ну а почему вы вилкой едите, а не руками?
— Да я и руками могу…
— Ну а почему вы на стуле сидите, а не на столе? А почему вы голый на улицу не ходите?
— Понял, понял… обычай у них такой… вдвоем по одной дороге не ходить.
— Ну, это не совсем обычай… ну, ладно, считайте, что обычай… И вот были три путника… и два из них по одной дороге вместе прошли. Теперь они это скрывают всеми правдами и неправдами, еще бы не скрывать… Но соседи начинают о чем-то догадываться, ну еще бы, как-то слишком быстро они дошли по дорожкам-то… ну вот и догадался народ, что кто-то из тех троих вдвоем шел… а кто-то в одиночку. Вот и думают теперь, кто не виноват, а кому всеобщий позор и порицание…
— Это что-то вроде детектива?
— Да, как-то так. Там потом каждый сам на себя будет вину брать, других выгораживать… в общем, все сложно…
— А почитать можно?
— Так там не для людей написано….
— Под запретом?
— Да не под запретом, читайте на здоровье, кто ж не дает-то…
Знак пути.
Знак непреодолимого пути.
Знак пути непреодолимого.
Это разные знаки, да.
Они оба здесь нужны.
Знак прошлого одного из героев.
Знак настоящего для другого героя.
Знак будущего для третьего героя.
— Это… это литературный прием такой или… так надо?
— А мы откуда знаем, мы-то люди, а это не человек писал.
Знак опасности, которой нет, но которая может быть.
Знак противостояния: холод ночи и темнота зимы — и тепло вожделенного очага.
Знак одного пути — и в то же время двух. Это человеческий разум не поймет. Нет, это не один путь в нескольких измерениях. Нет, не спрашивайте…
Знак спешки.
Знак тайны.
Знак любви. Кого к кому — непонятно.
Знак убежища, дома, очага, вы посмотрите, как у них очаг красиво называется в их языке — кусочек солнца. Да не просто кусочек, а используется слово кусочек, которое говорят про ломтик чего-нибудь вкусного, например, пирога, который от пирога отрезали и на тарелку дорогому гостю положили. Мы вот все смотрим, может, у них легенда какая-то есть, как божество какое кусочек от солнца отрезало и людям на тарелке подало — а нет, не нашли такую легенду.
Дальше знак входа, знак границы холода и тьмы и тепла и света.
Знак встречи.
Знак сомнения…
— …дальше читать будете?
Самое интересное, у них в языке есть специальный знак — знак пути домой, а автор его ни разу в своей книге не использует. Такой вот ловкий прием. Потому что это не просто путь домой, а целое приключение…
Дэннис не выдерживает:
— Ну, вы мне объясните, а я-то тут при чем?
— Ну, как вам объяснить…
…мы не успеваем ничего объяснить, мы видим, что убийцы приближаются. Ну те, которые хотят убить Дэнниса, потому что…
— …да почему же? — не выдерживает Дэннис, — почему?
Мы не спешим с ответом, мы уводим Дэнниса из квартиры, даем ему билет на самолет, куда Дэннис хочет, хорошо, в Милан так в Милан, только пусть Дэннис сразу не бежит Миланский собор смотреть, в гостинице отсидится, не высовывается. Хорошо, вот ему гостиница с видом на собор, любуйся, не хочу.
Ну вот, Дэннис, теперь скажите, вы кем работаете?
Физиком? Очень хорошо. Нет, Дэннис физику в школе не преподает, нет, тут другое совсем, ну-ка, пусть Дэннис нам расскажет, что он делает.
Что значит, не поймем, все-то мы понимаем, вы про нас совсем уж плохо не думайте. Давайте, Дэн, рассказывайте.
Ой, не поняли мы ничего. Какие-то три частицы движутся по двум туннелям, и по логике в каком-то одном туннеле должны оказаться две частицы… а нет, в каждом туннеле одна частица проходит, такой вот парадокс…
Ой, ну мы ничего не поняли.
А вот автор бестселлера понял.
Автор…
— Как он выглядит? — спрашивает Дэн.
Вы его не увидите, говорим мы.
— Он что, невидимый?
Нет, просто глаз человека его не увидит.
Просто.
Не увидит.
Да вы и книгу его не увидите, она тоже ведь не для людей…
Дэн уже знает, как читать такие книги, Дэн глазами на них не смотрит, Дэн сует руку в призрачное пространство книги, чувствует тончайшие вибрации, узнает их — по силе, по частоте, по температуре — знак пути, знак опасности, которой нет, знак кусочка света….
Вы мне все испортили, говорит автор.
Дэн испуганно отдергивает руку от книги, бормочет что-то, да я тихонечко-тихонечко….
Да нет… вы мне все испортили, понимаете, я же хотел бестселлер сделать, сенсацию, чтобы книгу с прилавков сметали, чтобы памятник мне и премию. Это же надо же как выдумал, три человека по двум дорожкам прошли, кто-то на весь городок опозорился, вдвоем по дорожке прошел, и надо расследовать, кто…
А вы все испортили, Дэннис, со своими электронами, теперь же читать никто не будет, только фыркнут презрительно, эка невидаль, это же давно проблема решена, вон, три электрона по двум дорожкам проходят…
Дэннис сглатывает.
— И поэтому… вы хотите меня убить?
— Ну, есть варианты… — говорит автор, — вы не публикуете свои исследования…
— Смеетесь?
— А что такое?
— Ну, вот вы мне скажите, вы от романа от своего откажетесь?
— Нет, конечно.
— То-то же… наши дурака…
Автор не понимает, про какого дурака говорит Дэннис, автор вообще много чего не понимает, что говорит Дэннис. Как и Дэннис не понимает автора, мы не успеваем переводить их слова, их фразы, мы не знаем, как перевести это коротенькое, что сказал Дэннис:
— Дуэль.
Мы пытаемся объяснить Дэннису, что у него нет шансов, что автор изловит и убьет его в два счета. Дэннис не верит. А может, не хочет верить, может, ему надоело прятаться, даже в гостинице с видом на Миланский собор. Дэннис осторожно спрашивает нас, чем можно убить автора, есть вообще у их расы хоть какие-то уязвимые места…
Мы отвечаем — нет.
Дэннис берет бейсбольную биту, сам не знает, зачем, косится на нож, а больше у Дэнниса ничего и нет, ядерное оружие Дэннису никто не даст, да и не нужно оно…
Дэннис бьет в пустоту, где должен находиться враг, даже не понимает, попал или нет.
Автор убивает Дэнниса.
Да-да, вы не ослышались.
Убивает.
Дэнниса.
Мы же предупреждали, против них человек бессилен.
Оживляет.
Чтобы снова вступить в бой.
Снова убить.
Снова.
Снова.
Дэннис опускает биту, падает.
— Стой… ты… ты меня как… ты… время назад отматываешь?
Автор пожимает плечами, разумеется.
— И… и как это у тебя получается?
Автор объясняет. Дэн не понимает.
— А… а в будущее меня перенести можешь?
Автор, конечно, может, но не понимает, зачем.
А затем, говорит Дэннис… ты смотри… вот ты в конце романа допишешь, что никто не осрамился, никто вдвоем по одной дороге не прошел, а использовали они вот такой принцип трех частиц… тут все завопят, а-а-а, не может такого быть, а тут и моя статья выйдет… и все узнают, что это правда….
Ну вот а дальше мы не знаем, что будет… Если они поймут друг друга, все решено будет, еще и про вас вспомнят, и воскресят… а может, и не поймет ничего автор, останется лежать бейсбольная бита в пустой комнате…

Сон в конце аллеи
Вечером собирались там, где все кончалось. Вообще все — даже самого пространства, казалось, не было. Здесь даже не ставили скамейки, даже не думали, что здесь кто-то будет сидеть.
А вот собирались. Приносили с собой раскладные стулья, лавочки какие-то, Сунь Цзы принес плетеную циновку.
Отсюда я вижу пятерых: Сунь Цзы, Торквемаду и Макиавелли, еще двоих не узнаю, один сидит в клетчатом пледе, другой пьет что-то из чашки, кажется, кофе, отсюда мне совсем не видно.
Почему-то по вечерам собираются вот тут, в дальнем конце сада, где аллея упирается в никуда. До самого края аллеи, правда, не доходят, боятся, что кто-нибудь из соседей столкнет в пустоту.
Пару раз бросали в пустоту камушки. Смотрели, как они летят в никуда.
Здесь Сунь Цзы вспоминает какую-то китайскую не то легенду, не то сказку про место, где мир обрывается в пустоту, но я отсюда не вижу, что за легенда, а может, это и не Сунь Цзы вспоминает, а Макиавелли или еще кто.
Кто-то из них уже хочет спать.
К вечеру темнеет и холодает, люди не спешат расходиться, — боятся ложиться спать…
Сунь Цзы видит демона.
Ну, уже знает, что это не демон, но по привычке мысленно говорит себе — демон.
Кланяется.
Демон тоже вежливо кланяется, говорит что-то на ломаном китайском, что для него большая честь видеть величайшего мыслителя.
Почему-то называет его — Сунь Ун.
У демона картинки есть, которые светятся и движутся.
И еще много чего есть.
Сунь Цзы демона не трогает, на демона нападать — себе дороже будет.
С демоном надо дружить.
Большой дом погружается в сумерки, гаснет верхний свет, только тусклые лампы вдоль стен освещают путь в комнаты.
Где-то по коридорам и лестницам большого дома летает история, как Лев Исавр увидел в коридоре Арифа Алви, и увидел его флаг — полумесяц и звезду, и сражался с ним, как сражался со многими, кто носил полумесяцы и звезды. Но у Льва Исавра был только меч и NOMINE DOMINI на клинке меча, а у Арифа Алви сотня плутониевых боезарядов, и исход битвы был предрешен.
История хочет жить, мечется по коридорам и комнатам, ищет себе пристанище, не находит, умирает. Потому что ничего такого случиться не могло: где меч Льва Исавра? Где ядерный комплекс Арифа Алви?
Они остались где-то там…
Там…
Да и вообще, дом большой, ОНИ не позволят им встретиться.
Дом большой.
Вчера здесь была глухая стена, за которой начиналась улица.
Сегодня здесь дверь в комнаты, туда нового человека привезли.
Все пошли на новенького смотреть.
А новый боится.
Думает, его под трибунал отдали, в плен взяли, орет, вы не имеете права, я требую адвоката…
Все пришли, новенький на всех смотрит, фыркает, это еще что за бал-маскарад, напугать меня решили, кого, меня, да я и не такое видывал…
Они все так сначала говорят.
Про бал-маскарад.
Старожилы ему знаками-знаками объясняют, что вот тут в холодном шкафу еда есть, вот тут можно воду вскипятить…
Знаками.
Еще же непонятно, на каком языке он говорит.
Мне непонятно.
Никому непонятно.
Нет, Торквемада что-то понимает, говорит, вроде, это испанский, но какой-то другой испанский…
Новый прислушивается к себе.
Спрашивает:
— Я что… умер?
И так они тоже все сначала говорят. Потому что у них ничего не болит. Вот и пугаются, и говорят:
— Я что… умер?
Кто-то из Англии (отсюда не вижу, кто) оценивает одежду нового, оценивает, как тот ловко управляется с микроволновкой, — осторожно подходит к решетке, спрашивает, ду ю спик инглиш.
Новый сначала не понимает, потом кивает, ай спик, ай спик, тут же спохватывается, бормочет что-то про вери-вери-бед.
Торквемада и кто-то из Лондона осторожно-осторожно объясняют новому, что…
…а что тут объяснять?
Что они сами знают, чтобы что-то объяснять?
Что мы живем…
Гхм…
В доме. Дом большой. А вокруг дома парк, там гулять можно, а по вечерам зажигаются фонари. В доме есть бильярдная, и бассейн, а в парке фонтан есть, и скамейки, еще библиотека тут есть, и телевизоры, ну вот, вы микроволновку знаете, значит, и телевизор знать должны…
Нет, судить не будут.
Нет, не казнят.
Они.
Они… они это они.
Хотят добавить про край, за которым ничего нет. Не находят слов. Для этого всегда не находят слов, потом просто ведут нового и показывают.
Но новый пока за решеткой.
Его отпустят — когда он успокоится.
Здесь так.
Под самой крышей шахматная комната.
Сунь Цзы нравятся шахматы на троих.
А еще шахматы на трех уровнях стразу.
Там еще в комнате куб есть, раскрашенный под шахматную доску, он в воздухе парит и вращается, и меняется как-то, то как кубик Рубика (это ему Рейган про кубик Рубика сказал), то как тессеракт (а кто про тессеракт сказал, Сунь Цзы уже не помнит), и фигурки там шахматные.
Сунь Цзы пытается понять, как играть.
Не понимает.
Сегодня у этих спросит.
Поиграют.
Может, поймет.
Люди разбредаются по дому, засиживаются допоздна.
Чтоб не спать.
Спать идти боятся.
Кто-то начинает дремать прямо в кресле, отсюда не вижу, кто, вроде, Черчилль, а может, и нет. Отсюда не видно. Мне отсюда вообще мало чего видно. Кто-то уходит в свою комнату, долго стелет постель, комкает подушку.
Торквемада молится, Санта Мария, грация плена…
Приходят сны. Как всегда незваные, нежданные, негаданные, зачем приходят, как приходят, никто не знает.
Сунь Цзы снится женщина, чьи глаза ярче звезд.
— Направо!
— Налево!
— Кругом!
Сунь Цзы слышит свой голос во сне, шепчет что-то наяву, теребит одеяло, по ночам в комнатах холодновато, чтобы людям лучше спалось.
Женский смех во сне.
Сунь Цзы слышит свой голос:
— Казнить!
…песок обагряется кровью.
Сунь Цзы просыпается, он не хочет вспоминать это, не хочет чувствовать, а ведь он гордился этим… когда-то…
Женский смех…
…песок, обагренный кровью…
Сунь Цзы не хочет вспоминать, сон не спрашивает, сон помнит…
Отсюда вижу еще двоих, скрипящих зубами во сне, палец одного из них дрожит на крючке, не надо, не надо, не на-а-а-адо — о-о, ну пожа-а-а-луйста, — нет, все происходит как всегда, он спускает крючок, грохает выстрел, она падает на ковер, он смотрит, он не понимает, как такое случилось, нет, нет, нет… Он вкладывает пистолет в её еще теплую руку, выходит из комнаты, торопится куда-то…
…просыпается.
Отсюда не вижу, кто это.
Да мне и неважно.
Они ходят по спальням из комнаты в комнату, собирают сны, бережно переплетают в причудливый узор.
Они.
На самом деле, он один. Людям просто кажется, что их несколько, когда он тянется к людям из высших измерений.
Он пытается понять, что было на самом деле.
Не понимает.
Прошлое не складывается, рассыпается на куски, он не понимает, он снова и снова смотрит чужие сны, кажется, люди сами не помнят своего прошлого, вспоминают то так, то эдак, прячутся от самих себя.
А вот сны не врут. Сны не умеют врать, сны говорят правду.
Он осторожно собирает правду — по крупицам, по каплям — правда рассыпается, разваливается, ничего не сходится, ничего, ничего, уи-и-и-ии….
К нему (к ним) приходит человек, просит что-нибудь от бессонницы. И для печени, а то за ужином съел лишнего, вкусно всё так у вас…
Человек ложится в постель, он (они) бережно касаются лежащего, снимают боль, человек перестает чувствовать свое тело, он едет в Лондон, только почему-то у вагончиков нет дверей, а едут по узенькому-узенькому мостику, а с мостика можно упасть…
…приходит утро.
Встает солнце.
Кто-то (отсюда не вижу, кто) замечает, что солнце каждый раз встает в одном и том же месте, в начале аллеи с перголами. Времена года здесь не меняются, здесь всегда лето, ну иногда под вечер холодает, и желтеют листья, опадают с легким шорохом.
Люди собираются в обеденном зале, пьют… ну, кто что пьет, кому что нравится, Сунь Цзы шоколад оценил, в его времена в его краях такого не было, только сегодня и шоколад дурной какой-то, зачем туда ягоды накрошили…
Кто-то врывается в зал, кто-то кричит, смотрите, смотрите…
Все бегут смотреть.
Не понимают.
Что за причудливое переплетение линий висит в пустоте большой комнаты.
Осторожно касаются линий, смотрят, как руки проходят насквозь.
Не понимают.
Но чувствуют.
Чувствуют и большую красную линию, которая постоянно меняет очертания, не знает, какой ей быть.
Прошлое, — говорит кто-то.
Прошлое, — вторят ему.
Кто-то кричит — громко, больно, отчаянно, отсюда не вижу, кто, вижу только кусочек его памяти, причудливые дилижансы, запах лошадей, стук копыт по мостовой, извилистые линии вытягивают его память, его прошлое, достраивают сами себя.
Собираются в зале у камина.
Все.
Торквемада говорит:
— Когда они узнают про нас все, они нас убьют. Потому что мы им станем не нужны.
Люди вздрагивают. И начинается по обычаю, шок-отрицание-торг-депрессия, да быть того не может, да с чего им нас убивать, да зачем…
А потом им становится страшно.
Собираются, решают, что делать, первый раз в жизни вместе решают.
Запутать их надо, запутать, говорит Макиавелли, сегодня одно вспоминаем, завтра другое…
…нет, говорит какой-то король какой-то страны, сны не врут.
И сны запутать надо, говорит Макиавелли. Пока не знает, как. Но надо.
Тогда нас тоже убьют, говорит Торквемада. Потому что мы будем им не нужны.
Неловкое молчание, которое нарушаю я, в конце концов, должен я играть какую-то роль в этой истории, не все же мне наблюдать издалека.
Он не убьет вас, говорю я.
Торквемада возражает.
Он вас не убьет, повторяю я. Потому что вы уже мертвы.
Они соглашаются на удивление быстро. Кажется, они давно знали это, но боялись признаться сами себе.
Мне верят.
Ну, еще бы не поверить мировой линии, которая складывается из обрывков воспоминаний в подлинную историю.
Расходятся по комнатам, ложатся спать.
Кутаются в одеяла.
Сонно позевывают.
Кому-то снится, как его убивают.
Кому-то не спится, кто-то смотрит в окно, как желтеют листья, почему-то на пальмах.

Летучий корабль
— Ма, а я звезду нашел!
— Брось сейчас же!
Или:
— Ма, а я звезду нашел!
— Ну, молодец…
Или:
— Ма, а я звезду нашел!
— Руки вымой!
Или еще как-нибудь.
А с неба упала звезда.
А мальчик её нашел.
Хорошо упала, удачно — на холм. Так что даже искать не пришлось, вот она, на холме лежит, сверкает.
Мальчик умный, мальчик сразу к звезде не побежал, подождал сначала полдня, а там и на холм поднялся.
А там штурвал лежит.
Корабельный.
Всамделишный.
Мальчик радуется, мальчик со штурвалом играет, ну как обычно, обеими руками взял, по полю побежал, вж-ж-ж-ж, а это он типа на корабле летит на летучем…
Мальчик.
А имени у него нет.
Потому что самого мальчика нет.
А почему?
А это его маленькая тайна.
Ничего-ничего, скоро мы все узнаем…
Вот мальчик берет штурвал, бежит по полю — вж-ж-ж-ж…
Штурвал обрастает приборной панелью, парусами, крыльями, шасси, иллюминаторами, поднимается в небо, выше, выше…
…нет, это не мальчик выдумал.
Это по правде.
Мальчик пугается, мальчик плачет, домой хочет, к ма-а-а-ме…
Штурвал замирает на траве, успокаивает мальчика, не бойся, не бойся, ну что ты, я с тобой поиграть хотел, а ты…
А поиграй, говорит мальчик, только осторожно.
А я осторожно, говорит штурвал.
И показывает мальчику картинку.
Красивую.
Как флотилия кораблей в небо улетает.
А мне домой пора, говорит мальчик.
А возьми меня с собой, просит корабль.
А как же, спрашивает мальчик.
А так.
— Ма, а это корабль!
Мама уже и сама видит, что корабль.
И папа уже видит, что корабль.
Ну что ж делать, корабль так корабль, мама на стол накрывает, папа кресло у очага ставит для дорогого гостя.
Сегодня праздник же.
День круговорота.
Гости собрались, в изумлении смотрят на призрачный корабль. Может, расскажет им что про себя…
А корабль им картину показывает.
Красивую…
Нет, не так надо начинать…
Он родился не в свое время.
Он это знал.
Всегда.
— Мир вам.
— Мир вам.
— Слушаю вас.
— А мне бы… что-нибудь о дальних временах.
— Ой, боюсь, нет ничего…
Он знает, что есть.
Он лихорадочно обыскивает хранилище, он ищет…
…вот.
Фотография флотилии, уходящей к далеким звездам.
Он прилетает к постаменту каждый день.
Так-то обычно по земле пешком ходит, но к постаменту надо прилетать.
Потому что они летали.
Они.
Те.
Которые стоят на постаменте.
Летучие корабли.
Он не хочет, чтобы они видели его не летящим.
Они.
Те.
Сегодня он почти поднялся в небо.
Почти.
— А что, наш мир когда-то занимал всю вселенную?
Он смотрит на случайного попутчика, он не верит, что можно быть таким… таким…
…таким недалеким.
А ведь верно.
Они уже не помнят, что когда-то было по-другому, что когда-то их колонии были по всей галактике.
И не только.
Они уже не помнят.
Никто.
Они смотрят на изваяния на постаментах — и не понимают…
…нет, не так надо было начинать, не так…
…это история о величайшей трагедии некогда великого народа, который повелевал целыми галактиками, но потом сжался до крошечной планетки на задворках вселенной. Уже никто не скорбел о потере былых колоний — о них никто не помнил, слишком много поколений сменилось, слишком много веков ушло.
Это история о безумце, который пытался возродить галактическую империю…
…нет, тоже не то.
…да вы хоть понимаете, что будет, если его изберут Верховным?
…все силы будут брошены на освоение давно потерянных территорий, ресурсы планеты будут истощены до предела, планета станет непригодной для жизни…
…исторический день, когда небесная флотилия преодолела высшие слои атмосферы и вырвалась в открытый космос…
Он вел свою стаю.
Он всегда знал, что поведет свою стаю — даже когда понял, что родился не в свое время.
— …а… а где?
Он уже не помнит, кто это спросил. Кажется, летящий справа.
Посмотрел на мертвые земли — справа по курсу, слева по курсу, прямо по курсу — там, где Верховный обещал цветущие края, тянутся только бесплодные пустыни, на которых не было ничего живого.
Никогда.
Крылатые корабли недоуменно смотрят на своего предводителя, не верят, не понимают…
— Легенда, — шепчет кто-то.
— Легенда, — вторят за ним.
— Легенда, легенда, — мелькают сигналы по поредевшей стае.
Вселенная все помнит.
Бережно хранит память о том, что случилось здесь, в черной пустоте.
Воздушный бой, помнит вселенная.
Воздушный бой.
Если бы вселенная могла думать, она бы подумала, почему в этом бою уцелел только один — как раз тот, на которого ополчились все, все, как раз тот, который привел их сюда…
Но вселенная не думает.
Несется через пустоту летучий корабль.
Мчится назад.
Домой.
Туда, где постаменты.
Туда, где мальчик.
Ну еще бы, после стольких веков, после стольких странствий крохотные вьюрки-шнырки встал на задние лапы и посмотрели на звезды.
И там будет мальчик.
Он покажет мальчику постаменты.
Он покажет мальчику фото, как флотилия уходит в темноту космоса, ощеренного звездами.
Мальчик сделает себе крылья.
Мальчик…
…которого нет.
Ну да.
…ресурсы планеты будут истощены до предела, планета станет непригодной для жизни…
…с неба падает звезда.
Не звезда — штурвал.
Все, что осталось от крылатого корабля.
Корабль ждет мальчика.
Мальчика, которого нет.
Смотрит на фото отлетающей флотилии, должен же он кому-то показать это фото, должен же…
Корабль смотрит на фото великих времен.
На фото собственной флотилии.
Пытается найти хоть какое-то отличие.
Не может.
Начинает понимать…
Жуткое зрелище, которое никто не видит. Жуткое зрелище, когда по мертвой пустыне ползет нечто, что было корабельным штурвалом, ковыляет в сторону архива.
Там постамент.
Туда надо лететь.
А не идти.
И, уж тем более, не ковылять.
Но делать нечего, он ковыляет, спотыкается о пустоту.
Поднимает на постаменты гла…
…нет у него никаких глаз.
Смотрит на рисунки на стенах хранилищ, с самого начала смотрит, слева-направо вьюрки-шнырки, потом зверолюди, которые встали на ноги и посмотрели на звезды, потом люди, у них праздник круговорота, вон мальчик бегает, (мальчик!), потом крылатые корабли, построенные умелыми руками, потом живое сознание, подсаженное в корабль, потом флотилии…
…мальчик, которого нет, нашел корабль, которого нет.
А тот показал ему фото, которого нет.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.