
Бесплатный фрагмент - «Я крокодила пред Тобою…»
Предисловие
«Жизнь складывается из событий, которых не ждешь, не планируешь. У Творца для каждого свой сценарий».
(Т. Малыгина)
Пересекаясь и переплетаясь между собой, эти сценарии образуют яркую многоплановую картину жизни северного провинциального городка России. На этом фоне разворачивается история данной книги.
Книга основана на реальных событиях и предназначена для широкого круга читателей.
Данный труд родился на свет в результате событий, происшедших в период с 2009 по 2014 годы в одном из небольших городов России. Участниками их стали реальные люди, поэтому это художественное произведение основано на реальных событиях.
В книге рассказывается о той стороне жизни в церкви, которая, как правило, остаётся за кадром. Это хамство, подлость, карьеризм, сребролюбие и многие-многие другие пороки, с которыми подчас сталкивается человек, приходящий в церковь, и которые горьким осадком оседают в глубине его души, периодически напоминая о себе.
Мы привыкли читать о людях в церкви в радужных тонах и удивляемся, когда вдруг появляются публикации, открывающие совсем иной мир внутри церковной ограды.
Мы подчас забываем, что свята Церковь, но не человек, находящийся в ней. Ему, обуреваемому страстями и пороками, ещё только предстоит стать таковым, пройдя путь длиною в жизнь. Легкое повествование автора о сложных жизненных путях героев произведения открыло перед читателем совершенно новый жанр — православный детектив, потому что в книге описывается и само преступление черты закона, и мотивы этого поступка, и наказание за содеянное.
Автор поднимает темы любви и подлости, верности и предательства, прощения и возмездия, поиска смысла жизни, идеализации человека, облечённого в сан, и разочарования в нем. На страницах книги автор показывает, насколько велик наш страх перед человеком, но не перед Богом, преклонение перед сильными мира сего, ложный стыд и цинизм. Как внутренняя боль становится достоянием всех и вся, а вместо помощи и сочувствия человек получает презрение и ненависть от себе подобных, кидающих камень в спину и кричащих: «Распни! Распни его!» Но мы видим, насколько близок Господь, спешащий нам на помощь, если только мы сами хотим этой помощи и готовы принять ее.
Главные герои книги с упованием на промысел Божий преодолели все те испытания, которые Господь послал им на их пути. Эта книга об укрепляющейся вере, которая, как металл, закаляется в горниле борьбы со грехом и твёрдом уповании на всеблагое милосердие Господне. О промысле Божием, ведущим странника по Земле к небесному Иерусалиму. Об осознании каждым ¬ кто он есть на самом деле и кем ему еще только предстоит стать.
Протоиерей Евгений Александров.
Часть 1. «Целую ваши деньги!»
«В храме молятся два человека. Один сокрушается:
— Я разорен! Мне не вернули долг, мне нечем выплачивать ипотеку, меня уволили с работы! Господи, дай мне хотя бы тысячу, чтобы прожить этот день!
Второй дает ему деньги и говорит:
— Возьми и не отвлекай Господа по мелочам».
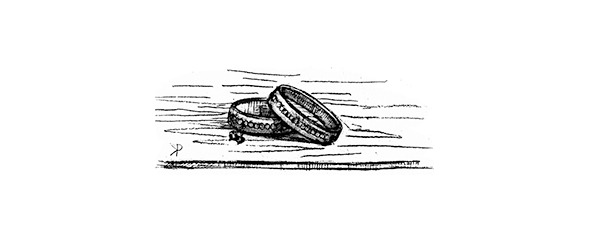
Сначала проснулось сознание. Не открывая глаз, Марина пошевелила руками, попыталась приподнять голову. Как же больно… Опустив руку, нащупала пачку сока, медленно поднесла к пересохшим губам и не спеша сделала глоток, потом еще. Сок липкой тошнотой встал в горле. Сердце дрожало, билось часто-часто, и давно знакомый страх смерти, страх умереть прямо сейчас входил в душу, сковывал тело. Марина медленно села на кровати, стараясь не разбудить Олега. Она тихонько переползла через него и, еле шевеля босыми ногами, поплелась в ванную. Марина старалась не обращать внимания на тошнотворное состояние. «Сейчас все пройдет, пройдет, пройдет…». Она открыла кран, села на край ванны и стала ждать, когда потечет совсем ледяная вода, чтобы, как всегда, смывая боль, зачерпнуть три огромные пригоршни воды, обливая поочередно лицо, шею, волосы, плечи. Она стояла по пояс мокрая, босая в луже ледяной воды, и живший с ней долгое время страх постепенно отползал, как жирная змея. Не вытираясь, Марина пошла на кухню. Струйки воды стекали с длинных русых волос, оставляя на линолеуме тонкие дорожки. Мокрая майка облепила тело, неприятно холодила. Ее мелко трясло. В дверце холодильника стоял дежурный пузырек с валокордином. «Раз, два, три… двадцать… тридцать шесть». Сколько тебе лет — столько капель. Мама учила. Мама, мама… Видела бы она сейчас свою дочь, стоявшую у кровати Машки, ссутулившуюся горбушкой от абсолютного бессилия. Машка еще спит, сегодня в школу не надо, выходной день, суббота. «Провались они пропадом, эти корпоративы! — Марина присела на краешек кровати дочери и заплакала. — Не могу, малыш, больше не могу… Господи, я не хочу жить ТАК!» Голову разрывало, от слез стало еще тяжелее, в виски тупой болью била кровь. Марина прилегла, обняла спящую дочь, уткнувшись Машке в затылок. Детский запах дочери немного успокоил. «Надо же, десять лет, а она все ребенком пахнет», — улыбаясь и проваливаясь в похмельную дрему, подумала Марина.
***
Марина Калугина, по отцу Толмачева, родилась на Севере, все ее родные были из Сибири, русские и татары вперемешку с чувашами. Дедов, к своему стыду, она не знала, еще раз подтверждая поговорку об Иване, родства не помнящем, да и как росли сами родители, мало интересовалась.
Ее отец Иван Иванович рано начал карьеру. Окончив ветеринарное училище, он несколько лет работал зоотехником в небольшом сибирском поселке Хаял, время от времени пописывая статьи «на злобу дня» в местную газету «Красный Сибиряк». Его статьи были востребованы, они описывали «НЕПРОСТЫЕ ТРУДОВЫЕ БУДНИ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ», уже сорок лет приближающихся к светлому будущему. Со временем его статьи стали печататься чаще, тексты повествовали о сложных взаимоотношениях в пролетарской среде, обличали тунеядцев, этих «ПИЯВОК НА ТЕЛЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА». Газетные колонки «Красного Сибиряка» ставили на вид нерадивым коммунистам, по чьей вине не выполнялся план, срывались поставки или разрушалась «ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА». Разумеется, поступок провинившегося можно было освещать исключительно по указанию сверху. Вскоре Иван Иванович понял, что писать ему интереснее, чем лечить, и, уйдя из зоотехников, он с воодушевлением начал карьеру профессионального журналиста, вступил в партию и понесся по партийной лестнице. Человек он был принципиальный, потому что искренне верил в то, что все делает правильно и что ленинский путь действительно ведет к светлому будущему. Вскоре он женился на местной скромной и красивой девушке, учительнице Тамаре, через год родившей сына Павлика. Через два года появилась на свет голубоглазая, румяная и круглолицая Оленька. К тому времени Иван Иванович уже занимал пост заместителя редактора «Красного Сибиряка», еще через два года он стал редактором той же газеты и ему вовсю маячило нешуточное повышение в соседний район, Хантаякскую АССР, на пост редактора местной газеты «Красный Север». Но в Республику Хантая семья Ивана Ивановича попала только спустя пятнадцать лет. Из багажа с собой было немного — знания главы семейства, пара мешков с одеждой, посудой и плюшевый мишка, которого взяла с собой трехлетняя Марина, нечаянно родившаяся на радость почти сорокалетних родителей.
Земли Республики Хантая издревле принадлежали уральским народностям, эта группа уральской языковой семьи была самой малочисленной. Когда-то, в древние века, земли Хантаи перешли от Новгородских земель к Московскому княжеству. Земли эти долго оставались незаселенными из-за сурового климата, а поставка товаров шла с большими перебоями из-за отсутствия торговых путей. Правда, еще в начале восемнадцатого века до устья реки Арахья добрался-таки отчаянный Савелий Губов и организовал кустарную добычу первой нефти. Республика резко начала развиваться в сороковые годы, когда были найдены большие запасы каменного угля. Объединенными усилиями руководства ГУЛАГа и неистощимым оптимизмом зэков здесь были построены угольные шахты, дающие на-гора бесценные ископаемые для нужд фронта. Притундровые леса и защитные полосы вдоль рек стали последним местом упокоения тысяч людей, замерзших, изъеденных местными лютыми комарами и злющей мошкой. Уникальные древостои, кустарники и травы тут всегда подлежали государственной охране, в отличие от миллионов закончившихся здесь человеческих жизней. Эта ничего не стоящая в те годы людская бесправная масса проложила железку, которая жива до сих пор и вывозит уже не только в Россию, но и за рубеж все ту же нефть и драгоценный лес. После ликвидации системы ГУЛАГа вросшие стенами в суровые земли Хантаи тюремные бараки остались стоять здесь не только как память о прошлом, но и как вполне живой и функционирующий организм настоящего времени. Эти места навсегда остались местами лишения свободы, семьи, социального статуса. До распада СССР, когда людской отток уменьшил население Республики Хантая почти на треть, было еще очень далеко, поэтому полные советской энергии и коммунистического задора приезжающие сюда в пятидесятые годы новожители, как муравьишки, обживали бараки и общежития, а партийная элита въезжала в пятиэтажные современные хрущёвки-новостройки.
Ивана Ивановича перевели в Северогорск в конце шестидесятых. Это был небольшой, но перспективный городишко с населением около двадцати тысяч человек.
Марина отчетливо помнила, как она долго взбиралась на пятый этаж нового дома, там они теперь будут жить все вместе, с мамой, папой, старшим братом и сестрой, не в одной маленькой комнате, а аж в целых трех! На ней было бежевое фланелевое платье в коричневый грибочек. Она пыхтела, отдувалась, шагала взрослыми шагами, спеша поскорее увидеть их новую квартиру. Стены комнат были почему-то кривыми и ярко-синими, сильно пахло краской. Иван Иванович был мужиком на все руки и без посторонней помощи быстро сделал ремонт в квартире. Отец умел все. Красить, строить, белить, выжигать, чеканить, плотничать, красиво рассуждать и вкусно варить и жарить. Обоев в то время не было, поэтому, чтобы стены выглядели не так уныло, Иван Иванович начертил на побеленных стенах небольшие разноцветные кубики, от которых в разные стороны отходили цветные лучики. Получилось красиво, желто-оранжево и радостно. Ведро с белой краской стояло посреди зала, Марина крутилась вокруг него в новом красивом красном платье в клеточку, его только вчера ей купили, не обращая внимания на окрики родителей. Она самая красивая, самая нарядная!
— Марина, не бегай! Марина, отойди! Марина, не мешай отцу!
— Я королевна! Я принцесс-а-а-а! — Марина кружилась, держась двумя пальцами за подол платья. — Я королевна-а-а! Я… А-а-а-а-ай, мамочка-а-а! Я упа-а-ала-а-а! А-а-а-а-а!
Тамара Николаевна прибежала на истошные вопли дочери и увидела несчастную орущую Маринку, сидящую в ведре с краской. Хотелось смеяться и плакать одновременно.
— Ну дура ума нет! Предупреждали же тебя, полоумную! Отец, иди сюда, тащи свое отродье мыться! Где ацетон? Ацетоном надо, она вся в краске! Платья-то как жалко! Надолго собаке блин, едрит твою за ногу! Бестолочь!
Марине было ужасно обидно и жалко платья. Страшнее трагедии в ее жизни еще не было.
Мебель — книжные полки, откидной стол и такую же кровать — отец смастерил сам, днем лежанка удобно защелкивалась на стене и была пределом мечтаний Марины. Вообще все было очень здорово, почти собственная, с мамой на двоих, кровать, огромная отдельная кухня — целых пять метров! Папа спал в зале на диване, брат с сестрой — в своей комнате. Им было не совсем удобно, но на это мало обращали внимания, шутка ли, собственная новая квартира.
Утром по выходным, когда не надо было идти в садик, просыпаясь и ленясь вылезать из-под одеяла, Марина слышала, как мама негромко возилась на кухне, потом что-то шкворчало, шипело и в спальню медленно приплывал запах блинчиков. Марина жмурилась от удовольствия, предвкушая большой блин. Сначала надо было опустить его в чашку с разогретым сливочным маслом, потом в блюдце со сметаной. Мама подавала блинчики так, чтобы масло с них стекало. Оно стекало не только с них, но и с Маринкиных пальцев до самого локтя. Все запивалось горячим сладким чаем, и это можно было есть бесконечно.
В холодильнике всегда хранилось что-нибудь вкусненькое, особенно по праздникам. Марина помнила радостное ожидание майских и ноябрьских дней, когда, накануне, отец приносил из буфета-распределителя две полные сумки продуктов из тех, что обычным людям купить было невозможно — шпроты, красную и черную икру, консервы из горбуши, салями, карбонад, печень трески, сырокопченую колбасу, сгущенку, растворимый кофе в круглой железной банке, куски говяжьей и оленьей вырезки, семгу, муксуна и омуля. Пока счастливая Маринка под жизнеутверждающие советские марши, размахивая флажком, проплывала мимо праздничных трибун на плечах у Пашки: «Паша, смотри, наш папа!», Тамара Николаевна готовила обед к возвращению домочадцев. Обедали недолго, Иван Иванович выпивал чарочку-другую, и все разбредались по своим углам.
Первая трагедия с испорченным платьем была быстро забыта, Маринке купили новое. Ее баловали. Она самая младшая, ее не ждали, вернее, ждали, но не планировали. Тамаре Николаевне было уже тридцать пять, средней дочери — десять, сыну — двенадцать. Третий-то зачем? И так сил никаких нет. Но планы планами, а врачи сказали: хочешь жить — роди ребенка. Своим появлением на свет Марина вылечила маму. Она этим очень гордилась и хвасталась подружкам:
— Я мамино лекарство!
Девчушки ничего не понимали, но уважали какой-то очень важный Маринкин поступок.
Дочь появилась на свет летом, весом в четыре килограмма сто граммов, не доставив Тамаре Николаевне ни малейших неудобств, быстро и безболезненно. Что такое счастье позднего материнства, Тамара Николаевна ощутила сразу, словами это было не передать. Она зацеловывала дочку, занюхивала ее до головокружения, держа под бочком, ни на минуту не спуская с нее глаз. Ночью прислушивалась к ее сопению — дышит, не дышит? Старших целовать было некогда, Тамара вышла на работу, когда сыну исполнился месяц. Когда родилась дочка, ее, трехмесячную, отдали в ясли. Маринку хотели назвать Прасковьей, в честь бабушки. Оля была против категорически.
— Вырастет, Парашей будут звать.
Остановились на Марине.
— Ваня, завтра нас выписывают, машину бы надо, встретить.
— Тамарочка, машина будет!
На следующий день Иван Иванович, грудь колесом, приняв по маленькой на радостях по случаю рождения наследницы, на ярко-красном «Москвиче» подкатил к роддому со своим закадычным приятелем, с которым в молодости работал ветеринаром-зоотехником в совхозе, где они крутили коровам хвосты. Он встретил Тамару с Маринкой на руках, аккуратно посадил в машину на заднее сиденье, и с радостным криком «Эх, прокачу!» компания поехала по проселочной дороге, огибая коровник. Отцовская радость добавляла машине скорости. Дороги как таковой не было, да и приподнятое боевыми ста граммами настроение молодого папаши способствовало приключениям, в общем, на очередном ухабе «москвичонка» занесло, и он со всей дури врезался в кучу навоза. Это было первое в Маринкиной жизни препятствие.
Счастливых детских воспоминаний было немного. Пожалуй, самыми радостными были дни, когда Марина болела. Тогда ее любили все. Ее жалели, подолгу сидели у кровати, меняя компрессы на лбу, мазали горло люголем, давали полоскать фурацилином, и даже порошки горького стрептоцида она принимала со счастливым отвращением. Когда она бредила из-за высокой температуры, то, приходя в себя, видела испуганное лицо мамы, и осознание, что она могла умереть, добавляло значимости ее маленькой жизни. Особенно Марина любила болеть зимой. Ей никогда не наскучивало смотреть на замысловатые узоры на окнах. В них она видела целые картины, волшебные иллюстрации к существующим только у нее в голове сказкам. И совсем маленькой, и позже, взрослеющей, и уже совсем взрослой Марина искала и находила целые сюжеты в проплывающих облаках, мокром морском песке, стекающих по стеклу капельках, рисунках на обоях.
Став постарше, уже учась в младших классах, когда Марина сидела «на справке» по болезни, она приглашала к себе Лену, подружку-одноклассницу из дома напротив. Они рисовали, смотрели «Волшебника Изумрудного города» и мечтали о взрослой жизни.
— Лен?
— А?
— Ты жениться хочешь?
— Фу! Ты что? Я жениться никогда не буду! Мальчишки такие противные!
— А я буду. Мне нравится, когда папа с мамой вечером ложатся вместе, включают ночничок и читают книги. Мама без очков читает, а у папы на носу очки.
— Чтобы читать, не обязательно жениться. Женятся для детей. А я не хочу. Я хочу быть дирижером. А ты кем?
— Нянечкой в садике.
— Ну и дура.
Ленку пускали, Маринка уже была не заразная. Тамара Николаевна делала девочкам бутерброды с маслом и сахаром или маслом и солью. Иногда пекла беляши или шаньги, давала Ленке с собой. Ленка Фокина была единственной настоящей подружкой. Настоящая подружка — это когда делаешь вместе уроки, заходишь за ней по пути в школу, идешь вместе в кино, остаешься на продленку, занимаешь очередь в буфет на переменке, делишься коржиком с томатным соком, ждешь после уроков и вместе идешь домой. Хотя делиться чем-то Марина с детства была не приучена. Когда они выросли и уже сами обросли семьями и собственным хозяйством, встречаясь на редких кухонных девичниках, Ленка вспоминала:
— Жмотка ты, Калугина, была страшная! Я помню, как ты на переменках тайком, чтоб никто не видел, жевала бутерброд с колбасой или домашние пирожки. Или мандарины чистила под партой, дурища, запах-то в портфеле не спрячешь! И ведь, наглая такая, хоть бы раз предложила кому! Ну хоть мне-то могла?
Да, Ленка права была. Тамара Николаевна все время говорила Маринке:
— Ешь сама, никому не давай! Поняла? Отойди в сторонку и сама съешь.
Маринка поняла. Обычная детская жадность еще долго оставалась нормой для нее и во взрослой жизни.
Лена и Марина вместе учились в обеих школах, общеобразовательной и музыкальной. Когда девочки учились в первом классе, в школу обычную из школы музыкальной пришла представитель-педагог агитировать деток поступать в класс фортепиано и скрипочки. Маринка с подружкой подошли к толпе в рекреации, разнюхивая, в чем дело. Женщина-агитатор спросила:
— Девочки, хотите учиться в музыкальной школе?
Это было здорово! Она еще спрашивает! Они прыгали и хлопали в ладоши, скакали на одной ножке.
— Да-а! Хотим! Хотим!
Девчонкам дали бланки, чтобы родители их заполнили для поступления в музыкалку, и они, счастливые до умопомрачения, наперегонки побежали домой, размахивая анкетами. Криком «Мама, папа, я поступила в музыкальную школу!» начались Маринкины восьмилетние мучения.
До поступления в музыкальную школу Марину пытались отдать на танцы. Не то чтобы пытались, отдали, записали в танцевальный кружок при Доме пионеров. Купили гимнастический купальник, чешки, сшили белую коротенькую юбочку, в каких репетировали настоящие маленькие балерины. Марине грезилась сцена Большого театра, и она была практически в кармане. Дело было за малым. Преподаватель танцев Нина Константиновна на первом занятии, построив возбужденных ожиданием прекрасного девочек в ряд, друг за дружкой, к станку и проведя перекличку, показала им «первую позицию».
— Давайте, девочки, начинаем работать! И-и-и р-раз, ногу… носочек… оттянули в сторону, и-ии да-ава! Тянем, тянем, и-и-и та-ари! И-и-и… четы-ыри… и-и…
Ушла в подсобку. Девочки старательно тянули носочки, плавно двигали грациозными ручками и честно ждали преподавателя. Нина Константиновна вышла из подсобки заметно повеселевшая, румяная, и от нее пахло свежими сладкими фруктами. После трех заходов в подсобку, чтобы дойти до дома, тянуть носочек нужно было уже самой изрядно выпившей Нине. Она проводила уроки вместо положенного часа по двадцать минут и всегда находила этому объяснение. Чаще всего у нее болела голова, реже она должна была кого-то встретить, совсем редко она честно говорила, что у нее нет желания с ними заниматься. Уроки копеечные, личная жизнь у нее была не устроена, смысла воспитывать из девочек прим-балерин, по ее мнению, никакого не было. Поэтому родители Марины забрали ее из кружка.
— Включай музыку, дома танцуй! Нечего время убивать!
Тамара Николаевна, ничуть не расстроившись, что из Маринки не получилась звезда сцены, согласилась отдать ее на фигурку. При том же Доме пионеров Марину записали в секцию фигурного катания. Ей купили в Москве чешские (черные!) очень модные коньки, белая шапочка с бомбоном красиво сочеталась с желтой, с зелеными кленовыми листьями, спортивной курточкой.
— Роднина, не меньше! — думала Тамара Николаевна и смотрела на тренера, терпеливо объяснявшую неуклюжим девчонкам, как правильно надо ставить лезвие конька, чтобы не разъезжались ноги. Сорок пять минут занятий пролетали незаметно. Раскрасневшаяся Маринка в шапке набекрень подкатывала к маме, косолапя тонкие ножки, тормозила и врезалась в деревянный борт.
— Уф, здорово! Здорово, ма!
— Че горло голое? Ну-ка, завяжи шарф, вспотела вся, завтра сляжешь с ангиной!
— Дай попить!
— На вот сок, да не разевай рот-то широко, нахватаешься воздуху-то холодного!
Марина пила сок и чувствовала, как неприятно першило в горле. Ну все! Опять пропуски по болезни!
Провалявшись полтора месяца на больничном, Марина поняла, что спорт на свежем воздухе опасен для здоровья. Фолликулярная ангина, хронический тонзиллит, ревматизм, бицилин с новокаином. Ничего, кроме отставания по школьной программе, физическая культура Марине не принесла.
Музыкальная школа стала первой детской взрослой радостью и первым серьезным испытанием. Марина успешно прошла прослушивание. Нестрогие педагоги проверили ритмику и слух и без замечаний приняли девочку, включили ее в списки, и начались Маришкины детские мытарства. Марина захотела учиться играть на пианино. Первый раз она зашла в класс на занятие по специальности, ожидая увидеть седовласую культурную училку, которая, как в кино, вежливо поздоровается грудным, хорошо поставленным голосом: «Ну-с, здравствуйте, барышня. Будем учиться музыкальной грамоте». Фига с два. За столом сидела длинная худющая девица в брюках клеш и что-то жевала, противно причмокивая. Кажется, яблоко грызла. Марина робко зашла, не решаясь поздороваться первой.
— А, здравствуй, проходи, не стесняйся! Ты Марина Толмачева, а я Марина Кузнецова. Марина Владимировна. Твой педагог по фортепиано.
Вежливость молодой учителки немного притупила бдительность, и Марина решила ей полностью довериться. И, как оказалось, напрасно.
— Не-ет! Второй палец, второй, первый, третий! Третий, не тупи! Я сказала, тре-тий! Бестолковая! Первый, потом третий!
— Мне неудобно, третий на первый крестом, я не дотягиваюсь!
— Меня не волнует, дотягивайся!
— У меня пальцы короткие!
— Мозги у тебя короткие!
Эти диалоги каждый урок доводили Марину до слез. «Я ненавижу тебя! И фоно твое ненавижу, и гаммы с диезами, и всю музыкалку твою затопило бы на месяц! Или, лучше, навсегда!» С такими мыслями несчастная Маринка каждый божий день разбирала задания. Дома, что абсолютно естественно, уже стояло новое пианино «Владимир», доводя очумевших соседей до белого каления. Пришибленными ходили не только соседи и Маринка, но и ее брат с сестрой. Маме было все равно, чем создается шум, посудой, скандалами или гаммами. Только Иван Иванович гордился своей способной дочерью и строго смотрел за выполнением домашнего задания по музыке. Сколько раз Марина просила у отца разрешения бросить музыкалку! Сколько училась там, столько и просила. Все восемь лет занятий музыкой не приносили Марине ни малейшей радости. Одно горе. Сущее наказание. Когда Марина доучилась до седьмого класса музыкальной школы, она решила серьезно поговорить с отцом. Она понимала, что бросать занятия за год до окончания школы глупо, но лень и неприятие данного рода занятий приводили ее в ступор. Протест бушевал в ней вместе с гормонами роста.
— Папа, ну пожалуйста!
— Мариша, нет, нет и нет! Год! Остался один год, ты с ума сошла! Ты потом спасибо скажешь, что я не дал тебе разрушить начатое! Вот представь себе, ты вырастешь, станешь взрослой, тебя друзья пригласят в гости. Ты придешь, вы посидите, поговорите, пообщаетесь, вам станет скучно. И вдруг ты скажешь: «А я умею играть на пианино!» Все будут тебя слушать, а ты будешь играть Баха, Бетховена или Моцарта!
То ли папины буржуазные доводы сыграли свою роль в Маринкином советском воспитании, то ли врожденный разум взрослеющей девочки, так или иначе, Марина решила музыкалку закончить. Но отец на свой страх и риск все же разрешил Маринке взять академический отпуск на год. И на выпускном она совсем неплохо сыграла в четыре руки с Мариной Владимировной на двух роялях произведение папиного Баха, получив честную «четверку», и с чистой совестью распрощалась с музыкальным детством. С преподавателем, которая была старше Маринки всего на десять лет, они подружились. Позже, спустя много лет, встречаясь в городе, они искренне радовались друг другу и вспоминали свои взаимные притязания как самые теплые и неподдельные отношения между талантливым педагогом и «способной, но ленивой» ученицей.
В семье Толмачевых не было никаких традиций, общих семейных застолий, не считая ритуала лепки пельменей на Новый год. В этот день отец с утра готовил мясо на фарш, перемалывал его с луком, добавляя водички, перца, и сам его вымешивал, не доверяя это дело женщинам. Иван Иванович вообще любил готовить, но в силу своей партийной занятости редко бывал на кухне. Он был аккуратист, и даже самую простую пищу готовил тщательно и не торопясь, не позволяя себе небрежности, а очисткам и кусочкам — быть разбросанными по столу и в раковине. Хлеб нарезал очень тонкими ломтиками, супчики варил на легком прозрачном бульоне, затем красиво и аккуратно наливал-накладывал пищу в тарелку. Когда готовила Тамара Николаевна, картофельные очистки запросто уживались в раковине с грязной посудой и кусочками недоеденной пищи. Готовила мама очень вкусно и быстро. Видимо, тот хаос из продуктов и вещей здорово экономил время. У матери всегда было много дел, поэтому «расшепериваться», как она говорила, было некогда. Готовые блюда из больших кусков накладывались без изысканной сервировки, что вызывало постоянное недовольство Ивана Ивановича. Буханка хлеба, та вообще резалась порой на четыре куска.
— Тамара, ты что как свинье навалила опять? — отец морщился и пытался один кусок хлеба разделить еще на четыре, аккуратно смахивая крошки в ладонь и закидывая их в рот.
— Жри, давай, молча, не музи кай, — отбрехивалась Тамара Николаевна, — я как про клятая корячусь целый день, тебе еще подавай!
Отец с шумом отодвигал табуретку, швыряя вилку, которая с грохотом падала, ударялась об косяк, и начинался ежедневный семейный разговор. Марина всегда старалась спрятаться в дальней комнате, когда родители выясняли отношения, пытаясь читать, или громко включала приемник, но обидные и грубые слова все же долетали, заставляя ее краснеть, затыкать уши и плакать. «Ну сколько же это может продолжаться? Каждый день одно и то же! Когда я вырасту, я никогда не буду кричать на мужа! Я буду добрая, я буду любить своих детей! Мой муж будет любить меня, мы никогда не будем ссориться! Мне только одиннадцать, как же долго еще надо ждать свадьбы…» Марина понимала, мама плачет каждый день не потому, что папе что-то не понравилось. «Может, он просто разлюбил маму? Всегда поздно приходит, и от него пахнет вином». Мама ругалась страшными словами, кричала, швыряла в него, что под руку попадет, прогоняла его к той, от которой пришел, потом садилась на табурет и опускала голову на сложенные на столе руки. Мамины рыдания и стенания заставляли сжиматься от жалости Маринкино сердце, в тот момент она ненавидела отца, подходила к матери, прижималась к ней и тоже плакала, ей так хотелось сказать что-то в утешение, но она знала, ее утешения матери не нужны; ничего, кроме лютой ненависти, обиды и сумасшедшей любви к отцу, мать не хотела чувствовать. Тамара Николаевна выходила замуж из жалости, Иван ее высидел, как она говорила. Приходил к ней в дом каждый день, приглаживал чуб, завитый щипцами, вставал на колени и плакал.
— Умру, Тамарочка, если за меня не выйдешь.
Папа в молодости плакал из-за мамы, что не выйдет за него, мама в старости — из-за папы, что за него вышла. Маринка и сейчас подошла к матери, обняла ее руку и прижалась щекой.
— Не плачь, мамочка, пойдем спать, уже поздно, — шепотом выдохнула Марина.
— У-у, отцовское отродье! Вся в папашу своего, иди давай к нему, целуйтесь, — Тамара Николаевна зло одернула руку.
От обиды перехватило дыхание, краска залила щеки, боль за мать и жалость к отцу смешались в непонятное чувство отвержения, неприятия близким человеком предложенного утешения, тогда впервые Маринка почувствовала свою никому ненужность.
Отец равнодушно смотрел телевизор, мать, затихнув, сидела на кухне, закаменевшая в своем бабьем горе, сестра с Пашкой закрылись в своей комнате, врубив на полную катушку магнитофон.
Ольге уже двадцать, Пашке двадцать два. Он объявил родителям, что хочет жениться на Тане, девчонке из простой семьи, они уже встречаются два года, но с родителями Пашка ее не знакомит. Он не знает, как сказать своей Танюше, что папа не хочет их свадьбы, что он хочет для сына другую невесту, которая подходила бы папиному статусу.
— Ну, мало ли, веселая да хорошая, рано еще, понимаю, не нагулялся. Присмотреться надо, жена — это тебе не хихоньки да хахоньки. Жена нужна серьезная, надежная, чтоб раз и навсегда.
Пашка подумал: «Ну да, как мать. А как же любовь?»
— А как же любовь, отец?
— Любовь, она потом придет, ты про любовь и не вспомнишь, когда женишься. Там не до любви будет, банки-склянки, пеленки-распашонки. Семья — это не любовь, это ответственность, работа, лямка на всю жизнь.
Что-то не стыковалось в Пашкиной голове. «Лямка, работа, банки какие-то… где свет, где радость? Где сердце, наконец?»
Маринка постучалась к старшим:
— Откройте мне, я к вам.
— Заходи, мелочь, че скребешься, не спишь? — Ольга открыла дверь.
— Не могу уснуть, мне страшно одной. Маринка прижалась к сестре и заплакала.
— Что ревешь? Не реви. Уже привыкнуть должна ко всей этой богадельне, не маленькая.
Маринка хлюпнула носом, вытерла глаза.
— Оль, можно у тебя побуду?
— Ложись давай, сейчас музыку убавлю. Пашка, вали спать, я мелочь уложу, эти теперь до утра собачиться будут.
— Оль, знаешь что?
— Что?
— Я не люблю спать.
— Как это?
— Ну, я не знаю, как объяснить, но я чувствую отвращение ко сну. Я вот, когда знаю, что скоро пора ложиться, стараюсь это время оттянуть подольше. Я прямо сопротивляюсь всеми силами, чтобы не уснуть.
— Э, э, э! Ты давай кончай так думать. Это ненормально, это психушка. Отвращение ко сну, чего придумала! И давно это у тебя?
— Давно. Не очень. Я, когда засыпаю, думаю, что умираю. Я чувствую, что умираю каждую ночь. Когда засну, не страшно, а когда жду сна — очень даже страшно. Когда я сплю, я не живу.
Оля испуганно смотрела на одиннадцатилетнюю сестру. Ощущения совсем не ребенка.
— Мама мне говорила, что смерть — это сон. Умирать не страшно и не больно, и лучше всего умереть во сне, чтобы лечь и не проснуться.
— Маришка, не болтай. Рано тебе о смерти думать. Давай ложись. Я тебе что-нибудь веселое расскажу.
— Сказку?
— Угу, как дед наср… в коляску и поставил в уголок, чтоб никто не уволок.
Марина засмеялась. Какая же Оля смешная. И добрая. И красивая. От нее все время так вкусно пахнет. Марина легла на краешек кровати и задумалась. Она думала, зачем люди умирают, если уже родились на свет. «Надо было в космосе сделать так, чтобы родилось два миллиона человек — и навсегда. Чтобы больше никто не рождался и не умирал. И чтобы они не старели, всегда были молодые и не болели. Но я же могла не попасть в эти два миллиона и не родиться. Нет, как-то по-другому надо. Земля большая, а помещается на кончике спичечной головки…» — проваливаясь в сон, путалась в казавшихся складными мыслях маленькая Маринка. Ей приснился очень красивый сон. Первый раз в ее жизни — цветной и яркий.
На планете По жил Жан, одинокий французский полицейский. Именно французский, это было ясно по его красивому синему мундиру и смешной полицейской шапочке с козырьком и кокардой. Он был невысоким, толстеньким и, как все французы, носатым. Планета была так мала, что на ней смог бы жить только один человек. Она висела в черно-синем космическом небе, усыпанном яркими серебряными звездами. Жан все время грустил, потому что на планете По все время шел дождь и никогда не было солнца, и потому что на планете По никогда ничего не случалось. Жану некого было защищать, некого было спасать, и его работа казалась совсем ненужной, как и сама жизнь. Он сидел у окна, подперев голову пухлым кулачком, и смотрел в космическое небо, а струи дождя лили по стеклу, делая очертания предметов за окном размытыми и дрожащими. Его печальное созерцание сопровождала музыка из альбома группы «Spaсe» — «Ballad For Space Lovers» (это Марина выяснила несколько лет спустя, когда стала взрослой; а во сне она просто слышала красивую мелодию, которую откуда-то запомнила). Однажды, сидя на крылечке своего домика, Жан увидел пролетающую мимо него планету, такую же маленькую, как По. На ней стоял такой же маленький человечек в полицейском костюме и шапочке с кокардой и размахивал руками в радостном приветствии. Он не был грустным, потому что на его планете всегда светило солнце, росли красивое зеленое дерево и большой яркий цветок. Жан стал махать ему в ответ. Но они так и пролетели мимо друг друга, потому что планеты не могут притягиваться. Марина проснулась.
Свернувшись калачиком, Маринка лежала и вспоминала, как мама забирала ее, маленькую, из садика, как она приходила за ней, пахнущая духами, обнимала и целовала. Улыбаясь и шутя, мама заматывала Маринку в огромный пуховый платок и туго затягивала на спине крест-накрест концы шали.
— Мамочка, мне жалко!
— Кого тебе жалко?
— Ну, не жалко, а жалко!
— Да кого же?
— Да дусно мне, дусно!
Марина пыталась вспомнить, когда мама перестала обнимать ее, говорить всякие добрые глупости? Старалась понять: «Меня мама любит? Конечно, любит! Мамы же не могут не любить своих детей! Просто мама очень устает, поэтому злится, — снова вплывая в пока еще детский сон, Марина думала о маме, о сестре, об одиноком Жане. — Я потерплю. Я очень тебя люблю, мамочка…»
***
Машка заворочалась, просыпаясь.
— Муль, когда пришли вчера? — потягиваясь, спросила дочь.
— Часа в четыре.
— Ни фига себе! Что так рано?
— Да вот как-то так. Корпоратив по случаю нового договора устроили, собрались чаю попить. С тортиком. Попили…
— Тортик-то был?
— Не помню, заяц. Вроде, было что-то вкусное.
— Могла бы мне принести в клювике, — Машка закинула ногу на мать, руку на ее шею и задумалась.
— Ма, тебе работать в офисе нравится?
— Вроде, нравится, не знаю. А что?
— Ничего. Я тоже хочу у тебя в офисе работать. У вас весело.
— Ну да, обхохочешься. Особенно по утрам в субботу.
— А ты не оставайся после работы по пятницам. Скажи дяде Валере, что дела дома. Ты же можешь не оставаться?
— Могу.
— Ну вот. И со мной будешь, и болеть не будешь утром. Олег спит еще?
— Да, дрыхнет, они вчера с дядей Сашей за жизнь спорили. Три бутылки водки проговорили.
— Д-а-а-а… Пойду позырю.
— Иди, тапки надень, не ходи босиком. Олег опять скотчем привяжет, вопить будешь.
— Не привяжет, — Машка прошлепала в спальню к отчиму, на ходу влезая в материны шлепки.
Девочка не любила слово «отчим». Но и отцом Олега не называла, звала по имени, хоть и воспитывалась им с двух лет. Они сразу нашли общий язык, не конфликтовали, общались просто, по-дружески. Машка всегда терлась около взрослых, ей безумно нравились родительские тусовки, частые шумные компании, поездки на шашлыки, к кому-нибудь на дачу. Там всегда очень весело, и можно было поздно ложиться спать, смотреть телек, сколько хочешь. Но телевизор включался редко и был менее интересен, потому как, развесив уши, Машка вникала во все взрослые разговоры. Ей очень нравились песни Чижа и как Олег поет их и играет на гитаре. Мама всегда пела с ним, а ее подружки подпевали противными голосами. Петь хотели все, но получалось только у Олега и немножко у мамы. Тетя Света говорила маме:
— Зря ты, Маринка, Машку пускаешь за стол ко взрослым, она тут насмотрится-наслушается — будь здоров! Вырастет — наплачешься.
— С чего это? Она большая уже.
— Да я и вижу. Какая она большая? Сдурела?
— Давай ты сначала роди сама и покажи пример. А время, Светик, покажет, что из нее вырастет.
Тетя Света замолкала, обижалась. Ей уже тридцать, а детей нет. Зато она все знает, и ее мнение — железобетон.
Марина никогда не спорила с подругами. Подруги — это чтобы в перекурах обсудить свой последний долгожданный развод или несчастный брак, выпить шесть бутылок вина на троих, всплакнуть на седьмой бутылке о загубленной жизни и задуматься, идти ли за восьмой. Марина всегда была центром любой компании. Ей всегда были рады, ее звали, расстраивались, если не приходила. Очень веселая и легкая, она никогда не создавала проблем окружающим. Она нравилась, над ее шутками смеялись, ее любили друзья и подруги. Как всякой женщине, Марине нравилось мужское внимание, она допускала легкий флирт. Когда стадия непринужденных шуток плавно переходила к границе сексуального интереса, Маринка давала задний ход. Но ей, почему-то, было всегда неловко. Причем не оттого, что ее хотят уложить в кровать, а оттого, что приходится отказывать. Как будто раз ты позволяла ему двусмысленные шуточки, значит и предполагала продолжение банкета. Она была даже очень коммуникабельна. Говорят, общительность характера часто приводит к неразборчивости…
***
Первый раз Марина вышла замуж в двадцать, ее мужу было тридцать шесть. Она долго и мучительно уводила своего избранника из семьи, от жены и сына, с которыми он прожил пятнадцать лет. Марина даже не знала, любит ли она его, но ей очень хотелось самоутвердиться и доказать тридцатипятилетней жене-старухе, что она крутая, каких свет не видел. Жена-соперница даже пришла к Ивану Ивановичу в горком — жаловаться на его распутную дочь, на что тот, вежливо выслушав посетительницу, изрек:
— От хорошей жены муж не уйдет.
Он знал, что говорил.
Посетительница, в шоке от «их нравов», со словами «яблоко от яблони» вылетела, хлопнув дверью, из главного здания города, полная решимости развода мужу не давать. Марина ждала развода шесть месяцев, и после тяжелых кровопролитных продолжительных боев ее Ярик, наконец, был освобожден. Враг отступил. Что она натворила, Марина поняла намного позже, когда родила. Чувство вины периодически ее посещало, но ненадолго, и все переживания за других, за чужих, она быстро прятала поглубже, не позволяя жалости и сочувствию одерживать верх над своими жизненными планами. А планов было громадье. Выйти замуж, родить ребенка, найти хорошую работу. Работу она нашла. Марина заочно закончила книготорговый техникум в Ленинграде и работала в букинистическом магазине с перспективой стать старшим продавцом, и не была карьеристкой. Замуж она скоро выйдет за Ярика и родит ему сына, потом дочь. Если сможет. Врачи сказали, что последствия аборта на большом сроке непредсказуемы.
Марина познакомилась с Яриком в магазине, когда тот недвусмысленно сообщил, что его жена и сын поехали отдыхать, а в холодильнике курица, а готовить ее он не умеет, и было бы здорово, если бы Марина приготовила ее с рисом. Ну, с рисом, так с рисом. Когда ее стало тошнить, она пришла к сестре посоветоваться.
— Залетела, дура.
Комментарий сестры, почему-то, не удивил. Испуганная, маленькая, она стояла перед Яриком.
— Уже два месяца. С небольшим.
— Малыш, ты сама еще ребенок, куда тебе рожать? — Ярик по-доброму улыбался. — Надо подождать, я даже еще не развелся, зачем нам сложности?
— Но мы же все равно поженимся, пусть и после…
— Марина, тебе восемнадцать. Ты что, а учеба?
— Да что там этот заочный техникум! Что я его, потом не окончу?
— Нет, я сказал, — от доброй улыбки Ярика не осталось и следа. — Нет, и точка. Ищи врача.
Бежать бы ей тогда без оглядки от этого сына степей. И она побежала… Искать врача. В то время его было найти непросто. Все надо было организовать тайно, не подвести отца, скрыть от сослуживцев и мамы. Значит, в консультацию идти нельзя, узнают сразу. Марина вспомнила, что месяц назад к ним в магазин приходил врач-гинеколог с лекцией о вреде и пользе (надо же, у нее, как раз, уже был срок месяц!). «Как же фамилия? Приезжий, из деревни какой-то. Странно, из деревни в город приезжает лекции читать, наоборот бы надо, деревенских просвещать. Оказалось, что просвещать меня надо было, дуру городскую. Чем я думала? Ну ясно, чем. Самонадеянная курица!». Мысли набегали одна на другую. Марина металась в поисках молодого врача-лектора, стараясь гнать от себя главное — Ярик не хочет ребенка, их ребенка. Обижаться было некогда, поджимали сроки. Врача Марина нашла, договорились все сделать в деревне, до которой сорок минут лёту. Дома она сказала, что ее не будет два дня, надо навестить подругу. «Какая у Маринки подруга не в городе живет? — мать насторожилась. — Что там придумала, дурауманет?». Мамина любимая присказка. Так и произносилась одним словом: «дурауманет». Сейчас не обидно, сейчас к месту. В деревню Марина летела на полуразвалившемся кукурузнике. Трясло так, что она не понимала, от чего ее тошнит больше. Странно, но Марина совсем не осознавала, куда летит, зачем? Она не понимала, что едет убивать.
***
Кукурузник, наконец, совершил посадку. Марина, стараясь не обращать внимания на жуткую тошноту, спустилась, держась за воздух, ища глазами своего лектора. Он маячил невдалеке, не особо привлекая к себе внимание. Марина вяло помахала ему, согнувшись, приняла его руку как опору, и они медленно пошли к машине. Убитый УАЗик ожидал на аэродромной стоянке, за рулем белокурый парень с веселым лицом, крутя на пальце брелок, ждал пассажиров. Лектора-коновала звали Алан Латыпов. Типичный татарин — с улыбающимися глазами. Коновалом, конечно, он быть не планировал, когда понял, что его призвание — гинекология. Ему нравилась его специальность. Неплохой заработок, общение с женским полом. В свободное от медицины время доктор увлекался хиромантией. Латыпов и сейчас пытался заговорить дрожащую от страха Марину, предсказывая ее судьбу по линиям руки. Она, наконец, поняла, куда приехала и зачем. Назад пути не было. Нет, конечно, был! Путь назад есть всегда. Всегда есть возможность изменить свое решение. Но почему-то мы, зная, во что влипли, стараемся сделать вид, что это не так серьезно, как кричит тебе твоя совесть. Безысходная обреченность коровы, ведомой на бойню. Марина реально чувствовала себя если не животным, то какой-то марионеткой без тела, без мозга, без логики. Я прилетела, я сижу, я разговариваю.
— Пить хочешь?
— Нет, Алан Гамирович, тошнит очень, и голова кружится.
— Сейчас давление измерим. Мариша, не волнуйся, все сделаем быстро. Потерпи. Гипертонический криз. Сто пятьдесят девять на сто. Перестань дрожать.
Как казалось Марине, Латыпов со знанием дела раскрывал упаковки шприцев, доставал лекарства. Ну, конечно, со знанием, он же врач. Он принимает на свет малышей, девочек, мальчиков, девочек, мальчиков… У Марины мальчик… Она закрыла глаза.
— Вы обезболивающий укол поставите? — тихо спросила Марина.
— Нет. Кончилось все. Только анальгин остался. Обезболит немного.
Марина даже не могла представить, что ее ждет.
— Алан Гамирович, я не смогу. Я умру.
— Не умрешь. Не ты первая, не ты последняя.
Доктор открыл шкафчик, достал две таблетки седуксена, Марина запила их водой из-под крана. Она сидела на стуле около докторского стола и безучастно отвечала на вопросы.
— Сколько тебе лет? Когда первые месячные? Хронические заболевания? Аллергия?
«На фига ему мои месячные? Он даже карту не заведет». Хроническая беспросветная тупая безнадега. «У меня аллергия на совесть».
— Месячные в тринадцать.
Мама отправила в магазин купить хлеба, яиц, молока. Марина бежала, торопилась, размахивая брезентовой сумкой.
— Блин, фигня какая-то, описалась, что ли? Вообще, не смешно. А-а… ясно, — Маринка не поняла сразу, как реагировать. «Блин, че, вот так на улице, по пути в магазин, я стала девушкой?!».
— Ждем двадцать минут и начнем.
Доктор начал считать пульс Марины, которая лежала на «вертолете», совершенно безучастная ко всему происходящему. У нее не было с собой даже пеленки. Холодный металл огибал икры. Седуксен сделал в голове свой собственный «вертолет». «Да-а… Не везет мне с татарами, один не хочет детеныша, другой убивает его «не хочу». Мысли Марины путались, лекарство нисколько не избавило от страха и сильного волнения.
— Марина, поставь ступни.
— Руки куда?
— Руки держи, как хочешь. Сейчас я вставлю зеркала, будет неприятно, делай вдох. Делай то, что я буду говорить.
— Хорошо.
— Саша, иди помоги, все-таки срок. Будь рядом, мало ли…
Улыбчивый шофер оказался ассистентом доктора. Врачом. Спасителем. Убийцей. «А клятва? Ну да. Они же хотят мне добра, они просто помогают мне избавиться от нежелательной беременности. Убивают? Нет, конечно. Убить можно человека, а это эмбрион. Слово какое… эмбрион… плод… все, что угодно, но не человек».
— Вы тоже врач? — спросила Марина.
— Да. Не переживай, Мариша. Мы это каждый день в деревне делаем, да не по разу. Ну, давай начинаем. Вдох!
***
То, что было потом, Марина забыла на всю жизнь. Она никогда не помнила ТУ боль и ТОТ ужас, который пережила за ТЕ полчаса. Позже она могла рассказывать об этом сестре, подругам. У мужчин разговоры про армию, у девчонок про роды. Или аборты. То, что это было убийство, Марина осознала много лет спустя, когда читала в храме Акафист за убиенных младенцев, а сейчас, как многие ее подруги и знакомые, она могла шутить на эту тему, хихикая над скабрезностями старших, более опытных наставниц. Ее начальница отдела в магазине, Люда Виталовская, красивая плавная женщина размером «модель плюс», сделала тридцать семь абортов за тридцать семь лет.
— А что здесь такого? Не успеваем мы со Славиком!
Она многозначительно улыбалась, а Маринка завидовала: «Вот, блин, как любят друг друга! Вот это я понимаю — любовь!..»
***
Марина ВСЕ видела и ВСЕ слышала. Стук, бряцание металла, холод инструментов, острая, ни с чем не сравнимая боль. Бесконечная, бесконечная, бесконечная, бесконечная. «Сколько уже времени прошло? Сколько еще эта пытка будет длиться?»
— Дыши, Марина, дыши. Уже скоро, потерпи, знаю, больно, знаю. Очень больно? — доктор смахнул со лба пот. Что-то шло не так?
Нет, это была не боль. БОЛЬ Марина почувствовала через тридцать лет. «Малыш мой, как же больно и страшно было тебе…» Она стояла на домашней молитве. Слезы текли на закаменевшие губы, сердце не вмещало, сдавило горло: «ПОМЯНИ, ГОСПОДИ, ДУШИ ОТОШЕДШИХ РАБОВ ТВОИХ МЛАДЕНЦЕВ, КОИ… УМЕРЛИ НЕЧАЯННО ОТ СЛУЧАЙНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ИЛИ ОТ ТРУДНОГО РОЖДЕНИЯ… ИЛИ СОЗНАТЕЛЬНО ЗАГУБЛЕННЫХ И ПОТОМУ НЕ ПРИНЯВШИХ СВЯТОГО КРЕЩЕНИЯ… ОКРЕСТИ ИХ, ГОСПОДИ, В МОРЕ ЩЕДРОТ ТВОИХ… И СПАСИ… МЕНЯ, ГРЕШНУЮ МАРИНУ, СОВЕРШИВШУЮ УБИЙСТВО ВО УТРОБЕ МОЕЙ, ПРОСТИ И НЕ ЛИШИ ТВОЕГО МИЛОСЕРДИЯ… БОЖЕ, МИЛОСТИВ БУДИ МНЕ ГРЕШНОЙ… ЗА ВЕРУ И СЛЕЗЫ МОИ… ПО МИЛОСЕРДИЮ ТВОЕМУ, ГОСПОДИ, НЕ ЛИШИ ИХ СВЕТА ТВОЕГО БОЖЕСТВЕННОГО…»
***
Марина лежала на кресле, как распотрошенная курица. Доктор мыл руки, убирал инструмент, собирал личные вещи в дорожную сумку.
— Встать сама сможешь?
— Попробую. Доктор-ассистент подал Марине руку, она с трудом приподнялась, села, тупо смотря на окровавленные бедра. Руки на запястьях, тыльная сторона ладони, пальцы были красно-синие. Следы зубов овалами поднимались до локтей. Она кусала их, кричать было стыдно.
— На пеленку, замотайся пока. Там умывальник, вата, если надо, марля в шкафу. Ты как сама?
— Голова кружится.
— Это от седуксена, не скоро пройдет.
Марина зашла за ширму, вытерла просохшую кровь куском влажной марли, оделась, вымыла руки, умыла лицо, посмотрела в зеркало. На нее смотрела чужая женщина. Взрослая, жесткая, страшная. Другая. «Поздравляю тебя. На что же еще ты способна, девочка?» Марина постаралась пригладить спутавшиеся волосы. Ее шатало, как кошку после наркоза. Какая пустота внутри… Пустота в душе. Душа сжалась от страха в крошечный комочек. Пустота в теле, там, где совсем недавно билось крошечное сердце ее сына. Она вырвала его по кускам железными щипцами, она разрешила ему биться лишь два с половиной месяца. «НЕ ЖИВИ, Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ ЖИЛ. Я НЕ ХОЧУ ВИДЕТЬ ТВОИ ГЛАЗА С ПУШИСТЫМИ РЕСНИЧКАМИ, ВДЫХАТЬ ТВОЙ ДЕТСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАПАХ. ТЫ МЕШАЕШЬ НАШИМ ПЛАНАМ. ПОЭТОМУ ПАПА РЕШИЛ УБИТЬ ТЕБЯ, И МАМА СОГЛАСИЛАСЬ. НИЧЕГО УЖЕ НЕ ИСПРАВИТЬ. НИКОГДА. НО ТЫ БУДЕШЬ ЖИТЬ В МОИХ СНАХ. ТО УЖЕ СОВСЕМ ВЗРОСЛЫМ, ТО СОВСЕМ МАЛЫШОМ. МЫ БУДЕМ РАЗГОВАРИВАТЬ С ТОБОЙ, И ТЫ НЕ БУДЕШЬ ДЕРЖАТЬ НА МЕНЯ ЗЛА, ВЕДЬ ТЫ ЗНАЕШЬ, Я НЕ ХОТЕЛА. И ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ. И РУБЕЦ РАЗМЕРОМ С ДУШУ — ЕГО НИКТО НИКОГДА НЕ УВИДИТ. НИКТО, КРОМЕ НЕГО. ТОГО, С КЕМ ТЫ СЕЙЧАС».
***
— Оле-ег! Вставай, вставай, надо просыпаться! — Маша вскарабкалась на гору из туловища и одеяла.
— Машка, дай поспать, кому надо, пусть просыпается, выходной же. А-а, как башка трещит… Мама встала?
— Пытается.
— Болеет?
— Еще как!
— Бедолага. Да, надо вставать. Машка, за пивасером сгоняешь в ларек?
— Бли-и-ин, опя-а-ать! Одеваться надо!
— Собачку прогуляешь заодно. Сгоняй, лапа моя!
Машка натянула джинсы, свитер, кроссовки.
— Ма, меня Олег в ларек послал за пивом, на ручку-бумагу, пиши записку.
«ПОЖАЛУЙСТА, ПРОДАЙТЕ ДЕВОЧКЕ ШЕСТЬ БУТЫЛОК ПИВА „БАЛТИКА N7“ И ДВЕ ПАЧКИ СИГАРЕТ „ЧЕСТЕР“. РОДИТЕЛИ. СПАСИБО». Машка взяла записку, нацепила Мухе ошейник, и они пошли спасать непутевых родителей. Пока семилетняя Муха аккуратно, как подобает девочке, писяла в палисаднике, Машка болтала со своей подружкой, одноклассницей Илонкой, которая жила в соседнем подъезде.
— Машка, слышала? Женька на конюшню устроилась, за лошадями ухаживает. Катается потом, сколько хочет. Может, попросимся у нее тоже туда?
— Бли-ин, супер! Давай зайдем к ней, спросим! Пошли до ларька со мной!
— А че в ларьке?
— Пива родителям, себе тоже че-нибудь возьмем.
— Давай.
Машка протянула записку в окошко. Продавщица, ничуть не удивившись, прочла, загрузила требуемое в пакет, отсчитала сдачу. Девочки перешли дорогу, звеня тяжелыми пакетами и таща за собой упирающуюся Муху, та, как всегда, не нагулялась и «делала вид, что еще не доделала свои дела», как говорила Машка.
— Смотри, дядя Паша твой! Здрасть, дядь Паш!
— Привет, девчонки! Привет, Машунь!
— Привет, дядь Паш! А мы в ларек ходили за пивом.
— Ясно, — не удивился Пашка. — Как мама?
— Нормально. Отдыхает. А ты куда?
— А я в гараж. Маме-Олегу привет!
— Давай, передам. Пока!
***
Паша, брат Марины, с женой Леной жили в доме напротив. За свою долгую совместную жизнь они так и не завели детей, но, чтобы было о ком заботиться, они завели здорового кобеля, ротвейлера. Сказать, что Пашкина жизнь не сложилась — это ничего не сказать. Он тяжело переживал расставание с институтской любовью и по окончании учебы в вузе сразу загремел на полтора года в армию. Ему светила служба в Самарканде, но Тамара Николаевна сказала, только через ее труп. Паша слабенький, там адская жара, дизентерия и вообще. По ее мнению, условия, приближенные к санаторным, были бы самыми приемлемыми. Паша, действительно, был худеньким, среднего роста парнем
с модными висячими усами и длинными волосами. Друзья-болгары, учившиеся с ним на одном курсе, подарили ему немыслимые бежевые брюки-хэбэ в обтяжку и научили готовить помидоры «по-български». Берешь банку помидоров в собственном соку, вываливаешь их в глубокую миску, добавляешь нарезанный тонкими кольцами репчатый лук, крупно молотый черный перец, соль и растительное масло, лучше подсолнечное. Можно с запахом семечек, кому как по вкусу. У Марины в семье делали с маслом без запаха. Потом настоявшуюся ароматную жижу замакивали мягким хлебом. Еще болгары Костя и Коля подарили Пашке деревянную ложку, на которой было выжжено паяльником «Исчи мъясо». Маринке очень нравился Костя, нравился прямо не по-детски. Она очень сокрушалась, что ей только шесть. Костя это видел и смеялся над «невестой». Смех смехом, а Маринка всерьез думала предложить Косте ее дождаться, ну, пока вырастет хотя бы до шестнадцати. Но Костя после учебы вернулся в Софию, и Маринка, погоревав, стала присматриваться к детсадовским однокашникам.
Паша отслужил в Германии. Это Марина так думала, ей так сказали. На самом деле Паша послужить успел совсем чуть-чуть. За неуставные отношения он почти сразу на весь срок загремел на губу. Ему показалось, что офицер как-то невежливо к нему обратился. Без уважения, что ли. И врезал ему по физиономии. Солдат — офицеру. Скандал замять не получилось, но в послеармейских байках эта часть истории почему-то Пашей никогда не упоминалась.
Пока Пашка служил, ему писала миловидная Леночка, девушка, с которой он учился с первого класса. Высокая, очень худая, с «бабеттой», которая делала ее еще выше. Лена очень хорошо училась, была активна в общественной работе, хотела сделать карьеру по комсомольской линии и очень нравилась Ивану Ивановичу.
— Вот девчонка молодец! Знает, чего хочет от жизни. Жена тебе такая нужна!
После окончания физфака Лена преподавала в школе физику. Писала Паше в часть и ждала его из армии.
Приглашений на свадьбу разослали штук семьдесят. Тринадцатилетняя Маринка накануне свадьбы, засыпая, услышала через стенку странный разговор.
— Отец, не могу я… Пойми!
— Ты что творишь?! Ты не понимаешь, КАКИЕ люди приглашены?! Завтра свадьба, неделю назад все приглашения разосланы! Что за блажь, понимаешь!
— Отец, пожалуйста!.. Я не хочу…
— Закончен разговор!
— Папа…
…Ба-ба-ах дверью!..
«Неужели?.. Ой, Пашка, ни фига себе,.. — сон Маринки как рукой сняло, — надо Оле рассказать».
— Оль, открой!
— Ну че там? Лаются?
— Ага, вроде, Пашка жениться не хочет. С папой говорил.
— Да я давно знаю. Сам дурак, дотянул до этого. Хотя мне его жалко. Это ж навсегда. И Ленку жалко. Тоже дура, все знала и глаза закрыла.
— Что знала?
— Что надо, тебе знать не надо.
***
Теперь за Пашу думала Лена, они все-таки поженились. Тамара Николаевна была очень рада за сына, и Лена ей нравилась, не вертихвостка, серьезная, воспитанная. Пашка был маминым любимчиком, Оля это чувствовала, это было видно даже Маринке.
— Такой лапочка был в детстве, такой красивый, вылитый херувимчик! — умилялась Тамара.
К пятидесяти годам «херувимчик» весил под сто двадцать килограммов. Карьеру нефтяника он не сделал, связи отца, как тот ни старался, Паше не помогли. Когда Иван Иванович был у руля, он как мог помогал сыну. Квартирой, работой, советом, деньгами. По словам отца, Паша профукал все, кроме квартиры. На пенсию он вышел озлобленным и обиженным на весь свет. Лена сделала карьеру и профессиональную, и политическую. Марине всегда ее было очень жалко, Лена тянула жилы и за себя, и за своего мужика. Пашка не мог удержаться долго ни на одной работе, амбиций было много, а желание работать отсутствовало напрочь. Он так и проболтался до пенсии непонятно кем. Друзей растерял, любовь не сохранил, ума не нажил. Окончательно убедившись, что не смогут иметь детей, они приняли решение взять ребенка из детского дома. Отца Лена похоронила несколько лет назад, ее мать давно ждала внуков, поэтому молодые пришли за советом и поддержкой к Пашкиным родителям. Тамара Георгиевна, поджав губы, сказала:
— Дело, конечно, ваше, но любить его как своего я не буду.
— Да зачем вам эта канитель с усыновлением? Живите для себя, делайте карьеру. Вот придумали, тоже, из детдома. Чужой же совсем! А если от алкашей? Или наследственность? — Иван Иванович, редчайший случай, супругу поддержал.
«У меня своя наследственность — всем наследственностям наследственность», — подумал Пашка. Но сильно не расстроился, видимо, не очень-то и хотел.
Пес Минька был единственной его искренней привязанностью. Он всегда сам гулял с собакой. Марина частенько издалека наблюдала, как по ту сторону речки-вонючки, протекавшей у их двора, огромный кобель-медалист, высунув на бок красный язык, тянет за собой еле поспевающего, семенящего Пашку с палкой в руках. Зрелище было то еще. Набранный к шестидесяти годам приличный излишек веса мешал Пашке резвиться наравне со псом. Но он по-честному занимался с собакой, и Минька на всех выставках занимал призовые места, не говоря уж о том, что все девочки-ротвейлерши мечтали родить Миньке детей. По паспорту он был Лорд Мистико, а Минькой — для своих. Минька прожил двенадцать лет. За эти годы к Пашке с Леной прибились еще две маленькие потешные дворняги — Бинго и Антей. Лена всегда гуляла с малышами, а Пашка — с Лордом Минькой. Помимо забот о своих собаках она каждый день готовила и носила еду без перерывов щенившейся суке, которая устроила для своих щенков гнездо под мостом, около трубы теплотрассы. Иногда щенков умудрялись пристраивать с Лениной помощью; она очень любила своих и безумно жалела бездомных тварей. Лена много раз хотела развестись, но так и не смогла на это решиться. Она жила своей любимой работой и надеждой исправить Пашку. Пашка жил собаками, водкой и надеждой повесить всех жуликов и воров.
— Дали бы ружье, всех бы, на хрен, расстрелял! И ни одного черного бы не оставил!
— Да чем же они тебе лично помешали? — Лена была миролюбива и терпелива ко всему происходящему в стране, мире и своей семье.
— А тем!
— Ну чем? Паша, чем?
— А ничем! Б…ь, понаехали! Так тебе, скотина, и надо! — злорадствовал Пашка, увидев несчастного водителя, растерянно стоявшего у своей разбитой в аварии машины. — Не умеешь ездить, сиди, сука, дома!
— Да он-то причем? Не его же вина?! Тебе что, его совсем не жалко? А если б ты так попал? — Лена искренне возмущалась равнодушием мужа.
— Какое, на х…, жалко?! Понакупили прав, собаки! Буржуи, олигархи, разворовали страну, б…ь!
— Паша, да причем тут страна? Мужика какой-то нахал на иномарке подрезал. Олигархи его, что ли, твои подрезали?
— Да пошли все на…! И ты туда же!
Так заканчивались все семейные разговоры.
Они ни разу не были вместе в отпуске, в последние годы вместе не ходили в гости. Друзья сначала их приглашали, но Пашка напивался и начинал всех обижать, невзирая на лица. Лене было очень стыдно, и все чаще она стала отказываться от приглашений, а потом друзья и вовсе перестали их вспоминать, планируя дружеские посиделки. Все праздники Лена проводила у Нины, своей старшей сестры. В отличие от ее семьи, семья Нины была образцово-показательной, дружной, крепкой и вечной. Муж Нины по молодости сильно пил, но смог бросить сам, без всяких кодировок и торпед. Мужик сказал — мужик сделал. Лена не переставала ставить Василия в пример, чем доводила до исступления и без того до предела раздраженного Пашку.
— Пошла ты на …!
Вот и весь пример.
Выпивая, Пашка доходил до двух стадий. Когда он пил и был весел, он начинал вдруг разговаривать по-немецки, причем языка не знал вовсе, и тщательно произносившееся с хорошим немецким акцентом «унх цвайден зи ахтунг ауф дитрих ди шольц» говорило о средней степени потребленного напитка.
«Лен, Пашка сегодня немец или херувимчик?» — что означало: трезвый или нет?
Вторая стадия… Страшно вспоминать. Ленка ставила примочки на синяки и собирала остатки переломанной мебели. Вызывала «скорую» для умирающего Пашки, и его, абсолютно бесчувственного, соседи помогали загружать в машину. Два-три дня он отмокал, молчал. Ему было очень плохо и иногда совсем не хотелось жить. Но он вспоминал Ольгу, родительское горе по ней, и остатки совести заставляли гнать малодушие.
Зависимость от отца в молодости, точнее, нежелание быть самостоятельным и стремление жить на всем готовом, его житейская несостоятельность в зрелости, патологическая лень и равнодушие, в конце концов, привели Пашку к тому душевному состоянию, из которого он очень хотел бы выбраться, но уже не мог. Ее величество гордыня полноправно властвовала в его душе. В светлые минуты терзания совести Пашка разговаривал с Мариной, жаловался, что очень устал — от всего и от всех.
Ленин звонок раздался поздно вечером.
— Марина, слушай, Паша что-то задумал! Он три дня пил, сегодня с утра собрался куда-то, со мной не разговаривает! На работе его ищут.
— В смысле?
— Я сейчас пришла с работы, дома на кухне, на столе, записка, — Лена взволнованным голосом прочла: «Прости меня, я очень устал, так больше не могу. Не ищите меня». — Марина, надо что-то делать! Поехали!
— Куда поехали? В гараже была?
— Была, машины нет.
— На даче?
— Нет, надо до дач съездить!
— Ты давай бери такси, езжай до дачи, родителям пока не говори ничего. А ты ему звонила?
— Он трубку не берет. Он точно что-нибудь с собой сделает!
— Успокойся, раньше времени не кипятись. Сейчас попробую разнюхать.
Марина набрала номер мобильного Пашки. Гудки. Телефон в зоне действия сети. Марина периодически повторяла набор.
— Да! — неожиданно раздалось на том конце.
— Пашка, ты где? С тобой все в порядке? Ленка тебя потеряла!
— Я в Турции, Маринка!
— Паша, ты больной?! Ленка на уши всех поставила! Мы с ума сходим! В какой Турции?! Что ты там делаешь?!
— В пятизвездочный отель устраиваюсь! — радостно кричал Пашка.
«Да-а, ну, он явно не вены резать туда поехал». Марина не знала, как реагировать.
— Какой отель, а работа? А Ленка?
— А я их всех послал! И работу, и Ленку!
«Надо Ленке звонить».
— Лена! Нашелся твой клоун.
— Что с ним, он где? — с тревогой выдохнула Лена.
— Да нормально с ним все. Ты только не убей его, когда приедет, он загорать полетел в Турцию.
— Как загорать? В какую Турцию? На чем? Когда?
— Ну, на самолете, наверное, если за день управился. Бедная ты, Ленка. Не дай бог кому такое счастье. Давай спать ложись. Деньги-то у него откуда?
— На ремонт дачи копили.
Вернувшись с курорта заметно отдохнувшим, без копейки денег, Пашка пытался пробудить свою совесть.
— Я подонок. Как меня земля носит?
— Пашка, пить завязывай! Жалко же тебя, откуда здоровья столько? Море водки, наверное, за жизнь выжрал. Ленке весь мозг вынес, плачет постоянно, пожалел бы и ее, и себя. Родителей, в конце концов!
— Да знаю я, Маринка, говно я.
— Оттого, что ты знаешь, людям не легче, хоть мать с отцом пожалей!
Пашка с Мариной сидели во дворе, на скамье у подъезда. Он тяжело молчал, опустив голову. Думал.
— Пойду я, — сказал Пашка, подумав. И пошел в ларек за полуторалитровкой пива.
«Да-а, тяжелый случай, — подумала Маринка, — горбатого могила исправит».
— А не надо было ему маленькому жопу целовать! — Иван Иванович придерживался мнения, что во всем виновата мать. — Сюсюкалась с ним, до двадцати лет подтирала, теперь расхлебывай!
— А, ищ-що! Я виновата, конечно, кому ж еще! Пока ты водку жрал с журналисточками, я их одна троих тащила, а теперь я виновата! Ничо-ничо, бог не Антошка, видит немножко! Отольются кошке мышкины слезы!
— Не Антошка, понимаешь… Я работал! Я всю жизнь пахал на семью! Кто вас содержал?! Вы бы без меня дерьмо жрали!
— Нужна мне твоя «содержал»! Лучше дерьмо жрать, чем то терпеть, ЧТО я всю жизнь терплю!
И понесло-о-сь…
***
Беспредельный эгоизм на благоприятной почве родительской вседозволенности приносил свои сочные плоды. Марина не считалась ни с чьим мнением — ни родителей, ни брата, ни сестры, ни учителей. В школе проблем не было, училась она хорошо, вяло участвовала в жизни класса, была умеренной активисткой, безыдейной комсомолкой, не спортсменкой. Марина не умела проигрывать, ее позиция была единственно правильной. Она спорила до кровной обиды, доказывая что-либо оппоненту, даже не будучи до конца уверенной в своей правоте. Маринка часто грустила без причины, раздражалась и стала плаксивой, дочкины перепады настроения, от слез до дурашливого смеха, настораживали мать. Дочь была скрытной, поэтому Тамара Николаевна не могла заподозрить, что неудачный опыт первой любви был причиной ее эмоциональных метаний.
Когда Маринке исполнилось шестнадцать, она влюбилась. Той самой-самой первой, девической, любовью, когда потеют ладошки от одного вида своего избранника. Когда от мимолетного взгляда на него сердце то бьется, то замирает. Маринка приходила из школы и подбегала к окну. Дима жил неподалеку, в частном доме напротив, и из окна Маринкиной комнаты был хорошо виден их двор, большой ухоженный участок, гараж на две машины, небольшой садик и собачья будка с надписью над влазом: «БАРОН». Несколько взъерошенных кошек периодически нарезали круги вокруг собачьего жилища, прежде чем с нечеловеческим криком (ну да, они же кошки) взлететь на дерево. Иногда Дима выходил во двор и разговаривал с собакой. Огромная дворняга утыкалась ему в живот. Маринка с замиранием сердца смотрела, как Димка ласково трепал пса за ухом, гладил его по огромной голове, и с досадой думала, почему она не собака.
В Диму были влюблены все девчонки в классе. Он так сильно отличался от других парней, будто вырос где-то за границей. Отутюженные брючки, наглаженные рубашки с легкими шарфиками, небрежно спрятанными под воротничком, всегда такие чистые, словно их у него триста шестьдесят шесть в году; дорогая импортная обувь, бесконечные пуловеры, джемпера и не менее валютные водолазки под клубным пиджаком. Весь этот дефицит на высокой стройной фигуре венчала белокурая голова с густыми волосами, зачесанными назад и слегка набриолиненными. Когда он вскидывал длинные ресницы, Маринка ныряла в его бездонные темно-голубые глаза, и ей совершенно не хотелось всплывать. Чистая кожа, легкий румянец и потрясающее чувство юмора. Он знал, что нравится всем без исключения, но никогда не пользовался этим кому-либо во вред, потому что его родители до мозга костей были интеллигентными людьми и воспитали мальчика белой вороной. Он не гонял с пацанами по двору, не курил тайком у речки-вонючки за сараями, не пил портвейна и не ругался матом. Его папа был зубным техником. А мама — домохозяйкой. Если бы он захотел, ему разрешили бы курить дома. На его семнадцатилетие родители купили настоящее шампанское, и какая нужда пить при этом в подворотне портвейн? Но курить он не хотел, а на день рождения пригласил самых лучших, по его мнению, девочек из класса. Когда Маринка узнала, что она попала в их число, она заболела. Ее так лихорадило, что Тамара Николаевна всерьез решила вызвать скорую.
— Тебя чего трясет-то так? Температура, что ли? Давай врача вызовем, может, заразу подхватила какую?
Но зараза эта называлась первой любовью, и вылечить Маринку могло только ответное чувство. Она никоим образом не давала понять, что влюблена. Делала вид, что ей на него ровно. Огромными усилиями всего встряхнутого гормонами организма она создавала легкость и беспечность в их общении, непринужденно шутила и сама искренне смеялась его шуткам. Случайные прикосновения, когда они все вместе дурачились и толкались и как бы в шутку обнимались, прошибали ее, как током. Она ждала этих первых взрослых касаний, но все равно уворачивалась от Димки, когда он, шутя, неуклюже-грубовато, как будто он уже взрослый, обнимал ее за плечи или притягивал к себе за шею. К шестнадцати годам Маринка из худого воробышка переросла в стройную, симпатичную, веселую и компанейскую девушку с модной стрижкой и импортными батниками с базы, которой заведовал партийный друг Ивана Ивановича. Все девочки с замиранием несчастных сердечек ждали: ну кто же? Кто станет Димочкиной избранницей? Но Дима ко всем относился одинаково, не выделяя никого. Может, день его рождения что-то прояснит? Во всяком случае, он сузил круг возможных претенденток до количества приглашенных на его праздник. Девочек было шесть. Женя Михайлова, Алла Челза, Ленка Фокина, Лида Дрягина, Катя Лужина и Маринка. Все почти умницы и почти красавицы. Пятьдесят на пятьдесят.
Войдя в дом, Маринка ощутила, что попала в какую-то старинную усадьбу. После родительской трешки-хрущевки дом Берковских казался огромным. И фантастически богатым! Хрусталь, добротная массивная мебель светло-орехового дерева, диковинные чайные сервизы и серебряные столовые приборы. Ковров было немного, и они не висели на стенах, а уютно лежали на паркетных полах. В гостиной был накрыт большой круглый стол, покрытый белоснежной накрахмаленной скатертью, а всё посудное великолепие было красиво разложено и расставлено на семь персон, из чего можно было сделать вывод, что всем этим в семье пользовались, а не просто приобретали, как музейные экспонаты. Благоухающая французским ароматом Димкина мама Эмма Эммануиловна встретила и рассадила стесняющихся девочек, принесла из кухни дымящуюся, запеченную в духовке, фаршированную черносливом, курицу и несколько салатов, пока папа Леонид Борисович разливал холодное праздничное шампанское по хрустальным бокалам. Эмма Эммануиловна была одета в умопомрачительное яркое бело-желто-алое короткое платье и ходила по дому в черных лакированных туфлях на шпильках. «Как же красиво они живут! И как необычно разговаривают друг с другом, как не из нашего времени…» — думала Маринка. Она чувствовала себя Золушкой после двенадцати. Да-а, что тут скажешь? Порода. Позже, когда Марина видела несоответствие дорогих шмоток воспитанию и речи, она мысленно произносила расхожую фразу: «Бабу можно вывезти из деревни, а деревню из бабы — никогда» — и вспоминала именно Эмму Эммануиловну.
— Девочки, отдыхайте, веселитесь, мы с Леонидом Борисовичем уходим в гости. Придем поздно. Дима, будь умницей, не оставляй девочек одних. Шампанское в холодильнике, если не хватит. Ну все! До свидания, мои хорошие!
Леонид Борисович накинул на плечи жены норковое манто. Маринка судорожно сглотнула и впала в депрессию. Прямо с начала праздника.
Нет, конечно, у Маринкиных родителей были дома хрустальные бокалы и стаканы, и сервиз немецкий был, и продукты дефицитные отец приносил из спецбуфета. Но стаканы блестели не так, а ковры висели на стене, как у миллионов счастливых советских семей, и курица просто жарилась, а не запекалась с черносливом; и манто у матери было, пусть и германское, но из чебурашки. Взрослой Марина тосковала по этому времени. По запаху до золотистой корочки зажаренной курочки с чесноком, по маминым простым сочным беляшам и пышным расстегаям, по новогоднему оливье. По девичьим посиделкам с сестрой, когда они, обнявшись, шушукались с Олей на мягком ковре, спадавшем со стены на полуторный старый диван. По маминому манто из чебурашки, которое Маринка носила беременной, потому что больше ни во что не влезала, и эта широкая старая шубка честно спасла Маринку от холодов. Тоска эта пришла потом, и советские атрибуты ее детства и молодости уже не казались такими убогими и воспринимались как глобальная потеря чего-то настоящего.
В тот вечер у Берковских Маринка познакомилась с завистью и, как следствие, углубившимся комплексом неполноценности и неприязни к родителям-простакам. Пройдет очень много лет, прежде чем Марина помудреет и научится быть благодарной. И научится сравнивать свое состояние — и материальное, и душевное — с тем, у кого оно хуже, а не лучше, чтобы жизнь не казалась таким дерьмом.
«Как же убого мы живем! Грубо, хамски, надрывно. Ни легкости, ни пространства. Не говоря уже о паркете и манто…» Вернувшись мыслями к текущему событию, Марина заметила, что их за столом уже семеро. То есть пришли все девочки, и они больше никого не ждут. То есть Дима не пригласил ни одного парня. Странно, конечно, но хозяин — барин. Оказалось, Дима был жестоким мальчиком. И самонадеянным. Он хотел блистать один среди девчонок, быть для каждой из них единственным, чтобы ни одна из них не смогла его сравнить с тем, кто может вдруг оказаться красивее, интереснее или умнее. Чтобы быть лучшим, не обязательно с кем-то соревноваться, можно просто себя ни с кем не сравнивать и думать, что ты самый-самый. Позиция не уверенных в себе трусов-позеров. Без борьбы нет победы. Но Марина об этом не думала. Она разглядывала своих одноклассниц. «Кто же из них?..» Свои шансы Маринка расценивала двадцать на восемьдесят.
«Женя Михайлова. Кареглазая, коренастая, длинноволосая крашеная блондинка с очень миловидным лицом и матовой чистой кожей. Навряд ли, грубовата для рафинированного Димочки. Походка широкая, размашистая, чуть бочком. Фигура никакая, совершенно плоскогрудая, без талии, но ноги красивые. Явный лидер и в классе, и в компании. Свой парень. Нет, раздавит Димку.
Алла Челза. Среднего роста, темноволосая, с короткой стрижкой и огромными серыми глазами. Тихая, миловидная, ухоженная девочка, красивая, ладная фигурка, немного угловатая. Умненькая и спокойная. Пресновата для именинника, от скуки сдохнуть можно.
Лида Дрягина. Рыжая хохотушка, чуть полновата. Веснушек миллион! Вот уж с кем не соскучишься, так это с Дрягой! Она, вообще, умеет плакать? Или расстраиваться? Вряд ли. Но не Димкин типаж, явно. Они вместе как коромысло на принцессе, ну, в смысле, как принц с гармошкой. Не пара, короче.
Катя Лужина. Да, вот это явная соперница. Хочет быть манекенщицей и имеет для этого все необходимое. Гордая осанка, высокая. Длинные каштановые волосы, карие глаза, умопомрачительные ноги. Из очень хорошей семьи: мама — врач, папа — инженер. Она, конечно, мало говорит. Но зато как красиво молчит! Ей вообще говорить не надо, на нее можно просто смотреть. А грудь!“ — Марина обвела взглядом всех девчонок. „Да, грудь среди всех них есть только у Лужиной. Ну почему мне так не везет? Димка будет явно с Катькой. Воображала, глупая куропатка! Почему куропатка?.. Да потому, что глупая! Зато Димочка умный. Он умный. А она красивая. Вот и замечательная пара…». Настроение совсем упало. Марина не хотела уже ни шампанского, ни разговоров, ни игр в фанты. «Что толку играть в фанты с одним мальчиком? Глупость какая. Пусть играет со своей Катечкой во что хочет… Правда, еще осталась Ленка Фокина, но ей на Димку наплевать, она любит Сережку Алтарева, и у них все взаимно».
— Потанцуем? — Дима стоял около кресла Марины, протягивая ей руку.
Сердце Маринки зашлось. До самого кадыка.
«Интересно, у девочек есть кадык?».
— Потанцуем, конечно.
«Е се тю н екзист э па, — проникновенно пел Джо Дассен, — э муа пуркуа жекзистере…». Дима, с прозрачными, блестящими от выпитого шампанского глазами, обнимал безвольную от счастья Маринку за талию. Танцевать он не умел, и они неловко топтались в такт красивой музыке о любви, захмелевшие от свободы, вина и, каждый от своей, влюбленности.
— Ты что такая грустная сегодня?
— Да нет, нормально все.
— Тебе скучно, что ли?
— Да нет, не скучно. А тебе с нами не скучно? Пригласил бы пацанов.
— Не, мне некого приглашать.
— У тебя что, совсем нет друзей?
— Представь себе, нет.
— Да-а, тяжелый случай…
Музыка закончилась.
— Дим, проводи. Я домой.
— Что так рано?
— Спать хочу, проводи. До дверей.
— Я бы до дома проводил, но сама понимаешь, девчонок же не оставишь одних.
— Дим, я же сказала. До-две-рей!
Марина пошла в прихожую и неловко переобулась из туфелек в уличные сапоги. Она не любила переобуваться на людях. «Стоишь, как дура, жопой кверху или враскорячку!»
— Толмачева! Подожди меня, я с тобой! — Ленка Фокина стала собираться, — Димка, все было вкусно и здорово, родителям спасибо скажи, пирог — чума!
Марина, не оглядываясь, вышла. Она не сказала «спасибо» и «до свидания», она уже поняла, что никакого свидания у них не будет. Что Дима ее — самовлюбленный эгоист, ледышка и пижон.
— Марин, подожди, — невысокая Фокина догнала убитую подругу, — ты что, из-за Димки, да?
— Да пошел он! Ни два ни полтора! Сказал бы уже, а то водит за нос всех, придурок! Пуп земли!
— Так ты это… ты что, не знаешь ничего?
— А чего я должна знать? — Толмачева остановилась посреди дороги и посмотрела на Ленку в упор.
Фокина мялась, она не хотела добивать подругу.
— Сказала «а», говори «гэ».
— Да, гэ и скажу. Он, это… в общем, Димка Женьку любит уже давно…
— Михайлову?! Женьку?! Не может быть! Это же гром-баба!
— Да, уже все знают.
— А я почему не знаю?
— А ты конкретно не говорила, что Димку любишь, я и не говорила.
— Ну и где логика в твоем объяснении?
— Ну да… логики нет…
— А она?
— Что она?
— Да говори уже, что знаешь! Что ты, как эта!
— А она его отшила. Но около себя держит, не отпускает далеко, играет им, как кошка с мышкой. То приблизит, то отпустит. Он как паж у нее, любую прихоть выполняет. Она говорит: ты мне нравишься как друг. А девкам сказала, в Димке мужского начала нет. Слушай, я тебе ужасную вещь сейчас скажу, только ты никому, ладно?
— Ну?
— Она с ним переспала.
— Да ты что?! О-бал-деть! Женька?!
— Ага, ужас, правда?
— Ну, тогда все ясно с Димочкой. Учительница первая моя.
— Ну. Видите ли, в нем нет мужского начала. Видать, уже разбирается в мужских началах и концах.
Лена и Марина были девочками домашними и даже не думали начинать взрослую жизнь, не закончив школу. После школы Димкины родители развелись, так же культурно и с достоинством, как жили. Папа женился на женщине на тридцать лет младше себя, Димка с мамой уехали в Калугу, там он расписался с безликой Надюшей, родил дочь и назвал ее Женечкой. Еще много лет он писал и звонил Жене Михайловой. Через семь лет развелся в надежде быть с любимой рядом. Но Женя вышла замуж и создала обычную советскую семью, подурнела, располнела и так и не осчастливила Димку своим присутствием в его жизни.
Весь год Марина страдала и мучилась от неразделенной любви. Настроение менялось по нескольку раз на дню. Веселое возбуждение резко сменялось унынием. Тамара Николаевна с тревогой наблюдала за Маринкой, которая все чаще замыкалась, подолгу закрывалась в своей комнате, не пуская никого, кроме Оли. «Неужели и Маринка?..» — Тамара Николаевна старалась гнать от себя тягостные и страшные мысли. Дочь огрызалась, хамила, не стесняясь повышать на мать голос. Часто Марина замирала на кровати в позе эмбриона и, не шевелясь, часами лежала в бездействии, прокручивая в голове события жизни родителей, Ольгиной и своей, или целыми днями валялась на диване, болтая с подружками по телефону.
«Боже, за что мне это? — мысли Тамары Николаевны возвращались в прошлое. — Неужели и эта в деда?..»
***
Дед Иван в тридцатые-сороковые служил помощником прокурора. Арест его самого миновал, но, оставив службу по состоянию здоровья, Иван Петрович засел на чердак, сделав там рабочий кабинет, и целыми днями тихонько строчил математические формулы. Бабка Марины, Алевтина, его супруга, сокрушалась и радовалась одновременно. «Плохо, что так накрыло, да хорошо, что по-тихому». Тамара Николаевна, разбирая вещи на чердаке перед переездом с семьей в Северогорск, нашла несколько тетрадей, исписанных мелким каллиграфическим почерком с формулами, выводами, частями таблицы Менделеева, схемами и графиками. «Вообще, зря, — думала Маринка, — родичи заподозрили деда в „ку-ку“, им бы все эти тетрадки какому ученому отдать на дешифровку, а вдруг дед какое открытие совершил?!». Маринка очень гордилась своим дедом, и особенно тем, что он служил в прокуратуре. Что такое ГУЛАГ, репрессии и реальная диктатура пролетариата, от Марины в семье тщательно скрывали. Ни-ни, ни слова ни пол-слова. О правительстве и вожде — только с уважением и верой в светлое коммунистическое будущее. Поэтому, когда Марина уже работала в магазине, она, хвастаясь сослуживицам своей послереволюционной родословной, совсем не понимала недоуменных переглядов женщин типа «дура совсем?».
— Да ты что, действительно ничего о лагерях не знаешь?
— Ну, знаю! Сажали контру, в школе проходили.
— Марина, ты того? Или прикидываешься?! Какую контру?! У нас вся страна была ла-ге-рем! — Лида Ильинская, старший продавец, не знала, верить Маринке или та придуривается. — Моих обоих дедов посадили, одного расстреляли! Нет ни одной семьи, которой не коснулось бы это вселенское горе, эти чудовищные репрессии! А ты дедом своим хвалишься?! Подумай, скольких он посадил! Скольких на расстрел послал!
«Какой ужас, — Маринка оторопела, — какой кошмар! Буду молчать в тряпочку, — но все же решила деда не осуждать. — Я же не знаю, что деда Ваня сам терпел в этих жерновах».
К моменту переезда Ивана Ивановича с семьей в Северогорск из Хаяла, где родилась Маринка, деда Ивана уже давно похоронили, бабка Алевтина осталась с сестрами в Тобольске. Родителей мамы Марина даже не знала. Дед Николай умер, когда мама была совсем крохой, а бабушки Прасковьи не стало незадолго до войны, так что к семнадцати годам Тамара Николаевна осталась круглой сиротой.
Марина очень боялась маминой смерти. Маленькой она часто думала: «Пусть мама доживет хотя бы до моего двадцатилетия! Я уже выйду замуж и буду взрослой, а взрослым легче переносить горе». Потом мысленный срок жизни матери она постепенно увеличивала. А в шестнадцать вдруг перестала бояться за мать и стала больше думать об отце. В силу своей незрелости и нежелания анализировать и еще потому, что поняла, как сильно любит его, Марина не видела в отце недостатков. Ежедневные скандалы, ссоры, родительское существование на грани развода, болезнь сестры превратили Маринку в комок колючей проволоки. Случайно прилетевший Маринке в лицо тапок на резиновой подошве, в сердцах запущенный отцом и предназначенный матери, окончательно вывел Маринкину нервную систему из строя:
— Да будьте вы прокляты! Сволочи! Да когда же я уже свалю от вас?! Так же жить не-воз-мож-но! Невозможно! Папа! Уходи, оставь нас, как ты терпишь все это?
Отец собрался и, хлопнув дверью, вылетел из дома. Маринка, воя, как сирена, закрылась в комнате. Тамара Николаевна, всхлипывая, притихла на кухне. «Дурдом, — Марина лежала и тупо смотрела в потолок, — немудрено, что Ольга за них за всех отдувается». Тамаре Николаевне было далеко за сорок. Старшей дочери двадцать шесть. Из них почти половину Оля провела в психиатрической клинике.
***
Страхи преследовали Маринку всю ее сознательную жизнь. Она боялась смерти. Своей и своих близких, боялась темных подъездов, бомжей у помойки, машин и собак. На это была веская причина. С самого раннего детства, как только Марина стала понимать, что такое опасность, ее естественный инстинкт самосохранения обильно подпитывался грозными предупреждениями Тамары Николаевны.
— В подъезд заходишь, смотри, там сбоку темно всегда, может кто тебя караулить.
До этого Марина и думать не думала об этом, но после слов матери она, бывало, по полчаса стояла, не решаясь зайти в подъезд, ждала кого-нибудь, с кем идти не страшно.
— Мимо помойки идешь, шагай быстрее да обходи ее подальше, там ханыги вечно копаются, утащат тебя.
Для маленькой Марины это было — страшнее не придумать. Девочка представляла, как она будет жить в плену у «ханыг», в грязной комнате, несчастной рабыней, а мама будет искать ее всю жизнь: «Ой, говорила я ей, утащат! И утащили, точно, утащили!» Страх темных подъездов не прошел никогда, а страх бомжей исчез. Уже взрослой Марина поняла, что эти несчастные спившиеся люмпены зачастую и мухи не обидят. Сами бывают биты и унижены, поэтому Марина своих дворовых бомжей, копающихся в мусоре на помойке за домом, частенько подкармливала. Однажды она отнесла какому-то бродяге теплый суп в литровой банке.
— А ложку? — бомжик оказался культурным.
— Ешь так, — сказала Марина.
— Так неудобно, — настаивал окормляемый.
— Зато домашний и теплый. За ложкой не пойду, перебьешься.
Потом Марина стала кормить их только сухомяткой, и молоко там какое покупала запить, или сок. Однажды Марина наблюдала сцену, как около их городского храма, Свято-Георгиевского, где она иногда кормила голубей, спившаяся бродяжка пинала буханку хлеба и орала: «Хле-еб, хле-еб, хле-е-еб! Один только хлеб, провались он! Надоело уже! Я же не могу жрать один только хле-е-еб! Дайте денег! Денег дайте! Я сама куплю пожрать!». Но это было много позже, а сейчас зашуганная, дрожащая от страха Маринка огибала все помойки за версту.
Еще нельзя было разговаривать во время еды и, жуя, бродить по комнатам. И это, конечно, было правильным воспитательным моментом.
— Вот одна девочка ела, разговаривала, поперхнулась и умерла прямо за столом, — Тамара Николаевна все страшилки начинала со слов «вот одна девочка». Маринка переставала не только болтать, но и жевать, представляя жуткую сцену смерти маленькой (наверняка такой же, как она сама) девочки.
— Вот одна девочка ходила по комнате, ела, потом потянулась к выключателю и задохнулась насмерть, голова-то назад пошла.
Марина, даже ничего не жуя, когда включала свет, на всякий случай опускала голову вниз.
— Вот одна девочка пошла на речку без разрешения и утонула.
— Вот одна девочка бежала по дороге, не слушала мать, и ее сбила машина.
Смерти всех девочек происходили исключительно от непослушания. Поэтому Маринка осталась жива, но заработала на всю жизнь кучу комплексов. Но, как говорят в народе, «кто чего боится, то с тем и случится». Однажды она, действительно, чуть не попала под груженный песком самосвал, а когда в темном подъезде на нее напал маньяк, ее реакция была неожиданной для нее самой.
— Ах ты, пес вонючий! На меня-а? Напа-ал? А ну пошел на …! — пинаясь, отбиваясь и отборно матерясь, орала Маринка, пока маньяк безуспешно сдирал с нее юбку. Мужик успел уронить ее на ступени, когда из квартиры первого этажа выглянула смелая бабусина голова.
— Ктой тут ругается?
— Бабуля! Зови милицию! Насильник! — Маринка пнула со всей силы острым каблуком монстра с белыми глазами в пах и быстро вскочила, поправляя порванную по шву юбку. Испугавшись активного отпора и неожиданной возни, мужик выбежал из подъезда. Бабка побежала к телефону, Марина — на второй этаж, к Ленке Фокиной. Им было по двадцать.
***
Марине было восемь, когда она узнала о болезни сестры. Олю она очень любила, все время крутилась в ее комнате, смотрела, как она красится, листала ее книги — у Ольги было много альбомов о художниках с красивыми, иногда непонятными, и даже страшными, иллюстрациями. Марина часто просила сестру поиграть с ней в «напитки». Суть игры, ее придумала Марина, заключалась в том, что надо было сгонять на кухню, приготовить какой-нибудь напиток, вкусный или бурду, неважно. Потом Оле завязывались глаза, и она должна была угадать, что за гадость Маринка ей намешала. Оля безропотно пила коктейли из компота с кефиром, молока с вареньем, чая с горчицей. Маринка медленно вносила в комнату приготовленную отраву и торжественно произносила:
— Я приготовила тебе отвар из этих трав…
— Может, отрав?
— Отвар, отвар!
Ольга страшно морщилась и всегда отгадывала, из чего Маринка намешала питье, чем приводила в щенячий восторг младшую сестру. Оля любила Марину, очень ее жалела и во время родительских разборок всегда забирала к себе в комнату.
— Не обращай внимания, полаются, перестанут.
Маринка прижималась к сестре, и они молча сидели в обнимку, прислушиваясь к бушующим в соседней комнате родителям.
— Они всегда ругались, сколько себя помню, — Ольга что-то вспоминала, пропуская мимо ушей Маринкины детские вопросы. — Отец не хотел, чтобы я родилась, — вдруг сказала Оля.
— Как это? — удивилась Марина. — Ты же уже родилась!
— Родилась им на горе. Лучше бы не появлялась на свет.
— Ты что, они тебя любят! И тебя, и меня, и Пашу! Не говори так, ты же не знаешь!
— Знаю, я много что знаю. Отец думает, что я не его дочь.
— Ты сдурела?! Вы же похожи! Ты на папу, я на папу и на тебя, а Пашка — копия мамы! Даже на фотках, где ты маленькая, видно.
— Тебе видно, а ему нет. Мне вообще цыганка нагадала, что я только до тридцати двух лет доживу.
— Что ты такое говоришь? — испугалась Марина. — Нет, нет! Им нельзя верить! Мама сказала: им только деньги нужны!
— Были бы деньги нужны, сказала бы чего-нибудь хорошее, да побольше бы наврала. А она даже денег не попросила.
Марина очень расстраивалась, переживала за сестру. Сначала она думала, что Оля ругается с родителями, как ругаются все взрослые, кто-то чем-то недоволен, кто-то что-то обидное кому-то сказал. Но потом стала замечать, что Оля кидается на мать без причины. Грязные, обидные, незнакомые ругательства, приводящие в ужас маленькую Марину, больно хлестали, как мокрая тряпка. Она вжимала голову в плечи от каждого Ольгиного слова, взмаха рукой, каждого шага в сторону матери. В эти моменты Марина очень боялась за мать и за себя, хотя знала, что Оля никогда ее не тронет. Тамару Николаевну Оля тоже не трогала, но часто Марина видела, как утром, незаметно вытирая за ночь опухшие от слез глаза, мама штопала свои изрезанные платья, пришивала вырванные пуговицы и оторванные петельки к своему пальто. Вечером отец с матерью долго шептались, что-то обсуждая, потом приезжала «скорая», и врачи — после долгих уговоров — уводили безвольную Ольгу. Ее не бывало подолгу. И месяц, и два. Через неделю после того, как Ольгу увозили, Марина с мамой ездили ТУДА навещать сестру. Марина робко заходила в мрачный больничный барак, в котором пахло карболкой, гнилой тушеной капустой и лекарствами. Ей было жутко, и, увидев сестру, она всегда начинала плакать. Как же она любила ее и как жалела! Оля, в вылинявшем больничном халате, медленно выходила из палаты, безучастная ко всему, бесплотно шла по длинному коридору с кривым деревянным полом, шаркая выцветшими мужскими шлепками сорокового размера. Марина видела, как менялась ее веселая Оля. Из-за сильнодействующих уколов сестра с трудом говорила, у нее тряслись руки и колени, а нижняя челюсть еле-еле держала язык. Марина знала: чтобы сломить волю, сестру привязывают к кровати, когда колют лекарство, от которого ломает все тело, как у наркомана. Марине хотелось поскорее уйти оттуда и никогда больше не возвращаться, но она через силу улыбалась, изо всех сил стараясь не показывать сестре, как больно видеть Олю такой. После выписки она какое-то время чувствовала себя лучше, но проходило время, и все начиналось сначала.
— Гены твои проклятущие, — в болезни дочери Тамара Николаевна винила мужа.
— О твоих еще неизвестно, — зло огрызался Иван Иванович.
— Зато о твоих известно.
Смысла выяснять не было, чья здесь вина. Бессмысленно винить друг друга в общем горе.
Два раза дочь увозили на «скорой» срочно. Однажды вечером Оля надолго закрылась в ванной. Перепуганные родители вызвали неотложку, потом отец выбил дверь. Маринка, скованная страхом, наблюдала за происходящим из соседней комнаты. Она видела теряющую сознание сестру, перебинтованные Олины запястья, перепуганное мамино лицо, тревожные сборы в больницу отца. Оля уехала с ним. Марина долго не решалась зайти в ванную. Потом тихонько вошла, осторожно заглядывая внутрь. В углу, под изогнутой трубой, на которой сушились тряпки и полотенца, стояли огромные резиновые сапоги-бродни. Сердце Маринки бешено колотилось, к горлу подступила тошнота. Она была уверена, что происшедшее с сестрой несчастье как-то связано с этими старыми отцовскими сапогами. Бродни доставали Марине почти до подмышек и внушали ей панический ужас. Она хотела их убрать, но не могла допустить даже мысли к ним прикоснуться. Долгое время она так и заходила по нужде, жмурясь, боковым зрением чувствуя свидетелей Ольгиной беды. Ночью десятилетняя Маринка вставала и просила маму сходить с ней в туалет.
— Постой рядышком, я схожу.
А если ходила одна, быстро возвращалась и чувствовала, как огромные сапоги шагают за ней в темноте. Она добегала до кровати, задыхаясь, накрывалась с головой, зажмуривалась и даже под одеялом боялась открыть глаза. Тогда Марина впервые физически ощутила страх. Как будто кто-то стоит за спиной, обернешься и… вдруг увидишь? Через месяц отец отнес сапоги в гараж, но еще много лет для Марины они незримо присутствовали на своем месте.
Когда суматоха после очередной Ольгиной попытки свести счеты с жизнью проходила, Тамара Николаевна, совершенно измученная болезнью дочери, тихонько говорила в сердцах:
— Да хоть бы Бог забрал бы ее уже, переревела бы раз, и все. Сама мучается, и нас мает.
Марина обижалась на эти слова, она не могла понять материнского горя и отчаяния. Тамара Николаевна существовала в этом кошмаре ежесекундно. Она часто вспоминала детей маленькими, Пашку и Олю, рассказывала Марине, как трудно было двухлетнему Пашке смириться с появлением младшей сестренки.
— Ну зачем вы ее купили? — Пашка ревел, и огромные слезинки горошинами катились по толстым щекам. — Выбросьте ее в тазик с поганой водой! Отнесите ее обратно!
Но довольно скоро он смирился с присутствием родственницы и даже стал помогать маме ухаживать за сестрой. Однажды зимой Тамара Николаевна, возвращаясь из школы, увидела живописную картину. На крыльце дома стоял одетый по сезону пятилетний Пашка, а в сугробе сидела Оленька, вполне веселая, одета она была только в шубку, шапку и валенки. На голое тело.
— Мамочка, мы вышли погулять и тебя встретить!
— Едри-ишкина мать, Катин аппарат! Ах ты, паршивец! Ты что сестру заморозил?! — тресь подзатыльник!
— Аа-а! Я же одел её-о-о-о!
— Даже трусы не надел, паразит! Убил девку!
Румяный круглолицый Пашка от страха таращил полные слез глаза, боясь, что и вправду стал убийцей сестренки. Слава богу, обошлось. Не считая Пашкиной свинки.
Вообще Паша с Олей жили дружно. И малыми, и взрослыми. У них была одна компания, делить им было нечего, а Маринка терлась около них, когда ей разрешали. Она видела, как старшие брат с сестрой курили. Маринка сама первый раз попробовала сигарету в восемь лет. Одноклассница Ленка Прошина жила в частном доме. Она стащила у отца папиросы «Лайка», три штуки, и спички. Подружки, втроем, залезли к Прошиным в огород, сели под куст смородины и представили себя совсем взрослыми. Папиросы были без фильтра, девчонки плевались чаинками табака и с умным видом, оттопырив пальцы, делали форс, что курят «взатяжку». Потом, чтоб никто не унюхал запаха табака, они надергали морковки, обтерли ее о рукав и закусили. Домой Маринка шла, будто совершила преступление. Ей было стыдно и противно. И все вокруг знали, чем она занималась! Вторая сигарета была выкурена в шестнадцать, в садике на детской веранде. Стыдно уже не было, а противно было. Очень тошнило, кружилась голова, но отделяться от коллектива не хотелось. Иван Иванович курил до пятидесяти двух лет, поэтому Тамара Николаевна Маринку не заподозрила, думала, что табачИной пахнет от отца. Ольга курила, не прячась, прямо в комнате. Пашка — на лестничной площадке. Тамара Николаевна за свою жизнь не сделала ни одной затяжки и была абсолютно равнодушна к спиртному.
Курить отец бросил так:
— Все, я бросаю! — он смял почти полную пачку «Столичных» и бросил ее в урну. Все. Больше не курил никогда.
— Па, а ты курить зачем бросил?
— Мариша, это блажь. Все нездоровые привычки — дурь и блажь.
Хотя со второй своей привычкой Иван Иванович блажил чуток дольше, чем с табаком. Выпивать после партсобраний было принято, чтобы, «так скать», скрепить единогласно одобренные решения. Конечно, это не добавляло в семью ни мира, ни согласия.
— Ты допьешься, помяни мои слова, допьешься до белой горячки! — без толку внушала Тамара Николаевна мужу.
Марина не помнила отца неприлично пьяным. Выпившим, да. Вроде, всегда все было в рамках. Но если не видела Марина, тогда с чего ругалась мать?
— Ага, конечно, всегда папашу своего защищаешь! — злилась Тамара Николаевна. — Обо мне все говно помнишь, а папаша твой хороший, конечно!
Иван Иванович в пятьдесят пять лет перенес тяжелую операцию и до глубокой старости прожил с одной почкой. Он перестал трудиться после восьмидесяти, когда стало трудно ходить из-за переломов, и уже не осталось сил копаться на даче. Еле передвигаясь из-за последствий травмы, отец не перестал водить машину — каждый день нужны были свежие продукты, потому что Иван Иванович на старости лет с азартом занялся кулинарией.
***
Марина наблюдала за жизнью сестры, во всем обвиняя родителей. «Это они довели Олю до психушки своими скандалами, и меня доведут». В своих бедах и несчастьях всегда удобнее винить кого-то, нежели покопаться в себе. Родственников, начальство, президента. Только не себя. Сам-то я хороший, это обстоятельства так сложились, что довели меня до осуждения, нечестного поступка, предательства. Я не виноват, ВЫ сделали меня такой или таким.
Мучились все — отец, мать, Пашка. Оля уже три года жила отдельно, отец получил для нее однокомнатную квартиру в тихом районе старой части города. Одна в маленькой комнатушке, Ольга чувствовала себя намного лучше, чем в родительском доме. Балкон выходил на зеленую аллею. Оля подолгу сидела, курила, глядя на город и куда-то идущих по своим делам людей. Она не работала, редко выходила из дома, ежедневный набор продуктов покупала в соседнем магазине, готовя себе совсем простую еду. Когда приходила мать, Оля молча, не впуская ее внутрь, принимала у нее груженные едой сумки с супчиками, домашними котлетами и хозяйственными мелочами. А иногда просто открывала дверь и исчезала в комнате. Тамара Николаевна босиком проходила на кухню, разгружала содержимое сумок в холодильник и тихонько уходила.
Марина всегда помнила запах жареной картошки с луком, которой ее угощала сестра. Вкуснее жарил только отец. К картошке Оля крошила салат из помидоров со сметаной, обильно его солила, посыпала укропом и наливала Маринке сладкий крепкий чай. Сестры уплетали вкусный обед, замакивая мягким хлебом сметанную жижу, и болтали ни о чем. В одно из таких простых застолий Оля просто сообщила сестре, что беременна.
— Оля, от кого?! Надуло, что ли?
— Да есть один товарищ. В парке познакомились.
— В парке познакомились, и давай беременеть сразу?
— Нет, погуляли маленько.
— Че-то совсем маленько вы погуляли. И что? Срок какой?
— Два месяца.
— Врачи знают?
— Да, была в консультации.
— Разрешили рожать?!
— А кто их спрашивал?
— Оль, ты же на лекарствах!
— А я их не пью уже четыре месяца.
— Как не пьешь? Тебе же нельзя без них! Ты что?!
— Как видишь, можно. И я вполне сносно себя чувствую.
— Ну ты даешь, сестрица! А родители знают?
— О чем, о лекарствах?
— Да обо всем! О ребенке, о врачах! И о лекарствах!
— Узнают в свое время.
Маринка зависла. «Что теперь будет? Как выносит? Как рожать будет?! Отец ее прибьет…»
— Что хоть за мужика-то нашла? Толковый хоть?
— Очень. Десять лет сидел, думаю, толку поднабрался.
— О-бал-деть. Ну тебя и занесло, сестрица! — Марине вдруг стало так жаль сестру и так ноюще страшно за нее…
Вечером Оля по телефону сообщила обо всем родителям. Марина ждала грандиозного скандала. Тамара Николаевна, немного подумав, что-то пораскинув в голове, наиграно весело, предваряя отцовский гнев, заключила:
— Вот и хорошо, может, пройдет все, когда ребеночек родится.
— Что все? — чересчур тихо спросил Иван Иванович. — Что — все?! — разделяя слова и увеличивая звук, повторил отец.
— Да болеть перестанет! Маринка вон говорит, Олька четыре месяца таблеток не пьет.
— Еще и таблеток не пьет?! Твою ма-а-а-ать!.. Я сейчас пойду к этой курице твоей безмозглой, докторше твоей, и всю ей рожу растворожу! Она не должна была ей разрешать рожать! Не дол-жна!!! — отец бушевал уже на полную громкость.
— Да погоди ты рожать, дай ей выносить сначала! — Тамара Николаевна, наконец, начала соображать, что случилось.
— Я вам сейчас тут всем дам выносить! — Иван Иванович выкатил глаза. — Тебе, мать, в первую очередь! Проглядела! Донянчилась! Досюсюкали! А ты чего? — отец повернулся к Марине.
— А я чего?!
— Да ничего! Туда же!
— Куда туда? Я тут причем?! — орала совершенно обескураженная Маринка, глядя на штормящего отца.
— Причем? Притом! Все знала и не сказала! Дозакрывались, дошушукались с сестрицей! Да идите вы все!
Его можно было понять. И в то же время никто ничего вообще понять не мог.
— Ну чё? Поорали? — улыбаясь, спросила Ольга сестру. — Заходи, тетушка Марина, — сказала Оля, впуская понурую Маринку в квартиру.
— Не то слово.
— Ничего, поорут и перестанут. Привыкнут. Они еще про Леху не знают.
— Надо было все карты сразу выложить, чтоб два раза не орали.
— Не, не надо. Переживут.
Ольга поставила чайник, достала печенье, по-домашнему облокотилась на стол.
— Он за убийство сидел. В драке кого-то пырнул. На него все свалили, за всех тянул.
— Они все ни за что сидят. Не боишься его?
— Я, Мариночка, давно ничего не боюсь. Даже умереть. Только сейчас у меня смысл появился жить. А давай погадаем? А?
— Как?
— На блюдечке, давай?
— Страшно…
— Тебе вечно все страшно, не боись!
Однажды, когда Марина училась классе в пятом, в конце января подружки собрались у нее дома, решили гадать. Нарисовали на листе ватмана круг, написали по кругу буквы, помадой начертили на блюдечке стрелку и, рассевшись по кругу за столом, стали вызывать духов. Блюдце, подумав, медленно двинулось по столу, и через некоторое время оно уже металось по ватману, складывая буквы в настоящие слова. Девчонкам было весело и жутко читать матерные слова, которыми кто-то из вызванных с того света поэтов крыл их почем зря. Потом, когда подружки разошлись, Марина открыла форточку — проветрить. Чтобы духи улетели. Морозный крещенский ветер ворвался в душную комнату, ударив форточной задвижкой в стекло. Холодный воздух ударил в лицо, приводя возбужденную Маринку в чувство. Да… Кто бы ей сказал тогда, с КЕМ они разговаривали и КОГО вызывали… Сказать было некому. Забава и забава, всегда молодежь гадает на святки. Только духи тогда никуда не улетели, а поселились там надолго. Когда у Марины уже была дочка Машенька, она десятилетняя, рассказывала маме, что с пяти лет, засыпая, видела медленно вылетающих из ТОЙ самой комнаты прозрачно-белых бесплотных духов. Они вылетали каждый день, когда Маша ложилась спать. От страха девочка с головой накрывалась одеялом, зажмуривала глазки, не открывая их даже под одеялом. Она долго не могла заснуть и боялась рассказать об этом маме. Так и жила в своем детском страхе, пока эти духи сами куда-то не исчезли после того, как в той самой комнате появилась иконка, которую принесла в дом бабушка Тамара.
Марина с сестрой сели за стол гадать-выпытывать, кто родится у Ольги.
— Дух Антона Павловича Чехова, приди! — Марина со страхом смотрела, как блюдечко двигалось под пальцами, еле прикасавшимися к его донышку.
— Я ЗДЕСЬ, — показали буквы.
Девчонки в смятении взвизгнули, захихикали.
— Скажи, кто родится у Ольги?
— ОНА БУДЕТ ГОЛУБКА, — ответило блюдце.
— Ну вот, а ты боялась, — сказала Оля. Внезапно прекратив сеанс, она вышла из-за стола. Ей стало не по себе, что-то смутило ее в этом гадании. — Пошли чай пить, чайник вскипел.
Они сидели на кухне и рассуждали о малыше.
— Мне шестнадцать, тебе двадцать шесть, когда родишь, будет двадцать семь. Племяшка будет на семнадцать лет меня младше. Почти как старшая сестра, — Марина прикидывала в уме несложные математические вычисления. — Он сказал, ГОЛУБКА. Значит, девочка. Не боишься, правда?
— Не-а, не боюсь.
Оля познакомила родителей со своим «бандюгой». Иван Иванович Алексея иначе не называл. Нет, еще звал «сидельником», за глаза, конечно. Ольге было плевать. Отец с матерью смирились с очередным несчастьем в их семье, и все стали ждать появления малышки. Оля проходила беременность без единой таблетки. Ей бывало очень плохо. Не только из-за токсикоза. Приступов, доводящих до лечебницы, не случалось, но она частенько хандрила, отлеживаясь целыми днями под пледом у маленького обогревателя, стоявшего рядом с продавленным диваном.
Леша оказался на все руки, но раздолбаем. Он раздражал и без того замученную Ольгу своими приобретенными на каторге манерами и блатными словечками, а слово «бяго-о-о-м», с хэканьем на «г», просто выводило Олю из себя, да и попивал Леха регулярно, что греха таить. Они сошлись, недолго думая, по-быстрому расписались и так же по-шустрому развелись, когда Лиле исполнился годик. После сложных родов Оля слегла с сильнейшим тромбофлебитом. Она каждый день бинтовала черные ноги с вздувшимися венами; Маринка бегала на молочную кухню и в аптеку, таскала из магазинов все необходимое. Внучкой занималась Тамара Николаевна. Выйдя на пенсию, она устроилась посменной дежурной на вахту в один из НИИ и все свободное время посвятила малышке. Лиля родилась очень быстро, доктора вызывали роды каким-то препаратом, ускоряющим процесс. Детский врач многозначительно качал головой, дескать, внутричерепное давление, и потом… эти шишки на голове. Они будут у нее еще долгое время; надо, надо наблюдаться, мои хорошие. Лилька плевать хотела на какие-то там шишки на своей голове. Круглолицая, яркая блондинка с синими глазами, она росла на детских смесях о-очень упитанным ребенком, много хлопот не доставляя. Но ГОЛУБКОЙ Ольга дочь все же не называла никогда.
Оля, телом оправившись от родов, стала яростно выплескивать наружу все то, что сдерживала в себе долгие месяцы без лекарств. Тамара Николаевна опасалась оставлять Лильку с матерью, хотя Оля очень любила дочь и забывала о своей болезни, когда возилась с малышкой, стирала, кормила, гладила; а когда чувствовала, что «подкатывает», сама звонила матери с просьбой забрать Лильку. И скоро случилось так, что Лиля осталась жить у бабушки с дедом.
Марина в это время утрясала итальянские страсти со своим Яриком, который оказался скрягой, тираном и ревнивцем. На том же самом полуразвалившемся кукурузнике после аборта Марина вернулась в город и к вечеру слегла с температурой. Ее бил озноб. Тамара Николаевна отпаивала несчастную дочь морсом, давала ей жаропонижающее, не задавая лишних вопросов. Она догадывалась, что произошло, и молчала, молчала, молчала, вспоминая свой больничный кошмар, когда через три месяца после рождения сына она попала на операционный стол. Рожать так скоро они не планировали, и Тамара записалась на аборт к местному фельдшеру. Как потом она смогла забеременеть и родить еще двоих, одному богу известно. Тот фельдшер рвал дитя по-живому, без наркоза. Тогда бабы избавлялись от детей запросто, без изысков.
Начались боли внизу живота, температура поднялась до тридцати восьми и восьми. Марина, не вылезая из-под одеяла, нащупала на прикроватной тумбочке косметичку, достала из нее клочок бумаги и взяла телефон. «Вот гад Ярик. Даже не звонит, как все прошло, как себя чувствую».
— Алло, Алан Гамирович? Это Марина.
— Да, да, как ты, Мариша?
— У меня температура, почти тридцать девять, живот болит, озноб, что мне делать? Врача вызывать?
— Не надо вызывать пока, — Алан опасался, что Марина сообщит о неудачном аборте, и у него могут быть проблемы. — Кровь идет?
— Да, есть. Но немного.
— Попроси, пусть тебе купят «викасол», выпей таблетку и пей антибиотики, что я тебе дал. Если к ночи лучше не будет, я сам прилечу, не вызывай никого. Больше пей жидкости.
— Хорошо. Я не умру?
— Не волнуйся, ты же помнишь, что говорят линии на твоей руке. Или забыла?
Марина помнила. После операции, процедуры или экзекуции, Марина не знала, как назвать ту бойню, она сидела с докторами в местной столовой и, помешивая кривой алюминиевой ложкой остывший гороховый суп, безучастно слушала повествование о своем будущем.
— У тебя будет один ребенок, но не от мужа. С мужем ты разведешься.
«Я и замуж-то пока не вышла».
— Потом у тебя будут еще два брака, — продолжал оракул, — будет любимая работа, приносящая радость, крепкие отношения с близкими людьми. Линия жизни долгая, и к сорока годам у тебя появится возможность бесцельно тратить деньги.
«Отличная перспектива, это радует».
— То есть я буду богатая и разведенная мать-одиночка?
— У тебя все будет хорошо, так я читаю по твоим линиям.
«Ну, раз линии говорят…»
Марина искренне верила во всю эту галиматью. «Хотя почему галиматью? Это же наука, ей много лет, и почему я не должна верить науке? Сколько книг написано, не с потолка же они это берут, не из пальца? Каламбур. Как раз-таки из пальцев и берут».
— Нет, Алан Гамирович, я не забыла, помню.
— Ну и не волнуйся, пей то, что я сказал, и лежи, еще сделай отвар крапивы и позвони мне часа через два. Пока! Не волнуйся, Марина.
— До свидания…
Марина откинулась на подушку, закрыла глаза, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Позвонила Оле, попросила купить лекарства. Ольга примчалась, дала сестре таблетки, села рядышком.
— Что, подружка, началась твоя взрослая жисть?
Марина молчала, жар усиливался, градусник показывал уже тридцать девять и восемь. Ольга не на шутку заволновалась, она знала, что такое прерывание на таком сроке, да еще полулегальное.
— Эй, ты как? — она посмотрела на сестру. Маринка, почти в бессознании, закатила глаза. — Эй-эй, а ну-ка, глаза не закатываем! — Ольга приподняла сестре подушку, еще принесла жаропонижающее и дала Марине двойную дозу.
Минут через сорок (Ольга была все время рядом) Марина попыталась привстать, но резкая тянущая боль пересекла низ живота, и Маринку согнуло пополам.
— Оля, мне кажется, из меня что-то пытается выйти.
«Бред у нее, что ли?» — Ольга не на шутку встревожилась.
— Доведи меня до туалета, — Марина оперлась на руку сестры, и они попытались медленно дойти до ванной комнаты.
Тамара Николаевна прислушивалась, но не решалась подходить к дочерям с расспросами. Знала, Маринка ничего не скажет, отбрехается, а Ольга пошлет. «Господи, помилуй, за что такое наказание? — думала Тамара, сидя у кроватки годовалой Лильки. Она смотрела на внучку. Девочка спала, сложив мягкие ладошки под румяную пухлую щеку, и улыбалась, причмокивая во сне. — Еще одна растет… Ей-то сколько придется вытерпеть бабьих радостей?» Тамара Николаевна сжимала в руке мятый комочек носового платка. Им нечего было вытирать, слезы давно кончились.
Марина медленно, не разгибаясь, села на унитаз. От самого горла через солнечное сплетение к пупку скрученная, как канат, боль волнами опустилась в низ живота. Марина с трудом дышала, мешала одышка, холодная испарина выступила на резко побелевшем лице. Дверь в ванную была приоткрыта, Ольга стояла рядом, держа сестру за руку.
— Держись, Мариша, держись, моя хорошая…
— Мамочка… — застонала Марина, — мамочка моя, как же больно… от меня что-то отрывается…
Судорога свела ноги, живот. Марина вцепилась в руку сестры, и кусочек плоти, затем второй упали вниз.
— Не дочистил, собака, — Ольга держала сестру. — Сейчас легче станет, потерпи.
— Мама… мамочка моя… — шептала Марина, — еще, наверное…
— Ну? Ты как?
— Терпимо… Сволочь этот Ярик, козел… урод…
Ольга засмеялась.
— Ну да, все бабы мужиков матерят после аборта, не дадим, дескать, больше, не подпустим к себе… эхе-хе, если б так… Ну, идти сможешь?
— Смогу, получше, вроде.
— Конечно, получше. Этот паразит тебя не дочистил. Давай, сейчас главное — антибиотики не пропускай. Ложись. Я пойду.
«Странно, — подумала Марина, — со мной Ольга как и не болеет вовсе. А других на дух не переносит, не подпускает ни мать, ни отца. Какая-то болезнь выборочной ненависти».
***
Оправившись после перенесенного, восемнадцатилетняя Марина стала готовиться к свадьбе с тридцатитрехлетним Яриком. Но пока шел развод избранника с первой женой, пока Иван Иванович помогал родителям Ярика оформлять отдельную квартиру, в общем, свадьбу сыграли только через два года.
— Дура ты, дочь, — только и смог сказать Иван Иванович, — мозгов совсем нет. Не жалеешь ты мать, она же совсем с вами извелась.
— Я, папа, буду за Яриком, как за каменной стеной, — Марина удивлялась, чем жених не хорош? Взрослый, обеспеченный, умный, серьезный. Детей не хочет? Так это временно. Старо выглядит, в тридцать три на все пятьдесят? Так это даже некий такой пикантный мезальянс.
— Ага, как за мраморной плитой, — поддержал отец.
— Папа, не говори так!
— И правда, отец, что за шутки? — Тамара Николаевна была суеверна. — Что под руку-то мелешь?
В ресторане заказали еды на семьдесят человек гостей. Марина половины из них не знала. Со стороны жениха были только двое его друзей, с которыми Ярик периодически пел у костра под гитару про снежинки и искорки, в общем, всю эту бардовскую муть про звезды, ромашки и суровую романтику Севера. С ее стороны было человек двадцать. Кто были остальные сорок восемь, особо не переживали, ну пришли и пришли. Родителей Ярика не просто не было на свадьбе, они вообще отказались знакомиться с музой сына, у которого седина в бороду, а тот, сами знаете, куда. Культурная мама-еврейка делала брезгливо-унылое выражение лица и говорила казахскому татарину-папе: «Побалуется сын со шлюшкой-малолеткой да к Светке вернется». Папа Шамсутдин был тоже культурным и воспитанным человеком, он преподавал в вузе. С выбором сына был согласен, Марина ему нравилась, но вида не подавал, боясь жениной немилости и жалея первую невестку с внуком. Свадьбу гуляли три дня. Со второго дня молодую жену увезли друзья кататься на машине, проводя беседу на тему «Дура ты, Марина, набитая». «Что-то часто меня дурой называют. К чему бы?» — подумала Маринка. Гости догуливали сами. Что удивительно, ревнивец Ярик лояльно отнесся к катанию молодой жены с ее друзьями. Наверное, дал перед смертью надышаться, вопреки пословице. О том, что тема беседы во время катания была выбрана верно, Марина поняла очень быстро.
Магазин, где она работала, находился в трех минутах ходьбы от дома, где жили молодые (точнее, молодая и не очень молодой). Марина заканчивала работу в семь, девчонки сдавали помещение под сигнализацию, это занимало еще минуты три, плюс туда-сюда еще минуты три, итого: через девять минут Марина должна была быть дома. Причем понятию «туда-сюда» предполагалось быть нулевым по времени. Три минуты «туда-сюда» — это непозволительно. Это просто разврат какой-то.
— Ну и что опять на сегодня? Кассу сдавала долго? Остаток не шел? Или что?
— Не начинай, я задержалась всего на две минуты.
— За две минуты ты могла встретить мужика своего бывшего.
— Ты больной? Мне восемнадцать было, когда тебя встретила. По себе не суди.
— Я сказал! Я буду принимать меры, если еще раз задержишься!
— Да пошел ты… — Марина поняла, что у нее серьезные проблемы.
Круг друзей состоял только из его друзей, таких же скучных, обремененных семейными проблемами дядей и тетей. Она была в компании, как белая ворона. Друзья-мужчины Ярику завидовали, отхватил молодуху! А их жены Маринку тихо ненавидели. Им с ней не о чем было говорить. Аб-со-лют-но. А напрасно, с ней они могли хотя бы попытаться отвлечься от кастрюль, кассы взаимопомощи и подгузников и просто по-девчоночьи подурачиться. Им было-то всего по тридцать. Просто Марине они казались старыми тетками. Со своими друзьями Марина встречаться перестала, к себе подруг не приглашала. Ярик не разрешал. Новых вещей не покупала. Муж сказал: «Накладно. Будем откладывать на черный день». Что такое, в его понятии, черный день, Марина не понимала. Для нее эти дни уже наступили. «На что копит? — думала Маринка. — Ничего не покупаем, никуда не ездим. Я от него копейки лишней не вижу. Детей он по-прежнему не хочет». Проблемы Маринкиной сестры его не волновали вовсе.
— Ярик, ты знаешь, Ольге опять стало хуже. Мать с Лилькой замоталась совсем, — Марина немного помолчала. — Если с Олей что-то случится, я над Лилькой опеку оформлю. Я ее не оставлю.
— Да щас! Больше ничего не придумала?
— А что? Она же сестра мне родная. И к тебе хорошо относится. А Лилька тебя, знаешь, как любит!
Она звала его дядя Ялик-хусабинах. Фамилия у него такая была — Хусабинов.
— Слушай, закрыли тему. Не вешай на себя чужие проблемы.
«Ну вот. Сестра — чужая проблема. Не его же сестра. Он в семье один. Вот и вырос эгоистом. Вот она, счастливая семейная жизнь, — думала Марина, наглаживая мужу-инженеру опостылевшие рубашки, — и что теперь? Как теперь? Родители, конечно, примут, но, может, можно притереться? Почему Я, я должна притираться? Я младше на пятнадцать лет! Он должен меня на руках носить! Подарками заваливать! Кофе в постель!» Мысль о том, что ее выбор (для «радости и горя, пока смерть не разлучит») оказался пустой затеей, стала казаться Марине единственно верной. На работе девчонки откровенно посмеивались над Маринкиным мачо, мало того, что на пятнадцать лет старше, еще и выглядит на все шестьдесят, нос картошкой, седой, как лунь, сутулится.
— Марина, ты что, на помойке себя нашла? Ну что тебе в нем? Что-о? — ровесница Ярика, Наташка Солоткова, в который раз возмущенно отчитывала Маринку. — Ты что, не могла парня среди ровесников выбрать?
— Могла. И не одного, — расстроенно ответила Толмачева.
— И кого, курам на смех, в дом привела? Нет, он, конечно, начитанный, ничего не скажешь, воспитанный, образованный, знаем мы его, как облупленного, он тут до тебя еще нарисовался, фиг сотрешь. Не к тебе одной подкатывал.
— В смысле? — Марина насторожилась. — К кому еще?
— Да ладно, проехали. Ты не обижайся, но кто тебе еще правду скажет? Он собственник жуткий, а жена его, Светка, с ним почти пятнадцать лет промучилась, жаловалась нам. Она за него с тобой боролась не из-за большой к нему любви, а потому, что у нее свое отнимают, понимаешь? Обидно ей, что пришла какая-то малолетка на все готовое, такая вся на пафосе: подвинься, Света! Конечно, ей обидно вот так отдать все сразу.
— А что она отдала? Что «все»? Квартиру он ей оставил, ушел в однушку. Библиотеку — ей. Сын с ней. Алименты платит. Что она потеряла?
— Да мужика она потеряла! Му-жи-ка! Пойди сейчас найди нового, отмой, приручи, привыкни к его привычкам, — Солоткова говорила со знанием дела. Знает, плавала.
— Сама же сказала, не за любовь боролась, по привычке. И зачем кого-то отмывать? Найди чистого.
— Ты мала еще, милая, о любви рассуждать. Вырастешь и разницы не найдешь, где любовь, где привычка.
— Может, и не найду. Я, Наташка, без любви жить не буду. Ни с кем. Никогда!
— Ну-ну, давай не живи. Не смеши мои тапочки! Ты сейчас, что ли, по любви вышла? Через год взвоешь!
Марина обижалась. Но взвыла она гораздо раньше.
От Ленки Фокиной Марина звонила Ярику несколько раз, предупреждала, что задерживается.
— Яр, не волнуйся, я с девчонками. Давно не виделись, часам к восьми буду, хорошо?
— Марина, ноги в руки, быстро домой!
— Да мы одни, они без парней пришли, мы даже без спиртного.
— Тебе что-то не ясно?
«Блин, меня даже отец так не дрессировал», — Толмачева начала заводиться. Неожиданно для себя она уверенно возразила:
— Я приду к восьми. Понятно?
Бросила трубку.
— Маринка, ты как в КПЗ живешь, — посочувствовала Светка Зубарева, затягиваясь сигареткой.
— КПЗ — это камера предварительного заключения, а я уже осуждена, причем безвинно, и сижу в тюрьме. И похоже, срок мне влепили приличный.
— Ты сама себе его влепила, — утешила Лена, — слава богу, не пожизненный. Разводиться не думала?
— Ой, девки, не знаю. Но сил уже нет никаких.
В Маринке рос протест против тирании. Она шла домой, как на каторгу, уверенная, что сможет отстоять свое конституционное право на свободу передвижения во времени и пространстве. Подошла к двери, позвонила. Открыл Ярик.
— Привет, — буркнула Марина, внутренне сжавшись, — как обещала, к восьми.
— Дрянь! — звонкая сильная мужская пощечина откинула Маринкину голову к стене.
— С-скотина, — округлив глаза, зашипела Маринка. Ее щеки пылали от стыда и обиды, — все, скотина, это все! Это последняя капля, тварь! Поднять руку на женщину?! Ты не мужик! Все, что у тебя от мужика — в штанах, подонок!
Марина выскочила из квартиры, размазывая по щекам слезы. Она бежала по городу, не разбирая дороги. «Ударил! Он все-таки смог поднять на меня руку! Солоткова была права, значит, и правда, что-то знала! Всё! Без всяких сомнений, теперь это уже точно — развод!» Марина не заметила, как дошла до родительского дома.
— У-у, миленька моя, что случилось, все живы? — запричитала Тамара Николаевна, впуская рыдающую дочь в квартиру.
— Я умерла, — пытаясь остановить истерику, выдавила всхлипывающая Марина. — Я к вам. Жить. Насовсем.
Марина прошла в комнату, из спальни вышел отец с газетой.
— О! Явление Христа народу! Ты чего?
— Развожусь, пап! Достал, скотина!
— А мы с матерью тебе говорили, ты не слушала. Сейчас сопли мотаешь. Я сразу сказал, кто он есть, твой Ярик-ху.., — срифмовал Иван Иванович. — Ложись спать давай. Завтра поговорим, как злость выпустишь, а то еще побежишь к нему, золотому, с прощением. Блаженная, понимаешь… — Иван Иванович хорошо знал женщин.
Марина выпила таблетку элениума, легла, закрыла глаза и задумалась. Она пыталась анализировать, но происшедшее никак не вписывалось в ее представление о счастливой семье, и оправданий мужу не находилось. «Развод, только развод… только он мое спасение…» — с этой мыслью несчастная Толмачева провалилась в ночь.
Утром Тамара Николаевна решила поговорить с дочерью.
— Ма, давай вечером, после работы, хорошо? Сейчас не хочу. Еще настроение из-за него с утра портить.
— Давай, давай. Может, к вечеру передумаешь.
Марина работала до семи. В шесть тридцать нарисовался благоверный — с цветами. Рожа виноватая, стоит, улыбается.
— Малыш, прости.
— Следующий! — Марина делала вид, что не замечает.
— Ну, малыш, ну хватит. Я же люблю тебя.
— Удав кролика тоже любит. Дома поговорим.
Вечером Тамара Николаевна ждала дочь для разговора. Не дождалась.
— Ха, а что я говорил?! Никакой гордости! Как есть блаженная! Не переживай, мать, сами разберутся, — Иван Иванович что-то мастерил в бывшей кладовке, после небольшого ремонта и перестановок ставшей его личной каморкой, где он прятался от семейных ссор и неприятностей по работе, что-то периодически чеканя, выпиливая, наклеивая, рисуя. Он даже принес туда из стоматологии списанную бор-машину и, меняя насадки, использовал ее то как гравировальную машинку, то как шлифовальную. Ее противное жужжание заставляло домочадцев вздрагивать и вспоминать о вылетевших пломбах.
— Не убил бы ее, — волновалась Тамара Николаевна.
— Да ты что, Тамара, он же трус. Кухонный боксер! — Иван Иванович с силой ударил молотком о брус. — Не бери в голову, мать. Помирятся.
И правда, наступило короткое перемирие. Неделю в семье Марины и Ярика стояло затишье. Потом кончилось мочало… Я сказал! Ты обязана! Денег нет! Быстро домой! Куда пошла? Упала-отжалась… Марина — к родителям.
— Слушай, дорогая, ты так и будешь бегать туда-сюда? Ты определись, понимаешь уже, что хочешь, — взывал к разуму Иван Иванович.
Вообще родители Марины придерживались мнения, что любой брак надо сохранять, а для этого необходимо трудиться. И терпеть. «Что я делаю? Мне только двадцать два. Или уже, правда, все? Навсегда?! Вот это вот все — навсегда?!». Она в очередной раз возвращалась к Ярику от родителей с надеждой, а вдруг все поменяется? Ну вот случится чудо, и все будет по-другому?
«Ключи забыла, ворона», — Марина подошла к двери, пошарила в кармане. Она позвонила в дверь. Тишина. Приложив ухо к двери, прислушалась. Шебуршание за дверью. Марина постучала. Снова тишина. Она постучала сильнее. Приложилась ухом к двери. С тем же результатом. Тихо. Марина вышла, села на скамеечку у подъезда и стала ждать. Под ложечкой зашевелился противный червяк. Она повернула голову, заглянула в подъезд. Из их квартиры, которая располагалась на первом этаже, тихо, не закрывая дверь, на цыпочках вышла женщина. Низко опустив голову, она быстро спускалась к выходу. Марина рванула в подъезд. Добежав до двери, она ногой попыталась не дать ей закрыться, успев мельком рассмотреть нежданную гостью. Хлоп! Дверь перед носом захлопнулась!
— Яр! Открой! Это бесполезно, — негромко сказала Марина, она была почти спокойна. — Слышишь? Открой! Не позорься перед соседями.
Дверь открылась не сразу. Маринка была собрана, никакой истерики. С вырывающимся из груди сердцем она вошла в СВОЙ дом. Зашла на кухню. «Так, прекрасно. Два только что вымытых бокала из-под вина. Ага! Пустая бутылка в мусорном ведре». Заглянула в ванную. Полотенца мокрые. Кровать заправлена наспех. И запах. Его ни с чем не спутать, этот шлейф такого привычного, особого запаха соития мужчины и женщины; сегодня он был особенно мерзок, и его сладковатая основа вызывала у Марины тошноту.
— Завтра я иду в загс подавать заявление на развод. Детей у нас нет, разведут быстро, — Марина удивлялась своему почти спокойствию. — Вопросы есть?
Мерзкое, лживое выражение лица Ярика. Немного смятения, но, в общем и целом, он прав, он оступился, он мужчина.
— Малыш, это не то, что ты думаешь.
«Тупость беспросветная».
— С этой женщиной мы вместе работаем.
«Конечно, я вижу, потрудились. Старались для Доски почета».
— Малыш, не молчи!
«Я не молчу, урод, я ору, ты не слышишь?!»
— Ну что? Что? Она пришла, куртку финскую сыну принесла, у нее на базе блат!
«Ярик, ты идиот».
— Куртку сыну — это хорошо, — наконец сказала Марина, — сын — это святое; особенная гордость для отца — наследник в финской куртке. Семья — моя крепость, жена — не стена, отодвинуть можно, курица — не птица, женщина — не человек.
— Марина, у тебя бред.
— Бред, Ярик, — это ты. Ты недоразумение в моей жизни, и сегодня я бредить перестану.
Всю библиотеку, что Марина собрала, работая в книжном, Ярик оставил себе, даже редкую подборку детских книг, которые его сыну по возрасту уже не подходили, Маринке не отдал.
— Ты себе соберешь. А у меня еще будут дети.
«Вот урод, — Марина внутренне сжалась, — меня распотрошил, как курицу, а у него еще будут дети… подонок».
Она со злостью срывала комнатные занавески, укладывала в картонные ящики посуду, зная, что этим пользоваться она никогда не будет. «Зачем? Зачем ты это делаешь? Зачем унижаешься, зачем мелочишься? А ни зачем. Пусть! Все бабы так делают. Потом стыдно будет, Марина. Пусть стыдно, это потом. А сейчас все сломать, все перевернуть. И что-то надо сказать ему, побольней, пообидней, что же? Что?»
— Прибежишь ведь скоро, малыш! — Ярик ухмылялся, наблюдая за истерикой молодой глупой жены.
— Тамбовский волк тебе малыш!
Ничего умнее в голову не пришло. И хлопнула дверью.
Их развели быстро. Марина переживала обиду недолго, зато в полной мере она ощутила, что чувствует женщина, которой изменил муж. «Как ты, так и с тобой. Чему удивляться? Изменил Светке, почему не будет изменять мне? — Марина уже спокойно вспоминала свою пародию на семейные отношения. — А бабу-то какую страшную привел! Старуха, лет сорок! Морда красная, алкашка, похоже. Волосы желтые, пережженные химией, — Марина смаковала явные недостатки соперницы. — И что им не хватает, кобелям? Что им, вообще, надо в жизни? Власти, бабу и пожрать». С такими мыслями она встретила свои новые романтические отношения.
***
Машка еле-еле дотащила тяжеленный пакет с пивом на пятый этаж, Муха плелась сзади, как всегда, не нагулявшись. Марина открыла дочери дверь, приняла у нее из рук пакет, пошла на кухню разбирать. Муха ждала, когда ей вытрут лапы. Не дождалась. Подумала: «Не до меня сегодня», — и пошла хлебать водичку.
— Моя ты красота! Что бы мы без тебя делали? — Марина выставляла содержимое пакета в холодильник.
— Да нормально, мам. Я дядь Пашу видела, тебе привет.
— Трезвый?
— Вроде, да.
Марина откупорила бутылку пива. Медленно, не давая пене подняться, по краешку налила в наклоненный стакан. Выпила маленькими глотками холодную жидкость. Потом налила второй стакан, взяла таблетку темпалгина и пошла в спальню.
— Олежка, держи лекарства.
— Лапочка моя, спасибо, родная! Машка, молодец, выручила родителей-алкашей.
— Мы не алкаши, мы интеллигентно выпивающие.
— Ну. Интеллигентно выпивающие алкаши.
— Ты как сам?
— Башка болит.
— Сейчас пройдет. Кушать будешь?
— Нет, попозже, не лезет пока. Пивка еще выпью.
Марина принесла еще стакан пива, целую бутылку поставила рядом с кроватью. Села рядом. Олег залпом выпил и откинулся на подушку.
— Подремлю еще, лапа моя.
— Давай, я пока приберусь.
— Ты мазохистка, охота тебе уборку с бодуна делать?
— Я люблю, чтобы было чисто. Хотя бы в квартире. В душе помойка, пусть хоть в квартире будет чистота.
— Не начинай, все же нормально. Чего ты? Не в первый раз.
— Да, не в первый. Наверное, в стотысячный. Олег, я не могу больше.
— Это у тебя с похмелья. Погоди, сейчас пивко ляжет и угрызения совести уложит.
— Олежка, сколько мы еще так будем?
— Да как, Мариша? Что случилось? Нормально вчера посидели, песен попели, с людьми пообщались, вечером Сашка в гости звал.
— Я не пойду.
— Пойдем! Машку с собой возьмем.
Слезы подступили к горлу. Марина сидела, безвольно опустив руки.
— Лапочка моя, не плачь, — Олег сел рядом, обнял Марину за плечи, погладил по мокрым волосам. — Голову, что ли, мыла?
— Да нет, опять плохо было.
— Опять приступ паники? Валокордин пила? Анаприлин?
— Да, все прошло уже.
— Не плачь, я с тобой. Все хорошо.
— Да, сейчас пройдет все, — Марина легла и закрыла глаза. Олег прилег рядом, обнял жену и крепко к себе прижал.
— Ты моя хорошая, любимая моя… Женщина моей мечты.
Марина засмеялась. Это была его фраза.
— Ты, наверное, всю жизнь о такой мечтал.
— Зато любимая. Пьянчужка моя… — Олег уткнулся носом Марине в ухо и глубоко втянул запах любимой женщины.
— Олеж, давай ребенка родим?
— А давай! Вот прямо сейчас и начнем, — он поцеловал Марину за ухом.
— Перестань, щекотно, — Марина поежилась. — Я серьезно спрашиваю.
— Я тоже серьезно. Давай родим.
Какая-то смутная надежда, что можно что-то поменять, изменить, немного подняла настроение.
— Ладно, схожу с вами к Сашке вечером. Только давай уговор — кроме пива ничего не пить.
Марина зашла к Машке, та смотрела мультики, Муха что-то сосредоточенно грызла на постели. Увидев хозяйку, Муха, на всякий случай, покрепче зажала лапами предмет вожделения. «Кто их знает, опять начнут отнимать».
— Что грызешь, собака моей мечты?
— Р-р-р-р…
— Ясно. Машка, пойдешь с нами к дяде Саше?
— Ур-ра-а-а-а! Во сколько?
— Часиков в шесть пойдем. Приберись в комнате. Хорошо?
— Конечно, муль!
Муха внимательно следила за движениями хозяйки, не выпуская что-то из лап. В пятидесятые годы, кажется, был мультфильм «Каштанка» про маленькую цирковую собачку. Муха — тот еще персонаж.
***
Маше было три года. Как обычно, утром Марина отвела дочь в детсад. Шел частый, мелкий, колючий дождик. Садик находился в пяти минутах ходьбы от дома, путь шел по небольшому мосту через речку-вонючку, так в народе называли Северку. Обходя лужи, Марина спешила домой. Переходя речку, она остановилась на мосту. Прямо посередине, в луже, поджав хвост и дрожа, стояла маленькая рыжая абсолютно мокрая собачонка с круглыми выпуклыми карими глазами.
— Только тебя мне и не хватало! — сказала ей Марина.
Собачонка подняла уши.
— Это вы мне?
— Тебе, кому же еще?
— Я вам помешала? Извините, — собака отошла в сторонку, освобождая путь.
— Ну и что мне с тобой делать? — спросила Марина, заглядывая собаке под хвост.
— Я девочка, если вы что-то ищете.
— Уже вижу, что не мальчик.
— Что-то еще? Или вы уже пойдете? — собачка чуть вильнула хвостом.
Марина задумалась. «Брать домой собаку — мысль дикая. Олег меня выпрет вместе с дворнягой, он аккуратист, каких свет не видывал. Но псину жалко, накормить бы надо».
— Ладно, пошли, покормлю тебя.
Марина пошла, не оборачиваясь, в надежде, что собака ее не поняла.
— Напрасно вы так думаете, я вас прекрасно поняла, — думала собака, семеня следом, не отставая ни на шаг.
«Что Олегу скажу? Ума не приложу. Скажу, покормлю и отпущу». Марина надеялась разрулить все по ходу пьесы. Собака покорно бежала сзади, как будто давно знала дорогу домой, и подъезд, и этаж, и дверь.
— Ну, пришли, подруга. Заходи, только тихо.
Марина тихонько разулась. Олег еще спал. «И хорошо, пусть спит подольше, а там видно будет, что сказать». Собака послушно стояла в прихожей, ждала приговора.
— Пойдем мыться, девочка. Мыться любишь?
— Пока не знаю, сейчас посмотрим.
Марина аккуратно взяла собачонку под грудку и поставила ее в ванну. Та стояла, не шелохнувшись, стараясь во всем угодить вероятной в скором будущем хозяйке. «Сейчас меня отмоют и увидят, какую красоту подобрали». Марина открыла кран, взяла душевой шланг, теплой водой окатила псину. Та стояла как вкопанная.
— А ты девочка послушная, сколько тебе? Месяца четыре?
— Мне три. Я позавчера потерялась. Я еще маленькая и не смогла найти обратную дорогу.
— Что ж тебя без поводка отпустили, кроху такую?
— Не уследили. Простим их?
— Простим, конечно, — Марина взяла немного шампуня и намылила шерсть. С худых боков собачонки стала стекать грязная пена. Марина несколько раз сполоснула щенячье тулово, промыла глазки, отжала воду и замотала псинку в полотенце. Потом насухо вытерла.
— Да ты красотка, девочка!
— А я предупреждала. Кроме того, что я красивая, я еще умная, веселая и преданная.
Распушившаяся вьющаяся ярко-рыжая шерсть красивыми кольцами обрамляла шею собаки, спадала на белую грудку и впалые бока. Острые ушки были начеку. «Что дальше со мной будет? Полюбуются и…»
— Пойдем кушать, малышка.
«Все совсем неплохо», — подумала собачонка, понюхала предложенную еду и очень аккуратно, как будто и не голодала три дня, стала брать из миски кусочки каши с колбасой. Она съела приличную порцию, бочка округлились. Собака медленно вылизала тарелку дочиста и села, расставив передние лапы, задние сложив на один бок.
— Тяжко с непривычки?
Марина уже знала, что никогда, ни за что, ни за какие коврижки, никому не отдаст это сокровище.
— Я назову тебя Муха, ты не против?
Собака сидела, прищурив от сытости глаза. Ее клонило в сон, и она улыбалась. «Каштанка опьянела от еды», — подумала Марина, села на корточки и погладила блестящую шерсть. — Кто-то ведь сейчас тебя ищет, красотка.
— Меня уже нашли.
— Погоди спать, у нас с тобой самое главное впереди, ты должна понравиться Олегу и найти аргументы, чтобы остаться.
Марина тихонько зашла в спальню, Муха — за ней и неслышно села у двери.
— Олежка-а-а, приве-е-е-ет! — заискивающе пропела Марина и села на кровать.
— Доброе утро, Мариша! Отвела Машку? — Олег сладко потягивался. — Ныряй ко мне, женщина.
— Отвела, все хорошо. А ты меня не будешь ругать?
Олег очень хорошо знал и эту фразу, и эти интонации. Ничего хорошего они ему не сулили. Сон мигом улетел.
— Марина, что случилось? — строго спросил Олег.
— Ничего особенного. Нет, ты скажи, не будешь ругаться? Обещай!
— Марина, что?!
— Оле-е-ег, ну обещай, обещай!
Олег пообещать не успел. Муха нашла аргумент. Ей надоело затянувшееся вступление, и она, неуклюже разбежавшись, прыгнула на диван.
— Мля-я-я-я, Марина, ты…
— Олежа, Олежа, Олежечка, хороший, пожалуйста! — Марина широко улыбалась, глядя на первые мгновения зарождавшихся отношений длиною почти в двадцать лет.
Муха прыгнула Олегу на грудь и начала лизать ему лицо, быстро-быстро, не давая опомниться. Он смеялся, вытирая лицо углом пододеяльника. Марина выдохнула. «Победа!» Олег собак любил, у его родителей жил мальчик Вэла, кокер-спаниель, доставшийся им после развода Олега с первой женой Светланой. Толстый, черный, красивый кокер-обжора. Но порядок и чистоту Олег любил больше, чем собак, и, вообще, был ответственным и спокойным человеком.
Он сидел на кровати, лохматый спросонья, опершись ладонями в колени. Рядом на спине лежала Муха, положив ему голову на бедро и поджав лапки «зайчиком». Каша с колбасой уютно уперлась в бока. «Хозяин, я вся твоя навеки».
— Марина, ну на хрена тебе это было надо?
— Олежа, честно, ну хороша? Честно! Хороша?
— Мля, причем здесь хороша?
— Да притом. Она потерялась. Не могла же я ее бросить.
— Могла.
— Нет, не могла! Когда ты потерялся, я тебя подобрала и не бросила. Я тебя помыла, накормила и спать уложила.
Олег задумался.
— А ведь так и было, лапа…
— Ну вот! Чем Муха тебя хуже?
— Значит, ее зовут Муха?
— Муха, Му-Му, Муся, Мухобойка.
— С Мухобойкой ты, конечно, переборщила. Типа бойкая муха? Ладно, Маришка, пусть живет с нами. И Машке радость.
На последних словах Олега Муха перестала изображать зайчика, развернулась и села рядышком, как воспитанная и сдержанная собака. «Да, спасибо, Олег. Конечно, все будет пристойно».
Вечером, забирая Машку из сада, Марина сообщила дочери:
— У нас новость, Машенька, с нами будет жить маленькая собачка!
— Мама! Мамочка моя, любимая! Ты купила мне маленькую собачку!!
— Нет, она сама к тебе пришла, Машуня. Сегодня утром.
Маленькой ручонкой Машка тянула маму домой, забыв про свои камушки с моста, про песочницу, про подружек. У нее собака, настоящая, как в книжках, как в телевизоре!
***
— Девушка, у вас есть собрание сочинений гида Мопассарана? — вопрос вывел Марину из постразво дных, с Яриком, дум. Она взглядом оценила остряка. Из постоянных покупателей, высокий, лет тридцати, с темной курчавой шевелюрой, с очень привлекательной внешностью и походкой манекенщика. «Симпатичный парень. Ко всему еще и умный малый. Женат, не женат?» — Марина пробила чек, упаковала клиенту книгу о бейсиках и алголах. Он был из СК, то есть спецклиентов, всегда покупал профлитературу по языкам программирования. Здоровались, не более.
— Нет, только Фонаря де Бальзама.
— Люблю людей с чувством юмора. Меня Володя зовут.
— Знаю, меня Марина.
— И я знаю. Э-э-э, уж если мы друг друга давно знаем, предлагаю поужинать вместе.
«Да, шустрый. Сразу, без предисловий».
— Вообще-то, я замужем. Хотя… А пойдемте, Владимир!
— Я буду с другом, вы не против?
— Я не против.
***
Вечером они встретились у ресторана «Жемчужина».
— И где же ваш друг?
— А я вам без друга не нравлюсь?
— Пока не знаю. Но, возможно, понравитесь меньше, когда познакомлюсь с вашим приятелем.
— Тогда мы его не ждем, и давай на «ты».
Они сели за заранее зарезервированный Владимиром столик, заказали бутылку шампанского и по салату «Оливье».
— Расскажи мне о себе, — Марина отпила шампанского, рассматривая руки нежданного кавалера. Они были большие, мужские, с длинными ровными пальцами и аккуратно подстриженными ногтями.
— А давай, ты первая.
Марина еще ранее обратила внимание, что Владимир чуть шепелявит на «с», получалось что-то типа «щегодня щедьмое щентября». Но только чуть-чуть, слух не резало.
— Да нечего рассказывать, в общем. Ну, неделю назад я ушла от мужа, живу с родителями. Еще с нами живет моя племянница Лиля, ей шесть лет, милая девочка с убойным характером и взрослым отношением к жизни. Родители на пенсии, есть старшие брат и сестра. Детей нет, денег нет, счастья нет. А ты с кем живешь?
— А у меня есть немного денег, немного счастья и…
Марина замерла. «…И немного детей?»
— … и дочь Полина, ей десять лет.
«Значит, женат. Господи, опять женатик», — Марина успела расстроиться.
— Ты женат, Володя?
— Скорее, я не разведен. Жена, кстати, тоже Марина, с дочерью живут в Соликамске, мы уже давно не вместе. Собирались разводиться, но у нас к этому делу географические препятствия.
«Как же! Географические! Ну все заливают! Поголовно все не женаты, или собираются разводиться, или уже подали заявление на развод, или вот-вот подадут. В голове у тебя, Вовчик, препятствия, а не в географии. И почему мне так не везет?!»
— А как фамилия твоя?
— Лукьяненко. Владимир Лукьяненко. Бонд, Джеймс Бонд, — кокетничал Володя.
— Собирались разводиться, значит, сейчас не собираетесь?
— Марина, для меня регистрация брака не имеет никакого значения.
«Ну, конечно, сейчас начнется: главное — чувства, штамп в паспорте — это не главное, доверие в отношениях и любовь — вот основа семьи… и т.д., и т. п.»
Марина успела сделать для себя уже кое-какие выводы. Разводиться не будет, детей заводить не будет, очень свободолюбив и независим, сам создает себе жизненные обстоятельства и успешно их игнорирует. «Да-а, фрукт. Впрочем, что это я? Я же замуж за него не собираюсь, — подумала Марина, — вот же женская натура! Любой мужчина, с которым общается женщина, почти сразу рассматривается ею как потенциальный партнер и отец ребенка. Ну да. А почему нет? Все как в природе. Самка выбирает самца для продолжения рода, выживает сильнейший, праймы, дуэли…»
— Э-эй, Мариша, ты где? Вернись! — Володин голос отвлек Толмачеву от мыслей о размножении.
— Все в порядке. Ты не сказал, с кем живешь.
— Я живу со старенькой мамой, у нас двушка-хрущевка, работаю в НИИ программистом.
— Очень старенькой?
— Очень. Она родила меня в сорок четыре года, мне тридцать, значит, ей семьдесят четыре. Марина, переезжай ко мне.
«Чур меня! Я не ослышалась?»
— Владимир, мы с вами…
— …с тобой, — уточнил ухажер.
— …общаемся около часа, вы… ты считаешь это достаточным для слияния душ, тел и вещей?
— Вполне. Едем?
***
На следующий день Марина проводила разведку боем, как всегда, у бывалых сослуживиц.
— Что тебе сказать, Мариша? Женат, есть дочь, любит выпить, причем крепко, себе на уме. Не сказать, что бабник, но своего, точнее, своей — не упустит, — комментируя выбор Марины, Аллочка ровняла пилочкой длиннющие ногти. Они были настолько длинны, что даже кусочек сахара из сахарницы она брала кончиками ногтевых пластин, заставляя передергиваться некоторых сослуживиц, которые видели в этом действии не человеческое, а какое-то птичье присутствие.
— Жить с ним сложно будет, но семью содержать способен. Поговаривают, любит профессиональный покер, но я лично не знаю, верить этому или нет. Ты что, решила с ним попробовать?
— Типа того. Я вчера у него ночевала.
— Ну и молодец, нормальный мужик, получше твоего Ярика. Манекенщиком подрабатывал, когда студентом был. Если ты заметила, он вообще красавчик.
— Заметила, — Марина вспомнила вчерашний вечер и еще некоторые подробности, которые никогда не будет обсуждать с подругами.
— Слушай, ты же не развелась еще, твой узнает, харакири и тебе, и Вовке сделает.
— Харакири себе делают, во-первых. Во-вторых, он не мой. Я ушла, если ты помнишь.
— Ладно, не цепляйся. Короче, Толмачева, мы с девчонками твой выбор одобряем.
— Так мы же вчера только вечером познакомились…
— Да вчера и обсудили все. Ты не умеешь ничего скрывать, у тебя на лбу все написано.
***
— Володя, она что, из детдома?
— Мама, почему из детдома?
— Сынок, если ты ее привел домой к нам ночью, значит, ей ночевать негде.
— Нет, мама, у нее родители есть.
— А почему она у нас вчера ночевала?
— Мама, Марина будет жить у нас. У меня, со мной то есть. В общем, мы будем жить вместе.
— Как муж и жена? А как же Мариша, Полиночка?
— Марина и Полина в Соликамске, мама. А я здесь. И Марина здесь.
— Ее тоже Марина зовут?
— Да, мама, тоже Марина.
— Сынок, это третья Марина у тебя. Ты их что, по имени подбираешь, чтобы не путаться?
— Мама, не выдумывай.
— А вы давно друг друга знаете?
— Давно, мама.
— А почему со мной не знакомил?
— Вот, знакомлю.
Марина сидела в комнате и слушала разговор Володи с мамой, он терпеливо объяснял ей на кухне возможности и варианты современного совместного проживания. Елизавета Ильинична внимала и качала головой.
— Как знаешь, сынок, как знаешь. Лишь бы вам было хорошо.
Елизавета Ильинична и Степан Николаевич Лукьяненко познакомились на лесоповале в пятидесятом. Они были сосланы в ХантаяЛаг как политические. Лизе было тридцать семь, Степану — сорок четыре. Володя всегда скрывал своих родственников-евреев по материной линии, разбросанных по Украине и где-то в Канаде. И он, и мать всегда боялись возврата еврейских гонений и погромов, и даже тогда, когда обстановка в стране с признаками подобия демократии стала более свободной. У Елизаветы Ильиничны и Степана Николаевича не было детей, врачи поставили Лизе диагноз — абсолютное бесплодие, кроме того, Степан, в силу обстоятельств того времени, однажды имел принудительную неосторожность около двух часов стоять в ледяном болоте, и помимо психологического стресса он перенес тяжелое мужское заболевание. Но мечтать о ребенке Степан и Елизавета не переставали. Когда они стали вольнопоселенцами и переехали в Северогорск, Лизу — как последствие валки леса и как осложнение после затяжной простуды — скрутил радикулит. Она была прикована к постели, и боли были такие, что казалось, она парализована той болью. Не шевеля ни руками, ни ногами, Лиза лежала, молилась и терпела, надеясь только на Божью помощь. Степан Николаевич, не имея под рукой никаких лекарств, взял как-то два кирпича и хорошенько разогрел их на печи. Аккуратно перевернул жену на живот и положил хорошо прогретые камни Лизе на спину, на поясницу, укрыл пуховой шалью и сверху одеялом. В течение недели он повторял процедуру несколько раз. Видимо, для усиления лечебного эффекта Степан Николаевич крепко обнимал любимую жену, и через два месяца Лиза поняла, что беременна, а еще через семь у них родился сын Володя весом почти в шесть килограммов. Елизавете Николаевне было очень стыдно перед людьми, ведь она забеременела в сорок четыре года, тем более, что отцу ребенка был пятьдесят один год. Неловко любить друг друга в таком возрасте. Она, как могла долго, скрывала беременность. Врачи не советовали ей рожать, слишком велики риски. Смешно! О каких рисках речь? Это же чудо, единственная, ставшая реальной, невозможная беременность.
Володя рос здоровым, послушным, очень смышленым мальчиком, радостью и надеждой родителей. По причине возраста и заболеваний отца и матери его не взяли в армию. Он был отличником в школе, легко поступил в институт, проявлял интерес к математической науке, кибернетике, программированию. Закончив аспирантуру, он остался преподавать в местном вузе. В студенческие годы его преподавателем был Шамсутдин Алишерович Хусабинов, отец Ярика, первого мужа Марины. Узнав об этом, Марина удивилась стечению обстоятельств и тому, в каком, оказывается, маленьком городе она живет.
Хитросплетения встреч никогда не переставали удивлять Марину. Она называла это судьбой, случайностями, совпадениями на кривой и разухабистой жизненной дороге к Смыслу. Тогда она еще не знала, что такое Божий промысел. Чтобы искупить свою вину за детоубийство, движимая страхом, что не сможет больше иметь детей, она стремилась родить как можно скорее. Главной, единственной ее целью, грубо говоря, было воспроизводство. Позже она пыталась найти объяснение этому желанию, очень уж примитивным оно казалось. Разве в этом смысл — просто родить и воспитать?
Марине не давало покоя ощущение неправильности, нелогичности любых ее поступков, даже движимых, как ей казалось, самыми благими намерениями. Проживая обыденные, общечеловеческие отношения с окружающими ее людьми, родными или случайными, она интуитивно искала в своей не особо загруженной умом голове ту информационную ячейку, содержание которой выдавало бы переменные для решения ее неразрешимых задач. Марина их и сформулировать-то пока толком не могла. Какие-то смутные, нечеткие образы, желания, сомнения: а зачем все это? Она ждала того, кто смог бы объяснить ей, ДЛЯ ЧЕГО она живет?
***
Марине с Володей досталось место в проходной комнате. Старый диван со стороны изголовья примыкал к древнему трехстворчатому шкафу. Старенький ламповый телевизор, колченогий сервант, ковер на стене и ковер на полу. На крошечной кухне ютились крашенный в белый больничный цвет буфет с маленькими стеклянными дверками, две табуретки, двухконфорочная газовая плита и небольшой холодильник. Полы были дощатые, покрытые пронзительно-коричневой советской краской, а маленькая, на одного человека, прихожая застелена вязанными из цветных лоскутов половичками. Просто, почти бедно, чисто и грустно. Марина в роскоши никогда не жила, поэтому почти с безразличием восприняла свое новое, она надеялась, что временное, жилище. Очень напрягала невозможность жить в отдельной комнате. Елизавета Ильинична любила смотреть телевизор в зале, который считался комнатой молодых, а поскольку была глуховата, включала его на полную громкость. Володя в это время уходил в комнату к матери, закрывался с книгами, и ему ничто не могло помешать. Если же его все-таки что-то настойчиво отвлекало, он просто уходил из дома.
— Эй, ты куда?
— Мне надо.
Марина оставалась дома с гражданской свекровью, тихо закипала и радовалась, что может оправдать свои громкие хамские ответы Ильиничне ее глухотой. Она со злорадством орала, повторяя не расслышанные свекровью слова, и отыгрывалась на ней за все более частые Володины уходы в «надо». Ильинична была беззлобной и терпеливой, говорила тихо, ходила не спеша, немного пришлепывая на левую ногу, голову всегда покрывала чистым белым платком. Елизавета просто и вкусно готовила. Даже во времена пустых прилавков она умудрялась приготовить из ничего что-то мясное.
— Мужчина должен кушать мясо. Сама не съешь, а ему оставь.
Как ветеран труда она отоваривалась по карточкам в специальном магазине и все самое вкусное отдавала детям. Маринка этого не ценила и воспринимала как должное. Елизавета Ильинична сама делала уборку, подметала, мыла полы, трясла ковры, потом лежала по три-четыре дня с высоким давлением. Аппарат показывал двести сорок на сто пятьдесят, около кровати всегда находился тазик, потому что свекровь в эти дни выворачивало наизнанку. На ее лбу лежало маленькое белое мокрое полотенце, от боли она не могла произнести ни слова.
Свекровь Марину раздражала. Маринка брезговала. «Почему же меня так раздражает эта милая старушка? Почему у меня нет к ней ни капли жалости и сочувствия? Она для нас с Вовкой разбивается в лепешку, почему же я такая тварь бессердечная?» Но Маринкина совесть спала, не шелохнувшись. Елизавета Ильинична относилась к Марине как к стихийному бедствию. За свою долгую жизнь она такое пережила и столько выстрадала, что это не шло ни в какое сравнение с истериками сумасбродной девчонки. Ее капризы, конечно, были обидны и досадны, но Елизавета Ильинична воспринимала все со смирением, как очередное Божье испытание. Вечером, перед сном, Елизавета Ильинична выключала на кухне свет, становилась лицом к углу кухонного буфета и начинала что-то шептать, закрыв глаза.
— Владыко Человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветиши днем?.. — доносились до Марины непонятные слова, — … в руце Твои, Господи, Боже мой, предаю дух мой… Ты же меня благослови, Ты меня помилуй и живот вечный даруй ми… Аминь.
«О, аминь я помню». Марина вспомнила, как однажды шла с мамой из школы. Была осень. Разноцветные листья, качаясь в воздухе и лодочкой опускаясь на землю, тепло шуршали под ногами. Небольшой ветерок, закручивая упавшие листочки, снова поднимал их вверх, создавая осенний цветной хоровод.
— Аминь, аминь, аминь. Маринка, осторожней, обходи эту круговерть, — тревожно-уверенно сказала Тамара Николаевна, — не наступай в нее.
— Почему, мам? Это же листочки… — с осторожностью спросила Марина, удивляясь неизвестному, трижды произнесенному слову.
— Это кто-то порчу кому-то послал, у нас в деревне так бабы говорили. Если листья вихрем или снежная поземка змейкой под ноги кинется.
— Как это, порчу? — удивилась Марина, а про себя подумала: «Больше на парчу походит, цветные листочки, цветная материя…»
— Ну, если кто кого сглазить захотел, насылают порчу, беду какую-нибудь, заразу, надо трижды «аминь» сказать, и она тебя обойдет.
— А-а…
Маринка шла до дома молча, вникая в новое, непостижимое, непонятное. «Аминь, аминь, аминь», — шептала девочка, она не хотела портиться сама и, тем более, чтобы кто-то испортил маму. Когда Марина стала взрослой женщиной, она учила уже свою дочь этим немудреным оберегам. Она верила в гороскопы, амулеты, заговоры, привороты, которые напускали еще больше страхований в Маринкину, и без того замусоренную страхами, душу. Ей понадобилось прожить много времени и бед, чтобы научиться отличать внушаемые матерью суеверия от разумной веры. Аминь — истина, так будет.
— Вов, что там твоя мать вечерами шепчет?
— Не обращай внимания, она мо-олится, — с неловкой иронией ответил Володя, — это старческое. Что поделаешь? Возраст.
— Бред какой-то, молится! Что за средневековье? Чушь собачья! Она что, и в церковь ходит?
— Ходит, по воскресеньям. Да не бери в голову!
— Да-а… кошмар, — Марина пребывала в крайнем удивлении. — А я-то думаю, что это она меня недавно спрашивала, крещеная ли я?
— А ты крещеная? — Вовка сидел, уткнувшись в телек.
— Нет, конечно. Еще чего?! Мракобесие, на дворе двадцатый век! Кресты, иконы, мрак какой-то! Это для старух вон, из ума выживших.
— Ты про мать напрасно так. Она бабулька в разуме, необразованная только.
— Да куда там, в разуме! Утром бу-бу-бу, вечером бу-бу-бу.
Качая ногой, Вовка смотрел, как какой-то лохматый певец выскочил на круглую сцену и начал истошно орать в микрофон. Показывали «Музыкальный ринг».
— Вов, давай ребенка родим?
— А зачем, у меня есть уже.
— Ну так у меня-то нету.
— Рано.
— Рано для чего?
— Для всего.
— У тебя что, планы какие грандиозные? Мы уже почти два года вместе.
— Хочу кандидатскую защитить, она почти готова.
— Что до сих пор не защитил?
— Женился, дочка родилась, пеленки-распашонки, науку на полку.
«Та-ак, — Марина начала себя накручивать, — одному рано, потому что я маленькая, другому рано, потому что у него диссертация, третий скажет, что у него одно яичко после свинки. У меня одной все яички на месте и никаких планов! Машина по уходу за мужчиной. Нет, с ними каши не сваришь, не так надо. Я знаю, как!» Больше Марина эту тему не поднимала.
Когда Марина начинала изводить мать, Володя не встревал, как, впрочем, и за жену, когда Елизавета Ильинична цепляла Маринку. Последнее было крайне редко, в основном, истерила Марина, по поводу и без. Ее жутко раздражало, что они жили в проходной комнате. Ладно, телевизор допоздна. Ладно, банки с водой от Чумака и заряженные КРЭМЫ от Кашпировского («А ЧТО, У СОСЕДКИ ШРАМ РАССОСАЛСЯ») — это полбеды. Ночами, когда между супругами происходили очень интимные моменты, мама шаркала из спальни, подходила к дивану, где спали молодые, наклонялась и прислушивалась. Маринка замирала в любом неестественном положении, затаив дыхание.
— Сынок, ты ее не обижаешь?
— Нет, мама, иди ложись.
— Точно не обижаешь?
— Нет, мама, нет. Точно не обижаю.
— Да? А то мне послышалось, Мариша плачет.
— Это она от счастья, мам, иди ложись.
— Ну ладно, сынок, спокойной ночи.
Потом шла в туалет, справляла нужду и шлепала к себе в комнату.
Поначалу Вовку это забавляло, но вскоре и ему уже стало как-то не смешно. «Отравить бы ее, никак сама не сдохнет!» — шипела мысленно Маринка, желая свекрови скорейшего завершения ее земных дней.
***
Володя все чаще стал приходить домой поздно и крепко поддатым. Елизавета Ильинична не считала это чем-то из ряда вон.
— Главное, в карты чтоб не играл. Мариша от него из-за этого ушла. Все деньги проигрывал.
«Кто его знает, может, и в карты играет». Маринка больше волновалась, вдруг бабу завел. Она сидела за кассой и думала: «Вова не хочет ребенка. Вова хочет гулять. Вова хочет пить и играть в покер. Вова хочет диссертацию. Хорошо». Вечером она заявила мужу, что взяла три дня отгулов и летит в Москву.
— Зачем?
— За сенбернаром.
— Ха! Ты серьезно?
— Абсолютно.
— Ну-ну.
Вова не поверил. А Марине было все равно, что скажет несчастная Елизавета Ильинична.
***
Из аэропорта Шереметьево Толмачева позвонила заводчице, уточнила адрес и взяла такси. Прибыв по адресу, она зашла в большую квартиру и увидела в одной из комнат загон, а в нем копошащихся, примерно полуторамесячных, щенков.
— Сколько Бетховенов!
Хозяйка Лена гордилась своим пометом. Ну, не своим, конечно, а своей Ладушки, огромной суки-сенбернарши, которая была предусмотрительно отправлена в соседнюю комнату, чтобы та, не дай бог, не сожрала новую гостью. Эта была пятая за сегодня, которую сенбернарша хотела сожрать. Она громко лаяла, брызгая слюной, ее глаза наливались кровью, и отвисшие красные склеры отчаявшейся, обезумевшей от горя матери производили-таки впечатление.
— А как же я выберу?
— Суку хотите?
— Ну да, девочку. Вон, вроде, малышка симпатичная. Ой, не знаю, они все такие хорошенькие!
— А вы погремите ключами, какая подойдет, та ваша, — дала совет бывалая Лена.
Марина достала связку ключей и потрясла ими перед щенками.
Одиннадцать мордашек повернулись к ней, удивленно прислушиваясь. Замерли. Слушают. Один щенок, мотнув головой, размахивая ушами, вприпрыжку подбежал к бордюру, встал на задние лапки и начал вилять хвостом.
— О, это как раз сука, — объявила Лена.
Марина взяла щенка на руки, прижалась к нему и зарыла нос в теплый щенячий загривок.
— Щеночком пахнет! Девочка моя.
— Пятьсот рублей, вот паспорт, вот инструкция по применению, — съюморила заводчица, протягивая Марине книжку с советами по выращиванию сенбернаров в сложных условиях маленькой северогорской квартиры.
Марина отсчитала сотки, взяла щенка, положила в дорожную сумку, туда же кинула кусок тряпки с запахом собаки-матери и поехала в аэропорт.
Обратный полет обе девочки перенесли хорошо. У Марины теперь было о ком заботиться, у Патриции — кому себя доверить. Самолет прилетел поздно вечером. Вовка был в НИИ, Марина открыла дверь своим ключом. Елизавета Ильинична безмятежно спала, не подозревая, какую засаду ей приготовили горячо любимые дети.
Вовка пришел поздно и трезвый.
— Ну, где моська?
— Спит. Такая лапочка!
— Мать видела?
— Нет, она спала, когда мы приехали.
— И то хорошо. Позже узнает, дольше проживет.
— Кто? Щенок?
— Нет, мать.
Володя подошел к собаке, Патря подняла квадратную сонную мордочку и сладко зевнула.
— Красавица какая! Эх, Маринка, ну и дураки же мы с тобой! — улыбаясь, прошептал Вовка, боясь разбудить мать.
— Ничего не дураки!
— Ты хоть знаешь, до какого размера вымахает эта крошка?
— Да знаю, знаю, маманю ее видела, вот страшила!
— Ладно, спим. Утро вечера мудреней.
Утром Марина проснулась оттого, что услышала чей-то плач. Она лежала, прислушиваясь.
— Вов, слышь! — Маринка растолкала Вовчика, — по-моему, Елизавета Ильинична плачет. Сходи посмотри.
Вовка прошел на кухню. На табурете, сложив руки на коленях, скорбно сидела Елизавета Ильинична и тихонько плакала, вытирая глаза кончиком платка. Рядом, у ее ног, сидела веселая Патря и играла с ее тапочкой, выкусывая маленькие ниточки с материного добра.
— Сынок, это что?
— Это сенбернар, мамуль. Патрицией зовут.
— Она у нас будет жить? — так же смиренно, как и в тот день, когда сын привел в дом женщину, спросила мать. Жена, собака… Какая разница?
— Да, мам, будем жить вместе.
Патриция увидела молодого хозяина, радостно подбежала к нему, понюхала пальцы, присела по-девчачьи, и большая теплая лужа стала медленно растекаться по чистому полу.
— Пойду тряпку принесу, — Елизавета Ильинична встала с табурета, — надо тряпку ей отдельную приготовить, ссать-то много, поди, будет, мала еще.
Забота о Патриции немного отвлекала Марину от мыслей о ребенке. Что такое собака, поняли все и сразу. Дел хватало каждому. Гулять, конечно, приходилось Вовке с Мариной. Бабулька не справлялась на улице даже с четырехмесячной Патрей. Зато кормежка стала заботой Ильиничны. Ей это было в радость. К удивлению сына и Марины, мать очень привязалась к собаке. Она чесала ее, гладила, убирала за ней «ссачки», кормила с рук, приговаривая:
— Кушай, моя девочка, кушай, тёлочка. Я еще положу, не спеши.
Потом она вытирала ей морду от тягучей слюны и остатков похлебки. Собака отходила от миски, трясла головой размером с хороший арбуз, и вязкие тянучки слюны разлетались по мебели и стенам. Ильинична терпеливо вытирала их раз за разом, ничуть не ропща на судьбу и непутевых детей. Собака внесла живость и разнообразие в неясное сожительство Марины и Вовчика.
***
Тем временем Ольге становилось все хуже, ей не помогали ни таблетки, ни, тем более, советы, ни уговоры, ни забота о дочке. Лиля окончательно перебралась к бабушке Тамаре и деду Ване. Тамара Николаевна забрала внучку насовсем, когда девочка пошла в первый класс. Теперь еще Тамарочке добавилось хлопот с домашними заданиями. В силу своей профессии, привычная к незнайкам-первоклашкам, она методично-громко объясняла ленивой Лильке, куда тянуть крючок от какой загогулины.
Оля жила в своей квартире, не отвечая на телефонные звонки. Она не открывала дверь никому, теперь уже даже и Марине. Это было совсем необычно. Маринка всегда была связующим звеном в отношениях между сестрой и родителями. А тут такое…
— Тамарочка, — в тот день Лиля капризничала чаще обычного, — мы к маме сегодня пойдем?
— Пойдем, надо продуктов ей отнести. Сейчас только сумку соберу, и пойдем, моя лапочка.
— Ну давай быстре-е-е, — канючила девочка, — я соскучилась, уже неделю к маме не ходили.
— Два дня всего-то и не были…
Тамара Николаевна собрала сумки, одела внучку, и они побрели навещать Олю. Сумки были такими же тяжелыми, как мысли Тамары Николаевны. Она шла, сгорбившись, шестидесятилетняя, измученная горем женщина, неся в руках вечные котомки; рядом, взявшись за ручку сумки, шла, загребая ногами и опустив голову, маленькая Лиля и о чем-то думала. Они шли молча, не спеша, как всегда, с надеждой, что сегодня все будет по-другому, все будет хорошо, и мама перестанет болеть, и дочь перестанет ненавидеть и вернется домой, и всех обнимет, и скажет: «Какой страшный сон нам всем приснился!» Тамара Николаевна нажала звонок. Тишина. Прислушалась, ни звука.
— Мама спит, наверное, Лилечка, сейчас еще постучу.
— Тамарочка, не надо, мамочка умерла…
***
— Марина! Толмачева! Тебя к телефону! — крикнула завотделом, тряся телефонной трубкой.
— Иду-у, Нина Ивановна, бегу!
Марина добежала до телефона:
— Алё!
— Марина, — голос Тамары Николаевны, обычно громкий, сейчас был еле слышен, — Оля умерла…
— А-а-а… — Марина опустилась на пол и завыла. — А-а-а… когда-а-а… ка-ак?.. Мамочка моя-а…
— Сегодня утром… Иди домой, если отпустят.
Ту-ту-ту-ту-ту… гулкие телефонные гудки рвали мозг.
«Господи, как же больно… где-то посередине груди очень больно… рядом с сердцем… что там?»
***
Олю хоронили только родные, гроб домой не поднимали, он открытым простоял около получаса на табуретках во дворе дома, где Оля жила последнее время. Лилю оставили с соседкой, сказали, мама в больнице. Лилька насупилась, она никогда не плакала. Только когда было больно, ну там от уколов, например. Тогда — да! Можно было поорать. Соседка развлекала Лилю, как могла, пока Марина, Пашка, мать и отец на кладбище провожали Ольгу туда, по пути решая материальные вопросы. Стоял ледяной ноябрь, земля уже успела промерзнуть, надо было дать копальщикам бутылку, достать им закуски, термос с чаем. Марина удивлялась, как мать может что-то решать, говорить, двигаться. Она стояла, как каменная, ничего, кроме боли в том самом месте, около сердца, не чувствуя, и смотрела, как с трудом ледяными от холода, скрюченными от болезней и дрожащими от горя пальцами мать доставала из котомки нарезанные загодя бутерброды и теплые кругляши желтых блинов. Сейчас они с Тамарой Николаевной поменялись ролями. В первые часы после страшного известия Марина взяла себя в руки, глядя на обезумевшую мать. Она водила ее, как сомнамбулу, по магазинам, закупая необходимое для погребения.
— Марина, тут платье, белье нижнее в списке, колготы.
— Да, мам, вижу, пойдем, я все выбрала.
Марина тупо смотрела на нелепую кружевную сорочку и трусы-шорты, выбирая, что покрасивее, потом вспоминала, ДЛЯ ЧЕГО это все покупается. И все-таки взяла посимпатичнее. «Ольга мне эти трусы семейные на голову надела бы, если б увидела. Оденем ее красиво, во всяком случае, прилично».
Марина вспомнила, как за три дня до трагедии произошел странный случай. Она спала на спине, ее голова лежала на подушке, прислоненной к старому бельевому шкафу. Ей виделся какой-то незапоминающийся сон. Вдруг с неимоверной силой ей на грудь со шкафа упала каменная плита, ощущение было именно такое. Тяжелый, разбивающий грудь плоский камень придавил Марину к кровати. «Кошка уронила!» — подумала Марина. Она в страхе открыла глаза, не сразу смогла сесть, с трудом дышала, на лбу выступил холодный пот. Она села, растирая грудину, обернулась на шкаф — ничего. «Откуда кошка? Какая кошка? Причем здесь кошка? Что это было? Чушь какая-то». Она отчетливо ощутила сильный удар тяжелого предмета, но больно почему-то не было. Было просто невозможно дышать.
— Вов, проснись, — она толкнула Вовчика в бок.
— Что случилось?
— Ты ничего не почувствовал?
— Нет, а что такое?
— Да нет, ничего, померещилось, наверное…
Заснуть она уже не смогла. КТО-ТО так предупредил Марину о предстоящей беде.
Она отнесла к кассе бежевое трикотажное платье, выбранное белье, какие-то мелочи по списку, несколько носовых платков, темные туфли без каблука. «Она без каблуков любила, ноги болели». Знакомая продавщица пробила чек, упаковала все, не задавая вопросов, кивнула Маринке: «Держись!».
— Марина, ТЕБЕ надо сказать Лиле, что случилось с матерью.
— Я не смогу.
— Я тем более. Ты найдешь нужные слова.
— Давай не сейчас, пусть время пройдет. Летом скажем, а то учиться не будет, мы же не знаем, как она отреагирует. А сейчас скажем, что мама в больнице надолго.
— Хорошо, пусть так…
***
…Марина подошла к гробу прощаться. Она наклонилась над сестрой, на Олино лицо упало несколько Маринкиных слезинок. «Какие синие губы, нос сильно заострился… какой прямой нос у нее, оказывается…» Марина положила ладонь на сложенные на груди руки сестры. «Ледяные…». Наклонилась, прижалась губами к холодному лбу. «Сестричка моя хорошая…». Она не смогла больше сдерживать себя, и рыдания, исходящие из того самого места, что около сердца, стали сотрясать Маринкино тело. Это был не плач. Это рвались наружу безнадежное уныние и отчаяние. И осознание, что это — навсегда.
***
После похорон Марина вернулась домой. Елизавета Ильинична что-то мудрила на кухне.
— Ты как, Мариша?
— Не могу-у-у… Я не смогу это пережи-и-ить, — снова завыла Маринка и рухнула на кровать, — не смогу, Елизавета Ильинична… — ощутив вдруг прилив тепла и доверия, Марина впервые назвала эту женщину, которая обслуживала и терпела ее, по имени-отчеству. Первое настоящее горе толкнулось в сердце, чуть расколов его ледяную оболочку.
— Ты о маме думай, ей-то как сейчас тяжело, дочку-то потерять… Ой, беда, беда… Мариша, ты плачь, не держи. Знай только, сорок дней пройдет, тебе намного легче станет, потерпи, родная. А я помолюсь за вас.
«Как это, молиться? Как сделать легче прямо сейчас, сию минуту, не дожидаясь сорока дней? И почему сорока?». Мысли путались, от слез глаз было не видать. Закинув в себя снотворное, Марина провалилась в сон.
После смерти дочери Тамара Николаевна притихла. Она будто сникла. Марина не видела мать плачущей, все слезы она выплакала, пока дочь жила. Тамара перестала красить волосы и пользоваться косметикой.
— Дочь в земле, а я малеваться? Нет уж, это теперь вам, молодым.
По молодости Тамара Николаевна была самой красивой в среде партийных жен, в кругу общения Ивана Ивановича. Всегда опрятна и модно одета. Иван Иванович одевал своих домочадцев исключительно в дефицит, отовариваясь на базе или через заднее крыльцо. У Тамары была своя парикмахерша Нина, постоянная маникюрша Катя и модная швея Люда. Тамара всю светскую жизнь не выходила в люди без красивой прически. Она была крашеная блондинка и волосы красила в модный желтый цвет. Парикмахерша Нина высоко их укладывала, фиксируя в широкие волны с помощью металлических зажимов. Она делала Тамаре начес, обильно поливала его лаком, спереди зажимая волосы специальными приспособлениями-«крабиками». Когда Ниночка их снимала, взору представлялись красивые ровные волны золотых волос.
Английские костюмы, кримпленовые пальто и крепдешиновые платья были предметом зависти маленькой Марины и маминых подружек. Хотя, нет, не подружек. Подруг у Тамары не было никогда. Были приятельницы — ЖЕНЫ. Тамара терпеть не могла пустую бабью болтовню, но в свет выходила с удовольствием, она умела пристойно кокетничать и нравиться мужчинам.
Спустя три месяца после похорон Марина увидела — мать абсолютно седая. Концы желтых волос нелепо граничили с благородными голубовато-серыми их корнями. Тамарочка резко постарела, осунулась, казалось, она и ростом стала много ниже. Однажды Марина увидела в родительском серванте небольшую иконку. Мать не держала ее на виду и никогда не молилась прилюдно. То, что мать ВЕРИТ, не сильно удивило Марину.
Прошло три года со дня смерти сестры. Вовчик по-прежнему не хотел детей, но мысль об этом уже не была для Марины душевной занозой. Она точно знала день и час зачатия, сделав нехитрые женские подсчеты. В один из вечеров, около десяти вечера, на Вовкино «а сегодня можно?» последовало уверенное Маринкино «конечно, именно сегодня и можно». Уже назавтра хитрая Маринка пила витамины, приняв решение не курить и отказаться от алкоголя, которого в их гараже хранилось огромное количество, потому что с начала псевдосемейной жизни с Володей каждый год, по осени, у знакомого базиста-овощепродавца они затаривались ящиками уцененного винограда. Они брали «Изабеллу» и два сорта зеленого. Как он назывался, Марина не помнила. Помнит, что мелкий был очень сладким, а продолговатый — кислым. Отвозили виноград в гараж, где стояли большие аптечные стеклянные бутыли с узким горлом. Вовка ссыпал фрукт (или ягоду?) прямо с ветками в большую деревянную бадью, надевал резиновые сапоги и, как Челентано, давил дары природы, пока ароматный виноградный сок не наполнял заранее заготовленную тару. Сок бродил прямо в бутылях, вино спасало от «обезвоживания» всю зиму всех страждущих без исключения. Витаминный напиток бродил положенное ему время, и на выходе разливали розовое, красное и желтоватое вино. Желтое наливали в сифон и пропускали через маленькие баллончики с углекислым газом, как газировку. Получалось вполне сносное игристое. Если вина в застолье не хватало, Вовка подрывался и без уговоров бежал в гараж, набирая несколько сортов напитка.
Обдурив Вовчика, Марина не пила даже легкое домашнее вино, и когда в срок не пришли обычные женские недомогания, она, радостная, побежала к врачу.
— Пока говорить рано, но что-то есть, — сказала мамина соседка по даче Нина Ивановна, акушер-гинеколог со стажем, — приходи, родная, через пару недель.
Эти две недели казались двумя месяцами. Марина считала дни и часы до повторного визита к доктору. Она так страшилась необратимых последствий раннего аборта, что перестала гулять с Патрицией, боялась сидеть, бегать, дышать, ходила медленно и вразвалочку, как профессиональная беременная.
— Да, Мариша, поздравляю! Срок шесть недель, встаем на учет.
Домой Маринка возвращалась медленно, плывя на огромных крыльях над маленьким городом. Теперь у нее появился смысл жизни. «Оля тоже так говорила, — вдруг вспомнилось Марине, — смысл — жить ради детей…» Мимолетом что-то непонятное царапнуло. «Что-то не так?» Но Марина была счастлива, она гнала от себя тревогу, страхи и сомнения. «У меня будет ребенок!»
— Мама, у меня новость, — разуваясь и улыбаясь от уха до уха, сообщила Марина. — Я беременна!
— Ми-и-иленька моя! Слава Богу! Вымолила! Срок-то большой?
— Шесть недель! Все, мам, все! Бе-ре-мен-на!
— Вовка знает?
— Нет, вечером скажу.
К удивлению Елизаветы Ильиничны, Марина сама приготовила ужин и красиво накрыла на стол. Вовка пришел слегка подшофе.
— Почему совщем вещелый? — зашипел веселый новоиспеченный будущий отец, глядя на улыбающуюся Маришку.
— Ну, Вовка, держись за табуретку! У нас бу-удет…
— Зарпла-ата…
— Не-ет, Вовчик. Не угадал. Попытка номер два-а. У нас бу-удет… ре-е…
— …петиция! — хохмил Вовчик.
— Ребенок, Вовка! Ребенок! Я беременна!
— Смешная шутка, — по инерции веселился Вова, — где надуло?
— Я не шучу, — улыбка слетела с лица Марины. Она посмотрела на своего сожителя уже безрадостно. — Срок — полтора месяца. Рожать в декабре. В конце.
— Ну-ну, — улыбаясь, Вовчик встал из-за стола и ушел в комнату.
Марина осталась на кухне. Просто сидела и ни о чем не думала, ни о хорошем, ни о плохом. Смотрела на сервированный стол. Встала, прошла в комнату к Елизавете Ильиничне.
— У нас ребенок будет.
— М-м, хорошо, — свекровь немного «окала», — когда?
— Скоро, через восемь месяцев, — Марина оделась и ушла.
Она бродила по улицам. Была весна. Вечер приятным ветерком дул в лицо. И все-таки она была счастлива.
«А что ты хотела, дорогуша? Он тебе сразу сказал, что думал. Он честно поступил.
— Честно? — Марина спорила сама с собой. — Это называется честно? Жить с женщиной, которую ты пусть не любишь, пусть она тебе просто удобна, но ты живешь с ней и не веришь ей? Но ведь ты же называешь ее любимой! И ты, в конце концов, спишь с ней! Но почему ты не хочешь нести никакой ответственности?! Почему хочешь ничем себя не обременять, жить себе в удовольствие, без обязательств?! Ах, да! Конечно, конечно! Я помню, ты же сразу ЧЕСТНО предупредил…»
Марина дошла до городского парка. Северогорск — небольшой городишко, удобный, уютный. Коммунального типа. Общая спальня. Общая кухня. Тонкие перегородки.
«-А-а-а-апчи-и-их!
— Будьте здоровы!
— Спасибо.
— И вам.
— Не умничай.
— Да пошел ты!
— Сам не сдохни!»
Она села на скамейку, достала из сумочки сигареты, прикурила, сладко затянулась. Вальяжно раскинулась на городской скамейке своим максимально женственным телом, которое уже знает, что несет в себе жизнь, что уже кого-то баюкает в себе, чувствуя всеми женскими клеточками свое предназначение. Затянулась еще. «Как же хорошо! Господи, как же хорошо! Как же мне плевать на чье-то мнение! Вовчика, Ярика, шмарика, хренарика. Я живу!!! Я!! И дите — мое, только мое! И ничье больше!». Маришка сидела в парке, полностью расслабившись и вытряхнув из головы лишнее. А лишним было все, что не было связано с ее удивительным положением.
***
Обязательств у Володи перед Мариной не добавилось, как и прежде, он жил исключительно для себя, любимого. Времени свободного хватало. Они болтались по гостям почти каждый день, Вова выпивал огромное количество алкоголя, что очень раздражало Марину. Иногда брали с собой Патрю. Вовкины друзья все были выпивохи, можно сказать, интеллигентные алкаши. Кто с одной стопки валился и пускал слюну, кто до утра куролесил бодрячком. Вовка был из бодрячков, и у него было два состояния опьянения. Первое, безудержное веселье, заканчивавшееся полным безразличием к Маринке, где она, с кем, с ним ли пришла. Ушла ли домой или где-то тут бродит. Второе — немногословная агрессия, когда даже не нужен был повод для ревности, он его надумывал сам. Вовчик никогда не поднимал руку на Марину, ну, в смысле, как Ярик, не бил по лицу. Просто однажды он увидел около Марины постороннего мужчину, о чем-то с ней разговаривавшего. Подождал, чем закончится беседа. В тот день у Марины был безалкогольный день рождения, и она отмечала его с подругой, заказав столик в ресторане. Короткая беседа закончилась ничем. Марина ответила ухажеру: «Спасибо, но я замужем», и тот ушел восвояси. Она подошла к гардеробу за коротенькой фиолетовой французской шубкой из искусственного меха, привезенной знакомым спекулянтом из чековой «Березки». Она и не знала, что Вова в этом же ресторане отмечает что-то типа мальчишника. Они были в ссоре. Она не стала вызывать такси и пошла домой пешком. Было довольно прохладное лето. Володя догнал Марину на полпути к дому.
— Штой, щлюха! — когда он был пьян, шепелявил сильнее.
— Вова! Ты где так надрался?
— Я вще видел! Видел, как ты шнималащь в кабаке!
— Ты больной? Я две минуты разговаривала с мужиком, просто ни о чем!
— Вще! Прощайщя с жижнью! — он стиснул Маринину шею правой рукой, толкнул ее к кирпичной стене магазина и прижал со всей силой. — Щлюха!
Маринка засмеялась. «Что за пафос! Какая Отелла!» Но Вовка сжимал горло все сильнее, уже стало больно и трудно дышать, Марина испугалась. Огромные, полные страха глаза тихо кричали:
— Отпусти, что ты делаешь? Ребенок ведь… — Марина пыталась вырваться из его любимых ладоней. Потом она обмякла и заплакала.
Вовка разжал пальцы. Она осела на землю, размазывая по щекам тушь. Он замахнулся, потом вдруг развернулся и так и побежал прочь, с поднятой над головой рукой, безумный в своей больной любви человек. Мужчина, отец ее ребенка.
Утром Марина не смогла повернуть голову. Очень болело где-то в районе кадыка и под челюстью. Позвонив на работу, она взяла отгул. С трудом оделась (ломило все тело) и поехала к участковому терапевту.
— Та-ак, посмотрим… ясно. Следы пальцев на шее, отек гортани. В милицию заявляли? — доктор посмотрел на Марину.
— Смысла нет.
— Нападавшего знаете?
— Думала, знаю. Вчера оказалось, что нет.
— Ясно. Муж?
Марина промолчала.
— Дело ваше. Можете не говорить. Без вашего заявления все равно разбираться не будут. Сейчас покой, сон, успокоительное.
— Мне нельзя лекарств, у меня срок. Три месяца беременности.
— Да ты в своем уме?! — доктор перестал писать и перешел на ты. — И ты собираешься связать с этим… жизнь?!
— Уже связала.
— Купи валерьянки, немного можно. И все-таки подумай, зачем он тебе?
— Я подумала. Рожу и уйду.
— Если доносишь с таким уродом. Извини.
— Да нет, нормально. Урод и есть.
***
Гулять с собакой приходилось Марине, мать все чаще лежала с давлением, переживая за сыночку. Терпение Марины было на исходе. Тяжелые сумки с едой, многочасовые очереди за продуктами, больная свекровь, прогулки с Патрей, после которых тянуло низ живота, пьяные капризы и домогательства Вовчика — все это заставляло Маринку все чаще впадать в истерики. Она приходила домой к матери и ревела.
— Мама, зачем? Зачем я забеременела? Кому нужен мой ребенок? Кому нужна я? Как я буду его растить с сумасшедшим папашей? Да я его трезвым давно уже не видела! Мама! Я пойду на аборт!
— Марина, да ты что? У тебя больше трех месяцев срок! Побойся Бога! Плевать тебе на мужиков, роди, сами вырастим! Лильку вырастила и твоего подниму!
— Мама-а! Я не могу больше!
Тамара Николаевна позвонила докторше.
— Нина, помогай! Маринка аборт задумала, меня не слушает.
— Тамара, да ты что?! Она приходила на прием недавно, ничего не говорила, все хорошо было, что случилось-то?
— Да кобель ее всю душу нам вымотал! Ни два ни полтора. То ли есть он, то ли его нет. Вроде, и при мужике Маринка, и мужика нет. Пьет, гуляет, ребенка не признает, говорит, не его, дурак, ума нет. Давай, Нина, вызови-ка ее, скажи там, как вы умеете, что к чему.
Тамара Николаевна посмотрела на дочь, та уже успокоилась и сидела ссутулившись, опираясь рукой на подоконник. Глядела в окно. Молчала.
«Господи, помоги! Отведи беду, сохрани дитя и дочь вразуми!..» — молила мать.
— Останешься у нас сегодня?
— Да, мам. Не пойду туда.
— А собака как?
— А собака, как я. Ест, пьет и хозяина ждет. Справятся, не переживай.
На следующий день Нина Ивановна вызвала Марину на внеочередной прием под предлогом сдачи дополнительных анализов. Марина пришла, робко села на краешек стула.
— Ну, Мариша, давай живот посмотрю, замерю. Ложись.
Марина послушно легла, Нина Ивановна проводила положенные манипуляции.
— Ой, Нина Ивановна, что-то там…
— Что, Мариша? Все в порядке? Что беспокоит?
— Там, ребенок… он… кажется… пошевелился!
— Вот и ладушки, — довольная докторша погладила живот теплой ладонью. — Вот и умница. Все, Марина, обещай мне с сегодняшнего дня думать только о своем здоровье и о том, что хочет ребенок, а не о семейных дрязгах. Знаю, это трудно, но возможно. Пожалуйста, выноси, роди, а папаша сам потом прибежит. Помяни мое слово, ты у меня не первая. Обещаешь?
Маринка сидела, улыбаясь, кивала и слушала доктора в пол-уха, больше прислушиваясь к новым ощущениям где-то в районе пупка. Ребенок явно давал понять, что он живет. Что он хочет жить и он должен жить. Ей стало дурно от своего малодушия, от вчерашних мыслей и того, что снова подумала убить, что опять произнесла то страшное слово, которое культурные люди деликатно называют «прерыванием».
***
В книжный магазин, где работала Марина, захаживала женщина лет пятидесяти. Она была из постоянных покупателей и очень выделялась из людской толпы. Она ходила, как балерина, размеренной широкой походкой, с идеально прямой спиной, высоко подняв слегка наклоненную вправо голову. Смуглая, с темными волосами, зачесанными в тугой хвост, миндалевидными красивыми глазами и высокими азиатскими скулами, эта женщина, на взгляд провинциального жителя, одевалась и выглядела очень не «по-местному». Накидки, пончо, коротенькие зеленые леопардовые, из прозрачной резины, сапожки на зауженном к низу каблучке, юбки в пол, широкие палантины. Чудна я бижутерия из темного металла туго и приглушенно перекатывалась на груди, длинные тонкие пальцы украшали массивные, похожие на старинные, словно из далеких времен, кольца, диковинные броши схватывали на длинной шее многочисленные платки тонкой шерсти. Женщина носила, в основном, бадлоны — свитеры под горло, которые аккуратно скрывали еле заметный шрам у яремной впадины. Ее низкий голос, хриплый, периодически прерываемый булькающим кашлем многолетнего курильщика, когда она здоровалась, был слышен задолго до ее появления в Маринкином отделе.
Звали ее Татьяна Васильевна Ростовцева. И, конечно же, была она не местным жителем. Татьяна родилась и жила в Москве, в Северогорск приезжала к сыну и была постоянным клиентом букинистического отдела, в котором Марина работала, к тому времени — уже старшим продавцом. Татьяна Васильевна, как говорится, была абсолютно начитана. Она вообще была какая-то особенная. Не спорила, но могла убеждать. Не хамила, но на своем настаивала. Тупой и настырный собеседник не всегда мог понять — это он выиграл в споре, или его культурно послали. В общем, Марине Татьяна Васильевна нравилась, и она слушала ее столичные байки с большим удовольствием. Как-то Татьяна принесла в магазин необычную книгу, не художественную, не документальную, не историческую. Но в этой книге были какие-то давнишние свидетельства, какие-то небольшие притчи, что ли. Марина подержала книгу в руках, полистала. Темно-коричневый кожаный переплет, сверху, по центру, металлический желтоватый крестик, издана за рубежом.
— Библия, Татьяна Васильевна? — удивилась Марина.
— Библия.
— Зачем вам книга для сектантов?
— Да с чего вдруг? Православные, католики, протестанты — они все по-своему ее толкуют.
— И что в ней? Ну смысл ее в чем? Для чего она? — Марина крутила книгу в руках, без интереса пролистывая страницы.
— Да для веры. Основа человеку верующему.
— Так, значит, вы тут тихой сапой, Татьяна Васильевна, в бога веруете?
— И что тебя удивляет? Меня малышкой еще бабушка крестила. А ты сама-то крещена?
«Второй раз мне задается этот вопрос», — подумала Марина.
— Нет. Мы с родителями об этом не говорим вообще. Отец партийный, мама, знаю, тайком молитвы читает, пока отец не видит. Она вообще у меня разбирается в гороскопах, порчах, молитвах, во всем этом мистическом.
— Да-а, Мариша, — с ухмылкой протянула Ростовцева, — я вижу, мусора в твоей голове хватает. Ясно. Слушай, я тебе ее подарю. Книгу эту.
— Спасибо, конечно, только мне она ни к чему, — спохватившись, Марина добавила: — Наверное.
Она не хотела обидеть хорошего человека отказом.
— Вам нужнее, вы в ней разбираетесь. А до меня пока-а дойдет смысл жизни древнееврейского народа!
— Ты бери, не спорь. И сохрани книгу. Придет время, откроешь и прочтешь. Сейчас можешь пока не читать, все равно ничего не поймешь. Слушай, а ты креститься не хочешь?
— Да нет, не думала. Вряд ли. Я и в церкви-то ни разу не была.
— Как так? За двадцать с лишним лет и ни разу не была?
— Ну да. Даже не заглядывала. Что мне там?
— Да уж… — Татьяна удивленно посмотрела на Марину. — А ты сможешь взять три дня отгулов?
— Могу. А зачем?
— Приезжай ко мне в Москву, окрестим тебя там, хочешь?
«Слетать в Москву да еще пожить у Татьяны Васильевны! — Маринка от радости заерзала и готова была бежать за билетами немедленно. — Она еще спрашивает, поеду ли я в Москву?!»
Что повод — крещение, Марину не беспокоило.
— Татьяна Васильевна! Да хоть сейчас!
— Ну и хорошо. Давай на следующей недельке, пока тепло.
«И в Москву слетаю, развеюсь, и посмотрю, как Татьяна живет». Маринка шла домой, давно не чувствуя себя такой счастливой. Дитя радостно переворачивалось в животе, разделяя мамино настроение.
— Вовка, я в Москву лечу!
— На кой хэ?
— Креститься.
— Ха! Ну, у тебя то понос, то золотуха! Чего это ты надумала? И почему в Москву вдруг?
— Татьяна Васильевна в гости зовет, Ростовцева. А что? Съезжу погляжу, что к чему. Да и интересно это все, с крещением. Что-то новенькое в моей жизни.
— Ну-ну.
Вовчик уткнулся в сонеты Шекспира. На английском языке. «Странный, все-таки, Вовка мужик. То буха ет, то сонеты Шекспира читает. Хотя… Одно для тела, другое — души прекрасные порывы. Вот именно — души. Он и душит…» — Марине вспомнился Вовкин припадок маньяка-душителя. Она его простила. Ревнует, значит, любит.
Татьяна встретила Марину, и по чистой солнечной столице, болтая о том о сем, они доехали до Багратионовской, где жила Ростовцева. Ее дом стоял на удаленной от московского шума зеленой улочке. Просто обставленная, небольшая двухкомнатная квартира просто кричала, что ее обитательница книгочея. Или книгоман? Короче, книголюб.
К Марине в книжный ходили разные клиенты. По ее умозаключению, покупатели делились на читателей, коллекционеров, собирателей, эстетов и менял. Читатели — самая немногословная категория, они честно читали все, что покупали. Неважно, был ли это исторический роман, детектив или «Малыш и Карлсон». Коллекционеры гонялись за редкими изданиями и общались своими группками в тесном контакте с менялами. Эстеты были из инженеров, разных начальников, в общем, из физиков-лириков, то есть руководящего звена. Они покупали только ту литературу, которая соответствовала бы их тонкому внутреннему содержанию, хорошо, если диссидентскую или что-то типа «Альтиста Данилова». Они не бились за дефицит, если его не читали. Они не брезговали и обменкой, то есть книгами, которые можно было обменять на другие, их интересующие. Разговаривали важно, многозначительно давая понять друг другу и окружающим, что они-то уж понимают, как там все на самом деле. Менялы стояли в букинистическом целыми днями, выменивая свой экземпляр на нужный им сложными цепочками. Говорили много и со всеми. О цене, категориях обмена, у кого что есть, где что можно достать. Самыми веселыми были собиратели. Они месяцами искали нужную книгу, выменивали, покупали втридорога у спекулянтов. Они СОБИРАЛИ книги, как копили деньги. Собирали как ценность, не читая их. Был один клиент, он собрал все книги серии «Жизнь замечательных людей». У него дома были издания исключительно этой серии. Больше никаких.
— Витек, тебе еще много собрать осталось из того, что вышло?
— Ну, полку сантиметров тридцать, — серьезно отзывался Витек.
Другие собирали собрания сочинений. Любые, но лучше — самых известных писателей.
— Люсь, ты сейчас что собираешь?
— Коландоя и Дюму.
— А я их уже собрала. Сейчас за сказки народов мира взялась. Потом Ви ктор Гу го на очереди.
Кому непонятно, Артур Конан Дойль и Викто р Гюго.
Была еще одна категория клиентов, они просто сдавали все купленные и прочитанные книги в «Букинист» за деньги. Марина их всегда ждала, так как в общей куче технической литературы, толстых журналов и брошюр попадались очень ценные экземпляры. Их можно было, не сообщая покупателю о реальной ценности сдаваемой книги, выкупить по закупочной цене и потом выставить на продажу по рыночной или обменять по категориям. Маржа снималась с кассы наличными. А если ревизия выявляла недостачу, то девчонки закупали книги по одной цене, указываемой в накладной, а в продажу выставляли по завышенной. Разница покрывала недостачу. Но недостачи случались редко. В основном, это был дополнительный приработок девчонок. Начальник отдела, женщина с тремя высшими образованиями Ирина Константиновна отличалась принципиальностью и такие штучки пресекала, поэтому Марина со сменщицей делали это по-тихому.
Самым козырным способом заработать и покрыть недостачу был выезд «на зону». Туда ездили лично директор магазина с начальницами отделов «Техническая книга» и «Художественная литература», всегда вместе, исключительно обоими отделами. В худотделе брали нетленку типа «Спартака» в издании местной типографии, что-то советских авторов вроде «Иду на грозу» или «Как закалялась сталь», а в техническом паковали «висяки» — специальную литературу, ранее заказанную в ошибочном количестве. Туда же шли брошюры и книги, не выкупленные по спецзаказам. Ну и, конечно, в зону ехали «Малая Земля» Брежнева, труды Ленина и прочие шедевры выдающихся деятелей компартии. Они поступали в книжные магазины по разнарядке в таком количестве, что хватило бы на пятилетку продаж. Но продажи по бессмертным авторам были нулевые, поэтому они ждали своего тюремного часа. Естественно, труды шли не в нагрузку, а исключительно как просветительская работа, своего рода коммунистическое миссионерство.
Директриса договаривалась с зоновским начальством, отдельно готовила руководству увесистую сумку с дефицитом — зарубежными детективами, классикой, детской литературой. Если нужны были большие выручки, в подарок управленцам зоны везли собрания сочинений, а заключенным, помимо пищи духовной, еще и огромные коробки с папиросами. За пачку папирос зэк готов был купить любую «левизну». Об этом директриса тоже заранее предупреждала начальство лагеря. Начальство, в свою очередь, заранее предупреждало сидельцев — план закупа перевыполнить. По зоне объявляли день торговли, зэки получали причитающееся им денежное пособие, и в назначенный час магазинный «ЛиАЗ», груженный неликвидом, отправлялся на чёс — внемагазинную торговлю. Начальницы отделов брали себе в помощницы по одной молодой продавщице, бойкой, не обремененной совестью и испорченной дефицитами. Маринку не брали ни разу, говорили, что мала еще. На самом деле, тетки боялись, что про всю эту аферу узнает Маринкин отец, который был завсегдатаем кабинета самого высокого книжного руководства. Опасались, что Иван Иванович мог бы ненароком сообщить своей подруге-управляющей реальную цифру левых заработков ее директрисы за один день торговли «на зоне». Но Марина и не рвалась туда. Она панически боялась зэков, их вида и речи. Часто туда брали Аллочку. Девка была — огонь. Она ежевечерне ходила с подругой Ларочкой в ресторан, так сказать, поужинать, была не замужем, стройна и без предрассудков. Марина никак не могла взять в толк, какая разница, где продавать, в отделе или в тюрьме? Почему ОТТУДА девки денег больше привозят? Цена-то книги не меняется.
— Ну ты малявка еще, Маринка! Как это не меняется?! В накладную пишем цену, какая есть. Там продаем в два раза дороже.
— Да ты что?! А вдруг проверка?!
— Ну ты ваще-е! Да кто ж в тюрьме проверит? Там же все договорено! Зэки цену не спрашивают. Даешь Спартака, Брежнева, Ленина, какую-нибудь аппроксимацию до кучи и говоришь: «Пять восемьдесят», а реально там на два с копейками. Он у тебя что, пересчитывать будет?
— Да ладно!
— Темнота, жизни не видела! Главное, когда зэку книги протягиваешь двумя руками, давай ему их снизу взять, вместе с твоими ладошками. Он тебе еще остаток денег ссыплет за то, что за бабу подержался.
Частенько после дней торговли на зоне у начальниц отделов вскоре появлялись новые шмотки, шубки и мебель. Марине же оставалось только разводить руками и тихо завидовать. Да! Чтобы что-то иметь, надо быть начальником. Это Марина усвоила четко. И на примере отца, и на примере дней тюремной торговли.
В книжный магазин Марину устроил Иван Иванович. Попасть туда, даже просто продавцом, в восьмидесятые было невозможно. После десятилетки Марина уехала в Ленинград и легко поступила в электротехнический медицинский техникум на отделение оптики. Если бы она его закончила, то стала бы оптиком-техником, вполне дефицитная специальность в то время. Оправы подбирать да линзы вставлять. Марина жила в общаге, в Петергофе. До учебы добиралась около полутора часов на электричке и трамвае. Но даже не это было главным неудобством. Марина была девочкой домашней. Она очень скучала по дому, по ругающейся маме, по отцу и Ольге. А соседка по комнате Катюша, симпатичная девчушка из Краснодара, вела ну совершенно аморальный образ жизни. Она курила. И еще она приводила мальчиков. Как-то Марина пришла с учебы, а дверь закрыта. Стук-стук: «Эй, есть тут кто?»
— Маринка! Погуляй минут сорок!
Марина села около вахты. «Я очень хочу домой. Сейчас же. Сию минуту!».
Она позвонила Оле и сказала, что купила билет домой и что возвращается.
— Отец тебя закопает, сестрица.
— Оля, я не могу тут! Туманы дурацкие, Катька дурацкая, голова все время болит. Скучно мне тут, тоскливо!
— Вернешься, будет фейерверк отношений. Отец тебе устроит веселую карусель.
Оля сообщила новость отцу. Иван Иванович в Ленинград прилетел сам.
— Марина, в чем проблема? Я разговаривал с деканом, он сказал, что учишься ты хорошо, даже очень хорошо. Проблема привыкания к новой обстановке? Скучаешь по дому? Но это не причины бросать учебу. Все скучают, и все привыкают. Декан сказал, возможно, у тебя парень в Северогорске остался, это так?
— Какой парень, папа? Я домой хочу. Просто до-мой!
— Ты дура, Марина. Это блажь. В Северогорск просто так из Ленинграда не возвращаются. В чем причина?
— Ни в чем, папа. Ни в чем. Просто я не хочу.
Они все же вернулись. Сначала прилетел Иван Иванович. Он был уверен, что убедил дочь остаться в культурной столице. Потом явилась Марина. Ее никто никогда ни в чем бы не убедил. Приехала тайно, знала только сестра.
— Ну все, подруга! Берегись отцовского гнева, надевай на жопу доспехи.
Но, ко всеобщему удивлению, Иван Иванович не стал сердиться. Он как-то философски отнесся к возвращению пока еще не совсем блудной дочери.
— Устрою тебя, Марина, в книжный. Попробуй облажайся, убью.
Марина с трудом влилась в коллектив. Во-первых, все знали, чья это дочь. Во-вторых, у Марины абсолютно не было чувства ответственности и коллектива. Она наряжалась, приходила в отдел и садилась в холле на диван, закинув ногу на ногу.
— Марина, так нельзя, ты на рабочем месте, — вежливо наставляла завотделом Нина Ивановна, — иди в отдел. В подсобке есть работа.
Задрав нос, Маринка на высоченных финских шпильках гордо цокала в подсобку.
Как-то по осени, собираясь на работу, она, как обычно, накрутила термобигуди. Завившись, накрасилась, причесалась и вышла из дома. Шел дождь, был обычный пасмурный день. Немного не дойдя до автобусной остановки, Марина поняла, что зонт ее не спасает и прическа разваливается от влажного воздуха. Недолго думая, она развернулась и пошла домой. До начала рабочего дня оставалось минут тридцать. Дома Марина включила газовую духовку и стала сушить волосы. Фенов-то не было. Часа через два раздался телефонный звонок, звонила заведующая.
— Марина, ты заболела? Ты почему не пришла на работу?
— Инна Васильевна, у меня волосы развились!
— Какие волосы? Марина, ты не заболела? У тебя все в порядке?
— Нет, не все! У меня на голове черт-те что! Я не могу в таком виде появиться на людях!
Пауза. Долгая.
— Але! Инна Васильевна!
— Марина, ты нормальная?! Быстро в магазин! Полчаса на дорогу! Отцу сегодня же все расскажу! Уму непостижимо! Волосы развились! Нет, вы подумайте! Бего-о-ом! Нет, ну ты нормальная?!
В-третьих, Маринка была совсем глупая. Она путала слова, долго училась уму-разуму и премудростям книжной торговли, хотя в детстве много читала. Одному покупателю, реально ботанику по специальности, предложила книгу «Растения — генитальные инженеры природы». Он честно не засмеялся. Ну, может, потом, когда из магазина вышел. Какая разница? Генитальные или гениальные?! Девочка совсем молоденькая, семнадцать всего, научится…
— Девушка, выдайте, пожалуйста, книгу по заявке.
— Давайте бланк-заказ.
— Вот, пожалуйста.
— А он у вас просрочен, у вас книга лежала по заказу до вчерашнего дня.
— Я вчера не мог прийти, пожалуйста, посмотрите, может, еще не выложили в продажу?
— Хорошо, я посмотрю. Только больше не просрАчивайте.
— Конечно, конечно! Я постараюсь больше не просрАчивать…
Слава богу, ЭТО не навсегда.
***
Частенько к девчонкам в магазин забегал симпатичный парень, местный спекулянт. Он работал в соседнем НИИ каким-то техником по ЭВМ и очень выделялся из общей массы своим внешним видом. Вел себя свободно, раскованно, но не нагло, носил джинсы-бананы фирмы «Вранглер», только импортные футболки, их он называл майками, летом — мягкие кожаные мокасины, осенью — умопомрачительную куртку-косуху и сапоги-казаки. У него были длинные, до плеч, вьющиеся русые волосы, голубые глаза и правильные черты лица. Парень был строен, молод, очень худ и очень красив. Он приносил девчонкам косметику, французские духи и прочие приятные мелочи, которые в то время вовсе мелочами не были, впрочем, как и сегодня. Свой товар он исключительно продавал, на книги не менял и сам книг не покупал никогда. Марина смотрела на него, как на небожителя. Этот мальчик — не ее поля игрок. Не ее уровень. Конечно, и она жила не на помойке, но тут дело было не в социальном статусе. Тут попахивало манящей и неизведанной антисистемой. Конечно, он был женат, и его Светка была подружкой Аллочки. А звали его Олег Калугин.
Несколько раз заходил еще один молодой человек. Холостой, высокий, тоже худенький, с черными кудрями и пронзительно сине-зелеными, морского цвета, глазами. Она его запомнила, потому что его образ был так необычен, что Марина подумала: инопланетянин. Не в смысле внешности, конечно. У него лицо было какое-то светлое, что ли. Если бы Марина знала тогда слово «целомудренное», то применила бы его к облику этого парня. Он был малоразговорчив, явно начитан и интересовался приключенческими и историческими романами. Был тих, скромен и никогда не заигрывал с девчонками. Его внешность Маринке нравилась, но для нее он был простоват и в одежде, и в поведении. Какой-то не наглый, а девчонки любят немножко хулиганов. Олег Калугин — да. Ее клиент. А Дима Кашин, этот читающий романтик, — нет. Работяга, судя по всему. Маринке нравились рафинированные мальчики, рабочий класс не по ней. Она несколько раз пообщалась с Димой, было заметно, как он смущается, пытаясь с ней заговорить. «Э-э, парень, эдак ты не женишься никогда, — думала Маринка, — или грымза какая тебя, красавчика, в оборот возьмет, с таким-то подходом». Все же и Олег, и Дима — оба нравились Марине. Она выделяла их из общей толпы покупателей. Но Олег был безнадежно женат, а Дмитрий — бесперспективно командировочным из Каменска.
***
— Ты меня, Мариша, извини, конечно, — глубоко затягиваясь сигаретой, низко проурчала Татьяна Васильевна, — но мне кажется, что твой Володя тебе не пара.
Барышни сидели на московской кухне, с удовольствием попивая свежезаваренный ароматный янтарный чай с мармеладками.
— Ну почему же? Он очень умный. У него без пяти минут диссертация готова.
Марина сидела в уютном глубоком кресле, поджав под себя ноги и закутавшись в мягкий клетчатый плед.
— Я не о мозге. Я о душе. Он же совершенно бездушный, ты разве не видишь?
«Как она смогла это понять? Они общались практически совсем ничего, пару-тройку раз в магазине».
— Почему вы о нем так думаете?
— Потому что я это вижу. Он всегда будет жить только для себя, ему никто не нужен, он абсолютно самодостаточен.
— Но это не значит, что он бездушен.
— Бездушный человек тот, кто не умеет сопереживать чужой боли. Я думаю, что дело не в тебе, не в том, что ты не его женщина. Ни одна не сможет с ним быть счастлива. Просто он живет в каком-то своем придуманном мире. Ты не обиделась?
— Да нет, конечно. На что? Все верно. Он такой и есть. Повернут на своих бейсиках и алголах.
— Ты с ним время теряешь. Тебе не жалко своей молодости? Не жаль тратить ее впустую? Хотя в твоем возрасте о молодости не думают, в ней живут.
— Я беременна. Уже около трех месяцев.
Татьяна молчала. Думала о чем-то своем. Наверное, вспоминала свои двадцать пять. Или беременность.
— Ребенок ничего не изменит. Для него это пустое. А для тебя только все усложнит. Нет, нет, ты не думай ничего такого! Дитя, это… надо, это здорово… иногда. Мужчины приходят и уходят, а книги и дети остаются с тобой.
«Ага, не больно-то мне Ярик чего оставил. От Вовки хоть ребенок, а от того Чингизхана ни библиотеки, ни детей».
— Завтра едем в Хамовники, в церковь Николая Угодника, там тебя батюшка окрестит, я уже договорилась. Давай спать. Тебе нельзя переутомляться и нервничать.
Татьяна поспешно затушила сигарету, хаотично помахала в воздухе рукой, разгоняя вредный для ребенка дым, и пошла застилать кровать для гостьи.
Утром Марина проснулась — день как день. Только Москва за окном. Солнышко сквозь белые кружевные шторы, запах сигарет и натурального кофе из турки. Шум льющейся в ванной воды. «Я иду креститься». Марина относилась к этому, как к интересному приключению. Съездила в Москву за собакой, теперь вот приехала креститься.
Из того дня ее жизни она запомнила немного. Маленькая комната, посередине купель. Какой-то новый запах, тревожный и волнующий. Батюшка лет пятидесяти, седовласый, полноватый. Женщины в белых длинных рубашках и простынях, мужчины в простынях и полотенцах. Нелепое хождение вокруг купели.
— Е-е-ли-цы во Христа-а кре-естис-те-еся-а…
Неловкость от непонимания производимых действий, стеснение друг друга.
— …во-о Хри-и-ста-а об-ле-кос-те-ся-аа… а-ли-лу-у-и-и-я-а-а…
— Называйте имя крестной или крестного, — батюшка обратился к Марине.
Она заметалась мыслями: «Кто у меня крестный? Кого же назвать?»
— Татьяна, — пискнула Марина.
«Ну все! Что теперь? Она же на улице меня ждет. А можно так? Не предупредила меня, что к чему…» — Марина сокрушалась о своей бестолковости.
— …должны исповедоваться и причащаться, — ее слух выхватил батюшкину фразу, — а теперь возьмите в лавке свидетельства о Крещении, и храни вас Господь.
«Протоиерей Стефан Ткач, — прочла Марина в необычном документе, — красивое имя, и должность необычная…»
Она вышла из храма, неся в пакете мокрую крестильную рубашку. Маринка, бестолковая, ее потом потеряла. На груди металлический крестик на простом шнурке. Марина достала сигарету и глубоко затянулась.
— Ну хоть от храма давай отойдем подальше. Так уж невтерпеж? Ты же бросила! — Татьяна покачала головой. — Окрестила на свою голову, теперь ответственность за тебя неси!
— Э-эх, как же хорошо, легко как! — Марина смотрела вокруг. Неслись машины, люди шли по своим делам, сгорбленная бабуля крошила хлеб воробьям, мамочка на скамейке читала книгу, покачивая коляску. Все как всегда. Но что-то все-таки изменилось.
Татьяна понимала, что. Хочет не хочет, но отныне Маринке нести свой Крест, хотя она абсолютно не понимала, ЧТО это такое.
***
Беременность до восьми месяцев протекала спокойно и без осложнений. В семье ничего не изменилось. Вовка пил, мать лежала с тазиком у кровати, собака ждала хозяина, Марина — приближения заветной даты. Уход за собакой полностью взяли на себя Елизавета Ильинична и Марина. Патриция быстро росла и уже превратилась в довольно свирепую внешне псину, по сути оставаясь добрейшим существом. Она все понимала, жалела Марину и ластилась к старушке.
В холодильнике всегда стояла трехлитровая банка с маринованными зелеными помидорами, Марина с вожделением их высасывала, ела бы и больше, чем могла, но она начала отекать, как жаба, и удовольствие пришлось сократить. Ребенок там, внутри, лег, как ему удобно, и у мамочки защемило седалищный нерв, по причине этого Марина передвигалась по комнате, опираясь на стул, потихоньку толкая его впереди себя. Иногда приходилось гулять с Патрицией. Молодая женщина — в том самом манто из чебурашки с маминого плеча (ничто другое не сходилось на животе) и большущих пимах (сильно отекли ноги) — с огромным животом бежала за огромной собакой, держа ее на поводке. Иногда Марина бросала поводок, останавливалась и плакала. Собака останавливалась тоже. Смотрела на Марину: «Почему не бежим? Почему не играем?» Постояв, Патря шла к Марине, тыкала ее носом, как бы извиняясь: «Ладно, прости, я забыла, что тебе тяжело». Часто Марина думала: «Вот рожу прямо на дороге, люди будут проходить мимо и видеть мертвую мать, замерзшего ребенка и рядом воющую собаку…»
УЗИ толком не показало, мальчик или девочка. Но точно выявило предлежание плаценты и ягодичное предлежание, то есть выход был перекрыт, а ребенок собирался появиться на свет не головушкой вперед.
— Это плохо?
— Нет, не плохо, так бывает. Но это привнесет дополнительные трудности, — доктор смотрела на монитор и что-то отмечала в карте, — тебе через три недели рожать, скорее всего, будем кесарить.
— Я не хочу кесарить, потом шрам останется страшный.
— Ты по-другому не родишь. Нет, конечно, может произойти чудо, и ребенок развернется, но плацента…
Марина пришла домой и сказала матери, что не разродится.
— Ну мало ли, что доктор говорит! Еще целых три недели, вымолю ребеночка, к бабке не ходи!
— К какой бабке?
— Да ни к какой! В смысле — не думай ни о чем.
Последние десять дней Марина почти не спала, ребенок бил ее то в печень, то в мочевой пузырь. Она задыхалась и дремала полусидя. За собакой смотрел Вовка, он перестал пить и даже немного жалел Марину.
Седьмого января они пошли в гости к Тучковым. Зоя с Саней жили просто и весело, компанейской супружеской парой. Были суббота и еще какой-то праздник, церковный, что ли? Рождество, вроде. Но отмечали все Маринкины знакомые, и верующие, и богохульники. Для последних — лишний повод накушаться. У друзей Марина выпила бутылку шампанского, девчонки сказали, что на таком сроке уже можно — плацентарный барьер. Она вообще прислушивалась к умным подругам. В тот вечер Марина чувствовала себя прекрасно, пребывая в состоянии ожидания чего-то радостного. На следующий день, на всякий случай, ее положили в больницу под присмотр маминых знакомых. Сделали УЗИ. Чудо все-таки произошло. Ни тебе плаценты в неположенном месте, ни тебе попки на выходе. Кесарево отпало. Еще через день Марине что-то прокололи, потом что-то вкололи. В шесть вечера начались схватки, в девять акушерка сказала Марине последнее: «Ну давай, давай!», и после короткой паузы и глубокого вдоха мамочки все находящиеся в родовом зале услышали:
— …а-а-апчхи-и! А-а-а-а-а-а…
— Кто там?!
— Девочка!
Марина увидела смуглое сморщенное тельце, длинные, почти черные, прилипшие к маленькой черепушке волосики, и первыми словами в ее новом мире были:
— Копия папаши…
Пока Маринку зашивали, девочку помыли, взвесили — три триста, измерили — пятьдесят два. Абсолютно здорова. Восемь баллов из десяти по какой-то специальной шкале. Через сорок минут дочку положили Марине на живот. Лялька кряхтела, морщилась и ловила ртом воздух.
— Титьку ищет? — спросила Марина туда-сюда бегающую медсестру.
— Давай попробуй ее покормить!
— Да чем?
— Давай не спорь.
Дочку приложили к груди. Девочка со знанием дела крепко обхватила сосок. Все! С этого момента Марина поняла, что мир вокруг иной. Что так, как было раньше, уже не будет никогда. Запах молока, чистых пеленок, детской кожи, каких-то мазей тревожил и возбуждал радость одновременно. Умиротворение свернулось комочком в солнечном сплетении, сердце билось ровно и спокойно. А на груди, мирно посапывая, лежало земное Маринкино счастье. Машка спала своим первым, с мамой, сном.
***
— Маринка, смотри! Мужик какой чудной! С псом и биноклем! — соседки по палате глазели в окно, ожидая очередного кормления новорожденных. — К кому, интересно, он пришел? Глянь!
Марина медленно встала с кровати и подошла к окну. Под окнами стоял Вовчик, в одной руке он держал поводок, с которого пыталась вырваться радостная Патриция, в другой — здоровенный армейский бинокль, рассматривая все окна по порядку.
— Это мое чудо, — Марина помахала рукой.
— Вот это да! Марин, он что у тебя, военный? Статный такой, с биноклем!
— Ага, компьютерный генерал, — Марина улыбалась, забыв все передряги и обиды. Все будет хорошо. Все будет по-другому. Она поднесла дочку к окну, держа ее столбиком. Вова помахал рукой. Все. Прошла первая встреча ближайших родственников.
Их выписали на третий день. Девчонки из палаты расстроились. Марина подкармливала еще двух деток, потому что у их мамочек не было молока. Куда девать свое, Маринка не знала. Молока было так много, что его приходилось сцеживать прямо в умывальник, чтобы не разнесло грудь. Жаль добро, да что делать.
Вовка не встречал. Приехали мать с отцом, поехали в дом к родителям.
— А где этот? — Марина надеялась увидеть любящего папашу.
— Не звонил, да насрать на него, — Тамара Николаевна выглядела замотанной и до предела уставшей, — держи давай девку-то! Руку под головку! Да крепче, не наклоняй так!
— Мать, не начинай, — Иван Иванович и так все время нервничал за рулем, тут еще Тамара опять заводится.
— Слышь, ты, рули давай молча! Я троих вырастила, учить меня будете?
— Да кто тебя учит? Что опять завелась? Едем тихо, и ты молчи!
— А ты мне рот не затыкай! На дорогу вон смотри!
— Мам, ну хватит уже, правда. Дите же на руках! Чего завелась?
— Ну ничего-о, попросите меня! Помогу! Хрен вам в зубы, а не помощь! — недооцененная, как всегда, Тамарочка в обиде поджала губы, отвернулась от всех и уставилась, ничего не видя, в запотевшее окно. Доехали молча.
Дома их встретила радостная Лилька. Она крутилась вокруг двоюродной сестрички, пытаясь потрогать ее пальчики, погладить головку, поцеловать.
— Куда морду суешь грязную? — Тамара Николаевна шуганула Лильку. — Иди руки вымой поганые!
— Мама, ну ты что, в самом деле? — Марина с досадой посмотрела на мать.
— Неизвестно, где шарилась ими, и к ребенку лезет! Уйди, говорю! Занесешь заразу!
Лилька отошла. Ей стало стыдно. Она даже не знала, за что. Но чувствовала себя виноватой и бесполезной какой-то, что ли. Марина положила дочь на полированный стол-книжку, приготовленный для пеленания, застланный фланелевым одеяльцем, любовно наглаженным с двух сторон Тамарой.
— Лилечка, иди сюда, девочка. Помоги мне распеленать твою сестричку, — Марина позвала племянницу, обиженно сопевшую у телевизора.
Лиля с радостью подошла, еле дыша в сторону ребенка. Она и вправду почему-то чувствовала себя грязной.
— Что сделать, Марина? Давай скажи, что?
— Я вам сколько раз говорить буду?! Дуры вы дебильные, обе! Пошла отсюда, быстро! Переоденься, я сказала, бестолочь! Халат чистый тебе достала и платок на голову! Пока не оденешься, не подходи к ребенку!
— Мама, ты в своем уме?! Зачем ты ее унижаешь так?! Они же сестры, дай ей хоть немного самостоятельности! Ей же десять лет, мама!
— А! Ишь чё?! Заговорила! А ты вспомни, как аборт собиралась делать! А теперь — сестры! Да если б не я, хрен бы сейчас вы тут стояли умилялись!
Тамара Николаевна в обиде поджала губы. Пришла переодетая в чистое Лилька. Она чуть не плакала, потому что надела приготовленный бабушкой Маринкин халат на сто размеров больше и повязала на голову Тамарочкин хлопчатобумажный платок набекрень. Лилька чувствовала себя полной дурой в таком наряде.
— Марина, ну вы что? Не надо ругаться! — она повернулась к бабуле. — Вот смотри, я все надела.
— Да идите вы!
Маша мирно спала. Она пока не понимала, что родилась в бабьем царстве, где полновластно правила ее бабушка — царица Тамара, которая всех любила, всем хотела только добра, обо всех заботилась и за каждого готова была жизнь отдать. Но почему-то никто не ценил ее жертвы и все задыхались от этой любви.
— Скоты неблагодарные, — причитала мать уже из кухни, — я корячусь на всех вас, и ни слова ни полслова благодарности!
— Да не надо уже корячиться! — услышав ворчание, Марина влетела в кухню. — Иди отдыхай, мама! Занимайся собой! Почитай, поспи, полежи! Погуляй, к подруге своей, Клаве, сходи! Не надо на нас батрачить! Ты не можешь, что ли, жить собой?! Тебе надо все наши жизни проживать, да?! Дай мне самой прожить свое! Дай, не лезь ты в душу!
— Да нет у тебя души! Нет! Потому что ты бесчувственная скотина! Ты вообще не мать! Ты убийца детей!
Маша проснулась, заплакала. Лилька тихонько сидела на диване. Она жалела Марину. И Тамарочку тоже, немножко.
Марина взяла дочку на руки и унесла в дальнюю комнату, тихонько села, прижав ее к себе.
— Баю, баю, баю, бай… Маша, глазки закрывай… титьку мамину соси… маме счастья принеси…
У Маринки начались первые вопросы и первые проблемы. Кроме сложных отношений с матерью, во-первых, вес. Марина набрала семнадцать килограммов. Во-вторых, сон. Вдоволь поспать не было никакой возможности. Можно было подремать часик днем, но Марина ложилась на пол, цеплялась ногами за низ дивана и качала пресс. Первую проблему она решила довольно быстро, за три месяца восстановив свою прежнюю стройность. Вторую проблему мешало разрешить многое — стирка, глажка, готовка, газики. Поначалу Марина по-честному гладила пеленки с двух сторон, потом — с одной, потом плюнула на это бесполезное действо и перестала гладить их вовсе. Памперсов в начале девяностых еще не было, измученные мамочки пользовались марлевыми подгузниками, а детей советские педагоги-педиатры заставляли туго пеленать перед сном.
— Маринка, туже пеленай! А то проснется девка, вскинет руками, испугается саму себя и заикой останется! — учила Тамара Николаевна.
Как все несчастные, стянутые пеленками младенцы, Маша лежала, не в силах шевельнуть ни ручкой, ни ножкой, поэтому любой дискомфорт дочери Марина чувствовала на себе, она вставала за ночь раз шесть. Эта перманентная бессонница выматывала, притупив первую радость материнства. Маринка хотела лишь одного — спать, спать и спать.
После рождения дочери Вовчик записал ее на себя, имя выбрал сам, в загс ходили вместе. Признал, значит, что его. Он честно прожил с Мариной и дочерью месяц, даже два раза вставал ночью, качал мокрую Машку и совал ей соску вместо того, чтобы поменять подгузник. Когда Маше исполнился месяц, Вова пошел в гости. В гостях он был долго. Около двух месяцев. За это время он несколько раз звонил, говорил, что друг-хозяин уехал в Карловы Вары и попросил его присмотреть за квартирой. Вова отнесся к просьбе, видимо, очень серьезно, потому что продолжал присматривать за квартирой и днем, и ночью, и даже после приезда хозяина. Вернее, хозяйки. Миловидной молодой барышни, одинокой, разведенной, с дочерью на руках. Но там дочь была уже большая и не надо было вставать ночью, разогревать молочко и поить ее из бутылочки, она уже сама себе прекрасно готовила, поэтому Вова решил: а какая разница? Там женщина с ребенком, тут женщина с ребенком. Только там уже выросли, а здесь пока растут. Об этом Марина узнала позже, просто сейчас она так устала, что у нее не осталось никаких женских сил на гендерные разборки, выяснение расположения явочной квартиры и места ночевки новоиспеченного папаши.
Полгода спустя (за это время Вова приходил и снова исчезал несколько раз) Марина поняла, что надо прекращать эти «веселые картинки».
— Лукьяненко, ты понимаешь, что ведешь себя как раздолбай?
— Тебя что-то не устраивает, дорогая?
— Если ты не заметил, у нас ребенок.
Он сидел на диване, нервно качая ногой, и о чем-то думал.
— Вова, ты понимаешь, что мне тяжело одной с ребенком и собакой?
— Ты ведь не совсем одна.
— Вообще-то, я о тебе. О мужчине в доме.
— Честно скажи, ребенок мой?
— Да пошел ты! Придурок.
И он пошел. Марина уже не знала, как определить свой статус. Жена? Нет, они не расписаны. Подруга? Нет, им не хамят. Сожительница? Нет, с ней, как минимум, сожительствуют. Сестра? Нет, брат сестре всегда поможет материально. Мать его ребенка? Нет, Вовчик в сомнениях. Просто давняя знакомая. «Откуда такая нерешительность? Отчего бы мне не послать этого мятущегося папашу раз и навсегда? Что еще должно произойти, чтобы я подняла самооценку? Ну нельзя же быть такой безвольной размазней и позволять так относиться к себе! А почему, собственно, размазней? Совсем даже и не размазней…» Марина вдруг отчетливо поняла причину. Это было не терпение. Это была нелюбовь. Равнодушие. Просто она никогда его не любила. От скуки перевезла к нему вещи, родила, потому что пора пришла. Чтобы не быть одной — не гонит и не устраивает сцен, потому что не ревнует. Еще немного поразмышляв об этом, Марина решила ситуацию временно отпустить. Пока не подрастет Машка.
***
Когда Патриции исполнилось полтора года, Марина решила подзаработать деньжат. Она обратилась в Московский клуб собаководства, где Патрю покупала. Чтобы не летать далеко на вязку, ей посоветовали хорошего кобеля в соседней с Хантаей области. Марина созвонилась с заводчиком, рассчитала нужные дни и повезла собаку женить. Вернее, замуж выдавать. Кобель был раза в два больше не маленькой Патриции, он был очень рад новому знакомству, да и сам сразу приглянулся невесте. Чтобы наверняка получилось, их женили два раза. Через день Марина вернулась домой, где счастливая жена-сенбернарша стала высиживать щенков. Ей требовалось усиленное питание, какие-то там витамины. Как у многих собак этой породы, у Патриции были слабые суставы на задних лапах, так как собаки растут, быстро набирая приличную массу. Во время беременности нагрузка на лапы возрастала, и Патря ходила, выворачивая задние лапы наружу. Забот увеличилось, но это были цветочки. Патриция в срок родила одиннадцать щенков. Марина уже знала, что такое вырастить одного сенбернара. Но одиннадцать! Она построила в одной из комнат родительской квартиры детскую для сенбернарчиков, предварительно вынеся оттуда всю мебель. Вход в комнату на высоту высокого человеческого шага забили досками, чтобы собачки не покидали территорию детского сада. На пол накидали белой типографской бумаги, которую Иван Иванович приобрел по знакомству.
Роды Марина принимала сама. Натерпелась, насмотрелась, наревелась. Но, слава богу, все прошло благополучно, и мать, и дети остались живы-здоровы. Маринка могла часами сидеть в вольере рядом с кормящей мамашей, чесать ей живот и за ухом и говорить собаке милые глупости. Они обе были счастливы. Детки росли, начался дополнительный прикорм из жидкой кашки, нежирного фарша, творожка с молоком, водички. Марине, как могла, помогала Лилька.
Тем временем в местном клубе собаководства прознали о несанкционированной вязке и рождении одиннадцати «не облагаемых налогом» щенков. К Марине пришла вежливая женщина с ядовитой улыбкой и с порога объявила, дескать, на каком основании?
— Вы, женщина, собственно, что от меня хотите?
— Вы должны были зарегистрировать собаку в нашем клубе, прежде чем заниматься разведением щенков.
— Во-первых, я не занимаюсь разведением, это, так сказать, нам для семейной радости событие. А во-вторых, с какой стати я должна регистрировать собаку, уже зарегистрированную в московском клубе? Вот ее паспорт. Вопросы есть?
— Вопросов у меня нет, — женщина продолжала мило выпускать яд, — но есть предложение. Пятьдесят процентов с продажи.
— Женщина, простите, вас как величать? Юля? Ну так вот что, Юля. Это моя квартира, моя собака, мои вложения времени, нервов и средств. Поэтому предложение ваше наглое и глупое. Не смею вас задерживать, мне щенков кормить.
— Ты не продашь в этом городе ни одного щенка, это я тебе обещаю, — тихим голосом молвила добрая Юля, — придешь сама просить помощи, — перешла на «ты» гостья.
— До свидания, рэкет! Целую ваши деньги!
Маринку трясло от возмущения. Она обняла собаку за мощную шею, к ее животу, как пиявки, прилепились восемь щенков, еще трое дровами лежали друг на друге, подергивая лапками во сне. «Бегут куда-то. Еще жизни не видели, а уже снится что-то…» Марина просидела в вольере около часа, думая о смысле жизни собак и женщин.
Когда щенкам исполнился месяц, Марина дала объявление в местную газету: «Продаются щенки сенбернара от родителей-медалистов». Звонки начались сразу, но отдавать собачонок было рано, и Марина записывала желающих в листок ожидания. Еще через две недели начали приходить покупатели. Маринка ревела, как белуга, отрывая от титьки своей собаки, и себя, очередного собачьего ребенка. Она знала каждого по имени, знала их характеры и привычки. Внимательно вглядывалась в приходящих и, если была хоть капля сомнений в порядочности покупателя, отказывала, придумывая разные серьезные причины. Патриция яростно рычала и гавкала, чувствуя, что забирают родное. Как сильны были радость Маринки и тихое умиротворение собаки от рождения малышей, так безгранична была тоска их обеих после ухода каждого щенка. Марина дала слово — это первая и последняя вязка. Второго такого издевательства над собой она просто не переживет.
Патриция долго искала щенков, она обходила все углы, обнюхивая каждый закуток. После прогулок, обычно долгих, сейчас быстро бежала домой сама и влетала в пока не разобранный щенячий вольер, надеясь увидеть своих деток. Пусто. Она клала тяжелую голову на лапы и подолгу лежала не шевелясь. Сердце Маринки разрывалось. Она уже была не рада той приличной сумме, которую выручила за щенков. «Как же разводят собак? Как они могут не сходить с ума, постоянно отдавая это чудо?! Или они бессердечные, или я малохольная». Но время прошло, прошла и печаль.
Деньги Марина отложила и, пока была в отпуске по уходу за ребенком, жила на содержании родителей. Она катастрофически не справлялась с Машкой и собакой, порой Марина просто физически не могла выгулять псину. Время кормить дочь и время выгуливать Патрю часто совпадало. Лилька в школе, мать на смене. Вовчик по-прежнему приходил-уходил. Маринка психовала, постепенно нарастающее раздражение стало ее обычным состоянием. Когда она запустила чашкой с остатками чая в стену, поняла: «Все! Больше не могу!» Она, плача, набрала номер телефона хозяина Патриного жениха.
— Сергей, мне надо Патрицию пристроить.
— Надолго?
Пауза.
— Марина, на какой срок? Але!
— Навсегда…
Сколько ее любимая собака прожила у новых хозяев, Марина не знала. Сергей забрал Патрицию с большой радостью, и теперь в его загородном доме носились по огромному участку уже два веселых теленка — Патриция и Патрик. Так, кстати, звали кобеля. Маринка корила себя за предательство недолго. Поревев недельку, она нашла еще одно весомое оправдание своему поступку. Она знала, как Вовчик любит собаку. Будет ему сюрприз. Своего рода месть.
— Марина, а где Патря?
— Отдала.
— Зачем? Кому? Вяжешь опять, что ли?! Ты же не хотела!
— Она у Сергея. Может, и вяжет, я не знаю.
— Я тебя не понимаю, ты шутишь так? — Вовка стал догадываться.
— Я не шучу. Собаку я отдала.
— Какая же ты дрянь! — Вовчик сжал кулаки. — Да как ты смогла?
— А вот смогла! Смогла! Тебя не спросила! — Марина закричала так, что у нее на шее вздулась венка. — Ты что думал? Я двужильная? Одна смогу тянуть это все? Скотина! Ты же видел все! Живешь в свое удовольствие, появляешься раз в месяц и будешь права мне качать?! Пошел ты на хрен, моралист!
— Если смогла предать друга, сможешь предать и меня.
Вова сделал каменное лицо. Обиделся. Марина смотрела на него и думала: «Нет, это поразительно, до чего странный малый! Он живет, как хочет, с кем хочет, где хочет. А я должна растить его ребенка, ухаживать за его любимой огромной псиной, встречать его, распрекрасного, с объятиями, когда ему вздумается, при этом выполнять не супружеские не обязанности. Я прожила с ним несколько лет и до сих пор не могу понять, неужели он действительно такой, зачерствевший донельзя эгоист? Нет, ну то, что дурдом по нему плачет, это однозначно. Допьется. Но я его, оказывается, смогу предать! Он фактически нас бросил, а я его, видите ли, могу предать!»
— Вова, иди домой. И не приходи к нам больше, пожалуйста. И еще. Ты не всегда будешь молодым и здоровым. У тебя две дочери, две оставленные тобой женщины, которые заботились о тебе. Мать умрет, и ты сопьешься. Ты останешься один и никому не будешь нужен, старый, нищий и больной. Поэтому цени сейчас то, что тебе дает жизнь. Еще не поздно, еще есть время.
Елизавета Ильинична умерла в восемьдесят девять лет. После Маринки Володя два раза был официально женат, и снова, оба раза, на Маринах. Обе женщины не смогли с ним прожить и двух лет. Вовчик несколько раз сходил с ума в белой горячке, его уволили с работы, потому что помимо запоев, на которые долгое время начальство закрывало глаза, у Володи развился страшный склероз, в пятьдесят он выглядел больным, много старше своих лет, мужчиной. В шестьдесят он одряхлел и спился окончательно, живя на свою небольшую пенсию и не покупая ничего кроме водки, хлеба и молока.
***
— Мама, а Оля была крещеной?
— Нет, ты что! Тогда ведь нельзя было. Пашку тайком бабка дома крестила, чтоб в парткоме не узнали. Узнали бы — карьеры не видать. Сидели бы с голой жопой сейчас.
— А тебя кто учил молиться?
— И мать, и баушка. Я так ее называла, баушка Параскева. Я ее больше, чем мать, помню. Она очень набожная была. Меня учила перед сном всегда подушку крестить, прежде чем лечь. Сказки мне читала. Помню образок в комнате в углу, лампадку. Молилась там. Мать моя Пелагея умерла, когда мне шестнадцать было. Отца почти не помню, тоже рано умер. Параскева и растила. А маленька была, голодно было, так баушка жевала хлебный мякиш, заворачивала его в марлю и давала мне вместо соски сосать. Как баушка умерла, на мне брат с сестрой остались. Намыкались. Голода боюсь до сих пор.
— А вы же говорили, Оля оставила после себя крестик и иконку на столе, когда…
— Да, купила вот сама себе… ой, беда, беда…
Марина вернулась мыслями в тот день.
***
— Не надо, Тамарочка, мама умерла.
Маленькая Лилька испуганно жалась к бабушке.
— Пойдем домой, пойдем, девонька…
Тамара Николаевна, предчувствуя непоправимое, крепко взяла Лильку за руку. С полными котомками они вернулись домой.
— Ваня, иди к Ольге сходи, проверь. Она нам не открыла.
Иван Иванович оделся. Пошел. У него был свой ключ от Ольгиной квартиры, для контроля. И для встреч. Маринка знала, но знала так, как будто бы это знание было о постороннем человеке, не об отце. Как будто прочитала о ком-то, что вот он так делал. И все. Знала и забыла.
Иван Иванович отпер дверь. Тихо. На кухне горит свет.
— Оля!
Тихо… тихо… жутко… сердце колотится… В комнате пусто. Кухня… поворот головы к…
— Твою ма-ать…
Отец подошел к запертой кухонной двери. Надо было открыть дверь. Как?
— Олька-а, дура-а, твою мать, — шептал Иван Иванович, от ужаса его глаза выкатились из орбит, он задыхался, его руки тряслись.
Дверь была с остекленным верхом, он увидел дочь сразу. Медленно потянул за ручку. Тяжело. Тело дочери упиралось спиной в дверь, голова оттягивала весом вперед. Оля сидела на коленях под ручкой кухонной двери, ее белую шею с нежной кожей обвивала бельевая веревка. Отец увидел тоненькую набухшую венку на Олином виске и задохнулся от отчаяния. Машинально, как выполняет задание солдат, он снял тело с двери, не думая, чье оно, положил его на пол, сел рядом. И замер. Сколько так сидел? Ни слез, ни мыслей.
— Бу-бух, бу-бух… — кричало сердце, — бу-бух, бу-бух, бу-…
Он с трудом встал. На кухонном столе лежали алюминиевый крестик и бумажная иконка. «Зачем это? Чье?» — Иван Иванович прошел в комнату. Оглядел все. Он набрал «ноль три».
***
— Маринка, семь месяцев прошло, Лильке надо сказать о матери. Думай давай, что говорить будешь, — Тамара Николаевна шмыгала носом и терла зареванные глаза.
Марина подошла к племяшке.
— Лилька, у меня подарок. Даже два. Мы сейчас поедем в одно место, а потом проколем тебе ушки. И самые настоящие золотые сережки наденем. А потом еще кое-что, сюрприз! Хочешь?
— Хочу! Хочу! — глаза Лильки загорелись. — Пойдем! А когда? А куда сначала пойдем?
— В лес поедем. Там, где цветов много, скамеечки есть посидеть.
— Да! Да! Хочу скамеечку и цветочки!
Они сели в автобус на автовокзале. Всю дорогу до кладбища Марина искала слова. Какие-то надо будет говорить предложения, какие-то выстраивать правильные фразы, которые не травмируют психику ребенка. Отец вообще предлагал не говорить — вырастет, узнает. «От кого узнает? — думала Марина. — От меня, опять же, и узнает. Только уже отматерит, что раньше не сказали. Нет уж, лучше, пока маленькая».
Они вышли на остановке «Кладбище».
— Марина, мы приехали, да? Мы куда?
— Да, да. Приехали, пошли покажу…
Лилька бодро шла, предвкушая золотые сережки и что-то еще.
Сердце Марины колотилось. «Что сказать? Как? Господи, помоги!» — она сама не заметила, что стала молиться, как мать, автоматически, неосознанно.
Девочки завернули к нужной аллее. Лилька шла, оглядываясь по сторонам.
— Много цветочков разных! Смотри, Марин! Фотографии какие!
Они подошли к могиле. Памятника еще не было, решили ставить его этим летом. Не было памятника, не было и фотографии. Лиля крутилась, держась за ограду соседнего участка. Услышав Марину, остановилась, ожидая: ну что же, что?
— Лилечка, понимаешь, в жизни каждого человека случаются разные события, и веселые, и грустные. Кто-то болеет, кто-то уезжает далеко. А кто-то умирает. Те, кто умирает, остаются здесь, на кладбище, и их можно навещать.
Лилька внимательно слушала, затаив дыхание, не поднимая головы.
— Твоя мамочка очень долго болела, потом долго лежала в больнице. Потом врачи сказали, что нет таких лекарств, чтобы мамочку вылечить. Их еще не изобрели. Бабушка Тамарочка сказала, что мама смотрит на нас с небес, она всех нас видит и слышит, и хочет, чтобы мы были счастливы.
Горло перехватило, Марина пыталась говорить непринужденно. Лиля стояла, закаменев.
— Лилечка, мы с тобой будем очень часто сюда приезжать, приносить цветочки и ухаживать за могилкой. Хорошо?
— Хорошо, — прошептала девочка, — я никогда больше ее не увижу?
— Нет, моя маленькая. Но ты не грусти, маме там лучше. Там она не болеет.
Марина посмотрела на племяшку. Лилькины глаза наполнились слезами. Но она не плакала. Она стояла и смотрела на деревянный крест, под которым, прислонившись друг к другу верхушками, стояли два пластмассовых выгоревших венка.
«Надо бы венки эти убрать уже», — подумала Марина. Лиля молчала. По щеке быстро стекла огромная слезинка, которой уже не было места в наполненных горем детских глазах.
— Пойдем отсюда, Марина, — девочка потянула Марину за руку, — пойдем за сюрпризом.
Они медленно пошли по кривой узенькой дорожке к выходу. Какие-то пичужки радостно щебетали, был очень теплый солнечный день. Природа всегда дышит красотой. Даже когда у людей горе.
Они сели в автобус. Лиля смотрела в окно и о чем-то думала. Марина держала в своей руке ее ладошку и думала о Машке.
Из салона красоты радостная Лилька вышла в красивых золотых сережках, настроение у нее было уже приподнятое, она была в ожидании еще чего-то, о чем Марина ей пока не говорила.
— Сейчас мы пойдем с тобой ко мне на работу.
— Зачем?
— Увидишь!
Они приехали в книжный магазин.
— А! Вот и вы! Иди-ка сюда, Лилек! Давай руку! — Зубова Женя, Маринкина коллега, ждала их.
Лиля спрятала руку за спину и прижалась к Марине.
— Пойдем, бука, не бойся! — Женя прошла вперед, в маленькую подсобку.
Лиля пропустила вперед себя Марину, робко зашла следом. На столе стояла большая спортивная сумка. Лиля стояла у входа и ждала.
— Принесла? — спросила Марина. — Все в порядке? Нормально доехала?
— А что ей будет? Ну гляди, Лилечка. Иди сюда!
Лиля подошла к столу. Тетя Женя осторожно открыла сумку и достала оттуда вязаную шапку.
«Вот это сюрприз! Шапка вязаная! Дура какая эта тетя Женя», — Лиля не могла скрыть своего разочарования и насупилась. Вдруг шапка зашевелилась, Лилька от удивления открыла рот, ровные светлые бровки взлетели.
— Она шевелится! Вы видели?! Ой, еще, еще! Мамочки, там кто?
Любопытство взяло верх, и Лиля подошла к шевелящейся на столе шапке.
— Миу, миу… ми-и… — из шапки выглянула пушистая серенькая мордочка.
— Киска-а! — закричала Лилька. — Мариночка, это же киска маленькая там! Ты видишь? Видишь?
— Да вижу, вижу, — Марина указательным пальцем почесала котенку за ушком. — Это твой котенок, малыш. Твой и больше ничей, поняла?
— Марина! Он девочка или мальчик? — Лиля взяла котенка на руки, прижав к себе тоненькое пушистое тельце пищащего создания.
— Он — девочка. Жень, мы с шапкой пока заберем, до дома донести, хорошо?
— Да, можете не возвращать ее, она старая, не нужна уже.
Лиля аккуратно затолкала котенка в шапку, прижала и до самого дома не отнимала рук от груди.
— Лилька, задавишь ее, как ту свинку.
— Не задавлю. И не свинку, а хомячка! Она же больше хомячка, и я не буду ее катать на пластинке.
— Я надеюсь.
Марина вспомнила недавнюю карусель, которую добрая девочка Лиля устроила для своего питомца.
У семилетней Лильки был хомячок, он жил в трехлитровой банке, из которой каждый день она выпускала его погулять по столу, по полу, по дивану — в общем, семенил он своими крохотными лапками всюду. Компьютеров не было, развлечений немного. Зато был проигрыватель, который крутил виниловые диски. Как-то раз Лиля поставила пластинку, она слушала какие-то ритмы зарубежной эстрады, кружась по крошечной комнатке. Хома, так звали хомячка, мирно грыз что-то в своем стеклянном жилище, не предчувствуя беды.
— Хомочка, тебе, наверное, скучно. Давай я тебя покатаю!
Лиля достала из банки доверчивого Хому и посадила его на пластинку. Он сидел не двигаясь, удивляясь новым ощущениям.
— Кружится хомяк-мяк-мяк-мяк-мяк-мяк-мя-а-ак, кружится хомя-а-ак, — Лиля танцевала рядом.
Она подошла к проигрывателю, переключателем добавила скорость, пластинка закрутилась быстрее, Хома не удержался, и центробежная сила выбросила несчастного с карусели прямо на стенку.
Лиля похоронила хомяка во дворе, за домом. Насыпала ему холмик и потом водила подружек на тайное место упокоения, рассказывая им историю ужасной преждевременной кончины несчастного Хомы. Девчонки слушали Лильку, сочувственно качали головами и клали маленькие букетики на маленькую могилку.
***
— Я назову ее Кассиопея.
— А что так пафосно? — Марина была удивлена наречением кошечки.
— Кассиопея — это далекая красивая планета, — Лилька рассматривала глазастого котенка, пока бабушка устраивала новой жиличке место для покакать. — На Кассиопее живут кассиопляне. Или кассиопейцы. А если по-быстрому, то будет Кася.
— Ну, Кася — другое дело. «С» в имени присутствует. Эй, Кася! Кася, Кася, Кась, Кась, кис, кис, кс-кс-с-с…
Кассиопея лежала на коленках у Лильки. Она уже обошла всю квартиру, пописяла на газетку в коридоре, полакала молочка и сейчас отдыхала после свалившихся на нее трудов. Ей все-таки только месяц. И впереди у нее еще целых девятнадцать лет кошачьей жизни.
— Ну халява! Опять на мою голову морока! Все на мне будет, и кормушка, и говно, — Тамара Николаевна ворчала, — как она, Маринка? Сказала все?
— Сказала. Нормально. Сильная девочка. Не поймешь, что у нее на уме.
— Да уж, такая же затычка, как ты, растет. Что сказала-то?
— Сказала, болела.
— А она чё?
— Да ничё! Чё!
— Слова из тебя не вытянешь!
— Да что вытягивать? Ехала бы сама, узнала!
— Ну дурыуманет!
— Ну да, я дура, а вы все умные! Что разоралась-то на ровном месте?!
— Не ори на мать!
— Это ты на всех орешь!
— Ниче! Бог не Антошка! Накажет вас, проклятущих, за меня!
— Марина, что Тамарочка ругается опять? Из-за кошки? — Лилька высунулась из своей комнатушки.
— Да хрен ее знает! Зацепилась на ровном месте! Лиль, а дед где? — Маринка уже обувалась в коридоре, стараясь побыстрее уйти, чувствуя приближение грозы.
— Смотался папаша твой опять, — Тамара Николаевна что-то натирала тряпкой на кухне, гремела посудой, все больше себя распаляя.
— Ну, ясно тогда. Держись, Лилька, сегодня грянет буря. Прячь свое тело жирное в утесе!
— Сама ты жирная, — Лилька надулась, — я не жирная!
— Да не ты жирная! Это стихи такие. «Буревестник» называются. Вырастешь, в школе будешь проходить, — Маринка ненароком обидела Лилю, та росла не худышкой, и это доставляло девочке немало проблем.
— Я не буду твои дурацкие стихи проходить!
— Это не мои, это Горького, — Маринка окончательно расстроилась. Из-за матери, из-за того, что обидела любимую племянницу, из-за кладбища, из-за Горького.
— Хоть горького, хоть сладкого! Дурацкие! — Лиля чуть не плакала.
— Иди сюда, моя хорошая. Прости, я не хотела тебя обидеть. Ты красавица моя! Ну? Не обижаешься?
Лилька подошла, прижалась.
— Нет. Я же не толстая?
— Нет. Ты очень милая. И я тебя люблю.
— Ладно. Придешь завтра?
— Приду.
***
Марина никогда не считала себя красивой. Периоды, когда все пазлы красоты — достаточный сон, умеренная еда, отсутствие алкоголя и хорошая косметика — совпадали, были весьма нерегулярными, но тем не менее окружающими Марина воспринималась как очень привлекательная молодая женщина. Просто Марина этому не верила. В детстве мать ей часто говорила:
— Мартышка, да и только!
Марина обижалась, бежала к сестре:
— Олечка! Я уродина?! Скажи, да?!
— Мариша, ты что! Ты очень красивая девочка! Ты просто маленькая еще.
— Мама сказала, что я мартышка! Олечка, я не хочу быть обезьянкой!
Оля помнила свои детские обиды на мать. Грубые и обидные слова в свой адрес маленькая Оля не умела оправдать нечеловеческой материнской усталостью и уж, тем более, не могла знать, что такое сумасшедшая женская ревность, стирающая грани реальности и заставляющая не замечать даже детей.
— Мариша, это просто мамина шутка. Когда ты вырастешь, ты обязательно станешь красивой. «Ты простовата, конечно, — думала Оля, глядя в огромные серо-зеленые глаза сестренки, — но что-то есть в твоем лице такое, что заставляет смотреть на тебя долго, малышка…».
***
Боль после смерти сестры постепенно уходила. Марина с матерью и Лилей часто ездили на кладбище, чистили могилку от упавших листьев, размокшего печенья, выгоревших конфетных оберток. Иван Иванович заказал оградку на две могилы, смастерил небольшую скамейку. Рядом с могилой Оли отец насыпал земли, сделал холм и поставил деревянный крест.
— Это мне.
— А может, мне, — Тамара Николаевна чистила от веток имитацию надгробного холмика.
Марина смотрела на фотографию сестры и думала: «Как же она смогла? Как к этому готовилась? И как же были страшны эти приготовления… Она, наверное, покурила, как всегда, у окна или на балконе. Может, кофе выпила или чаю. Сняла с себя крестик, иконку из серванта принесла… Потом, наверное, сидела на табурете и думала о доченьке: КАК ОНА БЕЗ МЕНЯ БУДЕТ, МОЯ МАЛЫШКА? Потом веревку держала в руках, вязала узел… Потом…»
— Давай пей, я тебе налила, — материны слова отвлекли Марину.
Она взяла крышку от термоса, полную горячего крепкого чая, и стала греть о нее замерзшие ладошки. Уже год, а сердце все давит.
— Блины берите, девки, теплые еще. Давайте ешьте, — Тамара Николаевна копошилась в сумке, доставая печенье, крупу для птиц. Потом она зажгла свечу и накрыла ее обрезанной вполовину пластмассовой бутылкой, чтобы не угасал фитилек. Марина с Лилей молча наблюдали за Тамариной копошнёй, жуя желтые, тонкие, ароматные блинчики. Фитилек колыхался на ветру. Марина, застыв, смотрела на него, не думая ни о чем, по ее щекам текли слезы.
Леша, Лилькин отец, как ушел от Ольги, так и след его простыл. Где он, что он? Никто не знал. Только его мать Мария Ивановна изредка приходила на могилу невестки, иногда созванивалась с Лилей, но близких отношений у них так и не сложилось. Лилька увидела отца, когда ей исполнилось двенадцать. Он сам их нашел. Позвонил и сказал: «Доча, я сейчас приеду». Будто за хлебом выходил. К удивлению Тамары Николаевны, Лилька звонку обрадовалась. Леша пришел к ним довольно потрепанный жизнью, но был трезв и опрятен. Худющий, постаревший, с широкой
улыбкой и кучей подарков для дочки, он ненадолго вернулся в Лилькину жизнь. Сразу же найдя контакт, они легко сошлись и стали встречаться примерно раз-два в неделю. Вместе гуляли, ходили в гараж к Лехиным друзьям, к бабушке Маше.
— Мам, что за контингент там, в этих гаражах? — Марина переживала за Лильку, опасаясь знакомств вновь приобретенного родственника. — Сто пудов — сидельцы.
— А леший их знает! Да нет, не думаю. Лешка никогда пьяный не приходит. А бардак только из-за пьянки бывает, — щепетильная Тамара Николаевна доверяла Лилькиному отцу.
Они общались около года. Звонок Марии Ивановны раздался рано утром.
— Лешу зарезали…
Могилки Лилиных родителей располагались недалеко друг от друга, и теперь Тамара Николаевна брала все необходимое для посещения кладбища из расчета на двоих. Два мешочка крупы, две горсти конфет, две пачки печенья, две свечки. Рассыпала крупу птицам, незаметно смахивая слезы. Леша тоже был не крещеный, но Тамара что-то шептала у могилки и за него. Незадолго до смерти Леша рассказывал Тамаре Николаевне, что батюшка, кажется, его звали Марк, приглашал его в храм расписать иконостас в маленькой Троицкой церквушке, что на берегу речки Северки. Лешка тогда согласился, он хотел сначала покреститься, а потом, как положено, попоститься, помолиться и начать большое дело. Не успел…
Лиля не плакала, когда хоронила отца. В семь лет потеряв мать и в утешение получив кошку Касю, она чувствовала, что произошло что-то страшное и непоправимое. Она понимала, что никогда больше не сможет обнять маму за шею, засыпая, прижаться к ней, что никогда не услышит простую мамину колыбельную и никогда не поест любимых блинчиков, которые она пекла Лильке на завтрак.
После смерти сестры Марина помогла родителям очень выгодно разменять Ольгину квартиру на двушку с небольшой доплатой. Зоя Тучкова работала на жилищном обмене, она подыскала Марине подходящий вариант. Менялась почти спившаяся женщина, но не утратившая остатков человеческого и пока еще способная к каким-то социальным телодвижениям — разговорам, договорам, общению с нотариусом. В результате эта женщина получила деньги и Ольгину однушку, а Маринкины родители переехали в новую полуторку-хрущевку, оставив дочери трехкомнатную квартиру. Новую — в смысле совершившегося факта. В реальности это было убитое многодневными запоями жилище, провонявшее дешевым куревом, паленой водкой, грязной одеждой и еще чем-то, чем пахнет нищета и безнадега. Иван Иванович, как обычно, сам все покрасил, побелил, нарисовал очередные кубики на стенах, обклеил кухню фотографиями цветов. Дальнюю, поменьше, комнату отдали Лильке, там они спали вместе с Тамарой Николаевной.
В тринадцать, похоронив отца и потеряв его второй раз, она закрылась от всего мира в своей крошечной комнатушке. Бабушку Тамару Лилька пускала к себе редко. Она что-то рисовала, писала, кому-то звонила и почти никогда не делала уроков. Но учебу в школе закончила, на удивление, совсем неплохо. Поступила в техникум, а еще через семь лет окончила университет без единой тройки.
***
— Маринка, давай съездим со мной за шмотками? — Зоя только что вернулась из Стамбула с партией диван-дейков, блузочек и лосин.
— Ты что? Я боюсь.
— Ну я же езжу. Уже два раза ездила. Отвезла четыреста долларов, продала почти на девятьсот.
Целых два раза за границей. Бывалая, уже знает, что к чему.
— Ого! И что, так можно?
— А кто не дает? Мы с Нинкой моей, женой брата, ты ее знаешь, первый раз ездили на корабле, но укачивает сильно. Второй раз — на автобусе от Болгарии до Турции. Там, правда, перевал приходится ночью проходить, но нам включали телевизор, зашторивали окна, и нормально. Я вложила уже восемьсот. Получила около двух тысяч!
«Две тысячи долларов… это можно купить стиралку, холодильник новый, себе что-нибудь». Марина вспомнила «Юрюзань», который в морозилке вместе с холодом выдавал на-гора снег, а стирали они с матерью руками, и постельное, и детское.
— Маринка, поехали! Ты вообще без денег. Себе накупишь, и на жизнь останется.
— А ты где все продаешь?
— У меня на рынке есть место. Что-то в коммерческий сдаю. Давай поехали! Загранпаспорт есть?
— Нет, конечно.
— Давай оформляйся, и сразу едем.
Где Марина будет брать деньги на поездку, она не думала. Их просто взять было неоткуда.
— Вова, денег не дашь?
— В смысле?
— Без смысла. Денег, говорю, мне надо.
— На кой тебе?
«Действительно, — думала Маринка, — на кой бабе с ребенком деньги?»
— Я в Турцию с Зойкой еду.
— На блядки?
— Вова, у тебя одни блядки на уме. На закуп. Мне четыреста долларов надо.
— А ху-ху не хо-хо?
«Вот сволочь! Сволочь и хам». Но Марина решила запихать свою гордость подальше ради благого дела.
— Вова, я серьезно. Давай займем у кого-нибудь.
— Чтобы занять у кого-нибудь, надо найти кого-нибудь, а потом надо, чтобы у кого-нибудь было что-нибудь.
— Давай у Кузьмича попросим.
Кузьмич — проректор в институте. Интеллигентный, ухоженный бабник.
— Проси.
— Ну и попрошу.
Кузьмич дал двести долларов. Еще сто дал Иван Иванович.
— Маринка, бери с собой ненужные вещи, какие-нибудь ношеные, старые, — Зоя давала дельные советы.
— Конспирироваться будем?
— Продавать их будем. Там на местном рынке они по дешевке все берут. Но в итоге может набраться приличная сумма.
— Вообще все что угодно брать?
— Все! Отцовские костюмы бери, местные от них балдеют, думают, фрак, по-любому. Лифчики свои и материны, трусы бери. Вообще — все!
— И трусы ношеные?!
— И трусы!
— Обалдеть! Неужели кто-то живет хуже нас? А оттуда тогда что повезем, если там и трусов нет?
— Трусы там есть. И еще какие! Там все есть. Но за копейки там мусор заберут. Социальная несправедливость и расслоение населения есть везде. Даже в Турции.
Маринка не стала углубляться в политэкономию, она прикидывала в уме, что у нее есть кроме трусов для бартерного обмена с населением дружественной страны. Набралось прилично. Два отцовских кримпленовых костюма образца семидесятых, старые материны платья, плащи, хранившиеся на случай ядерной войны, блузки, юбки и, конечно, женское и мужское белье, поношенное, но постиранное и даже поглаженное для придания ему товарного вида. Еще Зоя подсказала купить игрушек. Марина купила пластмассовых пупсов, барабанчиков и механических бегемотиков, поедающих шарик на веревочке.
Тамара Николаевна к идее заграничного бизнеса отнеслась с опаской и скептически.
— Смотрите, чтоб вас там не украли! А то рот разинете, и ищи вас! Или деньги сопрут.
— Мама, не каркай, и так тошно!
Вещей набралось на большой старый чемодан. Для денег Марина купила сумочку, которая пристегивалась ниже талии, в спортивные дорожные штаны мать изнутри пришила Марине карман, чтобы деньги разделить. Храните яйца в разных корзинах.
— Господи, как бичиха! — Марина смотрела на себя в зеркало. — Штаны дурацкие, куртка толстая, рожа страшная.
— И хорошо, что страшная! Нечего перед кавказцами наряжаться, утащат!
— Мама, какие кавказцы? Там турки.
— Еще хуже!
— Зойку же не утащили.
— А тебя, дуру полоротую, и не спросят.
Сейчас Марина не обращала внимания на Тамарины прогнозы, не до этого. Она так волновалась, что не могла ни есть, ни спать. И очень переживала из-за того, что придется первый раз оставить Машку одну.
— Езжай давай! Я с ней управлюсь. Ты, главное, там рот не разевай, деньги береги и паспорт. Четыре дня быстро пролетят.
Марина сидела на диване, на коленках, прижавшись к матери, умостилась Маша, держа в руках растрепанную куклу. «Придется грудь перетягивать». Марина до сих пор не отучила дочь от груди.
— Мам, чем грудь-то перетянуть?
— Марлю дам. Широкую.
Марина вдруг почувствовала недомогание. Потянуло где-то около почек. Потом боль оттуда опустилась в мочевой пузырь и превратилась в непрерывное жжение.
— У-у-у, миленька моя, да у тебя цистит! Это в дорогу-то!
Марина бегала в туалет каждые пять минут. Она плакала от досады, от боли, от предстоящей разлуки с ребенком, от своей бестолковой жизни.
— И что мне теперь делать? Я же не могу ходить по Турции и ссаться!
Тамара Николаевна позвонила Нине Ивановне. Так, мол, и так. Завтра ехать, а у дуры этой все не как у людей.
— Тамара, не волнуйся и Марину успокой. Сегодня все равно уже аптеки закрыты. Найдите пару кирпичей, разогрейте их в духовке, положите на дно ведра, и пусть Марина сверху сядет, прогреется. А завтра купите невиграмон: пара таблеток — и все пройдет.
— Какое завтра? Поезд в восемь утра, аптеки с десяти! Не с ведром же ей в поезде ехать?
— Ну перенесите поездку, цистит — дело серьезное.
— Да они за границу поперлись, бизнесменки хреновы, напару! Сил моих больше нет, Нина!
— Да-а… Ну выбора все равно нет, сделайте, как я сказала. Ты, главное, не волнуйся и Марину поддержи. Ей-то каково?
— Да знаю! Ума-то нет…
Мать принесла с соседней стройки два старых грязных кирпича и положила их на решетку в духовку. Разогрела. Достала с балкона жестяное ведро и положила кирпичи на дно.
— Иди давай, усаживайся!
Марина стянула до колен домашние брюки, сверху надела теплый свитер и села голой кормой на ведро.
— Бли-ин, как же больно, — корчилась Маринка, боль усиливалась с каждым часом, — и сидеть неудобно.
— Терпи, раз голая по морозу ходишь. Говорю же, надень штаны, нет! Форсишь в одних колготочках, потом дохнешь лежишь!
Машка с любопытством ходила вокруг мамы.
— Мама кака?
— Мама попу греет, замерзла.
— Маня попу, а-а!
— Маше нельзя, горячо, иди к бабе Томе.
Раздался звонок в дверь.
— Кого еще леший несет? — Тамара Николаевна открыла дверь. — У-у, Володя! Заходи, миленький! Кушать будешь? Сейчас разогрею котлетки, проходи в комнату пока, Маринка там лечится сидит.
Вова разделся и прошел в зал. Посреди комнаты, скорчившись, на большом жестяном ведре сидела бледная Маринка с испариной на лбу, прижав руки к животу.
— О как! У нас унитаз сломался?
— Вова, не смешно. У меня цистит.
— Мда-а, сочувствую. И что теперь? Поедешь?
— Поеду, конечно.
— Только зассых в Стамбуле и не хватало.
— Вова, кончай балаган, мне, правда, больно.
— Да верю, верю. Я тебе денег еще немного принес на дорогу.
Даже удивляться было больно. Тамара Николаевна накормила зятя, они немного еще поболтали о том о сем.
«Странно, мать так Вовку любит. Приходит редко, ребенком не занимается, денег почти не дает. А она все лебезит перед ним».
Марина повезла с собой триста пятьдесят долларов. Для начала неплохо. Зоя взяла с собой женские прокладки размера ХХL. От Северогорска до Софии ехали поездом через Москву. Марина всю дорогу лежала, старалась меньше пить, жгучая боль не проходила, аптек по дороге не встретилось. Она подкладывала сразу по две, а то и по три прокладки и ходила под себя. Зойка смеялась:
— Вот она, старость! Недержание и безденежье!
Маринка хохотала, писалась от смеха и, скрючившись, покрепче прижимала руками огромные прокладки.
В Москве была пересадка, и девчонки, наконец, нашли аптеку.
— Невиграмон, воды и прокладок!
«Странный выбор», — подумала женщина-фармацевт, протягивая пакет. Маринка, прямо в аптеке, выпила у прилавка сразу две таблетки, чтобы наверняка. Через два часа боль стала отходить, и от Москвы до Софии Марина ехала как все нормальные люди. Пила вдоволь, ходила куда надо и как положено.
В Софии была пересадка на автобус. Потом был тот самый перевал. Он, и правда, был страшный, Марину прилично укачало. На таможне у них отобрали все игрушки — видимо, у таможенников, поголовно, малые дети. Но, слава богу, денег не отняли. А бабы рассказывали, случаи были.
К вечеру, наконец, приехали в Стамбул. Надо было искать дешевую гостиницу, и девчонки пошли стучаться во все двери подряд. Позже Марина вспоминала, что у них совсем не было страха и чувства опасности. То, что она спустя годы видела в телевизионных программах, то, происходящее как раз в том времени, повергало ее в шок. В любой гостинице их запросто могли изнасиловать, отобрать паспорта, сдать в бордель или просто убить. Как она могла оставить малое дитя и ехать в такую криминальную даль?! Но сейчас Марина во всем положилась на бывалую в здешних местах подругу, и они продолжили искать ночлег. Завтра — один день на все про все.
— Сколько за ночь? — Зоя, миловидная, невысокая, хорошо сложенная блондинка, начала торг с администратором.
— Тэн доллар.
— Сколько?! Ты с ума сошел! Я за десять баксов зайца в поле загоняю.
— Ват?
— Дорого, говорю! Пошли, Маринка. Найдем подешевле.
Они зашли в следующий отель.
— Зой, нормальная гостиница была.
— Ты сюда наследство проматывать приехала? Или бизнесом заниматься?
— Бизнесом заниматься.
— А ты на что собираешься бизнесом заниматься? Может, в ресторан еще сходим?
— Кстати, не мешало бы поесть чего-нибудь. В животе урчит.
— Сейчас устроимся и поедим, я знаю, как даром поесть.
Марина насторожилась. Зойка, вроде, не такая. Замужем.
— Да нет! Продавать тебя не буду, — она засмеялась, посмотрев на обалдевшую от впечатлений Маринку.
«Stella» — горело неоном, и по-русски дописано: «ПиатЪ долар».
— Вот! То, что нам надо.
Девочки втащили чемоданы на ресепшн.
— Места есть? — Зойка ужасно устала и еле передвигала ноги.
— Ест. До утро. На два рум?
— На двоих.
— Паспорт давай, тен доллар. Тут сигнатура, — администратор дал что-то подписать.
Девчонки отдали паспорта. Это в девяностые-то!
— Утро забрат, — небритый полусонный турок положил паспорта в стол и взял доллары.
— Сейчас вещи кинем и поедим. Главное, кафешку найти недорогую.
Они шли по длинному коридору. Пол из широких кривых досок тревожно скрипел, как в мистическом триллере. Яркий свет ртутных ламп резал глаза белым светом. Стены были покрашены светлой краской неясного цвета. Они нашли свой одноместный номер, он был открыт.
— Да-а, это, конечно, не Хилтон, но, главное, есть душ, — Зоя посмотрела на дверь напротив широкой кровати.
Пока подруга разминала закостеневшую спину, Марина пошла искать туалет.
— Зоя! Здесь нет туалета!
— Как нет? А где он?
— Не знаю. Хорошо бы, не на ресепшн, а то они тут все такие креативные, я смотрю.
Предполагаемая душевая комната оказалась запертым входом в соседний номер. Туалет находился в противоположной стороне коридора. Дверь в нем не запиралась, не было щеколды. Унитазы были ржавые, стены облупленные, пол кривой, из умывальника тонкой струйкой текла вода, уныло звеня, ударяясь о металлическое днище.
— Нет, ну это вообще кошмар! — Зоя возмущенно озиралась.
— А что мы хотели за пиат доллар?
— Мы хотели туалет, кровать и душ. А кстати, где у них душ?
— Лишь бы не в доме напротив, — Маринка валилась с ног от усталости и голода.
Душ они нашли недалеко от туалета. Туалет показался легкой разминкой. Большой зал душевой комнаты был разделен кафельными перегородками на три кабинки, как в общаге или бассейне. В двух из них на полу, у сливного отверстия, стояла грязная вода с серой пеной и кудрявыми черными волосами.
— Мама…
— Мамочка…
— Ты моешься первая.
— Я вообще не моюсь, — Марине хотелось плакать.
— Ладно. Пошли еду искать, подруга! Будем надеяться, объедками нас не накормят.
Они вышли из отеля. Напротив яркой вывеской светилось «Cafe». Они зашли внутрь, посетителей не было.
— Вымерли все, что ли? — Марина присела за стол. — Давай нормально поедим, без твоих ноу-хау.
Из-за двигающейся пластмассовой шторки из цветных палочек вышел улыбающийся мужчина.
— Натаща-а! Харощи-ий!
— Спик раша, инглиш?
— Раша, да! Раша!
— Нам, пожалуйста, салат принесите и хлеба вашего побольше. И еще мы будем чай. Бардак-табак, чай. Понятно?
— Да, да! Бардак-табак!
Марина слушала туземца, под ложечкой сосало.
— Зойка, что за бардак-табак? Ты меня пугаешь.
— Не боись, это стакан и блюдце значит.
Минут через пять повар-администратор поставил перед изголодавшимися бизнес-леди по тарелке салата из помидоров и огурцов, политых ароматным маслом. В соломенной корзинке большой горкой лежали четыре, еще теплые, пшеничные лепешки.
— Бон аппетит, Натаща!
— Спасибо, и вам не хворать, — Маринка не верила своим глазам и носу.
— Да, да! Нахворат!
Они ужинали молча и медленно. Ничего вкуснее в своей жизни Марина не ела. Вкус овощей был совсем иным, не таким, как в Союзе. А вкус хлеба домашней выпечки она попробовала тогда впервые и навсегда его запомнила. В двухтысячные его вкус вернулся Марине в одной из частных пекарен Питера. Она сидела в «а-ля франс» кондитерской, наслаждаясь чашечкой черного кофе из пахучих зерен, не торопясь откусывая маленькие кусочки маленького круассана, и вдыхала тот неповторимый аромат уютного кафе, который создается ванилью, горячим хлебом, корицей, кофе и шоколадом.
А сейчас ей было безумно вкусно хрустеть свежими огурчиками и смаковать мягкую белую лепешку, пропитанную оставшимся на тарелке соком. Улыбчивый турок принес большой чайник свежего листового чая цвета коньяка. Девчонки заплатили два доллара за двоих. Чай и хлеб давали везде бесплатно.
Сытые, повеселевшие подружки вернулись в отель. По дороге они купили бутылку воды и по очереди помылись, частично над унитазом, местами над умывальником, смирившись с военными условиями. Очень хотелось спать. Марина сняла с кровати покрывало.
— Зо-о-й,.. смотри!
Под покрывалом лежали два тонких одеяла. Под одеялами — простыня. На простыне — все те же курчавые черные волосы. На подушках — подлиннее.
— Что будем делать? — Зоя смотрела на этот кучерявый набор.
— Предлагаю все закрыть и лечь на одеяла в одежде.
— Согласна, на одеяле хотя бы шерсти нет. И хорошо, что мы сначала поели.
Они легли, не раздеваясь, и проспали до утра, как убитые.
Утром девчонки проснулись пораньше, умылись, привели себя в порядок. Пересчитали деньги, рассовав их в три места — в штаны, на пояс и, меньшую часть, в сумочку.
— Ты знаешь, куда идти? — Марина очень волновалась.
— Да, тут на трамвае примерно три-четыре остановки, — Зойка смотрелась в маленькое зеркальце, подкрашивая губы. — Да не волнуйся ты так! Сама не захочешь, тебя никто и пальцем не тронет.
— Будь уверена, не захочу. Я, вообще, к маме хочу. Домой, к Машке.
— Ну вот завтра и поедем. С подарками. Пошли! Я готова!
Они спустились на ресепшн. Тот же угрюмый турок (Марина подумала: «Нестандартной сексуальной ориентации, что ли?») молча вернул им паспорта.
— Зой, а трамвайная остановка где?
— Нигде. Трамвай, видишь, едет? Медленно едет. Вот мы на ходу должны туда зайти.
— Как это?
— Ну, у них так.
Трамвай медленно двигался, приближаясь к пассажиркам. Они стояли наизготовку, держа в руках огромные чемоданы с «бусами» для туземцев. Когда трамвай поравнялся с челночницами, он замедлил ход, и Маринка, ковыляя с тяжелой ношей, неуклюже заскочила в трамвай. Там ее подхватили улыбающиеся шумные турки. Один из них уже втаскивал Зойку, раскорячившуюся со своим баулом.
— Ой, кошмар! Спасибо, мальчики! — Зойка, запыхавшись, оглядывалась по сторонам, ища, куда прислониться. Им уступили место, но садиться они не стали. Стояли и глазели в окно, за которым проплывал красивейший старый город.
— Смотри, русский храм!
— Это Софийский собор, — вещала Зоя со знанием дела, — только он не действующий, он как музей. Но там внутри все сохранено, как было.
— А почему не действует?
— А чего ему действовать в мусульманской стране? У них свои мечети. Может, православных мало.
— Мало не значит, что совсем нет.
— Ну не знаю. Они хозяева, им видней. Нам выходить, пошли!
Трамвай снова притормозил в нужном месте, они спрыгнули с трамвая и направились к стихийно организованному рынку.
— Зойка, слушай, тут место какое-то мутное. Не грабанули бы нас.
— Не грабанут. Ты только не спорь, не ругайся и долго в упор не смотри.
— Они что, волки? Или тигры, что им в глаза не смотреть?
— За что купила, за то продаю. Слушай и делай, как я говорю. Целее будем.
Марина немного не так представляла себе рынок сбыта. Думала, палатки будут и прочие атрибуты торговли. Она же увидела ведущие вверх каменные ступени. На каждой ступеньке стояли русские женщины и трясли старым барахлом, которого у Маринки и своего был полный чемодан.
— Э, да тут конкуренция!
— А ты как думала? Все жрать хотят. Куда встанем?
— Пошли выше, там есть пара мест, где примоститься.
Они поднялись чуть выше. Им повезло. Холодные ступени вели дальше вверх, их разделяла небольшая широкая площадка, там девчонки и встали.
— Что делать-то? Чемодан, что ли, открывать? Зой, стремно как-то все.
— Денег получишь, про стрем забудешь. Доставай шмотье.
Марина открыла чемодан. Тут же к ней подошла толстая, замотанная в платок женщина и начала быстро рыться в Маринкином чемодане, что-то громко лопоча по-своему.
— Зойка, я ее боюсь!
— Глаз не спускай с вещей. Не бойся, не съест.
Тетка тем временем отобрала уже для примерки пару кальсон и старый плащ.
— Каля-маля?
— Я вас не понимаю, — робко ответила Марина. — Зойка, что она хочет?
— Спрашивает, сколько стоит.
— А сколько это стоит? Это же хлам!
— Для нее нет. Скажи — десять долларов.
— Тен долларс.
— Каля-маля! Каля-маля! — заорала женщина. Маринка подумала, что она ее сейчас прямо тут и закопает. Прямо в каменных ступенях.
— Зоя, по-моему, ей дороговато.
— Естественно, она торгуется, у них так принято. Если ты торговаться не будешь, ты ее обидишь.
— Так она же покупает. А я не обижусь.
— Погоди пока, у меня клиент, сейчас помогу.
Зойка ловко освободила уже половину чемодана. Марина стояла, чуть не плача, и тихо ненавидела турчанку с кальсонами в руках. Наконец, Марина пришла в себя, глубоко вдохнула и выдохнула тонкой струйкой.
— О’кей. Файф долларс. И никаких калямаля!
Сторговались на четырех, но турчанка просто вырвала из чемодана еще какую-то кофтенку и перешла к Маринкиной соседке, худенькой женщине, похожей на учительницу начальных классов. Там продолжила атаку. Но робкая женщина, видимо, не первый раз участвовавшая в подобных ярмарках, торговалась бойко и в обиду себя не давала. Постепенно Маринка стала понимать «кач пара?» и «нага дар?», почти все говорили на ломаном русско-турецком, и торговалась уже смелее. Она продала уже больше половины вещей, когда к ней подошел парень лет тридцати.
— Здрастуй, Натаща! Как дела?
— Спасибо, хорошо.
— Я забрать у тебя все.
— Забирай, — Марина прикинула сумму, — тридцать долларов.
— Не-е, ощень дорого! Я забрать за десять.
— Ну нет! Десять мало. Тридцать!
— Нет, Натаща, ты такой красивы и такой жадный, — молодой турок улыбался исключительно ртом, две колючки его глаз сверлили лицо торговок.
— Бери за двадцать пять и ступай, — Маринке эта торговля уже поднадоела, и только сорок долларов, вырученные за проданные вещи, грели карман.
— Десять, Натаща!
— Зойка, он достал! За полчемодана дает десятку!
— Маринка, он какой-то агрессивный, хоть и улыбается. Может, отдашь ему?
— Ни фига! Пусть даже не думает.
Тем временем парень улыбаться перестал. Сзади к нему подошли еще двое. Он о чем-то переговорил с ними, те периодически поглядывали на Маринку и кивали.
«Вот. Права была мама, украдут и отвезут в публичный дом».
Зойка встревожилась не на шутку.
— Отдай ему, Маринка. Давай-ка сворачиваться, я свое сейчас тоже отдам кучей. Надо уходить, чуйкой чую.
Марина стояла, по спине струйкой тек холодный пот.
— Натаща! Карашо, пятнасать долларс!
— О’кей, — Марина отдала парню вещи, взяла деньги и закрыла чемодан.
Он забрал за копейки остаток и у Зои, но девчонки были рады и этому, какая-то угроза исходила от этого турчонка, да и группа поддержки настораживала.
Девчонки сидели на скамеечке недалеко от места торговли.
— Ну, подружка, сколько наторговала? — Зоя пересчитывала смятые грязные долларовые и местные купюры.
— Пятьдесят пять. Зойка, это круто. Ни за что, за хлам!
— Ты видела, куда это хрен моржовый с нашими шмотками пошел?
— Нет. Куда?
— Да никуда, через три ступеньки встал. Вот гад! Оптовик хренов!
— Да-а, а я уж подумала, что это местная мафия. Смотрящий какой-нибудь.
— Да и фиг с ним! И так нормально, у меня восемьдесят долларов вышло. Я и чемодан втулила.
— Ого, молодец! А вещи в чем повезешь обратно?
— Сумки дадут пластмассовые, ну, клеенчатые баулы. Ну что, куда? Перекусить бы надо.
Они заказали яичницу с салатом в кафешке, похожей на вчерашнюю, выпили кофе и теперь сидели, попыхивая сигаретками, чувствуя себя вполне прилично. Старье руки не тянет, в кармане деньжата.
— Зой, а Сашка твой тебя как отпускает?
— Нормально отпускает, а что?
— Ну, опасно там, и все такое.
— Нормально, сама видишь, что в стране творится, все с ног на голову. Кто как может, тот так и крутится. Мы же не нарываемся, не наглеем. Если что, вон как сегодня, слили все по-быстрому, и нормально. А Вовка как? Дал добро? Или внаглую поехала?
— Дал. И денег дал. Так-то он неплохой. Не жадный, просто зарабатывает мало. Или тратит так, что я не знаю, на что. И пьет.
— У вас, вообще, какие отношения? Какие-то непонятные, да?
— Да никак. Странный он.
— Ты хоть любишь его?
— Ты о чем, вообще? Какая тут любовь? Ребенок вон общий. Собака была. Любовь… Нет ее.
— Есть, Маринка. Меня Сашка обхаживал, цветами закидывал, от мужа увел. Я не жалею.
— А бывший как? Не женился?
— А меня когда Сашка уводил, у Толика уже была баба какая-то, как выяснилось. Причем оказалось, не какая-то, а наша соседка Карина. Но мы общаемся, и с Толиком, и с Кариной, и Сашкиной бывшей. Она пьет по-черному, сын как сорняк болтается.
— Кто пьет?
— Да обе.
— Кошмар.
— Вот тебе и кошмар. Слушай, а давай мужиков наших покрестим! Вовка крещеный?
— Нет.
— И Сашка нет. Сейчас приедем и пойдем к батюшке, пусть крестит. Будем у них крестными, я — у твоего, ты — моего. А Машу ты крестила?
— Крестила. У нас, в Северогорске. Ей было одиннадцать месяцев. С мамой ходили и с Пашкой, братом моим, он был крестным. Домой из храма пришли, сидим за столом, отмечаем. Пока туда-сюда, выпили, поели. Машка в манеже играла, копошилась. Потом, чувствую боковым зрением, кто-то к столу шлепает, повернула голову — ковыляет, родная! Машка пошла, пока мы крестины обмывали. Мы так и ахнули! Ну, мама сразу аналогию провела, вот, дескать, что Крест Животворящий делает. А вообще, в одиннадцать месяцев — это нормально, что дите пошло. Просто совпало так. Но, все равно, интересное совпадение, да?
— Ну да. Пошли, Маринка, — Зоя оправила курточку, — дел еще куча. Надо все деньги с умом вложить, потом запаковать все, еды в дорогу купить. Пошли!
Тот рынок был совсем другой. Огромный, с бесконечными лавочками, шумными зазывалами, навязчивыми продавцами. Маринке было неловко отказываться заходить в лавку, когда ее приглашал очередной приставучий турок. Но потом она поняла: если будет заходить во все каморки подряд, не хватит и месяца.
— Так, Марина, давай определимся, что берем, и ходим целенаправленно.
— Давай ты. Я не знаю ничего.
— Хорошо. Диван-дейки, юбки, блузки, обязательно лосины. Детского возьмем. Что останется, потратим на мелочевку. Надо бы кожу посмотреть, сейчас как раз сезон для плащей.
— Это же дорого. Два плаща — и нет долларов.
— Тебе кажется. Я знаю, где есть неплохая кожа. И недорого.
Марина во всем положилась на Зою. И они продолжили рыскать уже конкретно, не обращая внимания на зазывал. В некоторых лавочках они останавливались передохнуть, но только в тех, где собирались что-то купить. Пока им наливали чай, девчонки смотрели, чем тут можно поживиться, после чая и краткого отдыха определялись с ассортиментом, торговались и паковались. Они умудрились найти сумасшедшие черные кожаные плащи-разлетайки, свинги, таких в Северогорске еще не было, с дутым воротником, похожим на спасательный круг. Оставшиеся деньги девчонки потратили на подарки. Себе Марина купила по мелочи. Дочке набрала ярких детских вещей и каких-то восточных сладостей. В общем, весь тур прошел без приключений — и закуп, и таможня, и обратная дорога.
— Зойка, возьмешь меня еще?
— Поехали! С тобой легко.
***
— Маришка, у меня день рождения в субботу, — сослуживица Аллочка точила свои безупречные ноготки, — придешь? Вовку с собой возьми.
«Как собачку, — обиделась Марина. Пусть он и не эталон главы семейства, но будто само собой не разумеется, что женщине идти к кому-то по приглашению, так со своим мужчиной». Приду. А кто будет?
— Обещала соседка зайти, ты с Вовчиком, Гузелькин папа будет. Да! Еще Олег со Светкой обещали заскочить, не знаю, как получится. Если смогут Майка к бабуле пристроить.
«Калугин!» — сердце Марины отчего-то немного зашлось.
— Да, придем. Посидим, давно никуда не выходила. Пить нельзя, а от Вовкиных друзей трезвой не уйдешь.
Марина недавно прилетела из Москвы, с крещения. То, что она беременна, знали все, Марина это особо не афишировала, но и не скрывала.
***
— Вов, нас Алка пригласила на день рождения.
— Я не пойду.
— Почему?
— Я ее не люблю.
— Я же тебя не жениться на ней зову. Посидим, пообщаемся.
— А кто там будет? Я из ее собутыльников никого не знаю.
— Ой, кто бы говорил про собутыльников! Познакомишься, расширишь круг своих. Пошли давай, не ломайся.
— Я подумаю.
— Думай, уговаривать не буду, — Марина смотрела на свое отражение в зеркале.
Ровная кожа словно светилась изнутри. Плавные очертания круглого лица мягко переходили в изгиб женственной шеи. Из тонкой тростинки Марина превратилась в гитару. То, что теперь жило с ней, преобразило ее и превратило из девчонки в знающую себе цену женщину. Беременность, и вправду, была ей к лицу. Марина не ходила, она несла себя, плывя по земле.
В гости она надела трикотажный голубой костюм из ангорки — длинная юбка, короткий жакет, под него — тонкую белую батистовую блузку. Черные туфли на высокой шпильке. Аромат «Диор». Золотистые волосы уложены в каре. Глубокие серо-изумрудные глаза с длинными темно-русыми ресницами и ее тот самый взгляд, что так завораживал сестру. Оля говорила маленькой Марине: «Твои глаза — омут». Марина не понимала, как это? Сейчас она смотрела на себя в зеркало. «Я — красива. И что-то меня ждет. Для кого-то же я стала такой?». Она физически ощущала приближение каких-то перемен.
Народ собрался к шести. По квартире бродила Айка, чудной красоты борзая. Длиннолапая, горбатая собака с узкой мордой и красивой шерстью цвета легкий беж.
— Алка, зачем тебе борзая? Она же для бескрайних просторов английских полей с короткой изумрудной травкой и несчастным удирающим зайцем, — изощрялся Вовчик.
— Ну почему обязательно английских?
— Ну, пусть и русских, только полей. Где она у тебя гуляет? Ей же надо борзо бегать! У тебя во дворе с одной стороны — помойка, с другой — детский сад. Даже механического зайца не запустишь.
— Вова, ты сам-то со своей Патрицией где гуляешь? Тоже не малышка. И сенбернарка твоя для высоких альпийских гор с ароматом глинтвейна и горнолыжников, засыпанных горной лавиной.
— Сдаюсь! Умыла!
Марина попивала шампанское, слушая словесную перепалку местной интеллигенции. Она ждала Олега. Ну и что, что придет с женой? Она никогда с ним не общалась в неформальной обстановке, только в магазине. «Интересно, какой он?» — думала Калугина, разглядывая соседку за столом, которая пила водку и закусывала ее мясным салатом.
— Маринка, пошли покурим?
— Я не курю. Я жду ребенка.
— А я курю. И никого не жду. Ни ребенка, ни козленка. Курить люблю, а козел уже есть. Но он на смене, не придет.
«И слава богу», — Марина не любила людей простых и грубых. Не любила шершавых рук, неровных ногтей, красных лиц. Не любила запаха пота, особенно от женщины. «К людям шла, могла бы и душ принять, — Марина брезгливо смотрела на соседку, смачно обсасывающую куриную ножку. Сейчас еще рыгнет, — подумала Марина с неподдельным ужасом.– Нет, не рыгнула. Вытерла ладонью губы, потом ладонь — об себя. Ужас! Неужели таких женщин тоже кто-то любит? — Марина представила соседку в интимный момент со своим козлом, который сейчас на смене. Как же они это делают? Интересно, они в душ перед ЭТИМ ходят?». Ее передернуло.
— Замерзла? — соседка одной рукой наливала водку, другой ковыряла в зубах, мизинцем.
— Да, знобит немного. Пойду на кухню. Кстати, есть зубочистка.
— Не, нормально. Я так.
«И что это меня сегодня разобрало?» Марина зашла на кухню.
— О, привет! Ты как? — уже прилично навеселе, Вовчик курил с Аллой у окна.
— Нормально. Тоскливо, — в Марине стало нарастать глухое раздражение.
— Маринка, не ерунди! — Аллочка манерно держала сигарету, оттопырив мизинчик.
«Одна оттопыривает, другая в зубах ковыряется. Северогорская богема, мать твою…»
— Светка Калугина звонила. Майка пристроили, идут от бабушки Ларисы. Она тут недалеко живет, сейчас придут.
Ладошки Марины вспотели. «Странно, — она подумала, — почему такое волнение?»
Тут же раздался звонок. Аллочка поплыла на высоких каблучках в прихожую, следом за ней горбатилась дворянка Айка.
— О-о-о, кОза, — с ударением на «о» пропела Алка, целуя Свету, — проходите! Заждались вас. Идите в зал, я вас сейчас познакомлю со всеми.
Маринкино сердце билось часто-часто. «Да что это со мной, в самом деле? Как девочка на первом свидании». Она смотрела на Свету. Кожаная черная мини-юбка, черные тонкие колготки, коротенькие ботильоны, черная косуха из мягкой кожи. Высокая, около метра восьмидесяти, темноволосая красавица с прямым носом, пухлыми губами и длинными ресницами. Минимум макияжа. Безумной красоты длинные ноги. «Да-а, создал же бог такое… — Маринка чувствовала себя рядом с Калугиной дойной коровой. — Почему именно дойной? Да потому что коровой!» — отвечала своим же мыслям Марина. Света прошла в кухню.
— Привет всем! Дайте покурить!
«Однозначно, — подумала Марина, — красивее в городе пары нет…»
Аллочка протянула подруге сигаретку, небрежно щелкнув зажигалкой. Света красиво затянулась, зачесывая назад расставленными в гребень пальцами длинные струящиеся волосы.
— Света, знакомься, это Володя, муж Марины Толмачевой.
— Бонд, Джеймс Бонд, — Вовчик рисовался перед красивой девчонкой.
— Ну, Маринку ты знаешь.
— Да, — Света широко улыбнулась, демонстрируя всем еще и безупречные зубы, — мы в книжном мельком общались. Привет, Мариша!
— Привет! — Маринка чувствовала неловкость, она не знала, как себя вести с классическими красотками.
— Кто еще пришел? — Света пальчиком легко стряхнула пепел в блюдце.
— Соседка Верка, ты ее знаешь, и Али-Баба мой должен прийти скоро.
— Как вы с Мусаилом вообще?
— Нормально. Он Мустафа, вообще-то. Денег дает, дочь признал, регулярно общаются. Иногда остается у меня ночевать. Обычные семейные отношения.
«Все с ног на голову. Что я, как гэ в проруби, болтаюсь, что Алка гостевые отношения считает нормой. Интересно, а у Калугиных как?» Марина не решалась одна идти в комнату.
— Вова, пошли, я вас с Олегом познакомлю! — Аллочка затушила сигарету и взяла с кухонной тумбы бокал с шампанским.
— Знакомьтесь! Олег, это Володя, Маринин муж. Это Марина, ну, вы виделись.
— О! Алка! А мы тут с Калугиным за жизнь пытаемся поговорить! — толстая соседка пыталась налить водку в стопку Олега. — Будешь?
— Нет, спасибо, — Олег брезгливо отодвинулся подальше от стола.
Крошки, кусочки хлеба и небольшие горки винегрета уже сложили на скатерти праздничную мозаику. Олег сидел на подлокотнике дивана. Он равнодушно кивнул Марине, так же отстраненно пожал Володе руку.
— Я — курить, — Калугин встал, стряхивая с джинсов невидимые пылинки.
«Как же он красив…» — Маринку обуяли такая тоска и безнадега, что на глаза навернулись слезы.
— Улыбочку! — Аллочка достала фотоаппарат и попыталась запечатлеть радостное застолье.
Володя закрыл лицо ладонью. Он всю жизнь панически боялся, что его изображение попадет в КГБ. Такая вот причуда. Боялся, что телефонные разговоры его пишутся, и вообще, за ним периодически следят. Видимо, этот страх ему внушила мать, не раз умиравшая на лесоповалах ГУЛАГа. Страх возврата гонений жил с Володей всегда. Сейчас уже и время не то, и люди не те, и в стране демократия. А он жил, как нашкодивший перед Родиной.
— И страна осталась та же, и люди еще похлеще, и демократия твоя рисованная, — Вовка пытался объяснить наивной Марине, что мы все под колпаком у Мюллера. Марина считала это полнейшей глупостью и фобией.
На той, Аллочкиной, фотографии красивая веселая Марина широко улыбалась, махая в камеру рукой; ссутулившийся Вовка, отвернувшись, закрылся от камеры рукой. Ячейка общества, да и только. Она — надежда, стремление жить и состояться. Он — страх, безнадега, жизнь одним днем, мозги и талант, залитые водкой.
В квартире было очень жарко. Марина встала и пошла в ванную комнату ополоснуть лицо.
— Света, здесь же одно быдло… — донеслось до нее, — пошли отсюда, отметились — и довольно. Здесь воняет, как в бичарне. Я не могу ни сидеть, ни стоять, ни, тем более, что-то есть и пить.
— Олежка, потерпи, неудобно сразу уходить. Потерпи, хорошо? — умолял Светкин голос.
Марина незаметно чуть высунула голову из-за двери и увидела, как Света прижалась к Олегу, гладя его длинные, ниже плеч, волнистые русые волосы. — Ну пожалуйста, сделай вид хотя бы ради меня, что все хорошо. Олежа, ну пожалуйста!
— Блин, Света, только ради тебя. Что вообще тебя связывает с этой набитой дурой?
— Ты про Алку?
— Про Алку. Она же тупая вообще, как дерево!
— Да ничего. Я ей шила по мелочи, ей и ее подружкам.
— У нее из подруг одна Маринка Беловольская на женщину похожа.
— Ну ты сравнил. Маринка из старого еврейского рода, породу не сотрешь ни друзьями, ни водкой.
— Вот и я про то же. Где, кстати, Беловольская сейчас?
— Она жизнь устраивает. Пытается с ПМЖ замутить, хочет валить из страны.
— Они что, с Гришей расстались?
— На грани. Почти. Она там с визой что-то мутит.
— Я бы тоже отсюда свалил, на хрен.
— Да ладно тебе, Олежка. Давай лучше выпьем.
— Слушай, Свет, принеси, а? Не хочу туда, к этому быдлу. Небось, и водка еще паленая. Бр-р! — он передернул плечами.
— Несу, котенок!
Марина стояла у умывальника, затаив дыхание. «Быдло. Они там все быдло. Они там — это и я…» Ей стало ужасно противно. Тошнота подступила к горлу. «Стыдно… как стыдно. Но почему? Все — быдло… Да, Мариша, открой-ка глаза пошире и посмотри на мир реально». Она села на край ванны и включила воду. Подставила ладонь под струю холодной воды и замерла. Марина подумала, что и сама делит людей на своих и чужих, на интеллигенцию и пролетариев, на тех, кто ковыряет в зубах пальцем, а кто зубочисткой, на ее круг и тех, кому доступ в ее мирок закрыт. А теперь она сама оказалась по ту сторону. «Как же противно… Господи, как же мерзко». Она захотела уйти немедленно, сию минуту, никого не видеть и не слышать.
— Марина, ты куда? — Света несла на кухню стопку водки и бутерброд.
— Домой.
— Ты что? Мы же даже толком не пообщались!
— Тошнит, плохо чувствую себя, — Марина обувной ложкой пыталась втиснуть отекшую стопу в туфлю.
Олег стоял у окна. Смотрел, как уходит Марина. «Единственная нормальная девчонка здесь, и та уходит. Что ее связывает с этим компьютерным гением? Совершенно разные люди. Ухоженная, веселая, без понтов. И Вовчик этот, сумасшедший профессор. Не понять этих баб». Если б только Марина могла слышать мысли предмета ее обожания! Она бы осталась здесь, среди винегрета, водки и пустой болтовни. Но ее просто мелко трясло от обиды и унижения.
— Алла, скажешь Володе, что я ушла.
— Ко за, ты куда-а? — разочарованно протянула Аллочка.
— Домой.
— Подожди… — но Марина уже спускалась, не поворачивая головы, избавив себя от ненужных объяснений и лживых доводов.
Минут через двадцать собрались Калугины. Соседка с Вовчиком обсуждали непонятно что. Вовка съежился, выпятив нижнюю челюсть и скрестив на груди руки; он раскачивался в такт словам изрядно захмелевшей Верочки. Аллочкин муж, точнее, отец ее дочери, с редким в то время в России именем Мустафа так и не пришел; тогда его как раз знакомили с его будущей женой Лейлой. Выйдя на воздух, Олег глубоко вдохнул. У него было ощущение, что его запачкали.
— Света, первый и последний раз!
— Да поняла уже! Успокойся.
Олег познакомился со Светой через ее брата Егора. Они вместе служили на Украине в ракетных войсках. Ей было семнадцать, и она очень хотела замуж. Переписка, туда-сюда. Свадьбу сыграли сразу после армии. Первая брачная ночь у них по-настоящему состоялась только через два месяца. Светке было больно и страшно. Олег терпеливо ждал, пытаясь объяснить суть вопроса и словом, и делом. В конце концов крепость была взята, и через девять месяцев у них родился лопоухий и губастенький Майк.
Олег всю жизнь любил Светку так сильно, что прощал ей все, даже явные измены. Она этим пользовалась. Олег возвращался с работы домой, его встречала молодая и очень красивая жена. В ярком халатике, при макияже и на каблучках.
— Света, ужинать будем?
— А я не готовила.
— А что ты делала?
— Тебя ждала. Ты меня не любишь?
— Люблю. Но я голоден.
— Ну, свари что-нибудь, я тоже с тобой поужинаю.
Олег варил, поскору, сосиски, макароны. Они ужинали. Потом он стирал замоченные им же с утра пеленки и Светкины трусы, развешивая их по квартире на натянутые бельевые веревки. Гладил кучу вчерашнего пересушенного белья. Шел за продуктами на завтра, варил Майку кашу и валился без задних ног на диван.
— Оле-ежа-а, ну ты что-о? Спать уже? — капризничала Света. Она только что накрасила красивые ноготки и листала журналы с новыми моделями платьев.
— Да, я очень устал.
— Ну не-ет, — Света ластилась, как кошка, к Олегу и вилась вокруг него с нежностями, — а как же я? Ты меня даже не поцелуешь?
— Света, я устал очень.
— Фу, какой ты, — Светка дулась, утыкалась в журнал или брала телефон и допоздна трещала с подружками.
Майка укладывал Олег. Он же кормил его кашкой. Света ни одного дня не кормила сына грудью. Фигура — самое дорогое и ценное для молодой женщины. Фигура, красота и деньги. Олег подторговывал косметикой, импортными шмотками. Света неплохо шила. Однажды из-под швейной лапки домашней машинки вышло даже демисезонное пальто, которое Света расшила стразами, по тем временам — чисто диковинка. Она была счастлива, потому что не обременяла себя мыслями. Ночами Олег вставал к сынишке. Благо, Майк рос не плаксивым, поэтому Олег умудрялся высыпаться. Назавтра начиналось все сначала. Работа, пеленки, магазин, ужин, стирка, короткий сон. Олег очень любил Светку. Веселую, независимую. «Молодая еще, ничего, научится». Он снисходительно относился к милым глупостям жены. Но Света не торопилась учиться. Она оказалась патологически ленива. И, к ужасу Олега, не всегда опрятна. Он же, напротив, был аккуратистом и не мог выносить разбросанные по квартире вещи, расческу с неубранными волосами, грязное белье на полу в ванной, посуду с остатками засохшей еды, зубную щетку, торчавшую вверх ножкой, «украшенной» подтеками зубной пасты. И все же… Он терпел, потому что любил.
Однажды чашу терпения переполнила большая прозрачная капелька. Свету домой привез Альгис, худой, заикающийся, со странной, бочком, семенящей походкой, — старый Светкин друг. Местный олигарх, содержавший с конца восьмидесятых несколько коммерческих ларьков. По нынешним меркам, никакой он, конечно, не олигарх. Так, крупный барыга. Но тогда коммерческий ларек был чем-то вроде бутика, где можно было купить китайские блузки, турецкие синтетические юбки на резиновом поясе, жвачку, презервативы, игрушки и спирт «Рояль». Он имел свой собственный частный дом, и, приходя вечером с пачкой денег, вырученных с ларьков за день, швырял их с порога то за диван, то за шкаф. Когда деньги были нужны, он отодвигал диван, доставал пачки, не считая количества в них купюр, кидал их в хозяйственную сумку и уносил по назначению. Альгис был не женат. И рядом с ним никогда не было женщины, поэтому он как соперник не вызывал у Олега опасения. Некоторые думали, что он гей. Но это было не так. Просто он не чувствовал необходимости обзаводиться статьей постоянных расходов. Иногда, очень редко, заказывал местных шлюшек, раз-два, и опять в доме тишина и покой, которые Альгис очень ценил. Когда в поле его зрения оказалась Светлана, он стал переоценивать ситуацию. Чем-то она его зацепила. Понятно, чем. Светик взрослела, из целомудренной невесты-жены превратилась в роковую женщину-вамп и стала приносить домой дорогие подарки.
— Откуда?
— Альгис подарил, я продавщицу подменяла. Премия, своего рода.
Видимо, Света успешно подменяла сменщицу, потому что подарки приносились часто и становились все дороже. Как-то она приехала совсем уж поздно, навеселе и с початой бутылкой «Амаретто» в красивых руках.
— Привет, Олежка! Ну не ругайся. Немножко посидели у Альгиса со всеми ларечными.
Олег молчал. Он занимался сыном и домом. А потом его жена не пришла ночевать, «останусь у подружки, ей одной страшно». Олег задумался: «И что дальше?»
— Я ухожу к Альгису. Майка заберу.
И все. Тихо, без скандала. И снова Олег терпел. Он даже ждал жену, думал, что вернется. Но Светка, вкусившая прелести беспечной и богатой жизни, возвращаться и не думала. Она прожила с прибалтом, так звал его Олег, около пяти лет и сбежала от этого занудливого импотента в никуда. Потом у нее был какой-то Дима, шестерка из бандитов, отнимавший на рынке у бабушек игрушки для Майка, потом кто-то еще из крутых смотрящих. Она хотела вернуться к Олегу, но ей доложили, что в его жизни появилась женщина. Не временная, с ребенком, уже не девчонка, и у них все серьезно.
***
Марина ехала домой и анализировала ситуацию. «И что я вообще взъелась? Что завелась? Женатый мужик. Ну нравится, и что? Ты, Марина, если помнишь, беременна, вот и думай о ребенке. С пузом, а все о кобелях мечтаешь… Срок, конечно, небольшой, живота не видно. Скорей бы родить уже! Хоть заботы появятся…».
Она терпела, как могла. Вовчик становился все невыносимее, много пил и часто проигрывал в карты. Ладно бы, ушел. Ведь нет, болтался туда-сюда. К тому времени книготорговый куст был расформирован, отдан в частные руки и благополучно развален владелицей-неумехой, поэтому Марина устроилась работать в коммерческий магазин продавцом. Десять лет она жила в сплоченном сплетнями коллективе, а сейчас каждый устраивался, кто как мог. Основная часть девчонок разбрелась по коммерческим книжным магазинам и канцтоварам. Кто ушел в игрушки, а кто и селедкой торговать. Такие вот повороты, от Дюмы до сумы… Зарплата в «комке» позволяла Марине неплохо содержать дочь и приодеть себя, дома всегда были импортные продукты и, разумеется, тот самый спирт «Рояль», который лился и пился в бессчетном количестве. Марина обрастала новыми знакомствами формата девяностых.
***
Магазин «Альянс» относился к ООО «Луч» и был самым первым коммерческим магазином Северогорска. Предприимчивая Мила Мишер стала в городе единственной крутой бизнес-леди. Коммерческая точка состояла из трех секций — одежды и мелочевки, отдела аппаратуры и секции, где выставлялись дорогой алкоголь, фирменная кондитерка, манерное женское белье — в общем, стильные штучки. Марине досталась одежда и мелочевка. За прилавком «штучек» стояла Иришка, самая крутая девушка Северогорска. Она так считала. И вела себя соответственно. Вещи носила — только «фирму», косметику покупала у спекулянтов, белье носила исключительно комплектами, шелковое, кружевное, невесомое. Ириша была очень худенькой, среднего роста, с огромными глазищами, правильными чертами лица и пухлыми, четко очерченными губами. Она не знакомилась с мужчиной, если тот ездил не на иномарке. Заграничные машины были редкостью, а Ириша хотела выйти замуж за богатого. Но, как правило, если мужчина имел хорошую машину, в ней он уже возил хорошую женщину. Поэтому Ириша изо всех сил пыталась кого-нибудь отбить. Марину она считала простушкой, беспородной кобылкой. Не дворнягой, но и без родословной. Иришкины надменность и высокомерие очень раздражали Маринку. Но они мило общались. Делали вид. Мужчины у Иришки долго не задерживались. Им ясно, что надо было от красивой, ухоженной девочки. Они велись на красивую обертку, но, развернув конфетку, понимали, что пустышка. Нет, конечно, Ириша глупой не была, но не было в ней чего-то такого, что заставило бы мужчину надолго закинуть к ней чемодан.
— Ну почему мне так не везет?
— Потому что ты мужиков реально грузишь.
— Что значит гружу? Надо же не просто: «привет — выпил — в койку — чао»! А поговорить?
— Вот-вот. Мужикам-то? Поговорить? Наивная! Твой вон алкаш-рекламщик водит тебя за нос: и с женой не разводится, и тебя обещаниями кормит, врет вам обеим, а вы уши развесили.
— Я его люблю.
— Ты «Ниссан» его любишь, штаны «Версаче» и «Фаренгейт».
— И что? Все вместе создает образ мужчины моей мечты.
— Надо не образ создавать, а семью.
— Да-а… ты вон уже второй раз замужем, как ни странно, и ребенок есть, а я до сих пор в поиске.
«Кто тебя, зануду такую, возьмет? И почему это, как ни странно? Вот сучка! Не может не зацепить, цаца…»
— Ира, мужчины любят простых и веселых. Если и поговорить, то не о замужестве. А то он еще в душ идет, а ты уже свадебное платье заказываешь.
Ириша не обижалась.
— Здесь я точно замуж не выйду. Я тебе, Мара, обещаю, я буду жить за границей.
Иришка звала Марину Марой. На западный манер. Мариша не обижалась — во всяком случае, необычно.
Ира неплохо знала французский. Через двенадцать лет, похоронив мать, отца и болонку Жужу, она через сайт знакомств завела переписку с богатым престарелым французом. И, таки, вышла за него замуж. Уехала во Францию, но детьми не обзавелась. Видимо, так долго ждала финансового благополучия, что стало жаль тратить время на пустяки. Хотя, у нее были проблемы со здоровьем, может, просто не смогла. Годы ее учебы как раз пришлись на чернобыльскую трагедию. Что ж, она и не ставила перед собой цель полюбить, а программу максимум Ириша выполнила. Вышла замуж за иностранца.
Кроме горького пьяницы и женатика, рекламщика Стаса, Иришке очень нравился Олег Калугин. Он сдавал в Милочкин магазин тайваньскую косметику и какую-то совсем мелкую мелочь — на мелочевке самый большой «выхлоп», и хоть иномарки у него не было, но все же Олег создавал впечатление эксклюзивного мужчины, не человека толпы. Олег был с обеими девчонками равно вежлив. Ирочка же вся изъерзалась.
— Мара, ну как мне его развести на отношения?
— Тебе труда не составит, напрягись.
«Везде этот Калугин. В книжном маячил, теперь здесь».
— А ты знаешь, что они со Светкой развелись? — Ириша смаковала главную новость Северогорска.
— Да ладно! Давно?
— Ну да, больше года.
— Достанется опять какой-нибудь бэ. Классный он парень, скажи?
— Скажу… — вздыхала Иришка.
***
То лето было очень жарким. Марина взяла отпуск, чтобы пару недель провести с родителями на даче — какой-никакой свежий воздух, клубника и прочие полезные детские радости. Она собрала вещи, уложила их в сумку и стала собирать Машку. Дело было к вечеру, Марина никого не ждала, поэтому звонок в дверь ее немного удивил.
— Мама, динь-динь!
— Слышу, малышка, — Марина посмотрела в глазок. «Нет, только не это! Неужели опять сейчас начнется? Он же на ногах не стоит…»
Марина открыла дверь.
— Здравствуй, шлюха! — Вовчик, в прямом смысле слова, ввалился в прихожую.
— Вова! Ты что? Машку испугаешь! — «Как он смог самостоятельно подняться на пятый этаж?» — Уходи! — Марина попыталась вытолкнуть его на лестничную площадку. Вовчик с силой оттолкнул Марину и запер за собой дверь. Испуганная Машка с широко открытыми глазами стояла сзади, прижав к груди куклу.
— Вова! Пожалуйста! Уйди!
— Тварь! Ты тварь! Ты мне вщю жижнь шломала! — шепелявил Вовка в стадии неадеквата.
Марина аккуратно, боясь испугать, взяла дочку на руки и пошла в комнату. Она заперла дверь между залом и прихожей на крючок, представляющий из себя запор чисто символически.
— Куда? Стой, тварь! — Володя попытался дернуть на себя дверную ручку, но, спьяну, рука соскользнула, а Марина успела отскочить от двери. Вовка с силой ударил кулаком в верхнюю стеклянную часть. Мелкие брызги полетели Марине в лицо, и она увидела, как по щеке дочки потекла тоненькая струйка крови.
— Господи, помоги! — Марина закрылась, теперь уже в спальне, на замок.
Маленькая Маша испуганно сжимала одной рукой материну шею, а другой обнимала свою любимую куклу-растрепу.
— Сиди, малыш, папа сейчас возьмет, что ему надо, и уйдет.
Девочка кивнула. Она все понимала.
— Папа похой.
— Нет, папа просто устал. Ложись, моя девочка. Я тебе сказку расскажу про маленькую собачку, ты же любишь про собачку, правда?
Дочка молча кивнула. Марина видела, как она часто и прерывисто дышит, прислушиваясь к доносившимся из кухни звукам. Она не плакала. Она с испугом, но доверием и надеждой смотрела на мать. «С мамой не страшно, мама заступится. Мне почти два годика, и с мамой я ничего не боюсь». Через некоторое время шум утих, Марина подумала, что Вовка где-то свалился и уснул. Она подошла к двери, прислушалась. Тихо. Приоткрыла дверь. Никого. «Надо уходить из дома, чем быстрее, тем лучше». Марина взяла дочку на руки, прихватила под мышку пакет с вещами, и девочки тихонько стали направляться к выходу. Маринина одежда висела в ванной — чтобы одеться, надо было пройти мимо кухни. Марина робко выглянула из-за коридорного косяка. На них — с безумным, ничего не видящим взглядом — летел Володя, в правой руке он держал широкий кухонный нож. Не помня себя, Марина кинулась к двери, дернула — открыта! В чем была, вылетела на лестничную площадку и босиком побежала вниз, на четвертый этаж, прижимая задыхающуюся от страха дочку. Она стала звонить во все двери. Этажом ниже открыл сосед, случайно оказавшийся дома.
— Марина! Что стряслось?
— Вовка, он… там, — выдохнула Марина, — впусти!
Они влетели в комнату. Только сейчас Марина смогла заплакать. Слезы лились непрерывным ручьем, Маша тоже тихонько заплакала. Толик принес валокордина.
— Пей! Сейчас пойду и убью суку!
— Не надо, не ходи… он в невменяемом состоянии, столько выпил…
Толик вышел на площадку и поднялся в квартиру к Марине.
— Быстрее приходи, мне страшно…
Маша успокоилась и прижалась к матери, умостившись на коленках.
— У тебя дома никого, ушел. Надо бы милицию вызвать, — вернулся сосед. — И дверь настежь. Чего он учудил?
— Он с ножом бегает. Не порезал бы кого.
— Да на хера ты вообще с ним до сих пор? В толк не возьму! Одна боишься остаться? Так не останешься, это я тебе как мужик говорю, а хмыря этого гони в шею! Сам спивается и вас погубит! Слышишь?!
— Слышу…
Марина смотрела в окно. По проезжей части, прямо посередине, в потоке машин шел Володя и катил впереди себя Машкину коляску. Ему сигналили, кто-то притормаживал, кто-то высовывался из окна и крутил пальцем у виска.
— Толик, смотри…
— Б-а-а, копец! Это все! Сейчас ему точно рожу разобьют! Я вызываю милицию!
Будто услышав слова Толика, из остановившейся машины вышел крепкий мужичок. Посмотрел в коляску и со всего размаха дал в переносицу потерявшему разум Вовке. Потом еще. И еще. Остановилась еще одна машина. Вокруг собрались люди.
— Маринка, а на фига он коляску взял?
— Толик, я ничего не понимаю. Похоже, у него белочка.
Кто-то вызвал милицию. Опросили жильцов дома. Коляску закатили в подъезд. Вовку увезли.
На дачу они не поехали, легли пораньше спать. Утром Марина смотрела на окровавленное детское постельное белье, застеленное в коляске. У нее не было никаких чувств, кроме омерзения и гадливости. «Кровь наверняка Вовкина. Сдох бы».
Смятый Вовчик пришел утром. Ночь он провел в обезьяннике, от него воняло бичами и перегаром.
— Да-а… я, конечно, знал, что ты зараза, но чтобы родного мужа в милицию сдать?! Я от тебя такого не ожидал…
— Слушай, не доводи до греха. Уйди сам. Пожалуйста!
Вовчик демонстративно курил и молчал.
— Я все понял.
— Вот и молодец. Не ходи сюда больше.
Маша стала заикаться. Марина водила дочь к логопеду, доктор посоветовал успокоительное.
— Вам надо принять решение о вашем браке. Есть какие-то препоны? Имущество? Финансы?
— Нет, мы даже не зарегистрированы.
— Пожалуйста, подумайте о дочери. Это все очень серьезно.
— Я подумала.
Маринкины посиделки с друзьями прекратились. Она безумно устала от пустой болтовни, бесконечных пьянок, прокуренных подруг, вереницы тупых лиц. Работа, дом, Машка. Все! О личной жизни даже не думала. До блевоты эта так называемая любовь.
***
На работе Марину повысили до коммерческого директора. Магазин держала дружная парочка, возможно, их связывала не только работа, но это были всего лишь Маринкины домыслы. Сорокалетняя Мила Мишер и ее ровесник Славик Алексеев познакомились в общей тусовке местных северогорских художников. Они оба когда-то закончили художественную школу, пописывали пейзажи, но крутой поворот конца восьмидесятых развернул их от прекрасного к насущному. Они оформили нужные бумаги и стали соучредителями. Фифти-фифти. В магазине товар шел по мелочи, а в масштабе под вывеской ООО «Луч» неплохо продавался бартер «Севернефтегаза», который должен был за копейки распределяться между работниками нефтегазовой конторы, но стараниями Славкиного друга, снабженца Ленчика Филатова, львиная доля нефтегазовых шмоток, аппаратуры и мебели оседала в «Луче», товар продавался с наценкой до пятисот процентов, прибыль пилилась пополам. Марина все это видела, неплохо в этом разбиралась, быстро считала и много не говорила, поэтому получила должность коммерческого директора и повышение зарплаты. Она вела местную нехитрую бухгалтерию, состоящую из граф «приход-расход», иногда стояла и за прилавком. Коллектив довольно слаженно работал, деньги в карманы художников текли непрекращаемым потоком, а праздничные корпоративы только еще больше сплачивали. Продавцы подворовывали, покупатели не жаловались, начальство не лютовало. Коммерческая идиллия.
Осенью по случаю дня рождения Милы Славик устроил вечеринку. Магазин украсили шариками и ленточками, разложили по одноразовым тарелкам вкусный дефицит. Бутылки «Амаретто», «Айриш крима», «Чинзано», шампанского блестели прохладным стеклом рядом с импортным пивом. Золотисто-зажаренные «ножки Буша» ароматно лежали, прижавшись друг к другу толстыми бочками. Вывеска «Переучет» завершила рабочий день в обед. Гости приходили, уходили, сменялись лица, частили тосты, шуршали подарки. Марине было уютно среди дорогих угощений в пластмассовой посуде, она веселилась как никогда и слушала разговоры высоких приглашенных, чувствуя себя немножко причастной к этому удивительному миру богатых людей. «Такие все простые. Посуда пластмассовая, а подарки долларовые. Танцуют даже. Завтра с утра на работу, надо бы домой… так не хочется». Марина встала из-за стола, прошла в кабинет и тихонько собралась.
— Мариша, тебя отвезти? — скрестив ноги, Мила стояла в проходе, опершись рукой о косяк.
— Нет, ты что?! Отдыхайте. У тебя же день рождения.
— Да надоели эти рыла! Одно и то же: давай переспим, дай денег, купи не задорого! Поехали, отвезу! Развеюсь хоть немного.
Мила давно и очень хорошо водила машину. Марина сидела на переднем сиденье новенькой «шестерки» и смотрела, как Милочка заправски уверенно крутила руль одной рукой, другой переключая передачи и одновременно шустро манипулируя ногами.
— Слушай, Мила, мне никогда не научиться водить. Я в педалях запутаюсь.
— Привыкнешь. И очень быстро.
Они подъехали к Марининому дому.
— Одна живешь?
— Одна. Отправила своего подальше.
— Ясно. Как теперь?
— Не знаю. Как-нибудь.
— Не бери в голову. Я дочь одна воспитываю. И ты воспитаешь. А мужика захочешь, любой прибежит, по себе знаю. Они нам не нужны, по сути. Ребенка сделал — и до свиданья. На фига нам эта капризная обуза? Подай, убери, то, се! Да?
— Не знаю, наверное…
— Ладно, давай! До завтра! — Мила сдала задним ходом.
Марина смотрела ей вслед и думала о Машке. «Зачем ей такой папаша? Вон Милка, при деньгах, независима, всегда мужичок молодой рядом трется. Может, права она?»
Тамара Николаевна обувалась в прихожей.
— Мам, может, останешься? Не пойдешь в ночь?
— Ни-ни! Я домой. Доползу потихоньку. Машку накормила, спит часа два, долго не ложилась, тебя ждала. Нагулялись?
— Нормально. Спасибо тебе.
— Ладно, пойду. Устала, как собака.
Марина зашла в спальню. Дочка лежала под мягким одеяльцем, свернувшись калачиком, по-детски сложив обе ручки под щеку. Наверное, видела что-то доброе, потому что быстро улыбалась во сне. Марина прикрыла дверь, скинула с себя пропахшее табаком вечернее платье и залезла под душ, смывая с себя дневную усталость. Горячая вода плотными струями лилась на лицо, стекала с волос на грудь и плечи, унося с собой все тревоги. «Нам никто не нужен… нам никто не нужен… Никто…»
Утром Марина заступила на смену. До обеда сидела на закупе, к вечеру встала в отдел мелочевки. День подходил к концу, покупателей почти не было, и они с Иришкой тихонько переговаривались ни о чем.
— Я Калугина в гости пригласила, — сообщила Ирочка.
— Да ладно! Когда?
— Завтра придет. Он у себя ремонт делает, дверь продает. А мне дверь нужна. Придет ко мне смотреть, что к чему, замерять там что-то. Я хочу стол накрыть, то-се, сама понимаешь.
— Ну-ну. Давай дерзай. Может, что и выгорит.
В этот самый момент в зал вошел Олег Калугин.
— Девчонки, привет! Скучаем?
— Олежка! Легок на помине! — Иришка выпрямилась в струнку, оправила юбочку, пригладила в безупречной укладке волосы.
— А чего это вы тут про меня?
— Да про дверь твою Маринке, вон, рассказываю.
— Да, Ира, я зайду к тебе завтра. Погляжу: подойдет, не подойдет.
— Буду ждать, — кокетничала Ириша. Олег был в ее руках. Ну почти был, осталось совсем чуть-чуть. Какая-то мелочь, всего лишь один день.
— Что-то сдавать принес? — Марина посмотрела на небольшую сумку Олега — наверняка товар.
— Да, Марина, пойдем, примешь по мелочи.
— Пошли. Ир, глянь на два отдела, я Олега оформлю.
В кабинете Олег достал из чистого баула барыги косметические карандаши, точилки, крем для лица, почему-то кокосовый, в огромных банках. И средство для похудения — коктейль в плотных, слегка гофрированных баночках, который разлетался со скоростью света среди желающих стать стройными.
— Давай как обычно. Оформляй по два каждого товара, а я под эту накладную буду доносить по мере продажи. Тебе процентик.
— Хорошо. Как скажешь, — Марина машинально выписывала накладную.
— А ты чего сегодня такая?
— Какая?
— Хмурая. Кто посмел тебя охмурить?
— Так вчера же у Милки днюха была. Что сам не приходил?
— А-а! Точно. Да я замотался! Набухались вчера?
— Ну не то чтобы, но голова болит.
— Марин, слушай, а у тебя какие на сегодня планы?
— Какие там планы, Олег? Никаких. Дома, с Машкой.
— А можно, я приду? У меня вечер свободный. Посидим, потрещим.
Марина внутренне напряглась. «Почему? Зачем ему?»
— Приходи.
— Ужином накормишь?
— Накормлю.
— А пить будешь?
— Буду.
— Что принести?
— Что хочешь.
Марина отдала Калугину квитанцию. Они вышли из кабинета. Иришка мило улыбалась, провожая Олега мечтательным взглядом. Завтра она его заполучит с потрохами.
— Маринка, я так рада! У нас завтра свидание!
— Везет тебе, — резко поумневшая Марина не стала докладывать заклятой подруге новость дня. Вернее, предстоящего вечера.
Марина шла домой в полном недоумении. Олег Калугин напросился к ней в гости. Впрочем, это ни к чему никого не обязывает. Взрослые люди. Встретились, разбежались. У него, вроде, девчонка есть на Болотном. Болотный — небольшой поселок в пятнадцати километрах от Северогорска. До конца восьмидесятых огромный Болотнинский завод «Атом» производил для оборонки страны, как сейчас говорят, эксклюзивную продукцию. После распада державы, чтобы как-то продержаться на плаву, завод наладил выпуск кастрюль. Но, по слухам, один из цехов продолжал собирать какие-то микросхемы.
Олег обещал прийти часам к восьми. Марина пожарила окорочка, отварила макароны и нарезала овощной салат, заправив его сметаной. На балконе остывал брусничный морс, в дверце холодильника по стойке «смирно» стояла запотевшая бутылка «Финляндии», еще две потели в морозильнике. Марина бегала по квартире от шкафа к ванной, из ванной в кухню. «Блин, блин, блин… Мама, что делать? Что будет?..» Машка копошилась с игрушками. Звонок. «Ну все, мне конец». Марина открыла дверь. Олег стоял на пороге в ярко-красной широкой футболке, черных джинсах «Вранглер», в одной руке он держал тяжелый пакет, в другой — гитару.
— Привет! Я пришел! — широко улыбаясь, Олег сделал первый шаг в Маринкину жизнь.
— Привет! — улыбаясь, ответила Марина, принимая гитару. — Входи. Ей было двадцать восемь. Она ждала перемен. — Проходи на кухню.
Олег не спеша сняв свои крутые мокасины, прошел в хрущевский закуток и стал раскладывать на столе содержимое пакета.
— Ого! Подготовился.
— Я не знал, что ты будешь. Решил всего по чуть-чуть. Стопки?
— На окне.
Уверенно манипулируя бутылкой, Калугин разлил по стопочкам холодную водку.
— Я шампанское буду.
Из гэдээровского серванта Марина принесла бокалы. Она разложила по тарелкам еду и села на краешек табурета, выпрямившись в натянутую струнку.
— Поешь сначала, чтобы не захмелеть.
— Ну, Маришка, твое здоровье! — Олег махом закинул водку и аккуратно закусил салатом. Потом не спеша принялся за курочку. Марине кусок в горло не лез. Нервный спазм сжал желудок. «Олег Калугин у меня дома. Ерунда какая-то. Сидит на моей кухне и ест жареную курицу». Она залпом выпила бокал шампанского.
— Сейчас икать ведь будешь, дуреха! — Олег наливал вторую стопочку, — лучше водочки выпей.
— Ой, мамочка моя, ой…
— Ну кто же шаму залпом пьет?
— Я.
— Давай — за вкусный ужин. И за тебя!
Шампанское сделало свое дело, Марину стало отпускать.
— Олег, а ты что пришел-то ко мне?
— А что, не надо было?
— Ты не ответил.
— Ты мне нравишься.
«Врет. Чтобы завтра не обидно было».
— А-а, нравлюсь…
— А ты как думаешь? Почему?
— А никак не думаю. Пришел и пришел. Завтра будем думать, почему да зачем. Сыграешь?
Олег взял гитару. Чиж, Лоза, Макаревич, Никольский. Он пел песню за песней. Марина смотрела на него. Светлые, голубые днем, глаза сейчас немного помутнели, потемнели. Олег снял очки, без них он выглядел подслеповатым, и от этого очень беззащитным. Он пел, она слушала. «Это мой мужчина, мой человек. Где тебя носило, Олег?»
— Я пойду Машку уложу.
Марина закутала дочку одеяльцем, присела рядышком на кровать, прислушиваясь к гитарному бренчанию.
— …прости, я снова без цветов, но я полдня болтался в небе…
— Маша глазки сейчас закроет и будет баиньки. А я тебе про маленькую собачку расскажу.
Маша сложила ручки поверх одеяла и доверчиво приготовилась слушать маму.
— Жила-была маленькая собачка. Она была пушистая и очень добрая. Но у нее не было друзей. И вот однажды собачка решила найти себе друга и побежала в лес, она шла через зеленую полянку, на которой росло много красивых и ярких цветочков…
— Эй, вы где, девчонки? — в двери спальни показалась длинноволосая голова Олега.
— Мы усыпляемся, я приду скоро, подожди на кухне.
— Я с вами хочу.
— Олег, она с тобой не уснет.
— Это тебе кажется. Ты вот что, Маришка, иди на кухню и налей себе шампанского, а мне водочки, а я дочу твою усыплю.
— Да ты что, Олег? Это бесполезно, не дури.
— Давай иди уже, мамаша. Маша, Маша, где наша мамаша? — Олег выпроводил не сопротивляющуюся, покорную Маринку.
Она прибрала грязную посуду, поменяла тарелки. Села на подоконник. Хотелось удивляться и анализировать. Но не было ни одной мысли, а ситуация становилась все более естественной. Мама моет посуду, папа укладывает дочь. До Марины доносился негромкий разговор Олега с Машей, девочка что-то лопотала, очевидно, рассказывала о своих делах за день, Олег что-то монотонно бубнил. Марина с бокалом шампанского тихонько подошла к двери, прислушалась.
— ВЕЗИ МЕНЯ, ИЗВО-О-ОЗЧИК, ПО ГУЛКОЙ МОСТОВО-О-ОЙ, А ЕСЛИ Я УСНУ-У, ШМОНАТЬ МЕНЯ НЕ НА-А-ДО… — Олег медленно растягивал слова авторской «колыбельной», — Я С-А-АМ ТЕБЕ ОТДА-А-АМ, ТЫ ПАРЕНЬ В ДОСКУ СВО-О-ОЙ, И ТОЖЕ ПЬЕШЬ КОГДА-ТО ДО УПА-А-А-А-ДА…
Марина открыла дверь и вошла в комнату. Олег стоял на коленях у кровати, похлопывая по спинке засыпающую Машку. Марина подошла, присела рядом на пол, оперлась локтем на кровать, подперев голову рукой. Она смотрела на него глазами жены и матери.
— Олег…
— Уснула…
— Олег…
— Не говори ничего…
Он взял Маринкину ладошку в свои большие теплые ладони и приложил к губам. Потом поцеловал мизинец, постепенно поднимаясь к запястью, все выше, к изгибу локтя. Марина не думала ни о чем, она была пьяна и абсолютно счастлива…
***
…Уличный фонарь ярко бил в окно, освещая часть ночного дома. «Какой же ты худющий», — Марина лежала, свернувшись калачиком, и смотрела, как Олег задергивает шторы.
— Уже почти четыре часа.
— Мне пора?
— Да нет. До семи у нас есть время.
— А потом?
— Потом Машка проснется. Нам в садик. Вовка может прийти.
— Ясно.
— Не обижайся.
— Я не обижаюсь. Просто в лом так рано уходить.
Олег натянул футболку и пошел на кухню. Еще немного полежав в полном оцепенении от происшедшего, Марина пошла следом.
— Курить будешь? — прикуривая, спросил Олег, пламя зажигалки выхватило часть его впалой щеки.
— Не хочу. Олег, ну правда, не обижайся! Все так быстро и неожиданно. Надо все осмыслить. Машка… Вовка… — Марина прижалась к Олегу.
— Не понимаю, причем здесь Вовка твой? И что Машка?
— Ну, новый человек, то-се.
— Вот именно, то-се. Сама не знаешь, что придумать. Думаю, Вове досвидос.
— Ты молодец. Я видела, как ты усыпил мелкую. Ты хороший отец.
— Да я вообще красавчик! А что Вова с вами не живет?
— Не хочет. Да и я уже давно ничего не прошу от него.
— Ну так отправь его. Ты интересная такая! У вас нет никаких обязательств друг перед другом, а ты боишься, что он тебя застукает со мной. Ты что, не имеешь права на личную жизнь?
— Мы официально не обсуждали развод.
— А к чему тебе этот официоз? Есть новые отношения, так и до свиданья!
Марина помолчала.
— А что, у меня есть новые отношения?
— Марина! У тебя есть новые отношения. Они — это я! Я собираюсь перевезти сегодня свои вещи к тебе. Машка уж точно будет рада.
Марина сидела, задумавшись. «Ну, конечно, если Машка…»
— Что молчишь?
— Я думаю.
— О чем?
— О Вовке.
— И что?
— Надо как-то по-человечески с ним, сказать ему.
— Не можешь сама, я скажу.
— Я боюсь. Мне его жалко.
— Это после всего, что ты мне о нем рассказала? Ну ты даешь! Ладно. Я с твоим все улажу.
«Какой ужас. Вовка напьется и сойдет с ума».
— Как уладишь?
— Да не переживай ты так! Бить не буду. Ты же сама понимаешь, что между вами уже нет ничего давным-давно. Фикция, тянете резину. Надо рубануть уже разом!
Марина налила кофе. Она сидела на табуретке, обхватив поджатые ноги, и смотрела на Олега. «Он прав. Он абсолютно прав. Спокоен, уверен. Все за меня решил, и сам все сделает. Будь как будет. Надоел этот цирк шапито».
— Ну что? Чего молчишь?
— Хорошо. Что-нибудь придумаем. Я скажу ему, что у меня есть ты.
— Вот и умница.
— Ирку сегодня разорвет.
— В смысле? Какую?
— Да нашу, из магазина.
— А что с ней?
— Пока ничего. Она к тебе сегодня идет, дверь какую-то покупать.
— О как! Знаешь? Да, она хочет мою дверь купить.
— Да никакую дверь она не хочет! Тебя она хочет затащить в постель!
Марина расстроилась.
— У-у, девчонки! Да у вас поединок за красавца-холостяка! — Олег засмеялся.
Он подошел к Марине, встал на коленки и положил свои руки на ее.
— Ревнуешь?
— Вот еще…
— Не ревнуй. Я реально продаю дверь. И не она ко мне, а я к ней пойду замеры делать.
«Хрен редьки…» — Марина не утешилась. Олег посмотрел на нее. «Испуганная, уставшая от забот, взъерошенная девчонка. Очень милая. Что так притягивает к ней? Простая, веселая, совсем без пафоса. Привыкла довольствоваться тем, что имеет. Пальцы гнуть не будет. Не рано я вещи собрался переносить? Да нет, не рано. В самый раз. Это моя женщина».
— Мариша, обещаю. Только дверь! — Олег встал. — Все! Я пошел домой отсыпаться. Буду до обеда дрыхнуть. Гостя проводи?
Марина закрыла за Олегом дверь. Глаза слипались. «Еще есть три часа поспать. В садик не поведу, матери позвоню… Вовке сказать… Ирка с ума сойдет…» Натянув на нос уютное одеяло, Марина впервые за долгие месяцы крепко уснула.
Тамара Николаевна пришла к девяти. Заглянула в мусорное ведро, открыла дверки шкафчика над мойкой.
— У-у-у, понятно, опять бардашничала с кем-то. Ты посмотри, шампанского две бутылки, — она открыла дверцу холодильника, взяла початую бутылку водки. — И водку пили, ну собака!
Тамара Николаевна бормотала себе под нос, думая остаться не услышанной, она не заметила Марину с Машкой на руках, стоявшую в проходе.
— Мама, покормишь ее? Я на работу буду собираться.
— Да-да, миленька моя, иди, ты нам не нужна, — засуетилась Тамара Николаевна, пряча глаза. — А что, Володя вчера приходил?
— Да, Володя.
— А-а, ну и хорошо. Иди-иди, собирайся. Машенька моя, иди к бабе Томе.
Тамара Николаевна взяла внучку, посадила на высокий детский стульчик и повязала слюнявчик.
— Баба кашки принесла, ам-ам будем, а то маме некогда приготовить, у мамы дела, провались они пропадом,.. открывай ротик.
Маша послушно открывала рот за маму Мию, за папу Ову, за бабу Тёму, за деду Ваю. Невыспавшаяся Маринка, еле волоча ноги, как лунатик, бродила по комнатам, не понимая, что ищет.
— Ну, ты чё там еле шастаешь? Опоздаешь ведь! Спать ночью надо, а не бардашничать!
— Мама, не начинай, без тебя тошно.
— Да без меня все подохли бы давно, — беззлобно, в полной уверенности ответила мать, — во сколько сегодня придешь?
— Как обычно, не задержусь. Мам, мне надо, чтобы ты сегодня или завтра Машку с ночевкой взяла.
— Чё опять? Собрались куда?
— Нет, — Марина смотрела, как Тамара Николаевна нарочито тщательно, поджав губы, выскребывает из тарелки кашу. — Правда, нет, мам. Причина серьезная. Мне поговорить надо с Вовкой.
— Затеяли что?
— Ну не затеяли. Просто разговор серьезный. Возьмешь?
— Когда надо-то? Возьму, куда деваться. Скажи заранее только.
— Ладно. Спасибо, мам!
— Да ладно, иди уже.
Маринка шла по улице. Глаза слипались, в голове гудело. И ей было все равно, что на нее оборачивались люди. «Чудная девка какая-то! Идет, улыбается». Сердце билось часто-часто, дыхание захватывало, Марина не замечала противного ветра, кидающего в лицо холодные капельки дождя. У нее горели щеки и ладони, она чувствовала необычную горячую наполненность тела внутри себя, от головы до колен. «Господи, как все ярко вокруг!» Каждый удар сердца с силой толкал кровь, Марина физически чувствовала, как она бежит по венам, переполняя, как чашу, ее всю. Еще чуть-чуть — и расплескается счастье. «Необычное такое состояние — приглушенность мыслей, вялость и наполненность тела одновременно. Бывает так?»
— Ты что так сияешь, подружка? — Ирочка оторвалась от зеркала, обернувшись на вошедшую Маринку. — И без зонтика… под дождем.
— Просто настроение хорошее, — еле сдерживая себя, чтобы не рассказать все Иришке, ответила Марина.
— Я тебя что-то такой не видела раньше. Давай рассказывай! С кем ночку коротала?
— Да ни с кем! Просто. Все-про-сто-так!
— Не хочешь, не рассказывай, — попыталась обидеться Ирочка.
Время рабочего дня тянулось еле-еле. Марина каждые десять минут смотрела на часы. Должен прийти Олег. Заберет Ирку, и они пойдут к ней домой. Дверью заниматься. «Нет, я этого не вынесу! Какая дверь? Что за ерунда? Взрослые люди, не могли умнее придумать?» Марина накручивала себя, она не слышала покупателей, переспрашивая их, отвечала рассеянно, подавала не то, что просили. У Ирочки сегодня в отделе было много клиентов. «Слава богу, не надо с ней общаться». Маринка села на маленький стульчик и спряталась за прилавок.
— Мариша? Ты где? — голос Олега неожиданно накрыл ее сверху. — А-а, под прилавком валяешься, пьянчужка?
— Привет, — Марина сразу успокоилась, — от пьянчужки слышу. К Иришке своей?
— Вообще-то, к тебе. Ты помнишь, что я сегодня к тебе переезжаю?
— Я помню, что ты сегодня дверями торгуешь.
— Ну да, а потом к тебе.
— Товар будешь сдавать?
— Не буду. Ждешь?
— Приходи.
«Так вот все просто, что ли? Приходи…»
— О! Олежка, приветик! — Иришка зашла к Марине в отдел, — приходишь ко мне сегодня?
— Привет, Ириша! Да, к восьми не поздно будет?
«Он что, дверь с собой принесет? В кармане? Как косметический карандашик? Или под мышкой?» — Марина не совсем понимала, как будет происходить факт приема-передачи имущества.
— Давай, нормально. Буду ждать, — кокетливо промурлыкала Ирочка, не особо спеша к покупателю, тыкающему пальцем в витрину со словами: «Девушка, можно вас?» Наконец она отлепилась от Калугина и, оборачиваясь, пошла за прилавок, многообещающе улыбаясь.
— Олег…
— Марина, перестань. Все нормально.
— Ты к ней-то зачем идешь, если дверь у тебя дома?
— Я поеду к Ирке, замеряю проход, заберу ее и отвезу к себе. Там она посмотрит дверь, если понравится, мы ее сразу грузим и везем к ней.
— А сама она не может до тебя доехать?
— Да мне нетрудно ее забрать. И договаривались же. Ну ты ревнивая!
— Ладно, считай, поверила, — Маринка недовольно замолчала, — иди уже.
— Гонишь?
— Хочу, чтобы вся эта канитель с дверями закончилась уже. Что за двери-то?
— Входные, после ремонта у меня остались. Красивые. Показать?
— Спасибо, не надо. Оставим красоту для другой. Она поставит, схожу к ней полюбуюсь. Если пустит. Я ей ничего не сказала про нас. Она тебя сегодня клеить будет.
— Все, Мариша, до вечера! Я позвоню.
«Ну и пусть. Пусть едут! Как будет, так будет».
Иришка ждала конца рабочего дня, как на иголках.
— Маринка, все! Сегодня цап-царап! Слушай, я вспомнила, Олег говорил, у него девчонка какая-то есть, на Болотном живет. Он с ней около полугода встречается. Не знаешь, что за краля?
Сердце Маринки ухнуло и осталось еле трепыхаться где-то в районе почек. «Девчонка? А он сегодня с вещами придет… Ирка с дверью… мать с Машкой, разговор с Вовкой…».
— Не знаю. Нам закрываться пора. Я пошла. До завтра, — устало сказала Марина.
— Пока! Завтра расскажу!
— Угу, жду, в картинках.
По серым улочкам Марина брела под зонтиком домой, дрожа от холода и уныния. Ветер продувал насквозь, противный комок под солнечным сплетением не давал вздохнуть полной грудью.
Тамара Николаевна встретила дочь у порога. Она уже оделась и наводила ревизию в своих авоськах. Маша радостно обняла маму за шею и стала копошиться в ее сумке.
— Машуня, на, мама тебе сникерс принесла.
— Опять ведь покроется коростой от этой дряни! Не носи ты это говно!
Машка двумя ручками прижала шоколадку к груди.
— Моя, не гано.
— Твоя, твоя, дурауманет. Я пошла. Че, когда девку-то забирать?
— Скажу.
— Закрывайся, а то утащат все!
Марина закрыла дверь. Полвосьмого. Звонок.
— Алло?
— Привет! Я зайду сегодня, — радостный Вовкин голос окатил Маринку почти кладбищенским холодом.
«Только тебя сейчас и не хватало!»
— Нет, сегодня не зайдешь.
— Чего это?
— А то. Не зайдешь — и все. Дела у меня.
— Ну-ну. Хахаля ждешь?
— А не твое дело.
— Точно, хахаля! И кто он?
— Конь в пальто.
— Ты сегодня хамишь. Что-то сегодня у нас с тобой не то. Приду обязательно.
— Я не открою.
— Посмотрим.
Ту-ту-ту-ту-ту… «Посмотрим».
Очень хотелось спать. Она прилегла на диван, Машуня на полу пеленала пластмассового пупса. У Марины было ощущение, что она уже очень давно живет с Олегом, и сегодня он ушел по каким-то своим неотложным делам. А Вовка — просто какая-то нелепая помеха в их жизни. «Что происходит? Что? Калугин в моей жизни — сутки, Вовка — шесть лет, и после одной вчерашней ночи я готова забыть все ради сомнительной связи? Но ведь я ни в чем не сомневаюсь. И нет никакой связи, пока я не решу, чему быть в нашей с Машкой жизни и кому с нами быть. И что значит забыть все? Что, кроме Машкиной жизни, дал мне мужчина, которому я доверилась? Нелюбовь и от себя зависимость. Тогда что, вообще, я теряю? Ничего, просто рву давнюю болезненную связь, основанную на его хроническом эгоизме и одиночестве, патологическом ко всему и всем равнодушии».
Звонок в дверь прервал Маринкины размышления. «Олег? Рано, так быстро дверь с Иришкой обстряпали…»
— Привет! — Вова шагнул в квартиру, следом вплыл привычный легкий запах спиртного. — Как обещал. Одна?
— Пока одна.
— Ждешь ё… ря?
— Ты не мог бы уйти сейчас?
— Знаешь, не мог бы. Посмотреть хочу на твоего.
— Уверен?
— Абсолютно. Доча моя, здравствуй, девочка. Иди к папе!
Маша, улыбаясь, потянулась к отцу.
— Хорошая моя, давай я тебя на коленках покатаю! По кочкам, по кочкам, по маленьким кусточкам, в ямку — бух!
Малышка смеялась, проваливаясь между отцовских колен.
— Исё, исё!
— Вов, может, не будешь сегодня папашу включать? — Марина смотрела на них, и ее сердце сжималось от жалости к обоим.
— Ты беспечная эгоистка и лишаешь ребенка отца!
— Да ну? Ты сам ее лишил своего присутствия. Сегодня тебя сюда принесли исключительно твои мужские подозрения, а то, что Машка тебя ждет целыми днями, неделями, месяцами, тебе на это наплевать! Ты всю жизнь делаешь меня виноватой, непонятно в чем!
— Да нет, моя одалиска, просто ты чувствуешь, что косячишь. Нельзя чувствовать вину, не будучи виноватой. Так ведь?
«А что, если это так? Почему я всегда чувствую, что неправа? Но в чем же? В чем?! Марина, да все просто. Твоя вина в том, что ты живешь с человеком, которого не любишь. И он это чувствует. И его поступки оправданы знанием своей ненужности в твоей жизни. Поэтому он делает, что хочет. Вернее, что заблагорассудится. Он же знает, что тебе все равно, есть он или нет. Жизнь сложно проживается, но просто объясняется».
— Баранки гну, — Марина не знала, что отвечать Володе, как вести себя с ним. «Шесть лет мы с ним вместе, и сейчас надо принимать решение. Оно, в общем, принято. Разговор впереди такой трудный, дурацкий». — Вова, правда, приходи завтра. Я не могу сегодня решать с тобой никаких дел.
— Мариша, да нет же никаких дел. Я просто пришел, как обычно.
— Ты не понял? Сегодня не как обычно. Не как всегда, понимаешь? Давай завтра?
— А! Так значит, все-таки ё… рь!
— Да не матерись ты уже при Машке, придурок!
Вовка прошел на кухню. Марина достала из сумки сигареты и пошла следом. Он стоял у подоконника, сунув руки в карманы, и смотрел в окно. Как ночью Олег. На том же месте, но другой мужчина. Уже совсем чужой, посторонний. А тот, родной, свой, настоящий, пока не пришел. Он свободной красивой женщине в данную минуту дверь продает. «Как же достало все! Вся эта бессмыслица! Дверь, ночь, пупс в пеленках…». Марина прикурила, глубоко затянулась. Задержала дым и стала медленно выпускать его тонкой серой струйкой.
— Вова, если ты действительно хочешь дождаться вечерней встречи, оставайся. В самом деле, какая разница, сегодня все решить или бесконечно откладывать разговор? Ты же сам понимаешь, у нас нет семьи уже давно. Да и не было никогда. Так, сошлись по легкомыслию.
— И Машку по легкомыслию?
— Ты Машку не хотел. Вот не надо сейчас… Ты вообще детей не хотел, если помнишь. Я обманом забеременела. Так что не надо сейчас искать причин моей супружеской неверности, — Маринка двумя пальцами нарисовала в воздухе кавычки.
— Марина, я не хочу… — не оборачиваясь, вдруг тихо произнес Володя, — не надо, пожалуйста…
Сердце Маринки кричало, что она последняя сволочь. «Не хватало сейчас распустить сопли и вспомнить о долге перед ребенком и ее отцом! Держать себя в руках, не поддаваться! Это манипуляция! Господи, да где уже Олег? А вдруг не манипуляция? Вдруг, правда, любит? Да-а уж… хороша любовь…». Марина затушила окурок, открыла воду и подставила ладонь под дрожащую струю воды. Она смотрела, как несимметричным фонтанчиком вода стекала с ладошки, с шумом ударяясь о дно мойки из нержавейки.
— Вов…
— Да?
— Ты понимаешь, что поздно?
Молчит. Не ерничает, не ругается.
— Слышишь? Поздно. Не вернуть ничего. Да и возвращать нечего.
Молчит. Смотрит в окно. «Я его таким не видела ни разу. Тихим, пришибленным каким-то… Нет, не пришибленным. Сломленным. Я его сломала. Я сломала? Я?! Нет, это поразительно — всегда чувствовать вину…» Звонок. Плечи Володи чуть вздрогнули, он продолжал стоять не шелохнувшись. Марина с громко бухающим сердцем пошла открывать дверь. Она подошла к ней, медленно, глубоко вдохнула и на выдохе плавно повернула замок.
— Это я, Маришка! Я быстро?
— Привет, Олег. Ты вовремя. Ты всегда в моей жизни будешь вовремя… Проходи. Я не одна.
— Да? С кем?
— Володя пришел…
Марина мельком посмотрела на Олега. Сказанное ровным счетом ничего не изменило в его лице.
«Наглеет».
Он не спеша разулся, джинсовую куртку аккуратно повесил в прихожей, провел ладонью по ее рукавам, разравнивая несуществующие складки. Туда-сюда повертев головой, посмотрел на себя в зеркало, оправил усы и короткую бородку. «Волнуется», — Марина стояла, прислонившись к стене, Маша прижалась к маминой ноге, держа замотанного, как мумию, пупса вниз головой.
— Привет, Машуля! — Олег потрепал девочку по мягким белым волосам. — Ну, Мариша, ужином накормишь?
— Олег…
— Накормишь? — перебил Калугин.
— Да… проходи в кухню. Или… иди пока в зал, я разогрею.
Олег взял Машу на руки, они прошли в гостиную.
— Володя… там Олег, — вернувшись на кухню, сказала Марина Володиной спине.
— Я слышал, не глухой. Марина, я не уйду, — не поворачивая головы, ответила его спина.
— Вова, это бессмысленно. Бессмысленно, понимаешь?
— Посмотрим, — Володя отошел от окна и сел за стол.
— А меня накормишь? Или все? — защищаясь, Володя начал снова ёрничать.
— Не кривляйся. Не время, хотя… сейчас самое время. Сплошная клоунада.
Марина почистила вареные яйца, заправила их майонезом и нарезала химической колбасы «Турист». Слила воду из кастрюльки с вареной картошкой, высыпала варево в глубокую тарелку, посыпав его сухим укропом и добавив туда щедрый кусок сливочного масла. Со вчерашнего ужина осталось два жареных окорочка. Марина срезала с них мясо, обжарила его с луком, заправила сметаной, на все про все потратив пятнадцать минут. Все участники предстоящей разборки все эти длинные минуты молчали, как рыба об лед. Даже из гостиной не было слышно ни звука. «Интересно, что думает Олег?» — Марина машинально расставляла на столе посуду — три тарелки, три стопки, три стакана. Медленно нарезала хлеб. «Так, еще вилки и морс. Теперь все».
— Олег, ужин готов. Пойдем на кухню. Маша, кушать будешь?
— Не, мама, пипить.
— Пить? Сейчас принесу. Олег, идешь?
— Да-да, иду. Машка, я ням-ням, пойдем со мной?
— Олег, не зови ее, пока сама не захочет.
Марина с Олегом вошли в кухню. За столом сидел Вова, надевший веселую гримасу беспечности.
— Здравствуйте, молодой человек! Вы кем у нас будете?
— У вас не буду никем. Марине близкий друг. Здравствуй, Вова.
— А-а, бли-изкий! И я близкий! Марина, а кто тебе ближе?
— Володя, — Олег сел за стол и стал по-хозяйски накладывать себе еду в тарелку, — тебе что положить? Колбаски или курочки?
— Колбаски, пожалуйста. Вас как величать? Меня, смотрю, вы знаете, а я вот пока не удостоился чести знать ваше имя, хотя лицо мне ваше знакомо.
— Меня зовут Олег. Олег Калугин. Мы с тобой встречались мельком у Аллочки, помнишь?
— Не помню. Хотя, может, и встречались. У меня память плохая, в детстве травма головы была.
«Чего он несет? Какая травма? Хотя — точно. У него шрам выше лба. Сказал, в хоккей играл, от клюшки», — Марина стояла у окна, вспоминая, как трепала его густые волнистые волосы, когда в первый раз пришла к нему ночью домой, совсем давно, после их первой встречи в ресторане.
— Я скажу тебе сразу, — Калугин закинул в рот кружок колбасы, — я хочу жить с этой женщиной, и эта женщина сказала, что она не против. Да, Мариша?
Марина не ответила. Она смотрела в окно, опершись на кухонную тумбу, и чувствовала спиной, как пытаются начать бодание за нее двое мужчин из ее жизни.
— Тебе положить? Кушать будешь? — обернулся Олег.
— Нет пока, я сама положу.
Марина достала из холодильника бутылку водки. На покрытом инеем стекле ее ладонь оставила теплые отпечатки.
— Посмотри, какая красавица! — воскликнул Володя, глядя на Марину.
— Да, согласен с тобой. Маришка красавица.
— Да нет, я про водку! Смотри, подлюка, как запотела!
— Да-а, Вова, тяжелый случай…
— Олег, я привыкла, не обращай внимания, у Вовки все шутки такие.
— А что, ребятки? Вам мои шутки не нравятся?
— Володя, я предлагаю тебе сначала мирно поужинать. Пока мы выпиваем-закусываем, я тебе объясню свою позицию и весь расклад ситуации. Я думаю, ты не против, — Олег наколол вилкой еще кружок колбаски.
— Конечно, мой господин! Слушаю и повинуюсь! — Володя сидел, втянув голову в поднятые плечи. Зажав между колен ладони, он нервно раскачивался взад-вперед. Он пытался улыбаться, но нервная судорога совсем не была похожа на непринужденную улыбку.
— Вова, перестань, — Марина начала раздражаться. Она разлила водку по стопкам.
— Ну, за здоровье молодых! — Вова быстро закинул в себя водку, занюхал хлебом. — Повтори, родная моя! — он протянул стопку Марине.
Марина налила.
— Ну, совет да любовь! — вторая стопка горячей жидкости разлилась в Вовкином желудке. — Олег, а что же вы не пьете? Брезгуете?
— Да нет, Вова. Твое здоровье! — Калугин медленно влил в рот ледяную водку.
— Хороша? А? — брови Лукьяненко, взлетев, задрожали в попытке натужной улыбки.
— Ты о водке?
— Я об них обеих.
«Все, сейчас начнется», — Марина приготовилась к худшему.
— Тебе когда Машку усыплять? — Олег повернулся к Марине.
— А что? Пока рано, пусть поиграет.
— Мариша, пойди к ней, вместе поиграйте.
Марина выдохнула, опрокинула полную стопку чуть нагретой в руках живительной влаги, занюхала шелковым рукавом халата, налила стакан морса и молча пошла в зал. «Достало все. Кто выиграет, того я и приз», — мелькнуло в голове.
— Поговорим? — Калугин налил еще стопку себе и Володе. Он не знал, с чего начать разговор. Хотя он был уже начат. Главное, Олег сказал, что он хочет — он будет жить здесь.
— Говори. Слушаю тебя внимательно, — улыбка резко исчезла с Володиного лица.
— Семьи у вас нет. Отношений нет, нет и никаких чувств.
— Это тебе бабушка-еврейка сказала?
— Бабушка у меня, действительно, еврейка. Ты наблюдателен. Но это мне Марина сказала. Она не любит тебя. Она достойна большего.
— А тебе не кажется, что это не твое дело?
— Уже мое, Вова. Уже мое.
— А ты, видимо, уже и размер большего определил, а? Тебе-то как знать, чего она достойна, чего нет? Ты же на все готовое пришел, на халяву! Раскусил уже, что Маринка в своей не существующей в мире доброте абсолютно безотказна?!
— Да? Может, это ты мне «все готовое» приготовил? Что ты вообще ей дал кроме дочери, горя и слез?
— О как! Пожаловалась?! Высокопарно излагаешь, парниша!
— Володя, Северогорск — городишко маленький, тебе ли не знать. Крутимся в одних кругах, и кружочки эти то там, то сям пересекаются.
— Ну, видать, ее подруженьки тебе донесли про наше с ней горе. А ты, такой крутой, пришел тучи разогнать руками да горе-беду от чужой бабы отвести, да? Такой интеллигентный и правильный весь. Поспишь с ней пару месяцев и свалишь от чужого ребенка, не впечатляй меня только, что будешь Машку, как родную, любить!
— Я тебя не собираюсь впечатлять. Я тебе обрисовываю, так сказать, сюжет. А Машку воспитаю и на ноги ее поставлю. Ты с ней пожил шесть лет, теперь я поживу. Ну, маханем? — Олег протянул стопку Володе — чокнуться.
— Ишь как! Да ты циник. Поглядим еще, кто кого куда поставит. Твое здоровье! — Володя выпил, не чокаясь.
— А кто кого любить будет, тут правда твоя, Вова, время покажет.
Олег сидел, не притрагиваясь к еде. Водка не цепляла. «Неприятный разговор, — Калугин думал о Марине, — неужели он не понимает? На что надеется? Ушел бы сам, без этих никому не нужных понтов. Все равно уже им ничего не склеить, так еще и унижение сидит терпит. Странный малый. Совсем нет чувства достоинства». Олег разлил остаток водки, нацепил на вилку притопленный в салатном соке хлеб и махом выпил. «Реально, водяра безалкогольная».
— Вова, тебе пора, — Калугин взял гитару, он не собирался играть теперь, но ему нужно было чем-то помимо стопки занять руки.
— Я сам знаю, когда мне пора. Слушай, а ты знаешь, что все возвращается?
— В смысле?
— В прямом. Все возвращается тебе со временем. Сегодня ты мне вот так, а потом когда-нибудь сам окажешься в дураках.
— Я в дураках не окажусь, я ситуацию всегда контролирую.
— Каков фрукт! Все под контролем, значит? И чувства?
— Чувства — в первую очередь.
— Ну и где тогда твоя любовь? Любовь через ОТК?
— А я тебе о любви не говорил. Ты что, слышал, что я сказал «люблю»?
— Э-э, парень, да ты не простак! Так я и думал. Другой интерес у тебя здесь, жаль мне Маринку.
— Ты бы ее раньше жалел. Сидишь сейчас, строишь знатока человеческих душ. Философа включил. А в жизни все просто. Просто все, Вова! Простак, не простак. Есть женщина, твоя женщина! — так люби ее, береги, цени, дари цветы! Гуляй с ее ребенком, посуду ей мой. Отвези ее в отпуск. Вы когда вместе отдыхали?
— Шесть лет назад…
— Молодец! Когда она от любви задыхалась, а не от слез? Когда тебе носом в плечо утыкалась, засыпая? Ты кофе ей варил утром хоть раз? Ты пальцы ей целовал?
— Почему пальцы? — Вова растерялся.
— А почему не пальцы? — Олег все больше заводился. — Что для тебя, вообще, любовь? Перепихон ночью под одеялом? «Мариша, что у нас пожрать сегодня?»
— Нет, почему… — Вовка растерялся и окончательно сник. Он не знал, что для него такое любовь. Он думал, любовь — это чтобы всегда было просто тепло. А сейчас ему холодно.
«Похоже, я в точку, — Калугин злорадствовал, — сам напросился, дуэлянт хренов».
— Я люблю их, Олег. Я ей пальцы не варил и кофе не целовал, э-э, ну, то есть, наоборот, ну… это… у меня внутри горит все, я понимаю, что конец… я умру без них, подохну, как бездомный пес…
— Не надо пафоса, не сдохнешь.
— А ты жестокий. Ты не сможешь ее любить.
— А ты добрый. И смог. Но вот как-то по-своему смог, по-особому. Так, что всю душу из нее вынул. Горит у него… А у нее не горит?! Все эти годы, что вы вместе? Не горит?! Слушай, тебе реально пора. Не отрезай хвост по частям. Сейчас тебе надо встать, выйти из дома и… и навсегда. Не появляйся здесь. Ей надо забыть тебя, как кошмарный сон. На вот тебе, на посошок, — Олег откупорил вторую бутылку и налил Володе водки в стакан.
Марина давно уложила дочку и, застыв, тихонько стояла в коридоре, слушая мужской разговор. По ее щекам текли горячие слезы. Сначала необычное чувство пощекотало ей где-то в животе, ее женское самолюбие. Два орла, два красавца — кто кого — за нее бьются. Но это чувство быстро исчезло, и пришли отчаяние и страх. Зачем все это? Зачем она позволила им встретиться? Почему сама все не решила? Марина смотрела на Вовкин профиль, его безвольный рот, на стакан водки, который он грел в ладонях, принимая слова Олега как пощечины. Вот ее мужчины, возможно, бывший и, возможно, будущий. Ей было безумно жаль Володю, к Олегу она не испытывала ничего, кроме непонятного чувства неприязни, которое родилось из-за его неожиданно наглого, как ей казалось, отношения к ситуации. Было ощущение, что посторонний человек пришел в давно обжитый, такой родной, просто немного неприбранный, дом и, не снимая
обуви, стал ходить по чужим ему комнатам, заглядывая в каждый шкафчик. «Как странно. Я ведь не люблю Олега… И зачем позволяю ему унижать Машкиного отца? И Вовку не люблю. Тогда почему его так жаль? Вечная бабья жалость, тебя по морде, а ты — за его сапоги: прости, родной!»
— А-а, Мариша, ты подслушиваешь? — Калугин отвернулся от Володи. — Иди-ка к нам! Давай выпьем.
— Не подслушиваю. Машку укладывала.
— Поешь, лапа, ты совсем ничего не ела.
Марина села за стол. Какое-то время они сидели втроем и молчали. Володя встал и пошел в коридор.
— Ты куда? — спросила Маринка.
— Домой. К маме. А что? Мне сказали, что мне пора.
Марина сидела, опустив голову. Слезы лились не переставая.
— Вов…
— Марина, не начинай. Отпусти его, — Олег положил ладонь на ее руку.
— Олег…
— Марина, все! Что за мазохизм?
— Да, Марина, не начинай, — Володя медленно обувался. — Я хочу поцеловать дочь на прощание.
— Она спит, разбудишь… — тихо ответила Марина.
— Вова, слушай, кончай спектакль! На какое прощание! Завтра придешь и целуй дочь, сколько хочешь. Прекрати Маринку травить, не видишь, что ли, ни хрена? — Калугин встал в проеме кухонной двери.
Маринка завыла в голос. Она сидела, положив голову на сложенные на столе руки. У нее началась настоящая истерика. Олег выскочил в коридор и близко подошел к Володе.
— Дождался? Три секунды тебе!
— Олег! Не тронь его! Убирайтесь оба! Володя, подожди!.. — Марина побежала в коридор, Олег преградил ей путь.
— Отойди, — Марина попыталась оттеснить Олега. Он не двинулся с места.
— Марина, пожалуйста, успокойся, он уходит. Да уйдешь уже ты, в конце концов, или нет?!
Они стояли лицом к лицу, Володя и Олег. Марина вцепилась в руку Калугина и смотрела на Вовку. Она плакала, ей было жаль его, жаль себя и Машку, вместе с ним навсегда уходила их любовь, которой не было. Она физически чувствовала, как что-то обрывается внутри.
— Лукьяненко, что ты наделал? Гад! От тебя одна боль! Убирайтесь оба! О-оба-а! Олег, пусти меня! Да пусти же!
— Не пущу!
Олег крепко держал вырывающуюся Маринку.
Вовчик открыл дверь, сделал шаг за порог.
— Вовка, подожди! Подожди! — Марина рвалась к нему.
— Да иди ты уже! — кричал Олег, сдерживая вырывающуюся Маринку.
Лукьяненко медленно сделал второй шаг, третий и начал быстро спускаться по лестнице. С нижнего этажа до Марины донеслось истеричное, нарочито беспечное, отчаянное Вовкино:
— Целую ваши деньги!
Марина затихла, слушая его удаляющиеся шаги. Олег отпустил ее. Она стояла у открытой двери, опершись о косяк, кусая губы.
— Пошли в дом, — Олег мягко обнял ее за плечи, — все, лапочка, все, не надо. Завтра ты осознаешь все, и станет легче.
— Ты откуда знаешь? — еле прошептала Марина.
— Знаю, — так же тихо ответил он. — Я знаю, — твердо повторил Олег.
Марина закрыла дверь и прошла на кухню. Налила полстакана водки и выпила залпом.
— Э, э, девочка! Давай-ка будем закусывать! — Олег отрезал колбасы и сделал бутерброд. — Ешь! Жуй, кому говорят!
Марина автоматически жевала, прислушиваясь к горячо разливающейся в желудке волне. Хмель ударил в голову, и внутреннее напряжение постепенно исчезало, ноги обмякли, все мысли улетучились. «Как легко! Хорошо как и просто стало. И совсем даже водка не зло. Во всяком случае, дешевле американских психологов. А причем здесь психологи? И вообще, зачем они нужны? Тем более, американские…»
— Олег, налей мне еще.
— Может, не надо?
— Ой, слушай, давай сам «не надо». И перестань меня опекать.
— Я только начал. Болеть ведь завтра будешь.
— Завтра и полечусь.
Олег не отходил от нее весь вечер. Она то плакала, то смеялась, вспоминая что-то, потом затихала надолго, то вдруг начинала рыдать, куря сигареты одну за другой. Олег немного побренчал на гитаре. Уложив свою внезапную, бесчувственную женщину, он убрал со стола, проветрил кухню и вымыл посуду. Потом он долго курил у окна, не думая ни о чем, как должное принимая все происходящее с ним. Марина в розовом, с синими пионами, шелковом халатике лежала рядом с Машкой, свернувшись калачиком и поджав колени к подбородку. «Поза эмбриона. Ищет защиты». Олег, замерев, стоял и смотрел на невесть откуда свалившихся на него женщин. «Странно, теперь это мои девочки… А раз мои, значит, больше ничьи».
***
Утром Марина не смогла встать. Голова разрывалась от жуткой боли. Запах вареного кофе вплыл в комнату.
— Я тебе кофе сварил. Доброе утро, лапушка!
— О-ой, нет, Олег. Только не кофе, не сейчас. Плохо как… Принеси тазик, меня сейчас вырвет…
— Я уже принес, еще с вечера. У кровати стоит.
Марина резко склонилась к полу. Калугин тихонько вернулся на кухню. Он достал из холодильника водку и налил стопочку. Приготовил кефир и еще, на всякий случай, пива. Ну что-то же из всего этого изобилия Мариша выберет. Вернувшись в спальню, Олег увидел безликую, совершенно никакую Маринку. Бледная, с черными кругами под глазами, пересохшими губами, она лежала, натянув одеяло на нос.
— Я страшная, не смотри на меня.
— Не смотрю. Я тебе попить принес, что будешь?
— Воду. Не могу ничего.
— Мариша, по правилам, надо немного водки выпить.
— Это опохмел. Я никогда не похмеляюсь.
— А зря. Организму легче будет. Послушай бывалого.
— Олежа, не могу, правда.
— Надо через силу. Ну, давай!
— Давай кефира, что ли…
Марина сделала несколько глотков.
— Маша спит еще?
— Да, спит. Я Милке позвонил, сказал, что ты не выйдешь сегодня.
— А что ты сказал, почему не выйду?
— Правду сказал, что набухАлась вчера.
— Бли-ин, зачем? Стыдоба…
— Нормуль, она не удивилась, баба ушлая, спросила, не вмести ли пили, раз я звоню.
— И что ты сказал?
— Правду сказал. Что вместе.
— А она?
— Сказала: ну вы даете.
— А ты?
— Поржали малость, то-се. Да нормально все, что ты как маленькая?
— Бли-ин… Раз Милка знает, значит, и Славик, и Ирочка твоя.
— Да тебе-то что? Знают, и ладно. Слушай, я за своими шмотками сгоняю, полежишь одна? Я быстро!
— Ладно, давай. Только недолго, а то Машка проснется, а я даже накормить ее не смогу.
— Хорошо! Я пошел. Я мигом!
Кефир пошел следом за вчерашними закусками. Маринку полоскало беспрерывно. После каждого приступа она через силу пила простую воду и думала о том, что ее новая жизнь началась с тяжелого похмелья. «Надо курить бросать, как кошки во рту ночевали…» При воспоминаниях о сигарете Марину снова начало рвать. Дочка проснулась часам к одиннадцати, когда Марина уже могла более-менее дойти до кухни.
— Мама болить?
— Да, Машуня, мама болеет, головка бо-бо.
Марина сварила кашу, стараясь не вдыхать запах приготовленной еды. Ее мутило. Олег пришел к обеду.
— Что так долго?
— Скучала?
— Тяжко. И мать не вызвать. Убьет, если увидит меня такой и мужика чужого.
— Не надо вызывать никого, справимся. Я на Болотный ездил.
Марина промолчала.
— Слышишь?
— Слышу, не глухая. Мне спросить, зачем?
— Я с Татьяной объяснялся. Сказал, что мы расстаемся и что у меня другая женщина.
— Ты смелый. А она?
— Она плакала.
— Как вчера Вовчик…
— Так, все! Забыли! Танчики, Вовчики! Все! Я рассол принес, на, пей!
Марина с жадностью выпила стакан капустного рассола.
— Может, пивка?
— Не-ет… я завязала…
Олег рассмеялся.
— Надолго?
— Думаю, до завтра.
Но уже на вечерней трапезе золотилось холодное пиво и серебрилась ледяная водочка.
Родители Марины узнали об Олеге через неделю. Иван Иванович к Володе не относился никак, Тамарочка же любила его и жалела, считая, что с бабой ему не повезло.
— Вот растыка! Взять Вовку выгнать! Это ж какая дура-то!
— Мать, не паникуй, ты же не знаешь, как там у них все.
— Да как же не знаю! Ты, дурак старый, не лезь, раз не понимаешь! Она во всем виновата, твоя порода, бардашная! Такого парня выгнать! Умный, красивый, мать порядошна!
— Так пил же он.
— И что? Ты будто не пил! Я же терплю!
— Ты же нового не знаешь, не видела, а говоришь. Давай поглядим, познакомимся, потом будем выводы делать.
— Да на хера мне на него смотреть! Не отрез ситца. Кобель очередной!
— Тамара, ты не права.
— Ты зато всегда прав.
Олега приняли прохладно. Серьезным выбором не считали.
— Слушай, мать, на расп… дяя похож Маринкин хахаль. Патлатый, серьга в ухе, штаны широкие, раздолбай какой-то!
— Ха! А что я тебе говорила! Я еще не видела, а сразу сказала: кобель!
— Несерьезный он какой-то, разгильдяй. Работы нормальной нет, какими-то баночками торгует.
— А че им! Водку-то жрать серьезность не нужна. Ой, беда-а, бедный ребенок! Надо Машку утаскивать из этого притона!
— Тамара, ну почему сразу притона?
— А потому! Угробят ребенка! Пожар своим куревом сделают! Сами пусть дохнут, а девку не дам из нее урода делать!
— Тамара…
— Не дам, сказала!..
Олег запретил без особой нужды отдавать девочку бабке с дедом, и это просто выводило стариков из себя. Сопляк! Без году неделя в семье, а уже права качает. Зато Машка была просто счастлива — всегда вместе с мамой и Олегом, во всех тусовках!
— Марина, слушай, а что у тебя мать такая? Вечно недовольна всем, ты плохая, я плохой, отец плохой, на Лильку орет постоянно. Почему у вас так?
— Да вот так. Я с родителями до двадцати лет прожила и дернула побыстрей замуж. Нормально общаться можем от силы минут пятнадцать в день. Но она же мать моя все-таки. Какая есть. Так-то она добрая, просто шебутная, и нервы горем убиты. Жалко ее, — Марина вспомнила детсадишное время, когда они еще любили друг друга, целовались, миловались, засыпали в обнимку. Она смахнула слезинку. — Слушай, Калугин! Мы с тобой уже полгода вместе, а я родителей твоих так и не видела до сих пор.
— А что, есть желание познакомиться?
— Да не особо. Просто живем вместе, а меня они не знают. Они, вообще, спрашивают обо мне? С кем ты живешь, как?
— Моя мама меня спросила: сынок, тебе хорошо? Я ответил: да, мама, мне хорошо. Мамуля порадовалась: ну и хорошо, что тебе хорошо.
— Содержательно.
— Моя мама — мудрая еврейская женщина.
— Ясно. Ты у меня, значит, по маме еврей. А отец?
— А отец русский пьяница.
— Не пара.
— Ага. У меня по отцовской линии все бухают. И дядьки, и брат его.
— И ты.
— Не, я не бухаю. Я культурно расслабляюсь.
***
На Пасху мама Олега, по паспорту Лариса Эдуардовна Калугина, а по рождению Флора Эдуардовна Квитковски, женщина из старого рода польских евреев, за чашкой хорошего листового чая с домашним ароматным кексом поведала Марине, как она жила до рождения Олежки. Как ее семья выживала в оккупированном немцами Таганроге, как мать учила ее не называть свое настоящее имя, как заставляла прятать под белый платок непослушные длинные черные кудри. Флора помнила, как совсем юный немец каждый день приносил ей, шестилетней девочке, диковинные конфеты, угощал хлебом и сгущенкой. Она совсем не помнила детского страха. Но ее учили бояться немецкого плена, чтобы не увезли в Германию. После войны часть Флориных родственников осталась в Таганроге, часть перебралась в Польшу, звали и ее. Но Флора встретила большую любовь — папу Олега и не поехала за границу. Она поехала за мужем на Север, в маленький город Северогорск, где и родился их единственный сын Олежка. Когда Флора познакомилась со Славиком, статным худощавым красавцем с мужественным подбородком, светлыми вьющимися русыми волосами и с голубыми смеющимися глазами, она забыла обо всем на свете. Олег был похож на обоих родителей. От мамы он взял легкие кудряшки, глубоко посаженные глаза и прямой, культурный, так сказать, римский нос, от отца — стройную фигуру и четкий благородный полногубый рот. Рассматривая семейный архив, Марина обратила внимание на выгоревшую старую фотографию красивой молодой женщины в платье с кринолином, с волосами, прибранными в высокую прическу. Спокойное лицо, ухоженные руки, пара ниток жемчуга на шее. Стать и достоинство. Звали ее Агата Квитковски, это была бабушка Флоры. Они были очень похожи. Флора хранила эту единственно сохранившуюся старинную фотографию с особым трепетом. Она была малым доказательством причастности Флоры к дворянскому роду, что с годами все больше грело родовое самолюбие Ларисы Эдуардовны. Марина так и не смогла понять, что могло связать таких разных людей, польскую аристократку и босяка из пролетарской семьи.
— Лариса Викторовна, почему вы не уехали к своим, в Польшу?
— А кому я там была нужна? А Славка? Он и слышать не хотел о переезде. Вся его родня в Таганроге. Там, говорит, и подохну.
Прожив вместе сорок лет, они не сохранили любовь. Флора жила домашними хлопотами, вечерами ждала спивающегося Славку, который потерял не только свою любовь, но и былую стать, набрав излишек веса. Он сильно поседел, обрюзг, от многолетнего курения приобрел хронический бронхит, а от водки его лицо с возрастом становилось все более красным из-за сосудистой сеточки на носу, щеках и подбородке. Флора-Лариса ворчала, но терпела.
— Надо было уезжать. И Славку силой забирать, — сокрушалась она, сама не веря своим словам, — но тогда бы все сложилось по-другому. Олежек бы наш не родился.
— Ну, родился бы кто другой.
— Другой. Но не мой Олежек.
Марина видела, насколько была сильна взаимная привязанность матери и сына — настолько же слабы были ниточки между Тамарой Николаевной и Маринкой. Олег каждый день бывал у родителей, Флора кормила его голубцами, борщиком, куриными ножками с пюре.
— Кушай, сыначка, — акала, доставая из духовки обвязанные швейными черными нитками голубцы, Флора, — вкуснее мамы никто не накормит.
Олег молчал, чтобы не врать и не расстраивать мать. У мамы было все вкусно, но его Маринка готовила — пальчики оближешь!
Когда Марина приходила столоваться к свекрови, после трапезы она всегда просматривала семейный фотоархив и видела, как же Флора ревнует своего сыночку к многочисленным пассиям! И как умеет контролировать свои эмоции! Одним словом, порода, дворянские гены. Никогда — ни словом ни полсловом — плохо о бывшей Светке или Олежкиных девицах школьной юности и юной зрелости, чьи многочисленные затейливые фотографии Марине довелось увидеть в домашней фотокопилке. Выбор сына надо уважать. Все сдержанно, вежливо и культурно. Даже крепкое словцо в ее исполнении звучало вполне пристойно.
— Отправила Славку в магазин на днях. Купить грудинки на щи. Принес сало. Слава, спрашиваю, кто тебе продал это говно? Лорочка, мне сказали, это грудинка. Нет, Слава, тебе продали говно. Я собиралась худеть, а ты мне — сало.
После сорока пяти Флора поправилась. С пятидесяти семи до семидесяти пяти. Она очень переживала по этому поводу и сидела на бесконечных диетах, но не могла удержаться, чтобы не скушать кусочка тортика или пирога, испеченного для своих мужчин. Она голодала, нервничала, скидывая всего по два килограмма за месяц, срывалась, наедалась, опять нервничала, пила кефир и зеленый чай, отказывалась от мучного и сладкого, потом пекла на выходных кекс и опять срывалась.
— Господи, помоги мне сбросить вес! Я выгляжу как старая корова!
И Господь помог. Флора заболела, когда ей было пятьдесят восемь. Она так обрадовалась тому, что у нее пропал аппетит! Но легкость сменила слабость, а радость уступила страху, что у нее рак. Хождение по врачам в течение полугода ни к чему не привело. Доктор лечил ее иголками и качал головой: «А що вы хотите? Все болезни таки от негвов, у вашей мамы типический невгоз». В итоге большие деньги были потеряны, время упущено, а правильный диагноз поставили только спустя восемь месяцев. Ее почти год лечили от несуществующего невроза, и у Флоры отказали почки.
— Марина, мать направили на гемодиализ.
— Это что?
— Это аппарат искусственной почки. У нее отказали обе. Врачи дают лет семь от силы.
— Ужас… и что теперь?
Олег возил мать в больницу через день в течение шести лет. Флора весила уже пятьдесят, ее все время тошнило, она очень мало ела и мало пила. Ее смуглая ровная кожа пожелтела и высохла, глаза еще больше запали, щеки ввалились, и Марина подумала, что Флора стала похожа на хищную птицу с большим клювом. Она перестала обращать внимание на свою внешность и то, как одета. Олег выводил мать под руки из подъезда, она медленно, вразвалочку для устойчивости из-за слабости в коленях выходила, одетая в домашний халат, из-под которого виднелись вытянувшиеся на коленках, вылинявшие широкие хлопчатобумажные спортивные штаны. Лариса носила стоптанные тапки или ботинки «прощай, молодость», на шее — платок, сверху накидывала старую, затертую на сгибах, черную кожаную длинную куртку, которая висела на исхудавшей и измученной женщине, как на палке.
В кабинете гемодиализа Флоре становилось легче. Она познакомилась там с молодым мужчиной, уже три года жившем на аппарате, и девушкой лет двадцати шести, попавшей сюда после родов.
— Сы начка, ты представляешь, ее бросил муж, когда она заболела! У ее трехлетнего сынишки нет никого, кроме мамы. Это ужасно, сынок. Его определят в интернат после ее смерти.
— Мама, почему сразу смерти? Она поправится, все будет хорошо.
— Сынок, ты же знаешь все. Счет идет на месяцы. А у кого и на дни.
— Мама, не надо…
После изнурительной процедуры каждый раз Флора садилась на переднее сиденье в машину Олега, доставала карамельку, чтобы не тошнило, и они ехали с небольшой скоростью, так маме было легче переносить дорогу.
После посещений больницы Калугин долго не мог прийти в себя. Он часто звонил родителям, Флора забывала о болезни, когда она, не торопясь, обо всем помаленьку беседовала с сыном. Рассказывала, что кушала, что показывали по телевизору, жаловалась на Славку.
Отец сильно запил, не так давно, месяца три назад, похоронив свою мать Клавдию, бабушку Олега, которая умерла в хосписе в возрасте девяноста двух лет. Клавдия уходила абсолютно здоровой, в полной ясности ума, и от этого ей было намного тяжелее, так как она осознавала кошмар всего происходящего с ней в последние дни ее долгой жизни. Она умирала среди безнадежно больных, таких же одиноких, как она сама, при живых двух сыновьях и трех внуках. Оба сына пили, Колян по-черному, а Славка не терял человеческий облик, всегда чисто одевался и часами не вылезал из ванной, чего не скажешь о его старшем брате. Колян постепенно превращался в ничто. Ему ничего не было интересно в жизни, кроме выпивки. У Клавдии была старенькая маленькая двушка-хрущевка, которую Николай пас, пока там жила мать. Он не ухаживал за матерью, не готовил ей, а просто приходил туда пить. Она его любила и все терпела. Сыновья навещали Клавдию каждый день, и почти каждый раз пили вместе. Клавдия лежала не шевелясь, прислушиваясь к кухонной перебранке сыновей.
— Ты, Славка, хату эту не получишь, понял?
— Ты тоже рот на нее не разевай. Мать сама знает, кому ее отписать.
— Я мать уговорю, понял?
— Давай уговори. Попробуй.
— Надо ее в дом престарелых определить. Понял? Там ей лучше будет.
— Не надо, пусть дома помирает. Встает сама, чай может налить. Еду я приношу.
— Обхаживаешь? Не надейся! Понял?
— Колян, ты дурак совсем. Мать ведь она нам! Причем здесь обхаживаешь? У меня вон Лорка тоже совсем больная, помрет не сегодня-завтра. Олег ее возит по врачам каждый день. Не хватает сил, руки опускаются. Сам болею, задыхаюсь. Не могу больше. А выпью — вот и легче.
— Ну давай! За их здоровье! Понял?
— Да что ты заладил? Понял да понял… в штаны нафонял!..
Клавдия лежала и тихо плакала. Она не болела, а просто тихонько угасала. Вспоминала свою жизнь. Видать, заслужила то, что имела. Бурная молодость, гулянки, череда мужчин и сомнительные подруги. А маленькие сыночки были сами по себе. Вот и сейчас она сама по себе, а сыночки ее там, на кухне, сами по себе…
Колян тайком оформил мать в хоспис.
— Мужчина, а вы кто Клавдии Ивановне будете? — спросил принимающий их доктор.
— Сын я ей.
— Николай Сергеевич, я осмотрел вашу мать. У нее на теле множественные гематомы: на руках, на спине, на лице. Откуда они, пояснить можете?
— Упала она, — буркнул Колян. Не будет же он говорить, что избил мать. Не дай бог, дело заведут из-за умирающей старухи, — а она что сказала?
— Упала, говорите? Ну-ну. Она ничего не сказала. Молчит она. Молчит и плачет. Идите оформляйтесь. Сынок.
Доктор старался не встречаться глазами с посетителем. Он сжимал кулаки, сожалея, что находится при исполнении. Так и хоронили через месяц Клавдию в синяках. Славка стоял у гроба, бил себя кулаком в грудь и рыдал.
— Мамочка моя, мама! Прости ты меня, дурака, мамочка-а!..
Колян тоже приехал на кладбище. Он наблюдал за похоронами со стороны, высокий, худой, сутулый мужчина, периодически прикладывающийся к двухлитровой пластиковой бутылке пива. Стоял и издали смотрел, как на белых полотенцах опускали гроб. К матери он так и не подошел, не простился, не поцеловал, не кинул землицы в могилу.
Квартира по завещанию досталась Славке. Узнав об этом, Николай перестал общаться с братом. Славка сделал в квартире простенький ремонт и стал в ней жить. Флора осталась одна, Олег приходил к матери каждый день. Иногда забегал к отцу. Так было всем легче и спокойней. Слава мог пить, не боясь запретов, Флора не видела всего этого кошмара, доживая отпущенные ей дни.
Марина видела, как переживает Олег. Сколько они уже вместе? Почти десять лет…
***
Когда ушел Володя, Марине стало настолько легко, что она думала, а был ли он вообще в ее жизни? Сумасшедшая жизнь в доме родителей, тирания первого мужа, изматывающая неясность отношений с Машкиным отцом превратили Маринкины нервы в лохмотья. Спокойствие и терпение Олега накрыло Маринку, как мягкое одеяло. О чем мечтает женщина? О верном муже, здоровых детках, приятном отпуске, шубке к зиме и хотя бы одной порядочной подруге. Марина мечтала просто о тишине, ей недоставало покоя, не того, который когда лежишь лепешкой, а того, который внутри. Ее новый мужчина негромко разговаривал, спокойно рассуждал. Поначалу Марина чувствовала себя, как в больнице, — никто не шумит, не кричит, не топает. Потом она, наконец, осознала, что приобрела в жизни. Она стала учиться жить по-новому. Не торопиться, не спешить, спокойно ждать. Не догонять трамвай, а знать, что скоро приползет другой. Она общалась с матерью и понимала, что овражек, их разделяющий, превратился в пропасть. Они всегда были разными, а стали просто полярными.
Родители видели перемены в дочери и поначалу не знали, как реагировать. Перемены-то, вроде как, к лучшему, но девка-то все больше отдаляется. Олег вообще не обращал внимания на характер Тамары Николаевны. Он был вежлив, не хамил, всегда был готов помочь во всем, что не шло вразрез с его мировоззрением. Но, например, копание огорода и посадка картофеля ему претили. Он за все совместно прожитые с Маринкой годы принципиально не взял в руки лопату. Он был горд и немного надменен. Он не был землепашцем ни по происхождению, ни по взглядам.
— Лапочка, давай мы купим картошки твоим родителям. Зачем же им так надрываться?
— Олег, ты не понимаешь? Не в картошке дело. Дело в процессе. Совместный труд, он…
— …облагораживает?
— Во всяком случае, сближает. Слушай, ну хоть притворись, что копаешь, ну, пожалуйста!
— Нет и нет, лапа моя, даже не проси.
Иван Иванович был поражен. У него не было слов.
— Тунеядец! Тамара, это трутень! Что за мужик, что в руках лопаты не держал!
— Иван Иванович! Я в армии, в отличие от вас, служил. Подержался там и за лопату, в том числе.
— А ты меня армией не попрекай!
— Да я не попрекаю. Не хотел вас обидеть, извините. Но если вы ставите кому-то что-то в упрек, помните, что сами в чем-то несовершенны.
— Философ, твою мать! Ты меня будешь жизни учить?! Да чего ты добился?!
— Многого. И своим трудом.
— Каким трудом? Спекулянтом быть — не велик труд! Купил-перепродал, где тут труд? Мошенничество одно! Что ты создал в жизни?
— Иван Иванович! Какая разница между трудом спекулятивным и трудом карьерного роста?
— Да ты что, твою мать? Разница большая!
— Ну так в чем разница-то? Я перепродаю товар, вы перепродаете людей…
— Маринка, мать твою! Ты где этого диссидента нашла?!
— Папа, не волнуйся! Олежка, перестань! Не дразни отца!
— Все, мать! Я больше не могу это слушать!
— Ну чё ты, Ваня? — Тамара Николаевна довольно ухмылялась. Ей нравилось, когда кто-то кому-то тыкал носом. — Не обращай внимания, молодые еще! Останутся без денег, попляшут! Приползут на брюхе!
Царица Тамара как в воду глядела. Дефолт. Впрочем, до событий девяносто восьмого еще столько всего было…
***
В девяносто четвертом владелица ООО «Луч» Мила Мишер взяла кредит то ли на несколько миллионов, то ли на несколько их десятков. Маринка была коммерческим директором, ничего лишнего не подписывала, в переговоры не вникала, короче, не лезла не в своё.
— Марина, сегодня съездишь в Еловск. Там тебя встретит Сергей, отгрузит нам свиные полутуши, четыре вагона. Просто подпиши бумаги и обратно, ясно? Вот накладные на тушенку, отдашь ему. Он нам — свинину, мы ему — консервы. Пусть распишется, что получил.
— Не вопрос, — Марина взяла у Милы документы. — А тушенка где?
— В Караганде. Пусть распишется, и ты распишись в его доках. Ну?
— Да поняла. Все сделаю.
Марина поехала в Еловск, что в двадцати километрах от Северогорска. С Сергеем они узнали друг друга сразу, где-то уже виделись. В магазине? В ресторане?
— Привет, Сергей! Мила тебе звонила?
— Да-да, обычный бартер. Пошли. Вот, смотри. В загоне четыре вагона свинины в полутушах. Завтра перегоняем вам на северогорскую железку. Вы мне отгружаете тушенку, документы привезла?
— Да, вот. Давай, где в твоих расписаться?
— Здесь. И здесь.
Марина подписалась, что приняла четыре вагона свинины.
— Сергей, вот здесь распишись.
— А тушенка где?
Марина замешкалась. «Да, действительно, а где? Милка сказала, в Караганде».
— В Северогорске, на путях, к отгрузке готовим. Где ж еще?
— Ну да. Маринка, слушай, а мы где с тобой виделись?
— А я с твоей женой шампанское пила в десять утра в парикмахерской, года три назад, — вспомнила Марина. — Она потом тебе звонила, чтоб ты за ней приехал.
— Да-а, точно… она тогда на шампанской диете сидела…
— Ага. Три бутылки в день. Завтрак, обед, полдник. На ужин салатик, запиваешь, чем хочешь. А где Нина сейчас? Давно ее не видела.
— В прошлом году от рака умерла. Худела, худела, думала — от шамы. Оказалось — от рака.
— Извини…
— Да ничего. Меня осуждают, что я с ее сестрой сейчас живу.
Марине тоже очень захотелось Серегу осудить. Но не смогла, почему-то. Да, Нинка тогда сильно похудела. И так этому радовалась! Всем свою диету советовала. Хорошая диета, вкусная.
Марина еще немного поболтала с Сергеем и стала собираться обратно.
— Ну, мне пора. Рада была увидеться.
— Марина, я отзвонюсь завтра, о’кей? Насчет тушенки.
— Да, Серега, конечно, звони.
Мила встретила непринужденно.
— Ну, как все прошло? Нормально?
— Конечно. Никаких проблем. Завтра должны с железки звонить насчет поставки полутуш.
— Да-да, хорошо… — Мила о чем-то сосредоточенно думала.
— Он про консервы спрашивал, когда отгрузка?
— Я позвоню ему. Не бери в голову.
Назавтра к обеду Миле позвонил Сергей.
— А ее нет, — трубку подняла Марина.
— Марина, ты? Не могу до нее дозвониться. Где Милка-то?
— Да по делам куда-то уехала с утра. А что такое?
— Да нет, все в порядке. Я насчет тушенки. Хочу забрать, не знаю пункта отгрузки.
— Ясно. Как появится, позвоню.
Милы не было весь день. Она не появилась и на следующий. Телефон разрывался. Звонил уже не только Сергей. Звонил какой-то банкир.
— Алло! А где Людмила? Она была сегодня?
— Нет, а кто ее спрашивает?
— Ее уже не спрашивают. Передай, как появится, чтоб Кариму позвонила, это понятно?
— Да, а Карим — она знает, кто это?
— Будь уверена, она знает.
Маринка сидела в конторе целый день ни жива ни мертва. Что-то неприятно шевелилось под ложечкой. Звонок.
— Алло!
— Марина, привет! Как дела?
— Милка! Ты где? — вскочила Марина. — Телефон обрывают целый день, тебя все спрашивают! Карим звонил, тебя ищет, что случилось? Ты где?
— У меня дела, — спокойно ответила Мила, — а что за паника?
— Как что? Сергею тушенку надо отгружать. Он обзвонился!
— Тушенку? Какую?
— В смысле, как какую? За полутуши свиные.
— А-а…
— Мила, мы полутуши получили?
— Да, сегодня вечером получим, они в пути.
— А тушенка?!
— Да угомонись ты со своей тушенкой! Получит он ее. Что за кипишь?
Марина успокоилась. Мила говорила ровно, без истерики.
— Мил, а кто такой Карим?
— Карим, Карим, ему не дадим… — на том конце провода захихикали, — Милка, бросай телефон, пошли шаму пить, — услышала Марина мужской приятный голос.
Ту-ту-ту… положили трубку.
До вечера было сто звонков. Славик-художник куда-то тоже исчез. Мила не появилась. Маринка трубку не брала.
Утром позвонил Сергей.
— Марина? Доброе утро!
— Привет!
— Мы во сколько встречаемся?
— А что? Во сколько надо? И зачем?
— Как это зачем? Милка сказала, ты мне два вагона тушенки отгрузишь за свинью.
— Я?!
— Ты. А что, проблемы?
— Ну, вообще-то, да. У меня нет твоих консервов, и Мила не давала мне никаких по ним указаний.
— Да? А Мила сказала, что ты в теме и тушенка твоя.
— Моя?!! Ты с ума сошел!
— А по-моему, это вы, бабы, там с ума сошли! Я сейчас приеду и косы ваши на..уй намотаю!!!
Ту-ту-ту…
«И косы ваши намотаю… И зачем наматывать на ЭТО, ему же будет ходить неудобно. К тому же у нас с Милкой короткие стрижки». Марина быстро все поняла, потому как была не тупая. Не поняла только, почему Милка выбрала ее, а не Славика. Достала сигареты. Вышла на улицу и закурила. Курила и думала. «Подпись, что получила полутуши от Сереги, — ее. Милка Кариму скажет, что свинину не получила. Маринка встревает на четыре вагона перед Каримом. Подпись, что приняла у Милки тушенку, — ее. Звезда тебе, Марина. Ты свинью Милке должна и четыре вагона тушенки Сереге. И где же наша свинка? А свинка у Милочки. А где же наша Милочка? А Милочка где-то прячется. А кто такой Каримчик? А Карим Кеберов — московский банкир-олигарх. У него, видимо, Милочка взяла денежки на хрюшины полутушки. И есть ли, вообще, тушенка?»
— Куришь? А ну поехали-ка прокатимся… — раздался знакомый голос.
Фикса. Милкина крыша. И с ним его напарничек Ванька Лучников, Лучник. Они с Маринкой по молодости крутили, на дискотеки там, то-се. Сейчас в бандитах, а тогда водилой на «ХЛЕБе» промышлял.
— Прокатимся?
— Зачем? Куда?
— Не кудахтай, — Фикса был настроен не мирно.
— Ну поехали, прокатимся.
«Зачем я пошла с ними? Завертелась какая-то канитель…» Она на автопилоте села на заднее сиденье в «Аудюху», Лучник — на переднее пассажирское. Фикса рванул с места.
— Знаешь, о чем базар?
— Нет.
— И не догадываешься?
— Нет. Давайте по делу, мальчики.
— Хм, ма-альчики… как шлюха базарит, — Фикса заржал, — слышь, Лучник? Ма-альчики…
— Может, все же объяснишь, хотя бы ты, Ваня?
Иван обернулся.
— У тебя с Милкой какие дела?
— Я на зарплате, — Марина все поняла.
— Она нам должна за несколько месяцев. Говорит, ты в теме, с тебя взять.
— Да вы что, обалдели? Я-то причем?
— Слышь, коза, ты не соскакивай, — Фикса зло зыркнул в зеркало заднего вида, — ей какой резон п… ть?
— Фикса, погоди, у нее резон как раз есть. Она должна, ты помнишь, не только нам. Там и Карим в очереди, — Лучник рассуждал более здраво. Может, потому что не сидел.
— Да ладно! Карим? Ждет?! Вот Людка! П..ц, красава!
— То-то и оно. Маринка, давай без развода, ты не в деле?
— Ваня, я говорю тебе, нет! Я вообще не знаю, что у них со Славиком за дела!
— Да Славика уже мы выслушали. Он завтра из хаты своей мебель будет выносить на продажу, чтоб долю свою отдать.
— Долю?.. — Маринка поняла, насколько все серьезно.
— Значит, слушай сюда, шмара! — Фикса повернул в сторону дачных массивов.
«Куда это он везет?» — Маринка тряслась, но старалась вида не показывать. Она знала, что ни в чем не виновата, что все уладится, что, если выйдет живой из этой бессмыслицы, уволится. Устроится куда-нибудь…
— Слушаешь?
— Да…
— Тогда запоминай. Если Милка подтвердит, что ты должна, значит, ты должна. Мне лично. Мне насрать на ваши кадровые отношения, кто под кем, ясно?
— Ясно…
— У тебя, сука, дочь, если ты не забыла. Отдашь бабосы и гуляй. Усекла?
— Да… Отвезите меня обратно в город, не надо никуда ехать…
— Гы-гы-гы… обосралась? — Фикса ржал. Ванька сидел, нахмурившись, не встревая в разговор. Молодость молодостью, а бабло казенное.
— Отвези ее. Хорош уже. Она поняла все.
Они возвращались молча под максимальные децибелы любимого Маринкиного Чижа.
— Станция Березай. Кому надо, вылезай! — шутник Фикса резко тормознул у магазина. — Прошу, пани! Ползи наружу, приехали!
Ваня мельком посмотрел на Маринку и отвел взгляд. Марина опустила глаза на Ванькины безупречно начищенные ботинки. «Что с нами происходит?». «Аудюха», взвизгнув тормозами, рванула в сауну.
Фиксу застрелили менты два года спустя. Ваня стал коммерсантом.
Марина достала сигарету, присела на корточки, обхватив колени, и затянулась. Она курила, смотря в одну точку. «Ярик мне всю душу вынул, Вовка с ножом бегал, душил. Сейчас эти дитем пугают… Дальше что? Валить надо из этого ООО, еще лучше — из страны вообще, забыть все и всех как кошмарный сон». Она встала и тут же почувствовала резкую слабость в коленях. Марина не смогла затушить сигарету, ее руки стали неметь. Она перестала чувствовать кончики пальцев на руках. Сигарета выпала. На ватных ногах Марина спустилась в офис. Славик сидел за бумагами, не отвечая на беспрерывные звонки. Увидев резко побледневшую Марину, он вышел из-за стола.
— Марина, тебе плохо?
— Да. Слава, как-то странно. У меня что-то немеют лицо и кисти рук.
Марина прилегла на диван. Славик побежал за водой. Марина чувствовала, как у нее медленно перекашивает лицо. Она встала, подошла к зеркалу. Лучше было этого не видеть. Вся левая половина лица уползла вниз. Холодный пот потек тонкой струйкой от шеи к копчику. Кисти рук свело, и они стали похожи на старые сухие ветки. Марина так и легла с поднятыми вверх скрюченными кистями рук и перекошенным лицом. Картина Сальвадора Дали. Маринка почему-то ее сейчас вспомнила. «Там огромные циферблаты стекают с каких-то предметов… что-то про время… Утекающее время, уползающее время… или стекающее,.. — ее сознание вырвало каких-то горящих жирафов, — тоже, вроде, Дали… Почему Дали? Я видела эти образы у сестры в альбоме, мне тогда понравилось, так необычно… А Оля где? Ах, забыла совсем… она же умерла несколько лет назад…»
— Эй, Марина! — Слава склонился над ней. — На, выпей!
Он протянул стакан воды. Марина попыталась поднять руку и взять стакан. Скрюченные пальцы сковало, как гипсом. Ее тело не понимало простейших движений.
— Э-эя-а… у-а-уу э-ээ…
— Что? Мариша, что? Я не понимаю!
«Я умираю», — хотела сказать Марина. Не смогла. Она не смогла ничего сказать, язык отказывался подчиняться, у нее отнялась речь. Марина спутанным сознанием понимала, что случилась беда, ее парализовало. И жуткий страх сковал больше, чем нервный спазм.
— Аэ-э, у-аайа…
— Марина, полежи, я схожу позвоню Олегу, чтобы приехал.
Марина лежала, как ей казалось, выкатив глаза. Она часто дышала, холодный пот высох от внезапного сильного жара. «Это все. Вот моя совсем короткая жизнь. Я ничего не успела. Машу воспитает Олег. Как жалко, как обидно и как страшно… Какие-то люди пришли, кто они? А, это Мишка, приятель нашей главной „крыши“, что он у меня спрашивает? Про товар? Нет… ты как? Как я? Я умираю, Миша. А где мой Олег? Надо маме сказать, что меня нет».
— Слава, закгывай, на хгрен, лавочку! Почему скогую еще никто не вызвал, охгенели совсем? — картавил Миша, бегая по магазину и размахивая руками. — Милка где?
— Не знаю, не видел ее сегодня, — Славик стоял растерянный, белее белого.
Кто-то из продавцов закрыл магазин, кто-то, наконец, вызвал врача. Примчался Олег.
— Где она?
— Там, в подсобке, на диване!
Олег быстро вошел, сел на широкий край мягкого кожаного дивана и взял Марину за руку, считая пульс. Примерно около сотни ударов.
— Девочка моя, лапочка, все будет хорошо! Какой ужас, господи, что с ней? — Олег повернулся к Славику.
— Инсульт, похоже.
— Охренеть! Почему? Что произошло?
— Да сам не знаю. Работала, все в порядке было. Потом вышла покурить, не было минут двадцать, пришла, сказала, что плохо стало, и вот…
— Есть валерьянка, валокордин?
— Сейчас посмотрю.
Славик принес капли.
— На, Олег. Может, переволновалась? У нас проблемы.
— У вас проблемы, а у нее из-за ваших проблем паралич? Вы обалдели тут все?
— Олег, я ни при чем, правда. Это Людка…
«Милка, Милка, хитрая копилка…» — крутилось в голове у Марины.
Миша с Олегом тихо переговаривались. Славик сидел за столом, подперев подбородок сложенными кулаками. Продавцы молча стояли, смотря на перекошенную Маринку. Вот так. Молодая, веселая, здоровее здоровых, и на тебе. Наконец приехала неотложка. Спокойная женщина-фельдшер вошла в подсобку и раскрыла свой боевой чемоданчик.
— Что случилось?
— Вот… — Олег развел руками, — плохо стало.
— Говорить можешь? — склонилась над Мариной.
— Й-а..
— Понятно. Сколько пальцев? — женщина растопырила пальцы.
Марина показала скрюченную кисть и попыталась улыбнуться.
— Молодец, правильно, садись, пять. Давай давление измерим. Голова болит?
— Й-а..
— Ты у меня, как ослик, иа, иа. Так, сто семьдесят на сто десять. Вы ей муж? — доктор взяла Олега под руку. — Давайте отойдем. Я думаю, инсульта у девочки нет. У нее гипертонический криз, возможно, ее кто-то очень сильно обидел, ну испугалась, может, расстроилась чем-то. Я введу сибазон. Для нее сейчас главное — сон. Долгий, не будить. Пусть спит столько, сколько надо организму.
— А у нее это… ну, лицо… пройдет? Восстановится?
— Да. Не переживайте. И найдите ей спокойную работу. Вот рецепт. Пусть попьет снотворное, корвалол. И, если есть возможность, увезите ее. На море. Пусть забудется.
— Да-да, доктор, спасибо, конечно…
***
Передряги, бандитские разборки были где-то далеко, казалось, что весь тот кошмар был не в ее жизни. Проблему разрешил сам Карим. Переговорив с Милой, он понял весь расклад. Что Мила Мишер кинула банк, своих подельников и крышу. Милка сама прилетела к Кариму в Москву. Он принял ее, выслушал. Стало очевидным, с Марины Толмачевой ничего не взять. Поэтому после финансового расклада Карим снял с Милы Мишер все, что можно было снять, — долг за мясо, проценты, нижнее белье, и стал личной ее крышей, а Милка, продав все свое имущество в Северогорске, перебралась в столицу, где продолжила свою экономическую деятельность уже на высшем уровне. Маринка, считай, отделалась легким испугом. Вскоре после того инцидента, когда Марина лежала на больничном, варварски убили ближайшую Милкину подружку Холодову Лену. Ее зарезали, как свинью, в собственной квартире. Она тоже была в теме Мишеровских дел. Поэтому Марина с Олегом быстро собрались и улетели на две недели на острова, оставив Машу с Тамарой Николаевной.
Месяц спустя Марина в ярком бирюзовом купальнике лежала на белом шезлонге под соломенным зонтиком, скрестив ноги с безупречным педикюром. Широкие поля шляпы закрывали лицо от мягкого осеннего солнца. Под левой рукой, на песке, домиком стояла упавшая раскрытая книга Франсуазы Саган «Немного солнца в холодной воде». Марине очень нравились тонкие рассказы этой чудной француженки. «Так странно, она совсем юной начала писать, лет около семнадцати, кажется. Совсем девчонка, а отношения чувствует, как зрелая женщина. Такая пронзительная тоска в ее рассказах…». В свои тридцать с небольшим Марина чувствовала себя старой, мудрой, уставшей калошей. Двухнедельный больничный завершился заявлением об уходе «по собственному». Калугин рвал и метал, Маша испуганно сидела у кровати матери, глядя в ее новое чужое лицо.
— Мамочка, ты не умресь?
— Машка, не глупи! — Олег перебирал в голове варианты их дальнейшей жизни. — Мама поправится, все будет хорошо. Мариша, я заказал путевки на Канарские острова.
— Здорово… — Марина улыбнулась, — а где мы денег возьмем?
«Лицо почти восстановилось», — Олег очень боялся последствий.
— Я свою однушку продал.
— Олег! Зачем?! Ты продал квартиру?
— А зачем нам две? У нас есть твоя трешка, у бабули моей — еще однокомнатная, у родителей — двушка.
«Продал жилье, чтобы поехать в самый дорогой отель», — она вспомнила, как первое время Олег не покупал хлеба, чтобы не разменивать полтинник. Она считала его скуповатым, потому что он старался не менять без особой нужды крупные купюры, а отсутствие хлеба или молока нуждой не считалось. Выпроводив Вовчика и перебравшись к Марине, Олег поначалу несколько месяцев жил на ее деньги, а свои куда-то аккуратно откладывал. А сейчас продал квартиру. Чудеса…
— А я поеду? — с надеждой спросила Маша.
— Нет, ты с бабулей останешься. Потом, летом, я вас с мамой отправлю на море.
Олег потрепал расстроившуюся девочку по лысой макушке. «Надо было наголо постричь в годик, сейчас бы густые росли».
Маша вздохнула. Опять придется жить по правилам бабы Тамары. Не ходи, не смотри, оденься, ешь, не трогай кошек.
***
Ласковое средиземноморское солнышко приятно грело щиколотки. Марина открыла глаза и повернула голову. Олег курил, смотрел на Марину.
— Проснулась?
— Да я и не спала, так, подремала немного.
— Пивка?
— Не хочу. Лучше коктейль.
Олег встал с шезлонга, затушил сигарету и пошел в бар.
«Какой же он у меня красивый, — мурлыкала Марина, провожая Олега взглядом, — высокий, стройный, добрый, заботливый. Повезло, наконец. Настоящий мужчина рядом». Она потянулась, откинула спинку лежака, села поудобней и затянулась тонкой сигареткой. Вот она уволилась. Вот они отдыхают от того кошмара, проедая деньги с продажи квартиры. А дальше что?
— Держи, ром с колой, — Олег протянул Марине стакан.
Марина привстала, взяла коктейль и сделала большой глоток.
— Олег, вот что. Мы так не сможем долго — изображать богему. Надо за что-то браться, как приедем.
— Какие соображения?
— Давай сами попробуем магазин открыть? Знания, что к чему, у нас есть, большую торговую площадь брать не будем. Небольшой зал для розницы, а с колес — опт. Мясо-заморозка, рыба, консервы, кондитерка.
— Стартовый нужен. Кредит?
— Нет. Кредит пока не будем брать. Что-то с продажи твоей квартиры осталось. Начнем с мелкого опта по предоплатам. Соберем заказы по городу, кому что. Часть денег попрошу у отца. Раскрутимся на опте, откроем магазинчик. Как идея?
— Маришка, одним тяжеловато будет. Колеса нужны.
— Чем тебе наша «шестерка» не колеса?
Олег засмеялся, они давно уже планировали заменить «жигуль» на девяносто девятую.
— Нет, в целом я — за. Заниматься чем-то надо. Давай рискнем!
***
ЧП Толмачевой М. И. быстро набирало обороты. Олег прочесал их небольшой городишко, оповестив о начале деятельности, съездил в соседний Еловск. Они собрали заказы, деньги на товар давали без капризов почти все коммерсанты. У Калугина была хорошая репутация в городе, а случай с вагонами тушенки не испортил отношений Марины с местными частниками. Все в городе знали, что Милка поменяла «крышу» и преспокойненько живет в Москве, ворочая миллионами. Славик взял кредит и открыл свой продуктовый магазин, начав все с нуля. Начиная свое дело, Олег и Марина знали, что и им нужна будет «крыша». Вопрос решился довольно оригинальным способом.
Бывшая жена Олега, Света Калугина, помытарившись в Северогорске и не найдя для себя ничего и никого подходящего после расставания с Альгисом, уехала с сыном Майком в столицу на поиски личного счастья. Поиски увенчались встречей с авторитетом российского значения Захаром Семеновичем, который двадцать семь лет из прожитых пятидесяти двух провел на нарах на Крайнем Севере, и ни дня в своей воровской жизни не работал. У него никогда не было ни семьи, ни детей. Он снял Свете квартиру, небольшую двушку в спальном районе Москвы, и появлялся там по очень свободному графику, чего, видимо, требовали его особые дела. Свои новые отношения Захар не афишировал, Света же из рук нежного Олега и богатого Альгиса попала в лапы жестокого и нещедрого дядьки с криминальным багажом. Шестилетний Майк страшно его боялся. Захар Семенович не знал, как обращаться с детьми, и все их общение сводилось к вечерним незамысловатым диалогам.
— Привет, пацан! Вот, это тебе, — он протягивал Майку шоколадку, машинку или игрушку.
— Здравствуй, дядя Захар. Спасибо.
— Уроки сделал?
— Я в школу еще не хожу, мне рано.
— А-а, ну молодец.
Захар Семенович, не разуваясь, проходил в кухню, где его ждал добровольно-принудительно приготовленный обязательный хавчик, то есть ужин.
Светкин избранник был высок, сутул и очень худ, его крупный череп облепляли редкие жесткие волосы. Глубоко посаженные темно-карие глаза и тяжелые надбровные дуги с нависающими кожными складками делали цепкий взгляд каким-то зловещим. От него веяло холодом и равнодушием. Было ощущение, что его всегда сопровождает та самая старуха в черном и с косой, и даже дорогой французский парфюм не мог перебить еле уловимый запах, похожий на запах склепа. Он всегда носил темно-серые и темно-синие костюмы, неброские рубашки, говорил и ел мало. Было вообще непонятно, как они общаются — веселая красивая двадцатисемилетняя Светка и это могильное чудовище. На вопрос подруг:
— Света, зачем?
Она отвечала:
— Майку нужны отец, одежда и образование.
— Но ведь с ним нужно спать?!
— Ничего. Потерплю. Надоело жить в нищете.
На самом деле Светка никогда и не жила в нищете. Олег из кожи вон лез, чтобы круто одеть любимую жену, и с Альгисом она имела более чем достаточно для себя и сына. Сказка о рыбаке и рыбке… Захар Семенович много денег не давал, не разгуляешься, ровно столько, сколько приносила Светка по чеку. Так что ее мечты о богатстве и роскоши, о норковой шубке и машине вдребезги разбились о серую стену с колючей проволокой. Ночами маленький Майк слышал, как в комнате за стеной сначала кричит от боли, а потом плачет его мама. Слышал недовольные окрики отчима, потом тихий монотонный разговор и снова мамин плач. Потом все стихало. Майк смотрел в ночь широко открытыми глазами. Иногда он прятался с головой под одеяло. Он совсем не хотел шоколадок, и ему были противны его машинки. Он очень хотел к папе, к настоящему папе Олегу, доброму, спокойному и веселому. Зачем мама заставляет называть папой дядю Захара?
— Мама, а мой папа Олег?
— Нет, твой папа теперь дядя Захар.
— А так бывает? Чтобы много пап?
— Бывает.
Света никогда не обращала особого внимания на сына. Живя в Северогорске, часто оставляла его со своей матерью или с подругами, или в семье брата Егора, который служил с Олегом в армии. Она и в Москву взяла Майка не сразу, а когда обустроилась, спустя полгода. У бабушек Вали и Ларисы Майку было по-настоящему тепло, худющего лопоухого мальчонку там действительно любили, купали, обнимали, вытирая мягкими душистыми полотенцами, и вкусно кормили. Когда Света привезла Майка в Москву, поначалу он радовался переменам, новым впечатлениям, но очень быстро заскучал по дому, по отцу и домашнему теплу. Дядя Егор звонил его маме каждый день. Не сказать, что между сестрой и братом были теплые отношения, но Егор всегда поддерживал сестру.
— Привет, непутевая! Как ты там? Как Майк?
— Привет, Горик! Да нормально все. Сижу вот, шью по заказу. Завтра сдавать, надо шустрить. Вы как?
— Нормально, таксую. Верка дома с Ленкой. Приехать не собираешься?
— Нет пока. Может, к январю. Как там Калугин?
— Ты знаешь, Калугин с Маринкой своей дело открыли, мелкий опт, продукты. Неплохо идет у них, между прочим.
— Даже так? — Светлана внутренне напряглась. — А мне алименты не платит. Вот сволочь!
— Так ты же не подавала.
— Так у него все равно официального заработка нет. Шиш с него и получаю. Ладно. Информация принята, спасибо за новость.
— У тебя как с деньгами, вообще?
— Не шикую. Но мыслишка одна появилась. Давай пока!
Вечером, после ужина, Света решила поговорить с Захаром.
— Захар, тема есть. Тут такое дело… Я тебе рассказывала о своем бывшем, об отце Майка.
— Накосячил? Отмазать?
— Нет. Наоборот.
— Что наоборот?
— Он дело открыл. У него деньги появились. Алименты мне не платит.
— А кто его крышует, знаешь?
— Могу у Егора узнать.
— Узнай. А ты что хочешь сама-то? Мне наказать его? Бизнес отобрать? Хотя все ясно. Денег хочешь. В общем, я в ваш Северогорск через неделю лечу, дела у меня там. Встречусь с твоим, пообщаемся.
***
Бизнес приносил небольшой, но стабильный доход. Марина с Олегом взяли у частника валютный кредит, условия не шикарные, но прибыль потихоньку росла. На достойную жизнь российского коммерсанта вполне хватало. Как-то так получилось, что за восемь месяцев работы к ним никто не подошел и не предложил свои услуги по «защите бизнеса». Олег радовался и потирал руки, еще бы! Приличная экономия! Поначалу они подумывали взять в долю напарника, но, выработав алгоритм, поняли, что замечательно справляются сами. Иногда Олег встречался с Егором, так — привет, пока, как дела. Ни о чем. Егор очень подробно расспрашивал Олега об их новом деле; сам он с женой Верой и дочкой Аленкой жил не при больших деньгах. Егор был бомбилой, таксовал. После развода Калугиных Егор был зол на Олега за сестру, хотя всем было ясно, чья там вина. Тем не менее, Егор встал на сторону Светки и не разговаривал с Олегом около года. Со временем все потихоньку стерлось и подзабылось, но отношения ближе не стали. Как говорится, ложки-то нашлись, но осадочек остался. Но до сих пор обида за сестру нет-нет да и давала о себе знать. И сейчас к этой обиде добавилось подтачивающееся чувство зависти. «Да как так-то? У него, значит, свое дело, а Светка мыкается с каким-то уголовником? Несправедливо, — смутное решение никак не могло сформироваться в голове Егора. Где-то близко деньги. — Как же их заполучить? Олег, его бизнес. Моя сестра — его бывшая жена. Ее уголовник Захар — авторитет. Крыша. Крыша! Вот оно! Сам я, конечно, не рискну, но вот через сестру… Вот это тема! Срочно звонить Светке!»
***
Марина заканчивала субботнюю уборку, когда раздался телефонный звонок.
— Да, слушаю!
— Здравствуй, Марина.
Сердце рухнуло куда-то вниз.
— Здравствуй, Иван.
— Дело есть. Вернее, разговор, — Ваня Лучников что-то дожевывал, — сегодня в девять вечера в ресторане «Подкова». Жди меня у покерного стола. Пока!
Марина положила трубку и опустилась на тумбочку у зеркала. Сердце не спешило возвращаться на место. Руки дрожали, на глаза навернулись слезы. «Мила вернулась? Карим? Что еще?» Собравшись с силами, она машинально тщательно прополоскала тряпки, аккуратно их развесила, вымыла руки и стала автоматически наносить крем, с силой втирая уже почти высохшую субстанцию. В голове не было ни одной мысли.
— Мама, Машку возьмешь на ночь? — Марина не узнала собственного голоса.
— Маринка, что случилось? — Тамара Николаевна, запыхавшись, прибежала к телефону из кухни.
— Ничего, деловая встреча.
— Ночью-то? Ну-ну.
— Да нет, правда. Человек раньше не может. Возьмешь?
— Веди, не одну же девку оставлять. А твой чего?
— Олег будет со мной. Пока, мам, до вечера.
Марина чуть помедлила положить трубку и услышала слова матери: «Да пропади ж ты все пропадом, опять водку жрать пошли, а мне девку сплавляют…»
Нежданный звонок насторожил и обеспокоил Олега тоже.
— Одна ты не пойдешь. Я с тобой.
— Разумеется. Принеси мне валокордин.
Марина отсчитала тридцать капель и выпила. Стало немного легче. Уже восемь.
— Машуня, собирайся, к бабе Тамаре пойдем.
— Ночевать?
— Да, малыш. Бери игрушки свои. А завтра мы с Олегом тебя заберем, как проснешься.
Марина смотрела, как послушная Машка деловито собирала свои драгоценности, как она говорила «злата-серебра», заталкивала в пакет мишку и сменные сандалики. Отчего-то вдруг сжалось сердце. «Чушь, чушь! Все будет хорошо!».
В ресторане «Подкова» каждый вечер собирался северогорский бомонд. Бандиты, коммерсанты, проститутки и просто веселые люди. Марина оглядела зал. У игорного стола сидели несколько человек, Лучника среди них не было. Олег тоже задерживался — неотложное дело по заказу товара.
— Простите, Толмачева? — дежурный администратор подошел к Марине и, слегка наклонив голову, услужливо сообщил: — Вас к телефону, пройдемте в подсобку, сюда, пожалуйста.
Марина прошла по длинному, заставленному вещами и коробками с алкоголем, коридору в небольшую комнату. За столом сидела уставшая пергидрольная блондинка и что-то считала.
— Вас, — она кивнула на снятую телефонную трубку, лежавшую на столе, — Лучников.
— Алло.
— Маринка, бери такси и езжай к Холодцам. Знаешь, где они живут?
«Холодцы какие-то… а-а, у бывшей жены Олега девичья фамилия Холодец».
— Знаю. Сейчас буду, — Марина без лишних вопросов закончила разговор. Вызвала такси. «А как же Олег? А, найдет…»
Егор и Вера Холодцы познакомились, когда им было по восемнадцать. В девятнадцать Вера родила Аленку. Супруги постоянно ссорились и раз в год собирались разойтись. Но привычка жить вместе и перспектива раздела совместно нажитого имущества не позволяли им реализовать желаемое. Поэтому так и существовали, вяло, по-хозяйски добротно, в общем, как все. Мама Веры была завскладом на продуктовой базе и помогала детям, чем могла, — когда деньгами, когда красной икрой. Егор очень любил покушать, а Вера готовила просто отменно. Время приготовления ужинов, а затем и дальнейшая совместная трапеза были в их семье мирным временем. Запахи домашней еды и выпечки умиротворяли и успокаивали, а сам процесс ее поглощения никоим образом не располагал к ссорам. Надо отдать должное, Вера никогда, как это делают многие женщины во время ссор, не переставала кормить мужа. Как известно, некоторые супружеские пары мирятся в постели, Вера же с Егором мирились за столом. А поскольку человек питается не один раз в день, то и на ссоры оставалось гораздо меньше времени. Она любила и умела печь, и всегда старалась приготовить на ужин несколько блюд. Обязательно присутствовали украинское сальце и холодная, из морозильника, водочка или горилка, присланная родственниками их Житомира. Егор не был выпивохой, хотя наследственность тому способствовала — его отец допился до инсульта, но никогда не упускал момента выпить за ужином стопочку-другую. Марина познакомилась с Холодцами через Олега, и ей нравилось бывать у них. Верочка — аккуратная, симпатичная, стройная блондинка, добрая, с карими глазами и грудью четвертого размера. Егор к тридцати годам заплыл, и немудрено при таком-то откорме, потерял чуток волос и не любил менять носки. Верка сдирала их с мужа силой.
— Да у меня руки не отсохнут их стирать! Хоть по три раза на дню меняй, хряк ты такой! Сколько ж говорить?!
— Верка, отвянь! Дай после еды отдохнуть спокойно, — Егор вил гнездо на диване у телевизора, пока жена стягивала с него рабочее.
— Фу, вонючка противный! — и шла на кухню греметь посудой.
Аленка, их единственный ребенок, была фигурой в мать, лицом в отца, но, как ни странно, симпатичной девчушкой, очень строптивой, но в то же время ласковой, зацелованной бабушкой-завскладом. Второй бабушке, Вале, было меньше дела до внуков. Майка и Аленку частенько к ней закидывали, она честно и с любовью их нянчила, но бдительности не теряла, пока, еще до инсульта, ее муж болтался с друзьями-алкашами. А ну как бабы там какие? Глаз да глаз — полподъезда одиноких.
Марина расплатилась за поездку и вышла из машины. Холодцы жили на восьмом этаже. Она глубоко вдохнула, вошла в подъезд и вызвала лифт. Облезлый, помеченный кошками, расписанный непристойностями, он медленно, скрипя тросами, поднял Марину на нужный этаж. Дзинь! Дверь открыла бледная Верочка.
— Привет, Марина, проходи. Разувайся здесь, вот тапочки. Ты голодна?
— Нет, спасибо, пока не хочется.
«Ерунда какая-то. Лучник, Холодцы, Верочка», — Марина вымыла руки, посмотрела в зеркало и пригладила волосы.
— Проходи в кухню. Олег звонил, он подойдет скоро.
«Ну вот, и Олежку нашли». Марина вошла в кухню. За накрытым наспех приготовленными закусками столом сидели Егор, его сестра Калугина Света и сутулый худой мужчина с редкими волосами, от которого веяло бедой, болотом и смертью. «Какой жуткий тип, кто он им? Зачем здесь? А я зачем?»
— Здравствуйте.
— Здравствуй, Марина. Меня зовут Захар Семенович, я друг Светланы, твоего Олега бывшей жены. Вот ее, — он кивнул в сторону Светки. — Вера, налей Марине чайку. Или водочки выпьешь со мной?
— Нет, спасибо, я ничего не хочу. Здравствуй, Света, — Марина даже из вежливости не смогла выдавить «очень приятно», ей было отвратительно, страшно и почему-то очень хотелось к Машке.
— Привет, Маришка! — Света ровняла пилочкой ногти.
— Ну, не хочешь, не надо, — Захар Семенович налил стопку водки и подвинул ее к Марине, в упор глядя ей в глаза, — не хочешь — не пей.
«Какие пустые, нечеловеческие глаза. Если бы я верила в нечистую силу, то подумала бы, что сам дьявол сидит передо мной…»
— Мы тут с Егором пообщались, что да как. У тебя дело свое, так?
— Да, так. Вы наверняка уже все знаете.
— Да, Лучник дал расклад. Как же вы умудрились работать без крыши столько времени? Красавцы…
— Да вот как-то так…
— Непорядок это. Неправильно и то, что сын без отца растет. Света поделилась со мной своей болью, — медленно и тихо Захар чеканил слова. — Олег твой подонок. Сына бросил, денег Светлане не дает, братву кинул. Вы мне должны.
«Господи, если ты есть, помоги не сойти с ума…»
— Что молчишь? Не согласна?
— Мое несогласие что-то меняет в вашем решении?
— Дерзкая, да? Ну-ну. А ну-ка, вышли все отсюда, оставьте нас с ней, — Захар кивнул на Марину. Бледная Верочка с мужем, красным то ли от стыда, то ли от неловкости, тихо вышли из кухни. Света быстро вскочила, тряхнула длинными волосами и, кинув пилочку на стол, догнала родственников.
— Захар, ты там с ней не очень…
— Пошла вон, шалава! — рявкнул Захар. — И дверь плотно прикрой!
Света вернулась, недовольно закрыла дверь в кухню и заперлась в ванной, открыв кран.
Бледная, как снег, Марина смотрела Захару в глаза. Он сидел, ссутулившись, положив на стол сцепленные руки, не видя полных отчаяния глаз Марины.
— Слушай меня, девочка. Мне раздавить тебя легче, чем комара. Единственным смягчающим обстоятельством является то, что ты дружишь со Светой и ее братом. Она с говном дружить не будет.
«Разве?»
— Поэтому расклад такой. Для тебя небо льный. Двести долларов в месяц ты платишь лично Светке. Считай, это алименты твоего Калугина.
«Нашего Калугина».
— Посчитаешь, сколько месяцев не платили братве, умножишь на двести и отдашь баксы ей же. Это ясно?
«Яснее не бывает».
— Что молчишь? Уже считаешь? — вдруг улыбнулся Захар Семенович, и от этого его лицо стало еще страшнее.
«Наверное, так улыбается смерть…»
— Ты не молчи, девочка. Ты отвечай.
— Я не молчу, — прошептала Марина, — я слушаю.
— Слушай, слушай, — тихо и медленно говорил Захар Семенович. — Егора возьмете в свое дело в долю, на пятьдесят процентов, друзьям надо помогать. И вот еще что. Чтобы тебе было яснее и не было желания крутить. Я все всегда обо всех знаю. Я буду знать, сколько ты потратила туалетной бумаги и сколько бутылок пива выпила за месяц, поэтому если хочешь работать спокойно и если хочешь, чтобы в твоей семье все были живы и здоровы, сделай, как я сказал. И не скрывай от Светланы доходы.
«Егор проконтролирует, будьте уверены».
— Помни, у тебя маленькая дочка. Машенька, красивое имя, сказочное. Да?
«Девочка моя, малышка…»
— Хочешь, чтобы с ней было все хорошо, сделай, чтобы твоим друзьям было хорошо. Ты разговаривать со мной будешь сегодня?
— Я все поняла, Захар Семенович.
— Вот и молодец. И Калугину передай — ребенка сделал, должен содержать.
Марина медленно протянула руку к стоявшей перед ней стопке водки, подержала в руках немного нагревшуюся жидкость и залпом влила в себя, не закусывая. Отставила стопочку, взяла бутылку и налила еще водки в чайную кружку.
— Ваше здоровье, дорогой Захар Семенович! — еле слышно сказала Марина.
Авторитет чуть вскинул брови.
Марина выпила одним махом почти все содержимое. Взяла колбаски, положила на хлеб и медленно откусила.
— Ты все правильно понимаешь, Марина, — вдруг сказал Захар. — Понимаешь — так надо, и чувствуешь расклад. Ты не пропадешь в жизни. Ни одна, ни с мужиком. А такие, как эта блядь, всегда будут жить за счет кого-то. Сама не смей называть ее блядью. Мне можно, тебе — нет. Все, мне пора.
Захар Семенович встал из-за стола и вышел в коридор, в комнатах было тихо, по телевизору показывали какой-то вестерн.
— Я ушел, — Захар ударил кулаком в дверь ванной комнаты, — Света, я в «Подкове». Приходи! И Маринку бери, нормальная девчонка. Не ее вина, что мужика рядом нет, одни пидоры.
Он аккуратно закрыл за собой дверь. В квартире повисла тишина. Вера зашла в кухню, Марина стояла у окна, прислонившись головой к стене, и смотрела на скудное ночное освещение маленького города. С высоты восьмого этажа в темноте город казался не таким уж замызганным.
— Марин… я ничего не знала, правда… я только сегодня… мне Егор сказал.
— Да ладно, Верка, все в порядке. А что за водка? Не берет…
— Нормальная, наша местная водка, хорошая, выпей еще. Налить?
— Да я уже полбутылки выпила. Не берет.
— Это нервы.
— Это жизнь, Верка. А Светка твоя сука. Где же Олег?
— Она не моя. Он звонил, едет.
***
После разговора с Захаром все стало так, как он того требовал. Марина с Олегом взяли в долю Егора, платили Светке по двести баксов каждый месяц. Открытие магазина пришлось отложить, доллар и конкуренция росли, работать становилось все тяжелее, небольшая прибыль делилась уже на две семьи. Света по-прежнему жила в Москве, и ей приходилось несладко. Отношения с Захаром становились все хуже, от постоянных криминальных проблем он стал невыносим. Когда Захар приходил, Светлана втягивала голову в плечи и внутренне сжималась. Он стал поднимать на нее руку, но она понимала, что уйти от такого человека невозможно, Захар ее просто убьет.
Каждый день столичные новости сообщали о нападениях, убийствах, разборках — был разгар лихих девяностых. С ужасом смотря на лежавших в неестественных позах застреленных коммерсантов, Марина думала: «Вот убивают ни за что несчастных спекулянтов, а такие, как Захар, живут… вот машину опять взорвали с каким-то авторитетом…» В то же время она понимала, что та дань, какую они платят, невелика, но сама мысль, кому, Марине была отвратительна. «Бывшей жене, как же это унизительно. Я представляю, каково Олегу!» Но Олег смотрел на все происходящее философски.
— Мариша, крыше платить надо? Надо. На Майка давать надо? Надо. Считай, мы одним махом двоих убивахом. А так бы — и бандюгам дай, и алименты отстегни.
Он, как всегда, был прав, и Марина, в конце концов, смирилась с ситуацией.
Однажды поздно вечером раздался телефонный звонок. Марина отложила в сторону приготовленные для пересчета пачки денег и взяла трубку. Олег собирал сумку к их завтрашнему отлету за товаром. Он посмотрел на часы: «Кто так поздно? Первый час ночи».
— Да, слушаю. Привет, Егор! Ага, собираемся. Да ты что-о-о?! Когда?! Ясно… хорошо…
— Мариша, что там?
— Олег, Захар в реанимации, ему ампутировали обе ноги.
— Да ладно!
— Ага, его машину взорвали, говорит, вчера по новостям показывали. Подложили взрывное устройство под пассажирское сиденье, сам жив, а ноги оторвало, вот кошмар какой!
— Маринка, что теперь?..
— Ничего теперь. Свобода, Олег! Ждем…
Олег с Мариной по-прежнему хотели работать одни, но, пока жив Захар, это было невозможно. Сейчас появилась хоть какая-то надежда, и это значит, надо было желать скорейшей кончины хоть и отпетого бандита, но все же человека. В ожидании новостей от Светланы закуп был отложен, Егор целыми днями сидел на телефоне и пейджере. Светка звонила брату и рыдала в трубку. Захар Семенович после покушения прожил в реанимации три дня. Его кончина принесла Светке освобождение от сексуального рабства, а Марине и Олегу — моральное удовлетворение. Практически сразу Олег объявил Егору о разделении бизнеса. Конечно, Егор принял эту новость не на ура, он ожидал чего-то подобного, но все же был подавлен, но Калугину было наплевать.
— Как же они меня достали, все эти Холодцы и Захары! Все! Работаем, Мариша, ра-бо-та-ем! Работаем одни!
Они взяли два кредита, валютный и рублевый, и открыли небольшой продуктовый магазинчик, продолжая работать с оптовиками. ЧП Толмачевой документально не закрылось, его оставили Егору, а сами, без фантазий, расписались в загсе, Марина взяла фамилию мужа, чтобы открыть «ИТД Калугина М. И.». Почти вся прибыль уходила на покрытие долгов, они мотались, как заведенные, еле-еле выходя в плюс. После смерти Захара их «крышей» остался Ваня Лучник, много не взимая, символически, по сто долларов в месяц, по старой дружбе. Постоянные проверки санэпидемстанции, пожарных, налоговой, администрации сжирали в прямом и переносном смыслах больше, чем бандитские поборы. Магазин больше забирал, чем давал, и Марина изо всех сил тянула жилы. Она выкуривала по пачке сигарет в день, ежедневно снимая нечеловеческое напряжение алкоголем. Маша ходила в садик, Тамара Николаевна, как могла, помогала. Она разрывалась между домом Марины, своим — с трудной пятнадцатилетней Лилькой — и больницей, в которой уже семь месяцев на вытяжке лежал Иван Иванович.
***
В тот год только-только выпал снег, по сухому асфальту сильно пуржило. Иван Иванович ехал по своим, пенсионера республиканского значения, делам на старенькой «копейке». Он остановился у обочины, чтобы что-то проверить в багажнике, вышел из машины, открыл его и наклонился. Сзади, на приличной скорости, со всей силы в его тело въехала «Волга» и припечатала Ивана Ивановича к «копейке». С раздробленным тазом, раздавленным пахом и переломанными ногами его доставили в больницу, где он пролежал около года. К нему, конечно же, приходили инспектор ГАИ и, зачем-то, участковый. Они все обстоятельно расспросили и записали, посоветовав заявление забрать, так как вы, мол, хоть и республиканского значения, но все же уже пенсионер, а гражданин на «Волге» еще молод, полон сил, желает работать на благо города, а никак не сидеть, и к тому же имеет родственников везде. Так что сами вы, Иван Иванович, не там встали в пургу. Иван Иванович, конечно, расстроился. Сам всю жизнь многое решал по блату, а сейчас оказался в шкуре той стороны и ничего не мог сделать, даже по закону. Ни лекарства обидчик не помог купить, ни машину отремонтировать. Виновник не то что не извинился, он даже не зашел ни разу к Ивану Ивановичу в больницу, они вообще друг друга в глаза не видели. Весь этот кошмар свалился на Тамару Николаевну, которая умудрялась и за мужем ухаживать, и Лильку не упустить, и Марине еще сумки с едой носить, и с Машей сидеть когда надо.
В очередной раз безработный Пашка восхищался: «Вот, Маринка, мать у нас двужильная!» Он, когда был трезв, возил Тамару Николаевну к отцу в больничный городок. Лена уже вовсю баллотировалась в городе на разные посты, а Пашка все продолжал себя искать. Тут еще беда случилась — в соседи к ним заселилась семья, как говорят, лиц кавказской национальности. Вполне нормальные люди. Хозяин — таксист, его жена — продавец и двое малых деток. Но Паша так ненавидел этих «лиц», что даже в подъезд заходить не мог, зная, что они где-то близко. Он не мог с ними находиться не то что рядом, а даже на одной улице, ему прямо плохо делалось. Он мечтал о резервации для них и так нервничал, что часто срывался на жене. А Лена терпела, она жила общественной работой и собаками.
***
Бизнес шел все труднее. Постоянные волнения, налоги, ломавшиеся в пути фуры со скоропортящимся товаром доводили Марину до белого каления. Обремененная дурной наследственностью, ее нервная система то и дело давала сбой. Олег с Машей закрывались в комнате, пережидая очередную бурю вместе.
— Олег, почему мама кричит? Она нас не любит?
— Любит, просто мама очень устала, и у нее плохое настроение.
— А ты устал?
— И я устал.
— Но ты же не кричишь?
— У мамы нервы, потерпи, малыш…
Олег был очень спокойным и терпеливым человеком. Он никогда не позволял себе повысить на Марину голос, никогда никого не обзывал, не оскорблял, крайне редко вставлял в разговор крепкое словцо и обладал хорошим чувством юмора, позволявшим ему легче переносить неурядицы. Правда, однажды, отчаявшись в своем упорстве заставить Машку носить дома тапки, он таки не выдержал и, как обещал, туго примотал их скотчем к Машкиным ступням. Девочка с недоумением, негодованием и попранным чувством достоинства смотрела на эту инсталляцию, но молчала и не сопротивлялась, потому как была крайне удивлена тем, что Олег вышел из себя. Она так и хромала по квартире, показывая, дескать, вот видите, как я мучаюсь от вашего тупого воспитания. «Из-за такого-то пустяка! Ну не его же ноги мерзнут, подумаешь, ходить босой по дому!»
Олег никогда не ругал власти и правительство, никогда не говорил «понаехали». Если ему не нравился человек, он старался с ним не общаться, а если человек этот был из их общего бизнеса, он просто сводил их совместное общение до вежливых деловых диалогов. Марину порой даже раздражало его какое-то нечеловеческое терпение, да как так-то? И не поругаться совсем? Но что больше всего ее удивляло, а с годами доводило до исступления, так это абсолютное отсутствие ревности. Олег никогда ее не ревновал. Ему достаточно было знать, куда Марина пошла. Ни с кем ушла, ни когда придет. Хоть Олег и пытался ей объяснить, что он ее любит и доверяет, Маринка считала это равнодушием и пофигизмом. Она злилась, вила из мужа веревки, испытывая его терпение, назло совершая безрассудные поступки, уязвляющие его мужское достоинство. После очередного девичника Олег вырывал испуганную Маринку из рук каких-то нерусских мужиков, те кричали: «Эй, послушай, дарагой! Это наша женщина!», отвозил ее домой, утром отпаивал чаем и рассолом, и ни слова упрека.
— Мариша, ну что же ты делаешь? Тебе сейчас и телом плохо, и на душе говённо, ради чего? Меня уязвить? А за что? Непонятно. Глупая ты…
Сам Олег редко ходил куда-то без жены. Когда Марины не было дома, он покупал семечки, открывал пару бутылок пивка и садился у телевизора коротать вечер. Жена болталась с подружками, все чаще возвращаясь домой далеко за полночь. Утром она всегда болела, а Олег неизменно был рядом с горячим крепким чаем с лимоном. При таком раскладе вещей сама Марина мужа ревновала, она панически боялась, что Олег ей изменит, неважно, случайная это будет связь или он решит ее бросить. Она гнала от себя эти навязчивые мысли. Они уже несколько лет вместе, а она до сих пор не верила, что Олег ее любит. Она считала себя недостаточно красивой для него, недостаточно хорошей, недостаточно уравновешенной, в общем, недостаточной. И вопреки логике, вместо того, чтобы быть мягкой и послушной, Марина все больше дерзила и огрызалась, отчего становилась реально некрасивее. Ее необоснованные обиды, ища выхода в ожидаемых ответных претензиях, отскакивали от непробиваемой стены мужниного спокойствия. Марина понимала, что делает только хуже, но вечное женское беспечное «лучше меня все равно не найдет» подсознательно толкало ее на новые безрассудства. Олег не всегда понимал жену. Все, что Марина выплескивала ему в лицо, сгорало у него внутри. Ему было обидно и больно от ее слов и поступков, он так сильно любил и так боялся ее потерять. Он часто думал: «Ну что? Что я делаю не так? Дом, семья, совместное дело, общие друзья и любовь, в конце концов!»
— За что ты так с ним?
— Ни за что.
«Может, я ее не устраиваю как мужчина? Нелепость! Мы просто созданы друг для друга. Я это вижу. Долго врать в ЭТОМ вопросе не сможешь. Какой смысл изображать страсти? Раз прикинулась, два, а потом? Себя же и загонишь в тупик. А девчонки наступают на свои же грабли, изображая поначалу бразильскую страстность, и потом не знают, как признаться своему мужчине, что она не такая уж и секс-бомба и что не три минуты ей надо НА ВСЕ ПРО ВСЕ, а двадцать. Нет, в этом вопросе у них все тип-топ. Тогда почему Маринка так истерит?» Олег не находил этому объяснения и списывал все на накопившуюся усталость.
А Маринке было тошно от себя самой. Умом понимала, что так нельзя, но остановиться не могла. Или не хотела? Нет, скорее, тут что-то другое. Зачастую ревнивые женщины сами первыми переступают черту, находясь в постоянном ожидании измены своего мужчины. Они как бы хотят сказать: «Видишь? Я всем нужна! Будешь смотреть налево, потеряешь меня, такую распрекрасную». Как правило, так поступают совсем не красотки, а среднестатистической внешности женщины, что-то себе доказывающие. Именно себе. Ну кривые у нее ноги, ну подумаешь, нос картошкой, зато от мужиков отбоя нет. Марина ту черту в отношениях не переступала, и ноги у нее были вполне приличные, и носик милый, но характер! Она была горда и надменна, и терпеть не могла серость, тупость и нищету. А признаки последней уже маячили на их семейном горизонте.
На страну обрушился кризис, и пошли-поехали черные вторники и четверги. У них с Олегом еще оставалась часть кредитов, а «начать и углубить» было уже нечего. Пришлось закрыть магазин, продать «кое-что» из имущества (даже кофемолку и тостер), машину и еще занять у стариков, чтобы не остаться в должниках. Началась долгая черная полоса в их жизни. Олег не мог устроиться на работу, Марина, в поисках хоть какого-нибудь дела для себя и мужа, обзванивала своих давнишних знакомых. Чтобы чем-то занять руки, Олег купил пару моделей самолетов и часами сидел на кухне, кропотливо склеивая крошечные детальки. Столовались они то у Маринкиных, то у родителей Олега, по очереди. При своих пенсиях они умудрялись содержать не только себя, но и помогать своим деткам, горе-бизнесменам. Через полгода Олега, наконец, взяли производителем работ, то бишь прорабом, мастером на объекты, где он курировал частные, в основном, евроремонты квартир. А Марина со своим гуманитарным образованием устроилась начальником отдела сбыта на возрождающийся (как ни странно) в то время завод «Северстроймаш», выпускающий кое-какие части для кое-каких агрегатов. Эти агрегаты сами были частями кое-чего важного и стыковались где-то в России. В общем, ей пришлось изучать серьезное производство. Она быстро наладила контакт с подчиненными и руководством, подвинула конкурента, выскочку-карьериста, метившего на ее место, и поступила на заочное отделение в Санкт-Петербургский государственный университет, на факультет управления. Зарплата была небольшой, но стабильной, к ней прилагался полный соцпакет. У Олега перебоев с заказами не было, он с утра мотался по нескольким объектам и в течение дня был предоставлен сам себе, поэтому его не очень угнетала мысль, что это не собственный бизнес. Из свободного торгово-закупочного плавания их развернуло батрачить на «чужого дядю», что оказалось вполне интересным времяпрепровождением. Деньги пошли очень даже неплохие, кроме того, Олег кроил на стройматериалах, конечно, это было не совсем честно, но надо же было делать хоть какие-то накопления и купить, наконец, машину.
Марина с девяти до пяти парилась в кабинете, пусть и начальником, но ей было тесно в офисе, она не хотела свыкнуться с мыслью, что это останется постоянным местом ее работы до пенсии. Но нужны были деньги, Машка пошла в школу, да и самим пора было обновить гардеробчик после периода вынужденного простоя. Они даже умудрились отдохнуть в трехзвездочном турецком отеле, где питьевую воду продавали, а воду помыться включали только на два часа в день. На завтрак предлагали завядшие помидоры и огурцы, два вида колбасы и вареные яйца, пить давали «Юпи», «Зуко» и пахнувший опилками чай, а грязные, прожженные сигаретами ковры в коридоре были протоптаны туристами до проплешин и, судя по их внешнему виду, явно отметили свое N-дцатилетие. Но измотанным Олегу и Марине было наплевать на эти мелочи жизни. Они, беспечные и уставшие от российских передряг, три дня нежились на песочке, живя в бесконечном счастье, видя перед собой только безбрежное море и бескрайнее небо. На четвертый день иные отдыхающие, «дорогие россияне», утомленные «Зуко», собрали митинг, обосновали свои претензии администрации и чуть не разнесли полгостиницы. Их всех быстренько расселили по турецким городам и весям. Калугиным достался огромный номер в пятизвездочном отеле в Кемере абсолютно без всякой доплаты. Они еще раз убедились, что нет худа без добра.
Их жизнь стала налаживаться, кубышка понемногу наполнялась. Молодые, красивые, здоровые, что еще желать? Вернулись прежняя беспечность, ощущение стабильности и уверенность, что так теперь будет всегда. Дома их ждал новенький «Опель». Прежние друзья, исчезнувшие было в период безденежья, зазывали к себе и охотно приходили сами, а старая добрая запотевшая водочка старалась мирно уживаться в желудках с холодным пивком и оливье. Жизнь пошла своим чередом, а к Маринке стало возвращаться чувство тревоги.
***
Как-то серым теплым днем негрустной осени Мариша разбирала на рабочем столе бумаги. Надо было обзвонить поставщиков и обработать пару частных заказов.
— Алло, Виктор Сергеевич! Добрый день, это Калугина Марина Ивановна, «Северстроймаш», я по вашей заявке, — держа трубку плечом, Марина рисовала на листе-заказе линии, лепестки и причудливые геометрические фигуры.
Она увидела, как в кабинет робко зашла красивая молодая женщина. «Сколько ей? Странно, возраст не определить, тридцать? Пятьдесят?»
— Виктор Сергеевич, вашу сварную конструкцию начинаем, надо бы размеры уточнить. Присаживайтесь, пожалуйста, — Марина кивнула гостье на стул, — да, высоту и как стыковать будем, на петлях или жестко варим?
Женщина присела на краешек стула, сложила руки на колени и огляделась.
— Пару минут, пожалуйста, — прикрыв ладонью трубку, бросила Марина посетительнице, — да, вы размер указали, но нечетко видно. Да, хорошо, пишу, метр двадцать, на петлях, срочно. Виктор Сергеевич, за срочность, сами понимаете… да, хорошо, десять процентов от стоимости. Договорились, всего доброго, до свидания! Слушаю вас, — Марина обратилась к растерянной женщине.
— Я, наверное, ошиблась офисом, — улыбаясь, сказала посетительница. — Я ищу магазин тканей, мне сказали, он по этому адресу.
— Да, это в соседнем здании, на первом этаже, там несколько магазинов и офисов. У нас дом два, у них два «а». Вам туда, скорее всего.
— Да, извините, что отвлекаю.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.