
Бесплатный фрагмент - Второго дубля не будет
Всё ещё молодость
Книга третья
Всё ещё молодость
Первые годы семейной жизни,
для тебя, Алексей, впрочем, как и все остальные.
Часть первая 1969—1976 годы
Подлипки, Долгопрудный, Москворецкая, Москва, Белоозерская, Дзержинский
Это не мемуары. Мемуары пишутся людьми известными, или людьми, которые находились возле известных людей, и читать их всё равно, что слушать сплетни про соседей — пусть они тебя не знают, но ты их знаешь, и сейчас узнаешь еще больше.
Это и не роман. Роман — это повествование, написанное красивым языком, в котором действуют в вымышленных обстоятельствах придуманные и ведомые автором куклы-марионетки.
Это и не летопись. Летопись ставила своей задачей правдивое описание значительных событий, влияющих на ход истории, чтобы потомки знали со слов очевидцев, как это было. Исторических событий в данном повествовании нет.
В общем, не мемуары, не роман, не летопись, и значительно уступает этим трем жанрам: нет сюжета, литературного языка, батальных сцен, красивых пейзажей, но имеет, во всяком случае, перед романом, преимущество безыскусственности и дает возможность сопоставлять выдумки романов с хитросплетениями обычной жизни, а в жизни бывает такое, что даже в «Санта-Барбаре» не придумали.
Между семьей и тюрьмой есть что-то общее:
первые пять лет ходишь закованный в тяжелые цепи,
затем пять лет в легких кандалах,
еще пять лет совсем без кандалов и,
наконец, еще пять лет заключенный
живет совсем свободно, гуляет, где ему заблагорассудится,
и только вечером возвращается в тюрьму, чтобы переночевать.
Бранислав Нушич
Это третья часть моего непомерно разросшегося повествования о превратностях собственной жизни. Читать ее можно, не зная предыдущие части, да и что там было?
Жила была девочка, по виду скорей Золушка, но в душе, безусловно, принцесса. Росла, росла и выросла, в конце концов. Нашел ее красивый молодой принц, правда королевство этого принца было совсем маленькое, а может его и вообще не было, но он взял принцессу в красивом белом платье за ручку и повел, нет, не во дворец, а в районный ЗАГС, не в золотой карете (такси с лентами), а пешком, но гости пришли, мед, пиво пили, цветы, подарки дарили. Тут и сказке конец, занавес упал, огни рампы погасли, зрители разошлись, и начались будни, те будни, про которые в сказках только одна строчка, а бывает, что и ее нет.
Я приступаю к описанию первых семи лет нашей семейной жизни. Семь лет вмещают так много событий и переживаний, что страшно начинать. Никаких письменных документов кроме записей про детей у меня на этот период жизни нет, только фотографии, цветные слайды, рисунки, в общем, жизнь в картинках, жизнь немая и на картинках не такая уж и безрадостная. К вопросу о радостях, — стала бы я описывать свою жизнь, если бы она, с моей точки зрения, была счастливой, такой, о какой мечталось: любимый, непьющий и всё понимающий муж, здоровые, чистенькие и послушные дети, интересная работа, где тебя уважают, сама здоровая, красивая и нарядная, кругом всё чисто, уютно — улица, дом, квартира, денег достатоточно, в общем, примитивно и скучно, но грех жаловаться, — а не такая, какая получилась: тяжкий труд, бесприютность и нищета, бесконечные болезни свои собственные и близких; если бы у меня была жизнь, как мне хотелось, стала бы я ее описывать? Думаю, что нет. Именно потому, что прожитая жизнь принесла мне много разочарований, мне захотелось ее запечатлеть, еще раз пройтись по ней, хоть так поквитаться с судьбой, с безвозвратно ушедшим временем, с несоответствием мечты и серых будней. Кроме того, последнее время наша действительность так поменялась, что внуки не могут представить себе, как мы жили, да и дети слабо помнят, и я постараюсь описать, как жилось молодой женщине во второй половине двадцатого века в России, хотя бы на примере моей, ничем не примечательной, обычной судьбы. Меня, правда, слегка ошеломляет грандиозность этой, неизвестно откуда взявшейся задачи, но начнем…
1969 год, свадьба, начало совместной жизни
Я вышла замуж за парня из рабочей среды, получившего высшее образование, таких тогда, в конце 60-ых годов, было много, целое поколение молодежи уезжало в большие города. Вузы расширялись, институтские выпуски увеличивались, каждый стремился выучиться, и примерно 30% выпускников средних школ становилось инженерами. Конкурсы в технические институты были небольшие, не сравнить с конкурсами в гуманитарные институты, поступить было довольно легко, образование избавляло от службы в армии, и все мало мальски способные и сообразительные уходили из рабочих и крестьян в техническую интеллигенцию. Они и определяли дух того времени, напора и трудолюбия хватало, а вот общей культуры – нет, хотя и была большая тяга к ней. Рушилось представление об интеллигенте, как о человеке в очках, тихом и деликатном, не умеющем за себя постоять, нет, теперь интеллигент был крепок, здоров, плоть и кровь рабочего класса и крестьянства, и в случае необходимости мог постоять за себя, прибегал к матерщине и даже кулакам (кулаки к моему муже не относятся, он рос тихим мальчиком).
Итак, я вышла замуж за Алексея Андреевича Криминского, который меня домогался, вышла потому, что была в него влюблена, потому что вдвоем с ним мне было лучше, чем одной, потому что подруги потихоньку пристраивались, и страшно было отстать. Замужество всегда риск, и надо было решаться, в конце концов. Свадьба наша состоялась 25 июля 1969, через 8 месяцев после первой встречи 30 ноября 1968 года на свадьбе у Дианки и Жени Григорьева.
Все внешние обстоятельства были против нашего замужества: ни кола, ни двора, рассчитывать особенно не на что, за были только наше чувства друг к другу, но и этого оказалось достаточно на ближайшие тридцать лет, а может быть и до конца жизни.

Первые три месяца после знакомства мы встречались почти каждый вечер, но потом довольно редко, в конце марта, начале апреля у нас был кризисный момент, и я даже сказала Ирине, когда мы стояли с ней вдвоем на платформе Новодачной, я провожала ее в Москву: — Всё, завязываю.
Сергеева покидала мою руку на своей ладошке и вздохнула: — Одна уже завязала. — Имелась в виду Динка Фролова, только что вышедшая замуж за Женю.
Мы с Алешкой тогда начали часто ссориться не из-за чего, но потом, к весне, когда у нас установились более тесные контакты (назовем это так), мы перестали цапаться, подали по тревоге заявление в загс, не забрали его обратно, когда тревога оказалась ложной, и вот, пожалуйста, свадьба, так что Ирка предвосхитила события.
— Как мы будем с тобой жить? — спросила я Криминского после того, как мы подали документы. Ни у тебя, ни у меня не было полной семьи, и мы не знаем, как строятся отношения между мужем и женой.
— Прекрасно, у нас не будет дурных примеров, — ответил будущий муж.
Вечеринка по поводу нашей регистрации состоялась у Алешки в общежитии в Подлипках. Более скучной и неудачной свадьбы, чем моя собственная, я не помню. Была 30-градусная жара, Алешка купил много водки, которой было в избытке, а вина не хватило. Магнитофон не работал. Стол еле-еле успели сделать к сроку. Свекровь вся была из себя недовольная, что ее сыночка так быстро окрутили, оказывается, когда он ездил на май к маме, он и не подумал предупредить ее, что встречается с девушкой, а только вообще поговорил о том, что время подходит жениться. В мае не сказал ни слова, а в июле уже женился, да еще я не понравилась свекрови. Многим маминым подругам, имеющим сыновей, я нравилась, нравилась именно внешне, а тут вот нет, не гля́нулась я, да ещё скандал устроила из-за колбасы. Я хотела попросить Ирину купить к столу колбаски, но Алешка сказал, что это хорошо сделает Сашка Потапов, а Сашка зашел в ближайший магазин и купил отдельной колбасы 2 батона за 2.20, вместо того, чтобы купить разных колбас. В центре Москвы тогда еще можно было купить и сырокопченой, отстояв очередь, а кто будет есть отдельную колбасу за праздничным столом? Я очень огорчилась и выдала довольно резко Алешке, мол, ты должен знать, кого и о чем просишь, если Сашка не понимает, не надо ему и поручать.
Свекровь сквозь сжатые губы: — У нас и такой колбасы нет, а вы тут не знамо чего хотите.
А мамочка моя махнула рукой: — Ну, тогда вам и такая сойдет.
Фраза эта и махание рук, что, мол, всё в порядке, не только не затушили пожар, но добавили масла в огонь. Свекровь разъярилась, что они такие, что им сойдет то, что нам не годится, и отправилась проливать слезы на кухню, я тоже в слезы, я не была готова к ничем не оправданной враждебности свекрови и совершенно не видела, чем это я плоха для ее ненаглядного сыночка, скорее это он на меня не тянет, неотесанный дикарь с острова Пасхи, да и не способна я была тогда общаться с людьми старше по возрасту и значительно ниже по интеллекту, не умела я делать скидки на это или изображать из себя то, чем я не являлась, простую такую русскую девушку с открытой душой и любовью к чистоте и порядку. Да и как изобразить из себя русскую, если ты армянка по отцу и грузинка по матери?
Алешка разозлился тем временем на тещу, что обидела его маму, а я заступилась за свою мать, которая старалась, готовила свадьбу, тратила деньги, приветливо к нему относилась, не то, что свекровь ко мне, и сказала, правда, уже не в крик, а тихо, что его мамочка кого хошь сама обидит, что если она недовольна свадьбой, так и зачем было приезжать и сидеть с постной миной, свадьба сына — радостное событие, а она даже поучаствовать не хочет, и т. д. и т. п.
— Если твоей матери не нравится, из какой семьи ты берешь жену, так и женился бы на какой-нибудь матерщиннице от сохи, такая бы ей больше понравилась, — заключила я уже в отчаянии, понимая, что дело не только во мне, но и в моей матери, и как ни старается мама уважительно относиться к свекрови, но мама — врач, образованная женщина, а свекровь — рабочая с четырехлетним образованием, и нет у них иных точек соприкосновения, только дети, и самолюбивая свекровь прекрасно это осознает.

Хорошенькое получалось у нас начало семейной жизни.
Было очень жарко, тревожно, туфли жали ноги, всё было не так, и я была вся какая-то взъерошенная, и внутри и снаружи.
Мы решили не брать машину, загс был рядом, одна остановка на электричке, и там пройти метров 200. На мне было короткое платье с летящей спинкой и кокеткой под грудь из плотного белого материала с белыми же разводами, вышивкой жемчугом спереди, короткая фата и итальянские белые туфли с подрезанным тупым носом, которые тогда уже вошли в моду. К ним прилагались банты спереди, капроновый бант на прищепке, и потом я носила их без бантов. Платье мне мы купили со второго захода. Первый раз мерили до головокружения, и всё было мне велико и дорого: 45 рублей стандартные платья из капронового гипюра, все 48 размера, все мне велики.
— Не подходит, велико, — пожаловалась я Алексею, выползая из примерочной в очередной раз.
— Ну, где теперь такую невесту найдешь, — вздохнул мой жених.
Спустя неделю мы с мамой вдвоем, уже без Леши, бегая по Московским магазинам, случайно купили мне симпатичное белое короткое платье с летящей спинкой. Когда я в очередной раз, утонув в платье, грустно вышла из примерочной магазина на проспекте Мира, мама воскликнула:
— Посмотри, какое девушка платье собирается мерить, почему ты такое себе не возьмешь, оно маленькое.
Девушка, держащая хорошенькое белое платье в руках, странно покраснела, а я, задумчиво глядя на ее смущение и думая, чем оно вызвано, ответила:
— Такого платья нет на вешалках. Оно одно.
Стоя за примерочной в ожидании, чем кончится дело борьбы с платьем, мы слушали треск материи. Я заметила его недостаток — обуженный как будто специально для меня рукав.
— Что, никак? — услышали мы голос ее мамочки, и они выползли из-за занавески очень расстроенные.
— Не подошло? — сразу кинулась к ним мама, — ну пусть моя померит.
Мне в самый раз пришлось это платьице на мои тощие руки-макаронины, а когда мы отнесли платье на контроль, то продавщица закричала куда-то в зал, в пространство:
— Что же вы делаете, за этим платьем придут.
— Уже пришли, — сказала я, наконец понимая, что платье сшито на заказ, — мерили, и им оно не подошло, так что и я могу купить, — а мама подавала выбитый чек, и мы ушли с покупкой. Нижнее белье я купила в ГУМе — очень красивое — серебристый нейлон с белым натуральным кружевом, и красивый кружевной пояс для чулок, колготок тогда еще не было,
Пояс я показала Алешке, и он долго недоуменно вертел его, прикладывая к своей груди, тараща желтые глаза и шевеля губами, пока я не отобрала покупку со словами: — Это не туда прикладывается.
Алешка был в новом черном костюме. Он, пока работал на комсомольской стройке, заработал там всего тридцать рублей, но его кормили бесплатно, вернее вычли еду из их заработка, а оклад в лаборатории сохранился полностью, поэтому, вернувшись, он оказался при деньгах (при ста рублях) и купил на эти деньги костюм к свадьбе.
На самом деле, имея доход 120 рублей в месяц минус вычеты, очень трудно накопить на костюм. Денег только-только на еду одному.
Когда мы шли по улице к загсу, то привлекли внимание уличных мальчишек. Целая толпа мальчишек бежала за нами всю дорогу и кричала:
— Смотрите, смотрите, невеста идет, невеста идет.
В загсе, услышав ритуальный вопрос «Вы хорошо продумали этот шаг?», я испугалась, стала думать, хорошо ли я продумала этот шаг, после утреннего скандала мне казалось, что недостаточно хорошо, и только после большой паузы ответила:
— Да.
Алешка же сразу ответил утвердительно, и выходило, что он продумал, а я всё еще колеблюсь. Но тут меня осенило, что это обряд, вовсе не одну меня так спрашивают, и на дальнейшие вопросы я отвечала быстро.
Свидетельницей с моей стороны была Зойка, она приехала с отработок, из колхоза, вся загорелая и красивая, негр негром, а Алешка пригласил Эдика Баландина, своего близкого приятеля, у которого в тот момент жена была в роддоме и родила девочку на следующий день. Так потом мы и высчитывали возраст его Наташки, сколько лет мы женаты, столько ей лет.
После процедуры нам предложили поздравить друг друга. Криминский быстро чмокнул меня в щеку.
— Что же так сухо? — спросила женщина, которая нас зарегистрировала, и Алешка решительно исправил свою ошибку под смех присутствующих.
Эдик Баландин, который выполнял не только роль свидетеля, но и фотографа, щелкнул нас, когда мы с трагическими выражениями лиц разглядывали печати в паспортах.
Вернувшись из загса мы застали в комнатах Ирину, которая тут же энергично взялась за готовку. Зойка, мама и я присоединились. В конце концов, свекровь тоже закрутилась в общей суматохе, и к 2 часам стол накрыли.
— Сошлись бы себе тихонько и жили, зачем эта свадьба, только трата денег, — сердилась свекровь.
Звали ее Любовь Феопентовна, оригинальностью своего отчества она очень вписывалась в круг близких мне женщин, Людмила Виссарионовна, бабушка, Нонна Самсоновна, мама, еще, правда вдали была Сусанна Рубеновна, вторая бабушка, я, Зоя Карловна, и весь этот букет дополнился еще и Любовью Феопентовной, чтобы мой муж, единственный мужчина в этом царстве женщин, постоянно чувствовал себя как на раскаленной сковородке.
Вернувшись из загса, я разулась и уже не смогла надеть туфли на волдыри, а переобуться было не во что, и мне пришлось сидеть со своими разбитыми ногами, а Алешка с Ириной, когда стол был готов, пошли вниз встречать гостей.
Алешкины товарищи, которые меня никогда не видели, принимали Ирину за невесту и поздравляли ее. Приходилось Ирке со смехом отвергать их попытки вручить ей цветы. Она указывала на меня в окне, и я приветствовала всех взмахом руки.
Было лето, и на свадьбе из моих подруг были только Ирка, Зойка и Лена Жулина, еще мама позвала родственников, Хороших и Хучуа. Резо с Галей приехали вместе с Кето, тогда ей было лет 12, и она была страшно возбуждена фактом своего присутствия на таком необыкновенном мероприятии, как свадьба, всё бегала вокруг меня, обнимала, щупала платье и фату, радовалась. Остальные были товарищи Алешки по институту и представители из лаборатории, завлаб с женой, и Мельбард, громко именуемый руководителем группы, которая состояла из Алешки и его. При появлении опоздавшего и уже поддатого Мельбарда Алешка прошептал мне таинственно:
— Всё-таки пришел, — тут была долгая борьба чувств и долга.
Сказал он это значительно, но я не поняла, где были чувства, а где долг? Прийти к нам на свадьбу требовал долг или это по велению чувств?
Мельбард долго говорил о невозможности измены между нами, что казалось мне несколько преждевременным, потом он перебрал, приставал ко всем женщинам подряд, лапался, и Ирка дала ему по морде, и даже мама отбивалась. Затем он уснул, положив голову в остатки бажи, подливки из орехов, чеснока и кинзы, предварительно выхлебав ее ложкой, и Ирина, увидев это, готова была его убить, так ей было жалко любимую подливку.
В общем, все, кроме свекрови, сидевшей за столом грустной, с трагическим лицом, а потом вообще ушедшей на кухню, забыли неприятный утренний эпизод с колбасой.
Алешка всё время пытался починить магнитофон, поворачиваясь при этом задом к столу, и отвлекался от этого дела только тогда, когда кричали горько, но магнитофон пару раз издал какие-то хриплые душераздирающие звуки и потом совсем затих.
Часам к девяти, когда народ уже начал расходиться, вдруг открылась дверь, и появился мой папочка с сестрой Светкой. Все всполошились, стали его приветствовать, снова тащить тарелки с едой на стол. Оказывается, он получил телеграмму о моей свадьбе, но потерял ее, а в ней был указан Алешкин адрес, и папа поехал на Москворецкую, думая, что свадьба там.
Бабушка моя была дома и, когда неожиданно вошел бывший зять, от изумления и испуга выронила тарелку, которую держала в руках.
— Я думала, что всё, уж до самой смерти его не увижу, и, на тебе, привел бог свидеться, открывается дверь, и Карл Арамович — собственной персоной, — в таких словах повествовала бабушка мне об этой встрече. Тарелка с грохотом разбилась, салютуя неожиданному свиданию.
Поскольку папа забыл и Воскресенский адрес, то нашел нас случайно, расспрашивая прямо на станции, где живут такие-то и такие-то. Его приняли за цыгана и направили в нашу квартиру, так как соседи наши были цыгане.
Разузнав у бабушки, где и что, папа со Светланой помчались в Подлипки, три часа езды, можно себе представить, как они устали, в особенности Светка.
Отец сел за стол, поел, выпили раз, потом еще, потом он вдруг оглядел трех молодых парней, которые с ним пили, все в белых рубашках и черных брюках, у всех ворот расстегнут, рукава засучены — жарко, и папа вдруг спрашивает:
— Ну, ладно, всё хорошо, а который зять?
— Я, я зять, — радостно закричал Алешка, подливая тестю.
Алешка снял комнату в Болшево, в частном доме. Мы зашли туда после загса посмотреть, на жилье, мама посидела, пощупала пружины старого дивана, и сказала:
— Ну, ладно, поживете до сентября, а там видно будет.
Хозяин, плюгавенький мужичонка с бесцветными бегающими глазками, мне не понравился, а хозяйки не было. Я тоже пощупала диван, и мы ушли.
После свадьбы, после встречи и разговоров с папой, часов в десять мы взяли чемодан и поехали на снятую квартиру обратно в Болшево.
И тут тоже разразился скандал. Мы пришли и обнаружили, что хозяева забрали наши вещи из комнаты и перенесли их куда-то в сарай.
— Там у нас живут дачники, — сказали они, — а тут место для постоянных жильцов, а раз вы не постоянные, а только на месяц, до сентября, то живите в сарае. — Их бесцеремонность: вот что возмутило меня, а они не желали отвечать на вопрос, почему они не подождали утра, а сами зашли в нашу комнату и без спроса взяли наши вещи, а я всё твердила:
— Вы же знали, что мы придем со свадьбы, и так поступили. Нам негде даже лечь. А в вашу вонючую конуру мы не пойдем, разговор не о ней шел.
— Вы нас обманули, — утверждала хозяйка, — сняли на месяц, а говорили, что постоянно.
— Мы и сняли постоянно, но теперь я здесь ни за что не останусь. Вы сейчас взяли наши вещи и потом тоже будете заходить и в белье копаться.
Я вспомнила Барабадзе — какие были милые скромные люди, Тебро заходя к нам, вела себя как в гостях, стучала и разувалась, хотя ее просили проходить так.
Кстати, они поздравили нас телеграммой, подписав «Тебро и Сандро Барабадзе», и Алексей был очень доволен, что его поздравляют такие экзотические люди из далекой Грузии, где он никогда не бывал, но где о нем знают.
— Отдавайте наши десять рублей, и мы уйдем, — решительно сказала я.
— Задаток дается, если всё по честному, а вы нарушили, — пищала хозяйка.
Эта выдра с мочалкой на голове не желала даже деньги вернуть!
— А ну, отдавайте, пока я орать не начала, что вы ворюги, и не устроила скандал!
Я уже тряслась от злости. Они меня испугались, поняли, что вправду начну орать и переполошу всех ночью, и, несмотря на то, что Алешка шептал мне, может, останемся на одну-то ночь, я не уступила ни им, ни мужу, схватила вынесенную десятку, Алешка взял раскладушку, чемодан, и мы ушли, я пожалела, что позволила мужу искать квартиру, и еще я поняла, что у алчных и склочных людей никогда не надо снимать, они видны сразу, и лучше с ними не связываться.
Сонный Алешка стоял в тамбуре электрички, и клевал носом, и мне было его жалко, уж очень у нас замечательная получалась первая брачная ночь.
Мы вернулись в общежитие, все уже как-то устроились, а в той комнате, где был накрыт стол, в углу на подстилке, которую постелили ему то ли мама, то ли свекровь, спал Мельбард, пьяный в стельку, кровать же была свободна.
На эту кровать хотели было положить Светланку, но отец мой посмотрел на лежащего в углу руководителя группы и спросил, как передала мне мама: — Это что?
Объяснения его не успокоили, и Светке нашли место где-то поуютнее, а никелированная кровать с панцирной сеткой досталась нам.
Мы постелили на кровати и на раскладушке и залегли наконец-то спать. События дня не остудили и не утомили моего молодого мужа, и утром я сказала, смеясь:
— Твой Мельбард теперь нам как родственник, присутствовал, можно сказать.
Только к 12 часам позавтракали, и Алешка с Володькой, — таинственный Мельбард, в конце концов, проспавшись, оказался простым Вовкой, уехали в Москву. Перед этим Володьке рассказали, как он себя вел. Он сразу среагировал:
— А почему мне никто по морде не дал?
Володя за завтраком узнал, что мы остались без крыши над головой, и предложил пожить у него в комнатке в коммунальной квартире. Его вторая жена была на последних месяцах беременности, и ей было тяжело справляться одной. Они решили переехать к ее матери, а комнату Володька дал нам на август месяц. Комната его была в районе Малой Грузинской, с двумя соседями. Одна была дворничиха с дочкой-горбуньей немного постарше меня, а другая семья, женщина с двумя детьми, выгнавшая пьющего мужа, была на даче, и нам предстояло жить с этими двумя.
— А соседи не будут возражать? — беспокоилась я.
— Пусть только пикнут! — сказал Володька.
— Смело живите там месяц, а потом всё, дольше я свою тещу не выдержу.
— Ну, надо же, — возмутилась моя мама, — тещу он не выдержит. Это теща его больше месяца не выдержит, и то только очень хорошая теща.
Вечером того же дня мы перебрались к Мельбарду, а днем Светлана, ставшая в свои шестнадцать лет красивой девушкой, светловолосой, зеленоглазой, совершенно не похожей на нашего папу, только смуглость кожи и очень слегка очертания носа выдавали в ней армянку, и то только тогда, когда знаешь, чего ищешь, а так она была красивой русской девушкой на первый взгляд, так вот Светлана за обедом подробно рассказала, как они с папочкой добирались до нас.
Оказывается, отец, не успев сойти с поезда, тут же встретил своего давнишнего приятеля, с которым несколько лет не виделся. А вот был ли этот приятель с Кавказа или с Севера, из Мурманска, где долго служил отец, не помню. А что делают в России два приятеля, встретившись неожиданно на вокзале? Они зашли в ближайший ресторан отметить встречу (а папочка, вообще-то, едет на свадьбу дочери) и засели там часа так на три, и только после этого Светка с папой поехали на Москворецкую, а куда делся приятель, неизвестно. Так вот, когда они сидели в ресторане, мой смуглый черноглазый папочка с почти седыми волосами, явно лицо кавказской национальности, как сейчас говорят, Светка, русская девушка 16 лет, к ней подошли и тихо так со спины бросили:
— Ты что, на погоны позарилась?
Рассказывая мне это, Светка обиженно таращила свои и без того огромные глаза:
— Представляешь, что они обо мне подумали? Хорошо, отец не слышал, а то бы в драку полез, и мы бы точно на свадьбу не попали, а сидели бы в кутузке.
Отец сказал только:
— Да надо было бы им морду набить, зря ты промолчала.
Вечером того же дня папа со Светкой уехали. На прощание отец, оглядевшись по сторонам и ясно представив себе нашу жизнь, текущую и предстоящую, сказал Алексею:
— Зоя замужем, но я всё равно пока буду ей помогать, до окончания института, я хочу, чтобы она доучилась, — и сдержал свое слово, по-прежнему присылал мне деньги.
Свекровь поехала погостить на Москворецкую, потом, через три дня она уезжала к племяннику Женьке Гришко на Аральское море.
А к нам на другой день заявился приятель Алешки Витя, Алексей всех приглашал приехать допивать водку, но никто не пришел, кроме Вити, который жил недалеко. Витя оказался завзятым театралом, знал много сплетен про богему и нашел в нас благодарных слушателей. Мы сидели уютно устроившись в маленькой комнатке Мельбарда за журнальным столиком, Витя и я — на диване, Алешка — напротив на стуле, пили водку, вернее, парни пили, доедали остатки со свадебного стола, было весело и уютно, и вдруг… Витька, увлекшись разговором, хлопнул меня ладонью по голой коленке. Была жара, на мне из одежды были только трусики и короткий полосатый халатик из узбекского шелка, халатик немного задрался, и вот по моей прилично, вернее, неприлично голой ноге и ударил ладонью гость. Он говорил, обращаясь в основном к Алешке, сидевшему напротив, и увлекшись, и размахивая руками, взял да и хлопнул, ну просто, как собеседника любят хлопать по колену или толкать локтем захваченные разговором люди, но я, дикая женщина, мгновенно и совершенно инстинктивно вся напряглась, а у Алешки, я никогда, ни до ни после такого не видела, у Алешки брови встали дыбом, взлохматился в секунду большущий куст над очками, и повисла пауза, Витька руку отдернул как от тока, затем разговор продолжился, но как-то неактивно, с явными перебоями, и наш смущенный посетитель вскоре попрощался и ушел. Не успела за ним захлопнуться дверь, как Алексей бросился на диван лицом вниз. Плечи его тряслись.
— Ну, бедный Витя, — хохотал он, снимая очки и вытирая слезы, — наверное, думает, чтобы он да еще когда-нибудь связался с молодоженами.
— А ты-то хорош, — вторила ему я, — всё клянешься, что не ревнив, а у самого аж брови дыбом встали, всего-то жену по коленке погладили. Ты хоть заметил сам?
— Да, чувствовал какое-то шевеление волосков над глазами.
Алексею дали три выходных дня на свадьбу, а потом он вышел на работу. Алексей вставал в 6 утра, чтобы успеть к 8.20 в ЦНИИМАШ, завтракал тем, что я приготовила с вечера, и уходил, а возвращался в 6 вечера. Был очень жаркий август, комнатка окнами на юг нагревалась, и я сидела, изнывая от жары, ждала мужа. Он приезжал совершенно фантастично голодный и лопал за маленьким столиком, в неудобной позе, нагнувшись, лопал чуть ли не в течение часа. Аппетит мужа просто потрясал меня.
Я как-то пожаловалась на это Динке.
— Не говори, — вздохнула она, — Женька вчера пришел с работы, съел первое, жаркое с мясом полную тарелку и потом еще кашу гречневую с молоком. Я ему и говорю:
— Мне, конечно не жалко, но тебе не поплохеет?
И он, представляешь, обиделся:
— Вот, теперь ты мне испортила аппетит, и я не могу эту кашу доесть.
Мы засмеялись, молодые женщины, потрясенные непомерным аппетитом своих мужей.
Григорьевых не было в Москве в день нашей свадьбы, они пришли позже, неожиданно, и я накрывала на стол, выложив всё, что нашла.
Оглядев жалкие закуски на столе, я спросила, колеблясь:
— Еще фарш есть, котлеты сделать не успела. Может быть, просто пожарить фарш?
— Конечно, жарь скорее, что ты стоишь, тащи всё съестное, — заторопил меня Женька, и я поваляла фарш по сковородке, и он хорошо пошел под «Ркацители», бутылку принесли с собой гости.
В Володиной комнате, а теперь на месяц нашей, вдоль всей левой стенки стояли стеллажи с книгами, много технической литературы, а на самом верху я нашла затрепанный томик Ницше «Так говорил Заратустра» и стала его читать, никакого другого чтива на медовый месяц мне не нашлось. Соседки, были нам не рады, но активно не протестовали.
— Отдыхают от Володьки, — сказал Алешка.
Всё же они гоняли меня, когда во время своего дежурства по кухне, я не вымыла поддон на плите, вернее маленькое пятнышко от воды. Старшая соседка его вынула и демонстративно оставила прислоненным к стенке. Горбунья на вид была такая страшная, злодейка-колдунья из детских сказок, такая вокруг нее была заряженная атмосфера агрессивности, что я ходила на кухню с ножом, на случай, если она на меня кинется и придется отбиваться. Так и помню, иду по стеночке длинного коридора и сжимаю столовый нож в правой, прижатой к стенке руке, думаю, если вдруг прыгнет на меня и станет бить, то я по рукам ей ножом, чтобы меня не трогала.
Дворничиха имела любовника, он иногда заходил к ней, и они там выпивали и смеялись, коротали вечера.
— К старой-то ходит, а молодой-то обидно, вот она и злющая, — хихикал Алешка, предварительно плотно прикрыв дверь на всякий случай.
Приехала на два дня с дачи другая соседка, Надя, повариха из ресторана, и те двое при ней как-то притихли. Еще до ее приезда пришел как-то красивый маленький мужик, ее бывший муж, был слегка поддатый, долго плакал на кухне, говорил мне:
— Я тут жил, здесь моя семья и дети мои, а она меня выгнала. Заходил к ней и ее теперешний любовник, толстый веселый балагур, у которого, почему-то, не было ключей от входной двери, только от комнаты, и я так и познакомилась с ним, каждый раз открывая ему дверь.
Я пожаловалась на дворничиху понравившейся мне соседке:
— Да, ладно, если будешь жить, я научу тебя, как с ними обращаться, главное, не пасуй, — сказала та мне.
Но не научила, снова уехала на дачу где-то в Малаховке. Мельбард тогда увлекался теорией, что всё на свете происходит на сексуальной почве и что, когда Надя пошла работать в ресторан, то располнела, ее сексуальные потребности возросли, мужик не стал ее удовлетворять, и она нашла себе нового.
Я выслушала от Алешки эту гипотетическую Володькину теорию интимной жизни соседки, подумала и сказала:
— А, не думает ли Володька, что и не ее возросли, а его упали? Он ведь запойный пьяница, ни на что не годный, а был, наверное, хорошим парнем, когда она выходила за него замуж.
Результат один, но причины разные.
Мы жили в центре города, кругом были магазины, а в них продукты, но денег было совсем мало, я покупала кусок грудинки и варила суп, или сто грамм фарша и делала котлеты.
Муж приходил с работы и целый час, как я уже сказала, ел, иногда мы ужинали вместе из одной тарелки, и он говорил, когда я наклонялась над тарелкой слишком близко:
— Убери куделю.
Пока он ел, он не обращал никого внимания на меня, сытый же сразу веселел и лез с нежностями. Я обижалась:
— Ты пришел, хоть бы поцеловал жену в медовый месяц. Нет скорей, неси тебе поесть, а уж потом любовь. Такие вот твои чувства.
Однако каждый раз, когда Алешка просыпался, его сначала сонный рассеянный взгляд становился удивленно-радостным, когда он останавливался на мне, как будто он не ожидал меня увидеть, и теперь счастлив, что вот я рядом. Живой зеленой радостью светились глаза мужа, освещенные солнечным светом раннего летнего утра. И потом, позднее, всплывая в памяти, этот Алешкин взгляд напоминал мне, что муж любит меня, во всяком случае, в первый месяц нашей совместной жизни любил точно.
Но вернемся от высоких чувств к прозе жизни.
Выходя замуж, я боялась, что буду по неопытности делать что-то не так, муж будет раздражаться, что приведет к ссоре, но Лешу только забавляли мои промахи, отсутствие у меня хозяйственной жилки, он изначально подозревал это, но… ссориться мы всё равно ссорились.
Я обнаружила, что готовить-то я умею, но далеко не всё, и вот, например, такое обыденное, дежурное студенческое блюдо, как жареная картошка, у меня не получается. Я всегда участвовала в процессе жарки картошки только как поваренок, т.е. чистила ее, а жарили другие, в основном Люська, которая даже нарезать мне картошки не доверяла. Отец у нее был повар, она умела ловко нарезать картофель длинными ломтиками прямо в руках, приводя меня в ужас тем, что вдавливала лезвие ножа, как мне казалось, прямо в ладонь. Люся любила только такую, кружочками не признавала, и резала и жарила сама, хорошо так жарила, а у меня получалась часть подгоревшая, а часть сырая. Как я теперь понимаю, я жарила сразу много картошки при небольшом количестве масла, в масле-то и было всё дело, ну, в общем, Алешка лопал эту картошку и хихикал надо мной. Алексея вообще веселила чужая глупость, ему приятно было видеть человека глупее, чем он сам. Так, во всяком случае, я злопыхательски объясняла его способность радостно издавать мерзкое подхихикивание при виде чужих нелепиц.
Сама я всегда злилась, как на чужие глупости, так и на свою собственную, смеющийся над моей творческой неудачей муж раздражал меня, я сердилась, а Криминский гоготал и ел непрожаренный картофель.
Обычное выражение лица моего мужа было нахмуренное, настороженное, смотрел он букой, очень теряя во внешности от этого, зато улыбка была хороша. Мягкая такая, добрая улыбка, освещавшая лицо, а смех был жуткий, иначе как злорадными эти булькающие звуки, с трудом вылезающие из горла, просто и назвать нельзя.
Мне навязали в магазине лотерейный билет на сдачу. Когда несколько лет назад впервые появилась денежно-вещевая лотерея, то народ охотно покупал билетики, их стоимость была невелика, а по телевизору всё показывали счастливчиков, выигравших машину, а потом пыл у населения заметно угас, и теперь продавщиц заставляли продавать эти билетики по разнарядке. Каждая должна была продать столько-то билетов. Вот их всем покупателям и навязывали, и мне всучили-таки, просто дали на сдачу билетик вместо мелочи, и я постеснялась спорить, демонстрировать свою бедность и скаредность.
Любочка Волковская иногда покупала лотерейные билеты и даже выиграла пять рублей. Динка тоже любила приобрести билетик, а я — никогда, не верила я в это счастье, которое якобы должно упасть мне с неба за тридцать копеек. А тут делать нечего, пришлось взять.
— Вот выиграем машину, — смеясь, сказала я мужу, — продадим и купим себе квартиру.
Тогда как раз появилось кооперативное строительство.
— Нет, ты что, — сказал Алешка, — возьмем машину.
Я обиделась.
— Как же можно брать машину, надо взять деньгами, ведь нам жить негде.
— Надо брать машину, — упрямо стоял на своем муж.
Так мы и поссорились, деля шкуру неубитого медведя.
Как-то ночью Алешка вдруг разбудил меня:
— Сейчас наши запускают ракету. Если всё будет благополучно, завтра в газетах жди сообщений.
Сказал и уснул, а я лежала и думала: «А вдруг что-то случится». На памяти у всех была трагедия с Комаровым. Любочка Волковская взволнованно говорила по этому поводу:
— Там, наверху, кто-то полетит со своих мест, чубы затрещат, но человека-то уже не вернуть.
На завтра было сообщение в газетах о полете, и можно было гордиться приобщенностью мужа к такому важному событию.
Комната Мельбарда находилась на шестом этаже дома старой постройки, в середине лестничного проема был лифт с застекленной кабинкой, двери которой закрывались вручную. Я застревала в этом лифте несколько раз, а потом стала ходить пешком. Лифт был рассчитан на определенный груз, дабы не ездили дети, поэтому вверх он меня иногда возил, а вниз нет, сколько я ни прыгала, где-то я была на пограничной зоне со своим бараньим весом, что забавляло Алексея.
Я иногда баловала себя и покупала конфетки, и вот мне захотелось сладкого, я надела штапельное платье-разлетайку, сшитое в июле в ожидании свадьбы, и отправилась покупать сто грамм конфет «Снежок» в ближайший магазин, зажав в руке двадцать копеек и прыгая вниз по ступенькам, так как злобный лифт в очередной раз отказался меня везти. Выбив чек и разглядывая витрину в ожидании, когда подойдет моя очередь, я увидела лимонные дольки, не мармелад, а карамель и решила купить их, они были дешевле, по 12 копеек за 100 г, а не по 20, как снежок. Протягивая продавщице свой 20 копеечный чек, я округлила в ее пользу шесть в периоде:
— Взвесьте мне 166 грамм долек лимонных.
Продавщица с минуту недоуменно смотрела на чек, потом легла на прилавок, вернее не легла, а грохнулась на него грудью как подкошенная, и стала смеяться, выкрикивая сквозь спазмы смеха своей товарке за соседним прилавком:
— Ой, Маша, тут меня девушка просит 166 грамм конфет ей взвесить, ой, у меня и деления-то такого нет, чтобы я могла взвесить с точностью до грамма.
Я стояла в большом смущении, а потом, вечером, рассказала Алешке, и мы посмеялись вместе.
В незаполненный выходной я предложила пойти в Пушкинский музей, вспомнив, как часто Алексей водил меня в картинные галереи.
— Нет, пойдем лучше в кино, — сказал Алешка.
— Да ты же любишь живопись, а кино нет, — удивилась я, — ты же всегда меня по выставкам таскал.
— Нет, Зоя, просто на кино мне тогда денег не хватало, входной билет в музей стоит 20 копеек, в кино 50.
— Да… а, а я-то думала, ты — эстет.
В первый же выходной день мы поехали в Серебряный бор. Долго-долго тащились по жуткой жаре в раскаленном, битком набитом троллейбусе, и когда, наконец, добрались до воды, мне уже ничего не хотелось. Я зашла в воду и немного покупалась, меня знобило от постоянного недосыпа и усталости медового месяца, а мой молодой муж надел ласты и уплыл в неизвестном направлении минут так на сорок. Тоскливо сидеть одной на берегу, покупаться я покупалась, порисовать или почитать ничего не взяла, и что же мне было делать на пляже? Нужно ли говорить, что я обиделась, и мы поссорились, правда, только до вечера.
Август был жаркий, в городе было душно, хотелось на природу, и через неделю, он потащил меня в Пирогово. Опять мы долго-долго ехали по тридцати-градусной жаре, часа два, не меньше, и мне, выросшей в 10 минутах ходьбы от моря, казалось сомнительным удовольствием тащиться в такую даль, чтобы залезть в мутную водичку Подмосковных водоемов. Когда же мы добрались до пляжа, Алексей разделся и уплыл, а я села на берегу его ждать. Вода в Пироговском ключевом водохранилище была освежающая, градусов 18, не больше, и залезть в нее да еще делать вид, что тебе это нравится, для меня, южанки, было немыслимо.
Прождав мужа полчаса, я вспомнила, как я ждала его в прошлый наш поход, сидя на берегу одинокая, покинутая, вспомнила, что он ни на шаг не отходил от меня, пока мы не поженились, на вечеринках на одном стуле сидел, всё пас, а теперь вот бросил, и не нужна я ему. Обида душила меня, и, глотая подступившие слезы, я собрала свои вещички и ушла на платформу, обдумывая сладкие планы страшной мести и собираясь поссориться с ним навсегда.
Электрички не было, ждать было скучно и жарко, но я всё сидела на платформе, раскаляясь и распаляясь, пока не подошел Алексей:
— Не успел я выйти из воды и оглядеться, как мужик на пляже сказал, что ты ушла, со смешком так сказал, когда я стал оглядываться, — «нету твоей бабы, убежала», (а мне-то казалось, что мы одни на всей планете, — нет ведь, везде глаза, везде уши). Я посмотрел расписание, электричка не скоро, далеко не убежишь, вот я, не спеша, собрался и догнал тебя.
Я готова была выцарапать ему глаза, такому довольному своим купанием, предусмотрительному и ухмыляющемуся, ничуть не испуганному, что жена сбежала.
— В следующий раз поезжай один, зачем я тебе, плавать два часа можно и одному, — тихонько, чтобы не привлекать внимание окружающих, выговаривала я мужу, а он в ответ хихикнул своим идиотским смешком.
Время шло к обеду, уже хотелось есть, а вся еда была у Алешки в сумке, в пылу обид я забыла ее вытащить, а то сейчас была бы на высоте положения. Мы сели в подошедшую электричку, и Алексей предложил мне помидор, вытащил из сумки большой красный августовский помидор, который я собственноручно мыла и складывала, и стал вертеть перед носом, соблазняя. Я хотела гордо отвернуться, но голод — не тетка, пришлось взять, и я мрачно вонзила зубы в помидорище, продираясь сквозь кожуру к сочной мякоти.
Кожа помидора лопнула и… и сидящий напротив меня мужчина в светлой рубашке и при галстуке остался-таки при галстуке, но рубашка у него перестала быть белой, а стала пестрой, по ней пополз вниз густой и яркий помидорный сок. Красным было залито и лицо его, он был весь в скользкой жиже, начиная с лица, и весь перед рубашки, и не понятно мне было, как столько сока могло оказаться в одном помидоре..
Я остолбенела, а мужчина достал платок и молча, стараясь сохранить достоинство в нелепой ситуации, стал вытирать рубашку. Лучше бы он обиженно ругался. Но он не издал ни звука, я с извинениями, чуть не плача от стыда, помогала ему, а Криминский тихо надувал щеки, чтобы не захохотать вслух.
Вот что, оказывается, случается с неосторожными людьми, которые осмеливаются ездить в одном купе с молодоженами, это бывает опасно даже тогда, когда поездка занимает не больше получаса, а что было бы, если бы какой-нибудь несчастный попался нам, например, на сутки?
Пострадавший сошел раньше, чем мы, а когда он вышел, я опустила голову на сиденье и дала волю душившему меня смеху.
— Как помидор злобно цапнула, всю свою ярость вложила, — вторил мне Алешка, тоже заливаясь вслух, благо людей в электричке было мало.
В первый же месяц брака я увидела несоответствие мужниной зарплаты и аппетита.
— Самоокупающийся муж, — смеялась я, — сколько заработает, столько и проест.
— А сколько бы ты хотела денег? — спросил меня самоокупающийся муж.
Я стала считать: посчитала кооперативную квартиру в Москве, трехкомнатную, машину «Волгу».
— Еще чего? — спросил Алешка.
— Еще дачу под Москвой, — фантазия моя всё разыгрывалась, — дачу на Черном море, яхту здесь, на водохранилище, яхту там.
Всё, мое воображение спасовало:
— Сколько получилось?
— 200 тысяч, — сказал Алексей. — Зоя, очевидно, ты вышла замуж не за того человека.
В конце августа, в последнее воскресение Алешкина лаборатория собралась покататься на водных лыжах, опять в Пирогово, и Алексей уговорил меня еще раз поехать туда.
При пересадке в Мытищах Алексей, которому лень было обходить, легко спрыгнул с края платформы прямо на пути. Мне же было высоко, и я не могла спуститься, и Алексей стал меня снимать, а в это время шла электричка, шла на тот путь, на который мы спрыгивали, нам уже кричали об этом с платформы, народ волновался, я тоже испугалась, оглянувшись. Мои колебания усугубили ситуацию, и мне пришлось скорее прыгать, иначе мой молодой муж уже всерьез рисковал бы попасть под колеса, нам даже электричка прокричала. Всё обошлось, но было страшно, особенно страшно было то, что Криминский не понимал моего ужаса перед прыжками на рельсы под носом у электрички и считал его капризом.
— Слушай, но люди-то видели, что мы делаем, и тоже волновались. Почему же ты считаешь, что я выдумываю опасность?
Но спорить с ним было бесполезно, только отдых совсем испортить.
Мы пересели в Пироговскую электричку и добрались благополучно, уже без происшествий, до водохранилища, где уже собралась большая группа людей, сослуживцы Алешки. Я познакомилась с обладателями голосов, которые отвечали мне по телефону, когда я строго просила, дозвонившись мужу на работу:
— Позовите, пожалуйста, Алексея Криминского, — и мягкий женский голос, на который я попадала чаще всего, нараспев подзывал моего мужа:
— Лешечка, тебя.
Обладательницей этого нежного голоса оказалась красивая черненькая женщина мощных размеров, Жанна.
Мужики долго раскачивали катер, пытаясь столкнуть его с берега в воду, всё толклись на одном месте, пока Жанна с мужской силой и женским напором не помогла им под одобрительные крики остальных женщин. Да, Жанна была не из тех, которых оставляют на борту, когда яхта на мели, мол, что она тут сидит, эта пигалица, что ее вообще нет. Я вздохнула.
Еще там были знакомые мне по свадьбе Алешин и его молодая жена Светлана, а остальных, всего человек десять вместе с нами уже не помню.
Алешин включил катер, достал водные лыжи и стал всех поочередно катать.
Тогда водные лыжи входили в моду, я пару раз издалека на водохранилище видела этих лыжников, летящих на канате по воде в брызгах водяной пыли, но даже и не мечтала попробовать когда-нибудь покататься. Большинство присутствующих, как мне показалось, были в таком же положении новичков. У кого-то получалось сразу, а у меня нет. Я не упала с размаху носом в воду, когда меня дернули, но, продержавшись метров пять, так и не смогла выровнять ноги, они у меня разъехались, и я кувыркнулась в воду, вода была всё же холодная, и больше я не решилась пробовать, к тому же Алешин уже устал, и только тогда Лешка, который был всё время в воде и помогал ловить трос, подавая тем, кто собирался кататься, тоже надел лыжи, дошла и до него очередь. Когда он сидел на мостках, то весь дрожал мелкой дрожью, так замерз. Алешин включил мотор, катер взвыл, канат натянулся, дернул Алешку, и тот, не успев упереться ногами, тут же плюхнулся в воду и исчез.
Обычно все, с которыми так происходило, тут же всплывали, но с Криминским такой номер не прошел.
Он скрылся под водой, а трос продолжал быть натянутым, и Алешин не выключал катер, прошла минуту, всплыла одна лыжа с бульканьем, потом вторая, трос всё еще был натянут, и Лешки не было видно, просто натянутый трос уходил под зеленые воды водохранилища да пена вилась из-под катера.
Я испугалась, может быть, он под водой висит на этом канате, запутался, и ему не выплыть? Воображение стало рисовать мне всякие ужасы, синее лицо, вытаращенные глаза, но тут вдруг канат ослаб, пошел по воде зигзагом, и через секунду, наконец-то, показался Лешка.
— Что же ты не опускал канат? — закричала я плавающей на воде Алешкиной голове.
— Я всё надеялся, что еще встану, — ответил Алешка, сплевывая воду.
— Да как? Лыжи то уплыли, а тебя всё нет.
— Да… — протянул невозмутимый Алешин, — показал ты свой характер во всей красе.
— Повернусь, смотрю, канат натянут, буруны от ушей во все стороны, а самого и не видно.
Посмеялись, и на этом купание закончилось, перешли к возлияниям, и Алексей согрелся.
Светка всё рассказывала, как в прошлый раз мотор включился, когда на борту никого не было, катер пошел кругами, и Алешин (она называла мужа по фамилии) один не растерялся, вскочил в лодку и выключил мотор.
Алешин был немолодой мужчина (34 лет), когда-то блондин, судя по остаткам волос на голове, с тонкими руками и намечающимся брюшком, и вдруг такой подвиг! Я бочком-бочком подобралась к герою и спросила:
— А как это вы мотор выключили?
— Подплыл к катеру, протянул из воды руку и выключил, — просто ответил он.
— А-аа, — протянула я разочарованно.
И тут вмешался Алешка, который слышал, оказывается наш разговор.
— А ты уже нарисовала картину, что Алешин, как дельфин, выпрыгивает из воды, влетает в лодку и выключает мотор.
Я поняла со слов Светланы, что действие происходило именно так.
— А что-то непохоже, сомневается она, — посмеялся Алешин моим расспросам о его геройстве и моему разглядыванию исподтишка его тщедушной внешности. Мужчины, довольные своей проницательностью, похихикали, а я смутилась, как воришка, пойманный на месте преступления.
В начале июля, где-то недели через две после свадьбы, мы ездили навещать Эдика Баландина. Его жена Валя родила вторую дочку на другой день после нашей свадьбы, и мы купили цветы, распашонку, погремушку и честь честью заявились в надежде на ужин, Валя хорошо готовила, в период Алешкиного ухаживания за мной прикармливала нас.
Но Баландиных не было дома, дверь в их крохотную комнатушку в конце длинного коридора коммунальной квартиры в красном кирпичном доме на Циолковского, была заперта. Криминский досадливо пнул дверь ногой, как виноватую в том, что мы остались без дружеского застолья, потом достал где-то мел и крупно написал «бракодел».
Я была смущена поступком мужа, который, как я считала, незаслуженно обидел товарища, у самого еще нет никаких детей, ни девочек, ни мальчиков, а туда же, лезет с критикой. Баландиных мы навестили повторно спустя недели три, когда у меня началась учеба. У них была тишина и порядок в комнатке, несмотря на наличие в семье двух маленьких ребятишек. Месячная малышка просто лежала в виде свертка посреди дивана, бесшумно так лежит сверток, чуть слышно сопит, Светка, старшая девочка, тихо играет в своем углу в куколки, мы уселись за стол и стали выпивать и лопать предложенные Валей вкусные фаршированные перцы, правда Валя потом созналась, что из местной кулинарии. После пары рюмок мужики оживились, и шуму от них было больше, чем от детей.
Когда малышка пискнула, Светка, старшая, обрадовалась, бросила свои игрушки, подбежала к сестре, крепко-крепко, так, что я испугалась, что она ее задушит, поцеловала сестру и побежала дальше играть, а Валя пощупала пеленку, сказала:
— Ну вот, пора менять, — и стала перепеленывать и подмывать девочку, я следила с интересом за всей процедурой, еще, правда, не зная тогда, как скоро мне самой придется этим заниматься.
Алексей, который тоже пристально наблюдал за действиями Вали, вдруг сказал:
— Ты неправильно ее моешь.
Я удивилась, надо же, какой оказывается у меня муж специалист по подмыванию маленьких девочек, учит мать двух детей, как ухаживать за дитенком. Я ткнула Алешку в бок локтем, мол, не встревай, имей совесть, но Валентина, которая была знакома с моим мужем много раньше, чем я, даже бровью не повела, даже и не ответила словами. Только отмахнулась рукой.
Ну да, от чужого-то мужа легко отмахнуться рукой. А от своего собственного как?
Я много лет потом возмущенно поминала мужу эту его привычку поучать всех и вся, он, к слову сказать, часто давал повод напоминать ему это.
Пришел к концу август, первый месяц нашей совместной жизни, в течение которого я, несмотря на предупреждение Люськи, дважды собиралась разводиться.
Люся сказала мне дословно следующее:
— Когда начнете жить вместе, первое время будет тяжело, пока не притретесь, это у всех так, так что ты не лезь в бутылку, знаю я твой характер. Потерпи, пережди, потом станет проще.
Я помнила эти слова, повторяла их себе, да что толку, никакого притирания не получалось, одни только ушибы и синяки. Мой молодой муж, когда еще не был мужем, не отходил от меня ни на шаг, на всех пьянках сидел со мной на половинке стула, держась за руку и молча пристально глядя на каждого, кто осмеливался ко мне приблизиться. А теперь, куда бы мы ни направлялись, он мчался с огромной скоростью впереди и, злобно оглядываясь на меня, ползущую сзади, шипел:
— Ну что ты так медленно ходишь? Просто ужас, как противно с тобой куда-то идти, никогда не доберешься вовремя.
Я тут же обижалась и начинала плакать и кричать, что если бы он столько не копался, то и не надо было так быстро мчаться, и вообще я не желаю никуда спешить, сейчас повернусь и пойду обратно. Так мы препирались целый день, но вечером Алексей становился тише, покладистее, не огрызался и осторожно поглаживал меня по голове, если я сердилась. Первое время я не замечала изменения в его поведении ближе к ночи, потом отследила и оскорбилась:
— Тебе не нужна ни подруга, ни жена, а только любовница, только на ночь. А днем ты меня еле-еле терпишь.
И это было очень обидно.
— Я такая хорошая женщина, — плакала я, — а тебе ничего не интересно, только это дело.
А это дело, надо сказать, шло у нас не очень гладко.
Девчонки, Милка, Наташка читали Камасутру, которую в виде напечатанных листиков притащили откуда-то. Ленка тоже читала. А я нет.
— Разберусь как-нибудь, — сказала я не очень уверенно. — Просто я стеснялась читать такое чисто техническое руководство. Неприятно мне было.
— Ну, знаешь, можно всю жизнь есть черный хлеб и не знать, что существуют пирожные, — ответила мне Милка, и непонятно было, то ли она серьезно, то ли нет.
Алешка тоже притащил Камасутру и стал читать мне вслух, но я сказала — читай сам, развивайся, а я подожду, я не возражаю против твоего образования, но сама читать не буду. Это будет позже, в Подлипках, а пока я всё время чувствую, что ему это дело нравится больше, чем мне, и мне обидно, я не знаю, так ли должно быть или это из-за моей неопытности, а потом пройдет. Посоветоваться мне не с кем, Зойка еще не замужем, а с Динкой и Люсей, моими замужними подругами, я не беседую на интимные темы, с матерью тем более. Просто не принято между нами, и всё тут.
Первого сентября я уехала к маме повидаться, собрать вещи и перебираться в Долгопрудный, я поселилась в общаге в одной комнате с Люсей. За месяц дыра на обшивке Мельбардовского дивана, продранная еще до нас, заметно увеличилась, раза в два так увеличилась, и он стал подозрительно скрипеть, эта жертва нашего медового месяца.
— Доломал чужой диван, — выговаривала я мужу, которого это всё веселило.
Алешка отдал Мельбарду ключи и поблагодарил.
— Как поживают соседки? — поинтересовался Володька.
— Да всё учили мою бабу. Всё не так она делала.
— Ну, — возмутился Мельбард, — Зойка им не понравилась? Давно я их с топором не гонял, забыли, распоясались.
Когда Алексей передал мне эти слова, я радостно засмеялась, мне приятно было представить, как за противной горбуньей, пугавшей меня злобным взглядом маленьких мышиных глаз исподлобья, бегает пьяный Мельбард с топором.
Мы расстались с Алешкой до конца сентября, когда должен был уехать его сосед по комнате, Пономарев, в долгосрочную командировку. Я поселилась в общаге с Люсей, в той самой 121 комнате, в которой жила на четвертом курсе.
Неожиданно, на неделе, соскучившись, ко мне приехал Алешка, с цветами, ласковый такой, молодой и красивый муж. Но в этот вечер, как назло, тоже спонтанно, наметилось профсоюзное собрание в нашей группе, по какому уж поводу мы решили выпить, сейчас уже не помню. Я на порог, а тут Алешка ко мне. Я растерялась.
Я уже настроилась на вечеринку, меня ждали, я пришла после лета с кольцом, и не заявиться было плохо — вот вышла замуж и пренебрегает товарищами, пойти с мужем я тоже не могла, так сразу и пойти с мужем, получается, пасет, одну не пускает. Да еще он приехал в старом пиджаке, который, когда я жила в Подлипках, просто не успела выбросить, а он, оказывается, всё еще его носит. Про цветы он подумал, милый мой муженек, а вот принарядиться ему и в голову не пришло, надел пиджак, из которого уже вырос. Рукава были коротки, и все оборвались, нитки торчали.
Ну, могла ли я пойти в первый раз с мужем в группу в таком босяцком виде? Только чистая белая рубашка, которую еще я стирала в коммуналке у Мельбарда, стирала сразу три белых рубашки и стерла пальцы, когда терла манжеты, только рубашка и придавала ему более или менее опрятный вид.
Пришлось сказать мужу, чтобы он подождал, а я скоро приду.
Но пришла я не скоро, часа через два, в глубине души злясь на мужа, что он плохо оделся, и Люся потом меня ругала, что я долго прошлялась:
— Приехал муж, такой хороший, с цветами, не ради же того, чтобы поболтать со мной он тащился такую даль, а ради тебя.
В общем, получилось неудачно.
А в следующий раз, спустя, наверное, месяца три, когда возникла такая же ситуация, Ирка просто взяла Алешку, сказав мне строго, нечего бросать мужа, он прекрасно выпьет с нами, и мы пришли втроем, и молчаливый Алексей как-то сразу вписался в коллектив, и в дальнейшем его присутствие уже всегда предполагалось и планировалось, как само собой разумеющееся, как и Лялькино, жены Пашки Лебедева.
Вскоре после того приезда ко мне Алешка заболел плевритом. В сентябре сильно похолодало, он и простудился, кашлял и температурил, ему назначили антибиотики внутримышечно, а когда он стоял за ними в очереди в аптеке, то потерял сознание, так ему стало плохо.
Я в это время была в Долгопрудном, и не помогла ему, а он, как большинство мужчин, и не понял, что тяжко болен, и ему нужен постельный режим.
Когда я прискакала, ему было уже лучше, но всё еще он был слабый, плохо ел, похудел. На последние деньги я, вместо запланированной шляпы (очень я мечтала купить мужу хорошую шляпу), купила курицу. Курица за кг стоила 2 рубля 65 копеек, и это было значительно дороже, чем кг говядины, 2 рубля, т.е. курица была роскошью. Эту большую жирную курицу, которая была роскошью, я зажарила у них в духовке, Пономарев как раз уехал, и я уже совсем переселилась к мужу. Алешка съел эту курицу, а мне она показалась жирной, я ее не ела. А ему ничего, он ее слопал, взбодрился и пошел на поправку.
В мужском общежитии я не помню, что я готовила, вот только курицу и помню. Думаю, я готовила мало и плохо: во-первых, уже начались занятия, и мне было не до того, а во-вторых, мне самой почему-то совершенно не хотелось есть.
В конце сентября у меня была задержка, но я решила, что просто в связи с замужеством у меня поменялся цикл, и не обращала на это внимание. Дни шли за днями, чувствовала я себя, правда, как-то нехорошо, позеленела вся, и Иркина бабушка, увидев меня после лета, сказала мне:
— Зоя ты что-то прямо вся высохла, как вышла замуж, — но я приписала это своему синему платью. Из старого своего пальто я сшила теплое платье, только оно получилось темное, и мне не шло, давало такой синюшный оттенок на лицо, а тут еще муж заболел, а потом я к нему в Подлипки переселилась, началась бесконечная езда — Подлипки, Долгопрудный, Пущино, Москворецкая, жуткие концы, я уставала и связывала свое плохое самочувствие и бледный вид с разъездами, а не с внутренними причинами.
Комнатка Алешки с Пономаревым была унылой, темной и донельзя запущенной.
Пока я бывала у Алешки наездами, еще до замужества, прискакивала пару раз на ночь, то в плохом вечернем освещении мне казалось, что здесь порядок, всё, вроде, лежит на своих местах. Но когда я глянула поближе, то ужаснулась. Наш общежитский женский беспорядок и тот мужской порядок, что был у этих молодых инженеров в комнате, — это небо и земля. Небо — это мы, а земля — это они. Земля в полном смысле этого слова была на маленьком радиоприемнике, висящем на гвозде на стенке, слой пыли был такой, что можно было выращивать овощи. Груда старой обуви под Пономаревской кроватью, которую любой нормальный человек давно бы выкинул, эта груда была тоже покрыта толстым слоем пыли, тарелки были мыты только с одной стороны, с которой едят, а обратная была грязной, жирной, захватанной. Занавески не отдавали в стирку, думаю, последние пять лет, и от них просто пахло пылью.
Уборщица мыла середину комнаты, Алешка убирал аккуратно свои вещи, ничего не валялось. Никаких бюстгальтеров на спинках стула, ни груды белья, которое надо погладить, на столе, нет, всё было убрано, но чистоты-то не было!
Я попыталась хоть слегка изменить ситуацию, но, глянув под Пономаревскую кровать, вздохнула и сдалась, — в конце концов, мне предстояло жить здесь эпизодически в течение 40 дней, много, но недостаточно долго, чтобы я решилась перетереть все двадцать пар Пономаревской грязной обуви под его кроватью. Я вытерла пыль с репродуктора, вымыла тарелки, покидала свое белье в шкаф, постелила чистую клеенку на стол и успокоилась на этом.
Когда я выходила замуж, Алексей казался мне скромным стеснительным парнем, но при ближайшем рассмотрении из него полезли такие похабные казарменные анекдоты, я даже и не подозревала, что он их знает. Помимо анекдотов он знал огромное количество русских матерных шуточек и поговорок, всё говорил мне их, но не открытым текстом, а с купюрами, и сердился, когда я не понимала:
— Ты совершенно не знаешь русского языка, не можешь срифмовать, не умеешь спрягать глаголы.
Анекдоты его я не любила и отказывалась слушать. Когда такие анекдоты рассказывал мне муж, они теряли свою абстрактность и оскорбляли меня, в то время как от постороннего человека я могла выслушать такое без интереса, но довольно спокойно. Но Алексей этого не понимал. Теперь мы были близки, муж и жена, ему казалось, что мне должны нравиться эти анекдоты, и что женщины просто притворяются, когда в обществе не слушают их. Им мол, интересно, но они стесняются парней. То, что я морщилась и убегала, Алешку удивляло, и он ходил за мной из комнаты в кухню в общежитии, как привязанный на веревочке и говорил:
— Ну, послушай, ну мне очень хочется тебе рассказать, ну тебе этот понравится точно, — но я затыкала уши.
— Черт знает, какую похабщину несет Алешка, — пожаловалась я Люсе. — Не знаю даже, где он добывает такое.
— Просто ужас, как этот казарменный юмор из них прет. Меня Сашка в первый год тоже страшно донимал своими анекдотами.
Я слегка успокоилась. Всё же не один мой такой монстр.
В выходные мы ездили в Москву, ходили в кино, на обратно пути заходили в магазины, покупали продукты. Обычно сумку пустую несла я, а полную обратно Алешка.
Но однажды получилось так, что я несла полную сетку продуктов, просто забыла отдать, а потом опомнилась и попросила помочь мне, а он отказался.
Сумка была довольно тяжелая, и, кроме того, мне было обидно, что он идет налегке впереди, а я как собачонка тащусь сзади с тяжелой сеткой, не поспевая за ним. Я уже довольно резко попросила Алешку взять сумку, попросила во второй раз, мне было стыдно за него, но на него нашел его обычный приступ упрямства, — я, видите ли, была с ним недостаточно вежлива, а он не любит, когда им командуют.
Я представила себе, что 90% продуктов, которые я сейчас несу, уничтожатся Алексеем, что мне еще готовить, и я разжала пальцы и выронила сетку с продуктами прямо в пыль посреди привокзальной площади.
Мы жили скудно, деньги были на счету, но наш сегодняшний ужин и завтрашние завтрак и обед спокойно валялись под ногами у прохожих. Метров через двадцать, Алексей злобно прошептал что-то себе под нос и вернулся, а я шла, как шла.
— Ну, так что, кто всё-таки принес авоську, — спросила я его дома.
— Я всё-таки умный человек, — лучше уступить, чем остаться голодным.
— Тогда и не связывайся лишний раз со мной. Твое благоразумие и есть твоя слабость, а я, если разозлюсь, то уж не уступлю, и наплевать мне на еду, когда у меня оказывается муж, с которым впору разводиться.
Я пошла готовить и молчала весь вечер, а Алешка, как всегда, ближе к вечеру стал вилять хвостом (так всегда выражалась моя мама про папу — твой отец сначала нахамит, а потом хвостом виляет), а у меня не было сил злобствовать, и мы помирились.
На другой день, в понедельник, муж ушел на работу, а я не поехала ни в институт, ни на базу. Прогуливаю и сижу дома. Сижу на кровати с панцирной сеткой, которая проваливается большим мешком подо мной. Мне тяжко, не хочется шевелиться. От запахов с кухни подступает тошнота, кружится голова и хочется пить. На столе лежит на тарелке одна сосиска, Муж утром сварил на завтрак восемь сосисок, семь съел сам, а восьмую оставил мне. Он бы оставил и две, но я отказалась.
Еще есть полбанки малинового варенья, в банке торчит ложка. Алешка посреди ночи лопал это варенье, а ложку не вынул. Я услышала ночью чавканье, проснулась, спросила, в чем дело.
— Ем… Я много белков теряю, нужно их восстанавливать.
Я отвернулась к стенке и перед тем, как уснуть, успела подумать «а какие такие белки в малине?»
Варенья я не хочу, поднимаю крышку кастрюли и обнаруживаю на дне слой земли и две картошки, одна к тому же треснула. Я вчера мыла, мыла эти картошки в холодной воде, не промыла и поставила варить, а земля вся слезла в воду. Мой молодой муж расстроился, заглянув в кипящую кастрюлю:
— Кто-нибудь захочет узнать, что там молодожены варят, глянет, а там земля, — бурчал он.
Я всё лето с таким удовольствием готовила, а теперь вдруг даже картошки не могу почистить, руки не поднимаются. Я приписываю свое состояние начавшейся учебе, а зря. Всё же к вечеру я что-то там готовлю к приходу мужа, и сама тихонько жую, сидя рядом с ним.
Получив свою порцию еды, Алексей настраивается получить свою порцию ласки, но я решительно отодвигаюсь, я не в настроении.
— И вчера ты тоже была не в настроении, — обижается Алексей. — В чем дело?
— Не знаю. Давай в шашки поиграем.
Мы играем в шашки, Алексей выигрывает и сердится:
— Не интересно с тобой играть в шашки, в шашки я могу и на работе с ребятами поиграть, — и он снова начинает атаку.
Я не просто не в настроении, мне противно, даже когда муж близко сидит. Я отворачиваюсь и отталкиваю его прямо с ненавистью.
— Если будешь ко мне приставать, я тебе рожу расцарапаю ногтями, — обещаю я, вся сжавшись в комок.
— Ну, ты зачем замуж за меня вышла, если ничего не хочешь, зачем? — почти со слезами, обиженный спрашивает меня муж.
— Не знаю, не знаю, не знаю, не понимаю, не хочу, и всё.
И я ложусь спать, отвернувшись к стенке. Мы с Алешкой спим на разных кроватях, я — на его, он — на Пономаревской.
Я пытаюсь уснуть и не могу, сажусь на постель и таращусь в темноту комнаты, слабо освещенную светом уличного фонаря. На душе страх и испуг — значит, я не люблю мужа, а вышла замуж, зачем? Я стараюсь разобраться в себе, может быть, мне нравится кто-то другой? Но возникающие в мыслях образы других мужчин тоже вызывают отвращение. Мне неприятны эти существа, я чувствую к ним брезгливость как к паукообразным, которых я особенно ненавижу.
Утром, когда я встаю, Алексей уже ушел на работу, я сажусь к столу, пишу ему записку и уезжаю на занятия в Долгопрудный.
Я продолжаю ездить на базу в Пущино, хотя начинаю уже задумываться, нужно ли мне это. До нашего курса студентов физтеха, которые должны были распределяться в Пущино, ставили в очередь на квартиру еще в процессе учебы. Но тут выбрали другого председателя профкома, и она прекратила это богоугодное дело, и теперь получить квартиру в Пущино стало делом не года-двух, как раньше, а пяти-шести. Но в Подлипках было совсем плохо со строительством, и я еще не решилась расстаться с Пущино, мне там нравилось. Правда, все жаловались, что жизнь как в деревне, все про всех знают и, кроме того, дефицит мужского народонаселения, просто жуткий процент незамужних или одиноких женщин, красивых, скромных и порядочных женщин-ученых, непонятых мужчинами своего круга и не решающихся выйти замуж за простых работяг, да и простой парень редко женился на образованной, боялся попреков в невежестве. Мои знакомые физтешки постарше все были замужем, но много было среди биологов и химиков непристроенных или разведенных, в общем-то, меня это как бы и не касалось, но еще стращали скукой жизни и невозможностью занять деньги до получки — все получали 110—130 рублей — и только после защиты было немного легче, а у Алешки на его королёвском предприятии зарплаты были дифференцированы, и старший инженер получал 160 рублей без всякой защиты. Да и далеко Пущино от Москвы, что сразу резко ограничивало выбор работы. В общем, я тяну эту волынку с Пущино, но езжу как-то тяжко. Зато когда у меня начался кризис в отношениях с мужем, так удобно было отсидеться в Пущино. Вдали от него я скучала, и хотелось скорей к нему, и непонятно было, что со мной творится.
В начале октября, будучи на Москворецкой, я призналась маме, что со мной как-то не всё в порядке, и она отвела меня в субботу к дежурному гинекологу. Та посмотрела и сказала:
— Пять недель.
Я так и открыла рот от удивления. Мы с Алешкой так старательно предохранялись, а получается, я была беременной еще с начала сентября, в тот день, когда мы последний раз ночевали у Мельбарда, а потом разъехались на целых две недели.
Я вернулась к мужу в Подлипки после выходных с этой сногсшибательной новостью. Захожу, он обрадовался, целует меня, а я отстранила, смотрю на него и думаю:
— Ему пока хорошо, он ничего не знает, — а потом сразу говорю, с места в карьер:
— Ты знаешь, я беременная.
Секунда замешательства и удивления на лице мужа, а потом совершенно непроизвольно физиономия его расплывается в довольной и горделивой улыбке. И я, увидев это, начинаю в голос реветь.
— Чему ты рад, я не понимаю.
— Ну, Зоя, ведь я не знал, могу я сделать ребенка или нет, а теперь точно знаю, что могу.
— Лучше бы ты узнал об этом попозже, а теперь что же делать, придется рожать, у меня плохое здоровье, я боюсь делать аборт, вдруг потом детей не будет. Ты обещал мне, что до конца института я не забеременею, а вот что получилось, говорила я тебе, что опасно, а ты — нет, нет, сперма по второму разу уже слабая, — вот тебе и слабая.
— Ну, и рожай, зачем аборт.
— А институт, а где жить, а на какие шиши?
Проплакавшись, я вытерла слезы и сказала, что решила рожать, хотя мама и против. И больше к этой теме мы не возвращались, вернулись к другой, более актуальной.
— Может, ты ко мне так относишься, оттого что беременная?
— Не знаю, я не слышала о таком, но теперь мне кажется, что поэтому.
Узнав, что я беременная, Алексей как-то притих и перестал донимать меня своими приставаниями, а я не поехала в Пущино, щадя себя. Решила отдохнуть здесь, у мужа.
Алексей был старше меня на три года, ему было 25 лет, когда он женился на мне, и, безусловно, он имел какой-никакой сексуальный опыт до меня. Еще в медовый месяц я тихонько выясняла у мужа, где, с кем и когда. Алексей ни в какую не желал говорить со мной на эту тему, во всяком случае, посреди белого дня. Но иногда, в постели, отдыхая, проговаривался, и я стала пользоваться этим, тихонько выведывать его добрачные шашни. И вот что я выяснила.
Когда Алексей приехал на каникулы в Лысьву после четвертого курса, то познакомился с девушкой, и она в него влюбилась, (по его словам), он уговорил ее сойтись и намучился с ней жутко, пока у них получилось, а потом уехал себе в Долгопрудный учиться дальше. Тем временем вернулся ее парень из армии, девушка была красивой, старый друг не хотел ее терять и женился на ней, несмотря на то, что она загуляла в его отсутствие со студентиком, и после свадьбы увез ее сюда, в Люберцы.
— И ты здесь виделся с ней?
— Да.
— Тебе не стыдно было наставлять рога ее мужу?
— Нет, я был у нее первый, это он забрал мою женщину, пока я учился.
Я вспомнила слова Алексея, сказанные мне когда-то, что он всех своих невест замуж выдал, вспомнила, как он ездил куда-то перед нашей свадьбой, и подивилась прозорливости мамы.
— Что она сказала, когда узнала, что ты женишься? — так в лоб я его и спросила.
— Велела любить тебя.
Еще он как-то рассказал, что его с первого курса привлекала женщина, училась вместе с ними, но была старше на пять лет, и не обращала внимания на него, слишком молодого, а потом, спустя несколько лет, стала к нему благосклоннее.
— И что?
— Предложила мне жениться на ней.
— А ты?
— Ну, она ведь старше меня и так долго предоставляла мне возможность приобретать опыт где-то на стороне (соблазнение девушек в Лысьве — это приобретение опыта на стороне, вот, оказывается, как это называется) а теперь вдруг, предлагает мне жениться.
Я задумалась, вспомнила, что когда я поведала Алешке про Ефима, он сказал: «наверное, каждый что-то должен пережить до брака». Выходит, Криминский мне достался совершенно случайно. Просто перепал. А когда мы встречались, он вел себя так, будто кроме меня и женщин на свете не существует. Опасный человек. А сейчас, оставшись у Алексея в комнате, я затеяла уборку и вдруг нашла большую фотографию, на которой был сфотографирован Алексей, совсем еще молоденький, сфотографирован с женщиной, и то, как он на нее глядел, не вызывало сомнений относительно его чувств к ней. А женщину я знала!
Я так разъярилась, мое романтическое восприятие симпатии мужа к женщине постарше разбилось в пух и прах, когда я увидела объект. Я вспомнила, Григорьев говорил, что Алексей предпочитает худеньких и черненьких, — ну, вот она, худенькая и черненькая. Когда пришел муж с работы, я тут же накинулась на него.
— Тебе совершенно случайно досталась красивая женщина, как я, если тебе она столько лет нравилась.
Карточку я тем не менее не осмелилась порвать, но сказала:
— Пусть только эта фотография еще раз мне на глаза попадется, больше ты ее не увидишь.
И с той поры уже тридцать лет не вижу.
Случай этот открыл мне глаза на себя — я была женщиной, которая не сможет простить измену мужу, во всяком случае измену, когда объект мне известен. После этого для меня лечь в постель с мужем то же самое, что надеть чужие грязные трусы, брезгливость меня задушит, и ни о каких чувствах и речи уже не будет. А мораль тут не при чем.
В следующие выходные муж задумчиво сказал мне:
— Надо бы мне съездить к Мельбарду, узнать, что с ним. Уже почти десять дней нет его на работе.
— Заболел?
— Думаю, что его болезнь — запой. Надо проведать.
— А что Наташка? (жена), она ведь только родила.
— Наташка ушла к матери, поссорились они, и она ничего о нем не знает.
Володька вызывал мое большое восхищение огромным запасом сил и энергии, которого не было в Алешке. Из всех знакомых мужчин я только у отца встречала такой избыток энергии, ощущение постоянно сжатой пружины, и теперь мне было страшно, что всю свою энергию этот неординарный человек пустил на уничтожение самого себя — впал в запой.
Мы поехали к Мельбарду вдвоем, скучно мне было сидеть в мужской общаге без дела, без общения.
И вот вошли к нему в знакомую комнату.
Много-много лет после этого дня, увиденное там мною служило эталоном беспорядка, мерилом опускания, заброшенности человека, наплевательского отношения к окружающему миру.
— У нас как у Мельбарда во время запоя, — говорила я, когда мы долго не убирали в квартире.
Или детям:
— Опять бардак как у Мельбарда во время запоя.
Сейчас мне уже трудно вспомнить обескураживший нас беспорядок в комнате, но в течение 10 дней человек там жил, спал, ел, пил, не мыл посуду, не убирал постель, не выбрасывал пустые бутылки и даже не складывал их в угол, не вытряхивал пепел, раскидывал окурки и объедки, в общем 10 квадратных метров полного и невообразимого хаоса, и сам пьяный, слабый, взъерошенный, но с утра еще соображающий Мельбард.
Мы мялись у порога, несмотря на настойчивые приглашения хозяина. Алешка сказал Володьке, что нужно выходить на работу, пора кончать с запоем, Алешин (завлаб) передает, нужно срочно тему сдавать. Мельбард пообещал к понедельнику оклематься и снова попросил заходить и садиться.
— Да куда же тут сесть? — с тоской спросила я, не зная, как поступить, повернуться и уйти, и оставить человека в таком раздрыге?
И я вдруг сказала Криминскому:
— Лёня, давай здесь уберем.
Я решительно стала складывать бутылки в какой-то мешок, Алешка стал помогать мне, и Мельбард вдруг тоже оживился, пристыдился, и взялся за уборку вместе с нами.
Через час просветлело, белье запихали в ящик для белья, бутылки сложили в ряд, грязную посуду перемыли, постель заправили, и даже подмели. Теперь здесь можно было и сесть, и мы сели. Дверь распахнулась, и на пороге комнаты показалась Наталья:
— Я ждал тебя все 10 дней — закричал Мельбард, — я хотел, чтобы ты увидела, что здесь было, но Зойка с Лешкой не дали мне этого сделать. Теперь всё в порядке. Теперь здесь можно и жить. Все десять дней здесь не было ни одной женщины. Приезжай.
Мы, ясное дело, мешали выяснению отношений. Наташка, стоя на пороге, молча оглядывала комнату.
— Давайте выпьем, — Володька достал откуда-то бутылку водки и стаканы. Только закуски нет.
Алешка взял в руки табуретку и, шутя, сказал:
— Ненавижу эти табуретки, после работы я всегда так уставал, когда сидел на них и ел с низенького столика, всё в наклон, да в наклон.
Не успел и договорить, как Мельбард схватил табуретку и выкинул ее на улицу. Открыл окно и спустил табурет с шестого этажа.
Я ахнула. Я не могла бы так поступить с вещью, целой вещью, которая может еще служить.
Наталья и Алешка тоже не ожидали такой реакции. Наталья отошла от двери, подошла к столику и оглянулась по сторонам.
— Ну вот, было на что сесть, а теперь и не на что, — сказала она грустно, и мы почувствовали себя виноватыми.
Водку разлили по стаканам, только мне не налили, уважая мое состояние.
Володька достал луковицу, разрезал ее пополам, и они с Алешкой закусили луковицей. А Наталья только выпила, а от закуски отказалась. Бутылку добивать не стали. Мы с Алешкой заспешили домой, чувствуя, что хозяевам надо остаться одним и помириться, было видно, что Наталья идет на попятный.
Мы поехали домой, в Подлипки. Всю дорогу Алексей торопил меня:
— Скорей, скорей, что ты так тащишься.
— Да в чем дело, — не выдержала я, — куда ты так спешишь, что у нас дома семеро по лавкам? Еще только один и то вот он с нами, транспортируется у меня в животе.
— Да жрать я хочу, жрать, думаешь легко выпить водки и закусить только половинкой луковицы?
— А ты так лихо это проделал, что я решила, тебе не в первой, — засмеялась я.
После первых трех месяцев семейной жизни потихоньку стала вырисовываться для меня натура мужа. Основной чертой его характера, можно сказать, доминирующей чертой являлось упрямство. Раньше я не знала так уж четко разницы между упрямством и упорством, пока не поняла раз и навсегда, общаясь с мужем: человек упорный преодолевает трудности, человек упрямый упорно сам создает себе трудности, на пустом месте расшибает лоб, но ни за что и никогда не будет перенимать опыт другого, особенно если этот опыт ему навязчиво предлагают. Мой тихий муж оказался фантастически квадратным, и об железные углы этого квадрата я обиваю бока до сих пор. Зеленовато-желтые глаза его взирали на мир из-под очков с нескрываем любопытством, но это было любопытство соглядатая, а не преобразователя — ничего хорошего от этого мира он как бы и не ждал, а что-нибудь интересное всё же еще могло произойти, и это желательно было не пропустить. Энтузиазм в действиях ему был не свойственен, правда он был трудолюбив и надежен, не имел манеры наваливать на другого груз, предпочитал нести всё сам, но любил (и любит до сих пор) поучать, правда, только близких людей. Еще ему нравилось пялиться на какое-нибудь уличное происшествие в толпе бездельников и обсуждать извечные русские вопросы:
«А доедет это колесо до Москвы или нет?»
Будущего он не представлял, не видел себя в будущем, не думал, кем бы он хотел быть, и только пытался решать на свой лад набегающие жизненные проблемы, причем, естественно, при таком отношении проблемы набегали быстрее, чем он успевал с ними справляться, тогда он, надеясь на обычное русское авось, просто плыл по течению, и барахтанье рядом с ним пытающейся выплыть и вопящей жены воспринимал как явления неодушевленной природы — нечто вроде плохой погоды, какого-нибудь там урагана — налетит и пройдет.
Ко всему прочему он старался быть скрытным, мотивируя это тем, что какой мужчина не имеет секретов от жены, но я, вечно занятая, то собой, то детьми, вернее сначала детьми, а потом собой, мало обращала внимание на эти плохо замаскированные попытки сохранить мужскую независимость, и он благополучно через неделю сам проговаривался, где он задержался после работы, а обычно это и было предметом моего постоянного интереса, а именно, где шляется мой муж, когда у него дома молодая жена с маленьким, а позднее с маленькими детьми на руках. Но я сильно забегаю вперед, пока я только привыкаю к мужу, к зигзагам его настроения и поведения, к проявлениям то чуткости и понимания, неожиданным и непредсказуемым взглядам на привычные вещи, то к ощущению, что предо мной бесчувственная скала, и своротить ее невозможно, и некоторые совершенно очевидные вещи вдруг оказываются перевернутыми верх ногами, и объяснить моему мужу это просто не в моих силах, ну, в общем, мой муж был и остался человеком, который продолжает плыть под водой, когда лыжи уже всплыли. Эта невообразимое простым умом уральское железобетонное упрямство стало предметов многих смешных случаев в нашей жизни, прямо таки легенд, но это по мере их накопления.
Вернемся к предметам более интересным, к конкретным событиям жизни.
Вспоминается день рождения Иришки, когда меня чуть не раскололи девчонки, но я так и не созналась тогда, что беременна, и только, месяц спустя, в разговоре с Динкой, я сказала ей, что в положении; и еще вспоминаются мои попытки дважды упасть в обморок.
Один раз я стала укладываться на людей в битком набитом автобусе, который ехал из Воскресенска на Шиферную. Ехала я после ректоманоскопии, голодная с утра. Не имея возможности выйти, когда я почувствовала, что мне дурно, я довольно неожиданно прилегла на головы сидящих людей. Сквозь шум в ушах я услышала слова:
— Уступите место, женщине плохо, — и как меня усаживают и открывают окошко. Я ничего не соображаю, даже не благодарю, но минут через десять мне становится получше, я объясняю, что мне надо до конечной остановки, но лучше я выйду на воздух, но выйти невозможно, и какая-то энергичная женщина советует мне никуда не рыпаться, а ехать до конца, что я и делаю.
Второй раз я слышу звон в ушах, когда еду на лекции в институт химфизики. Я выхожу из вагона электрички и успеваю дойти до скамейки в метро, где и отлеживаюсь минут десять, во время которых ко мне дважды подходят и спрашивают:
— Девушка, с вами всё в порядке?
— Да, — отвечаю я, — у меня небольшое головокружение, сейчас пройдет.
Но когда я добираюсь до института, то Анюта Мовшович говорит мне о моей зеленоватой бледности.
Беременность дается мне не так легко, как иногда бывает, но настоящего тяжелого токсикоза у меня нет, просто меня мутит от запаха пищи в столовой, и тогда я поворачиваюсь и ухожу.
К концу декабря я чувствую себя значительно лучше, становлюсь розовее снаружи и благосклоннее к мужу внутри, и мы идем на Новый год к Дианке, причем Алешка едет прямо из Подлипок, а меня из Долгопрудного провожает Алешка Готовцев, который беседует со мной о смене коробки передач на советских автомобилях. Тему он выбрал очень неудачную, и я сердито говорю ему:
— Представляешь, я об этой коробке слышу уже в третий раз, что вас всех так разволновала эта коробка скоростей, вон дерево стоит, знаешь, что за дерево?
Готовцев смущен, он не знает, что за дерево, я, к слову, тоже.
— Нас не волнует мир вокруг нас, а только наша дурацкая техника, — подвожу я итог нашей беседе, и мы звоним в дверь. Время 9 часов вечера 31 декабря, и скоро мы сядем за стол и проводим 1969 год.
1970-й год, рождение дочери
Дверь открывается; из светлого проема на нас несется поток тепла, музыки и веселого шума. Возле дверей стоит радостный, улыбающийся Лешка, приехавший раньше нас и выбежавший на звонок в надежде, что это я. Через секунду я ощущаю на лице мягкие губы мужа и чувствую, что токсикоз мой позади.
Я влезла в свой светло-серый костюм, правда, пожалела о том, что юбку я в свое время ушила, не застегнулась на мне юбка, и пришлось сделать блузку навыпуск. Лидия Тарасовна, зная, что я беременна, что во сне мне снятся горы икры и осетрины, пододвинула ко мне блюдечко с половинками вареных яиц, наполненных красной игрой. Я жевала эту икру, сон становился явью, и я была вполне счастлива и ничего больше не помню из этого праздника.
Воспоминания, это пейзаж в тумане, разойдется туман, и среди мутных разорванных клочков ясно проступят очертания предметов, слов и событий, причем слова у меня значительно ярче, чем предметы. А потом вновь сплошной туман, и хотя кажется, что это было только вчера, и ты сейчас, вот сейчас всё вспомнишь, но нет, мгла закрывает видимость, и память отказывается воспроизводить события в строгой последовательности, так что отчетливо помню вожделенное блюдечко с икрой, а всё остальное, кто был, кто с кем сидел, и о чем говорили, — не всплывает.
Хотя нет, всплыло. Алешка Готовцев стал рассказывать, что его знакомые на подоконнике вырастили большой куст огурцов гидропонным методом, и посоветовал нам с Алешкой заняться разведением овощей на подоконнике, имелось в виду, что я скоро рожу и буду сидеть дома, и почему бы мне не растить огурцы вместе с младенцем.
Я заинтересовалась предложением, уже представляла окно, увитое как плющом вьющимися лозами огурца, и на лозах симпатичные пупырчатые огурчики, маленькие и сладкие, но противная Сергеева сказала, да нет, это не для тебя, даже не пытайся.
Вместо меня обиделся Готовцев, запротестовал и сказал, что уверен, у меня всё получится.
— Я знаю Хучуа уже давно, — возразила Ирка. — Я не могу сказать, почему не вырастет, что именно у нее произойдет, знаю только одно — огурцов не будет.
Готовцев настаивал, что это просто, и они поспорили на бутылку коньяка, а я была подопытный кролик; я хотела огурцов и решительно бралась за новое для меня дело, и Готовцев обещал примерно через месяц дать нам этих необыкновенных семян.
Потом была сессия, мотание в Пущино, Долгопрудный, на Москворецкую, каждый конец 100 км, и я беременная, и устаю, и меня мучают кошмары — надвигающиеся на меня электрички, зеленые, гремящие, длинные.
Вот я на улице Горького съедаю два лимона вместе с кожурой и косточками, пронзительный, разъедающий кожу и перехватывающий дух сок лимона бежит у меня по подбородку, когда я в жадном нетерпении терзаю его тело, и глотаю, не прожевывая, скорей, скорей, скорей, а Криминский в изумлении смотрит на меня и шепчет:
— Зоя, немытые…
Но мне всё равно. Я хочу лимонов, соленых огурцов, и рыбы, хорошей рыбы, и Алешка ведет меня в ресторан «Якорь» возле Белорусского вокзала, и я глотаю осетрину в горшочках и бутерброд с красной икрой. Поход обходится нам в пять рублей, два вторых и бутерброд только для меня, и всё, ни выпивки, ни десерта, но и это брешь в нашем скромном бюджете.
Вот я в электричке, еду одна из Пущино, а напротив меня мужчина, молодой, но какой-то потрепанный и взвинченный, всё говорит и говорит, рассказывает про свою жизнь артиста, жизнь богемы — интриги, козни, жертвой которых является рассказчик. Я слушаю, раскрыв рот, мне интересно, в паузу мне удается заметить, что у нас всё не так (так, всё так, тоже интриги, козни, зависть, только всё более скрытно, подземно, менее эмоционально, и не принято об этом так откровенно говорить, как это делает он, но я еще не работаю и ничего не знаю).
Когда я начинаю рассказывать, сосед впивается в меня взглядом, слушает внимательно, а слышит что-то свое, и вдруг спрашивает меня неожиданно:
— Беременная?
Я в шубке, и увидеть изменения моей фигуры просто невозможно, и я понимаю, что он угадал, возможно, по моему взгляду, по внутренней сосредоточенности, по каким-то еще непонятным мне признакам, что я в положении.
— Да, — отвечаю я, и мы смеемся вместе над его незадачей — прикадрился к молодой девушке, и на тебе — она беременная. И мы расстаемся в Москве друзьями.
Где-то зимой, уже после сессии, Наталья Анохина пригласила к ним в гости на выходные, с ночевкой, и мы откликнулись, поехали к ним и провели уютный вечер с Наташей и ее мамой, они подкормили меня пирожками, домашним супчиком и прочей вкусной едой, которой я была лишена в своих мотаниях по Подмосковью, меня кормили только у мамы, а это было так далеко.
Нам постелили в отдельной комнате, чего мы тоже были лишены, и всё было хорошо, только в шесть утра нас разбудил трамвай, прошедший под окном. Грохотал трамвай, стекла звенели, и я утром пожаловалась Наташке на шум.
— Да, я помню, когда мы сюда переехали, нас это тоже мучило, а теперь мы спим, — и я удивилась человеческой приспособляемости — не слышать такой грохот!
После завтрака пошли гулять по Измайловскому парку, втроем. Погода была хорошая, настроение тоже, и Наталья с Алешкой разыгрались на солнышке, она пыталась сбить его с ног, опрокинуть, я на всякий случай держалась подальше, еще собьют, потревожат мой животик. Опрокинуть Алексея в снег Наталье не удались, мы с ней были разочарованы, мне хотелось, чтобы моего муженька изваляли в снегу, но он, глупый, не поддался, не подыграл нам, а потом, когда вроде угомонились, Алешка совершенно неожиданно ловкой подножкой сбил Наталью с ног, и как бы пытался поймать, но она упала и расшибла коленки, она была в тонких чулках, и чулок порвала, и обиделась. А Криминский то ли, правда, расстроился, то ли изобразил огорчение, что он такой неловкий.
Потом всё же Алешка дал Наташке возможность взять реванш и вывалять его в снегу, она уткнула его в сугроб носом, и он не сопротивлялся. А когда мы остались одни, я спросила:
— Ты чего Наташку обидел, зачем с ног сбил так грубо.
— Зоя, я дал ей подножку и хотел подхватить одной рукой, когда она будет падать, да ведь я рассчитывал на твой привычный вес и просто не удержал Наталью одной рукой.
Я поворчала, что, мол, не видно, что тебе, заморышу, одной рукой Наташку не удержать.
Вес мой был малый даже у беременной, и Алексей, когда мы жили в Подлипках, иногда брал меня на руки и кидал под их запаутиненный, сто лет не беленый потолок. А я всегда боялась таких игр и сердилась, и цеплялась с визгом за его руки.
Мы искали квартиру, судорожно искали, старались успеть до моих родов. Шефа я поменяла, теперь у меня была Любочка Пулатова, работавшая в Москве, и мне не надо было больше ездить в Пущино.
Только в середине марта, когда я сшила себе платье из вельвета специального кроя со складкой спереди, и девочки первокурсницы, с которыми мы с Люсей жили в одной комнате в общаге, уважительно стали ко мне относиться, и даже рассеянные, углубленные в себя физтехи теперь расступались и пропускали вперед меня и мой живот, так вот, в середине марта, Люда Лифшиц, Иришкина школьная подруга, предложила мне однокомнатную квартиру, которую сдавал ее хороший знакомый, Миша Ольшанецкий. Миша брал с нас 40 рублей плюс плата за квартиру и за свет, всего получалось, как потом выяснилось, около 55 рублей. Квартиру он оставлял в том виде, как жил сам, только вещи носильные забрал, а посуда, мебель, холодильник, всё было, весь быт был устроен, продуман, и нам с нашими эмалированным тазом и двумя чемоданами это было в самый раз. Всё есть, заходи и живи.
Квартира находилась в Сокольниках, на углу парка, недалеко от остановки электрички «Москва третья», по Ярославкому направлению, и Криминскому в Подлипки было терпимо добираться, не так далеко, и мы быстренько переехали со своим скудным скарбом. Это было уже привычно, первый раз мы переехали, считайте, в первую брачную ночь, потом к Мельбарду, потом от него в Подлипки, а теперь сюда.
Итак, в четвертый раз, и конца еще, ой-ой-ой, не видно.
Комната была большая, но прихожая маленькая, санузел соединенный, вход в кухню из комнаты, но Миша поставил два больших платяных шкафа так, что получился как бы коридор до кухни. Один двухстворчатый шкаф был с полками, второй с вешалками, и никогда после я не жила так удобно, так просторно для вещей. Кроме шкафов стояли полуторный диван и раскладная двуспальная софа, стол, бельевица и стулья, вдоль стены между кухней и коридором располагались стеллажи с книгами. Всё есть, и ничего лишнего, не тесно.
В первую же ночь оказалось, что под окном гудит вертолетный завод, мерзко так гудит, и я не спала всю ночь и была в отчаянии, но всё же решили не отказываться пока от квартиры, и, в конце концов, я привыкла, а когда родила, то вообще не слышала такие мелкие шумы, как и предсказывала мама.
День рождения наш мы отмечали уже на новой квартире. Помню, я готовила салат Оливье на это мероприятие, Оливье уже лет шесть как вошел в моду и заменил традиционный винегрет на праздничных столах в русских домах, так вот, у меня не было огурцов на салат, и я положила соленые помидоры, кривобокие зеленые помидоры. Тогда их солили в бочках, как огурцы, и продавали в овощных магазинах. Так и вспоминается интерьер овощного магазина: прилавок, за прилавком мешки с картошкой, морковкой и свеклой, и бочки с капустой, огурцами и помидорами, и впереди них продавщица в халате, замусоленном на выпирающей большим бугром груди, а на прилавке в продолговатом эмалированном лотке образцы продукции — квашеная капуста, огурцы и зеленые помидоры, и едкий кислый дух от всего этого, причем образцы можно только смотреть, я надеюсь, вы не подумали, что это можно было попробовать? Нет, покупай так, а пробуй и помирай дома, и там будет неизвестно, от чего именно ты помер, от огурцов или от колбасы отдельной, всё-таки второе более вероятно.
Так вот, когда я пришла в овощной, огурцов не было, или же они выглядели совсем уж несъедобными, и я взяла, что было, помидоры, тоже обычная закуска товарищей, пьющих под окном на вольном воздухе свои пол-литра на троих. Черный хлеб и помидор, всё лучше, чем просто луковица, как у Мельбарда. А теперь я совсем даже их не вижу, эти кадки с помидорами. Соскучилась.
В общем, Динка сердилась, что я не позвонила и не сказала ей, что у меня нет огурцов. Они с Женькой привезли бы и огурцы, и майонез, которого тоже не было, и я заправила салат сметаной и горчицей.
— Может, тогда проще прямо было к тебе ехать, чем всё тащить сюда? — засмеялась я, но Дина не согласилась.
— Нет, тогда мы обои не увидели бы, — и я оглядела еще раз свою квартиру, в которой Григорьевы были в первый раз. Обои были действительно симпатичные, светло-бежевые, с рисунком — тонкими линиями прямоугольники среди мелких зеленоватых цветов.
Салат, к слову сказать, слопали за милую душу, тогда всё шло, молодые были, аппетит не позволял оставлять еду. Собрались обычной гурьбой — Григорьевы, Ирина, Ленка Жулина и мама.
Отпраздновали мы новоселье и день рождения, и потекла будничная, немного монотонная после общаги жизнь. Я снова, как в медовый месяц, достала книгу о вкусной и здоровой пище и снова стала готовить, вытаскивать оттуда рецепты, помню, поставила дрожжевое тесто, такое удачное получилось, легкое, воздушное и сдобное одновременно, внутрь я положила селедку в натуральном соку, были такие рыбные консервы. Консервы хорошо как-то шли, а начинка из них оказалось очень невкусной. Уж потом меня свекровь научила печь пироги из сырой рыбы, а тут мы начинку выбросили, а тесто съели, но было мне обидно, что я промахнулась.
Алешка утром рано уходил, а вечером возвращался часам к семи, ходил он на станцию Москва-3 и, чтобы не делать крюк, пробирался через заборы какого-то склада, иногда по складу бегали спущенные с цепи сторожевые собаки, и он спасался от них тоже на заборе.
Туда через два забора перелезал и обратно тоже через два забора. Трудно себе представить, что такое может происходить еще где-то, кроме России, инженер добирается до работы, перелезая через заборы и бегая от собак.
В апреле я заболела простудой. Температура была невысокая, 37,5, кашель, насморк, я беременная, таблеток никаких нельзя, и Ирина приехала меня полечить народными методами — напоила чаем с медом, напарила ноги, и мне помогло, быстро отпустило. В телефонном разговоре с Динкой я рассказала ей о том, как лечилась.
— Зоя, а разве тебе можно ноги парить? — Дианка, она сразу сориентировалась, что мы не то делали.
— Да-а, — протянула я на выдохе. — И как мы не сообразили, слава богу, всё обошлось.
В марте и апреле я продолжала ездить в институт — то французский, то гражданская оборона, то философия — и скучать мне было некогда, но потихоньку я старалась досрочно избавиться от экзаменов, вдруг рожу раньше срока, не сдам и лишусь стипендии, а мы стипендией платили за квартиру. Так прошли март, апрель, а в мае я всё сдала, освободилась и гуляла в парке, то одна, то с подругами.
Гуляла, смотрела по сторонам и ждала, ждала своего срока родов и тихонько думала, мысли расползались, но все были на одну тему, на тему предстоящего мне испытания.
В мире очень много людей, просто очень много, вся Москва забита людьми. Красивыми и нет, молодыми и старыми, детьми и взрослыми, с лицами, на которые приятно смотреть, и, от которых воротит, в общем, тьма тьмущая народу.
Я хожу среди этих толп, несу свое дитя в чреве и думаю о том, что всех этих людей родили женщины, их матери. Очень, очень много нарожали женщины народу, просто толпы, и я тоже скоро буду рожать, и мои человечки тоже придут в этот мир и в этот город.
Меня волнуют дети, я заглядываюсь на детей и их матерей. Эти молодые женщины с маленькими детьми совсем недавно прошли через то, что предстоит еще мне, они по ту сторону пропасти, которую мне надо перепрыгнуть, а они, вот они, уже на том краю. И я вздыхаю.
Мы гуляем по парку Сокольники с приятелем Алешки Васей, который неожиданно навестил нас в нашей берлоге. Он в форме, красавчик, любит поговорить, весело в его обществе, и мы после обеда втроем гуляем, бродим по аллеям, радуемся солнечному дню, и вдруг Вася, резко прервав течение разговора, восклицает:
— Как же вы трогательно заглядываетесь на детей!
Я смущенно, как пойманная на воровстве, отвожу глаза от хорошенького мальчугана, сидящего в коляске и грызущего сушку, а Алешка смеется:
— Правда, смотрим, а сами даже и не замечаем этого.
Живот у меня выпятился вперед, и всё это выглядит так, как будто я спрятала под платьем футбольный мяч.
Алешка мне говорит:
— Я смотрел на беременных женщин, и они мне казались такими уродливыми. Я так боялся, что ты мне разонравишься, что беременность тебя изуродует, а нисколько даже не разонравилась, такой замечательный у тебя животик.
Замечательный же мой животик очень чесался. Последние месяцы беременности у меня был страшнейший зуд по телу, я расчесывала живот в кровь, раздирала кожу. Особенно сильный зуд был ночью. Я садилась на кровать и чесалась. Чесалась. Чесалась. От сотрясения дивана просыпался Алешка, сердился, плевал на пальцы и затирал слюной мои расчесы.
— Когда же я наконец рожу, — стонала я, уже и лежать-то неудобно, никак не найдешь позу, в которой удобно было бы спать, и ребятенок всё бьется мне под ребро, больно, скоро сломает.
— Медицине не известно таких случаев, что ребенок в утробе матери сломал ей ребро, — насмешливо утешал меня Алешка.
Мама взяла у меня кровь из вены на анализ и потом сказала:
— Высокий остаточный азот в крови, что-то несовместимо и идет отравление организма твоего и ребенка, на самом деле всё еще мало известно в этой области. Остается только ждать родов, — что я и делала.
— Торчит да молчит, — говорила мне уборщица в Алешкином общежитии, когда я приезжала к нему беременная еще до того, как мы сняли квартиру. Но мне уже хотелось писка.
Меня мучили какие-то страхи, всё мерещилось, что кто-то ходит по квартире.
В общежитии были толстые стены, и кто-то действительно всё время ходил по коридору, а тут мне было страшно, мы были всего лишь вдвоем, и слышно было непонятное шебуршание соседей, и сверху и за стенкой.
Кто-то тихонечко ходил по коридору. Слышались шаги, скрип обуви, дыхание. Я плакала и звала мужа. Сонный Алексей вставал, брал меня за руку и водил по квартире, зажигая все лампочки и показывая, что в квартире, пусто, только мы вдвоем, но эта пустота тоже пугала. Мне было стыдно, но на следующую ночь всё повторялось.
Еще в квартире оказались клопы. Не то, чтобы полчища клопов бегали по стенкам или хрустели под ногами, такого не было, но в темноте они выползали из щелей и кусались.
Проснувшись ночью, я почувствовала щекотание на шее и сняла с себя маленькое мерзко пахнущее насекомое. Я села, зажгла свет, и меня затрясло от страха и отвращения.
Алексей проснулся, еле-еле разлепил глаза и стал меня уговаривать:
— Ну, чего ты, такая большая, испугалась такого маленького, крохотного насекомого, какого-то клопика, смешно просто.
Но я никак не решалась лечь в постель, и всё представляла, как отвратное шестиногое ползет по моей коже, и меня передергивало, а потом всё же легла, но свет не выключила.
На другой день я заставила Алексея перевернуть все диваны верх тормашками, облила все щели кипятком и промазала простым мылом. Вымывались, в основном, сухие трупики клопов, но известно, что они способны оживать. После принятых мер, примерно на полгода, клопы присмирели.
Еще в начале марта Готовцев передал мне семена, я их не потеряла, и мы, как только обосновались в квартире, начали мероприятие по разведению огурцов гидропонным способом.
Алексей нашел где-то нечто, как мне кажется, это был кусок бетонного столба, нижнее его основание около 30 см высотой, и старый таз на помойке. В таз положили столб, в столб добавили песок, вокруг столба насыпали гальки, я прорастила семена и купила удобрения. Проросшие семена я воткнула в песок, и они взошли, а удобрения я развела, как было указано, и стала поливать удобрением мои всходы. Однако после второго полива всходы вдруг пожелтели и засохли, совершенно неожиданно. Я не могла понять, в чем же дело, пока злодей муж не объяснил, что я ошиблась при разведении в 10 раз.
— Что ж ты мне не сказал?!
— А я думал, ты специально так делаешь, чтобы потом просто поливать водой.
До сих пор не знаю, выпила Сергеева коньяк за мое здоровье или нет, но огурцы не ела, это точно.
В середине мая мы ездили втроем, Алешка, Ирина и я, в магазины в центре, а, возвращаясь, подошли к станции «Проспект Маркса». Густая толпа теснилась в пролете у эскалатора, и вдруг меня обуял страх — живот мой был совершенно незащищен, вот он под кожей ребенок, а в толпе его могут задеть, ударить, я резко остановилась и сказала:
— Я не пойду в толпу, я боюсь.
— Пойдем, мы прикроем тебя, ничего страшного, — уговаривали меня муж и подруга, но я помотала головой и просто вышла из метро.
— Не пойду я туда, меня ноги не несут, страшно мне за живот, — упрямо сказала я, и Ирина протянула:
— Да, инстинкт работает, ничего не сделаешь. — И она предложила прогуляться до станции «Дзержинская», там народу обычно меньше. Так мы и сделали, и свободно спустились вниз.
Детскую кроватку мы покупали тоже в последний момент, в мае. Как-то в субботу поехали в комиссионку и купили там ее за 11 рублей, а два рубля обошлось такси при перевозке. Такая же новая кроватка стоила дорого, 25 рублей.
Я могла встать на учет в женской консультации, только если приду с человеком, который прописан на той квартире, что я указываю, и он подтвердит, что я там живу. Пришлось Мише Ольшанецкому прогуляться со мной в консультацию, меня смущала неопределенность ситуации, но Мишу — нисколько. Он спокойно взял меня под руку, и мы, как настоящая парочка, заявились в консультацию.
На день рождения мне подарили чешскую книжку по уходу за ребенком, я готовилась, читала ее.
В субботу сижу на диване и читаю, как надо купать ребенка.
«Зафиксируйте голову ребенка в левом локтевом суставе».
Сгибаю свою необычайно худую левую руку и смотрю на сустав. Небольшую куклу здесь еще можно зафиксировать, но голову ребенка. Воображение мое тут же включается на полную мощность, я беру беспомощного младенца, кладу на левую руку, головка соскальзывает в воду, ребенок хлебает воду, она затекает в уши, плач, крик, скорая помощь.
Я подхожу к мужу, беру его левую руку, сгибаю в суставе, щупаю образовавшуюся ямку. Руки у будущего отца тоже тощие, но всё же раза в два шире в суставе, чем у меня.
Алешка удивлен моими действиями.
— Держать ребенка при купании придется тебе, — и я демонстрирую мужу свою левую руку.
Лешка рассматривает свои и мои руки и смеется.
— Ладно, рожай, искупаем, не волнуйся заранее.
В конце мая я не пошла в женскую консультацию, решила просто ждать, когда рожу. Даже в театры перестала бегать, а то и в «Современник» попала, смотрела пьесу «Баллада о невеселом кабачке» с Олегом Табаковым в главной роли, и на балет нас с Алешкой вытащила Лена Жулина, мы смотрели «Спящую красавицу», при́мой танцевала балерина из Ленинграда, и еще были куда-то билеты, но тут Алексей встревожено спросил:
— Ты там у меня в фойе не родишь?
Я испугалась и уступила, и мама с Алексеем поехали вдвоем, кажется, в Вахтанговский, так как билеты были куплены. Только в театре на «Таганке» я не была ни разу, билеты туда трудно было достать.
В театры я перестала ходить, в консультацию тоже, экзамены я все сдала и гуляла в парке или готовила еду. Но тут меня навестила медсестра и потребовала, чтобы я сдала анализ мочи и крови, хотя я сопротивлялась и кричала:
— Какие анализы уже, мне вот-вот рожать, но всё же послушалась, и пришлось идти к черту на рога, в женскую консультацию, сдавать анализы, и у меня обнаружили низкий гемоглобин.
Напрасно я пыталась объяснить маме, что такого не может быть, что такой румянец во всю щеку, который играл у меня на лице на последних месяцах беременности, не может быть при низком гемоглобине, что молодая девчонка, которая брала у меня кровь, просто ошиблась:
— Не разбавила, как следует эта ворона, цвет сличала в потемках, вот и анализ плохой.
Всё было напрасно, под давлением мамы и врача, кричавших, что мне предстоит потеря крови, а при таком низком гемоглобине это опасно для жизни, меня упекли в патологию, где я и пролежала неделю до результата повторного анализа.
В палате нас лежало 10 женщин с животиками, и мы непрерывно говорили о родах, прислушивались к событиям на первом этаже, где было родильное отделение.
Вокруг больницы стоял железный забор с высокими каменными столбами. Алешка приходил, залезал по железной решетке на столб, стелил на него газетку и там устраивался, ближе ко второму этажу, мы беседовали, перекрикивая уличный шум. За целый день это было мое единственное развлечение, мне хотелось покричать подольше, но Алексей скоро прощался:
— Ладно, я пойду, а то ягодицы затекли, столб неровный, сидеть неудобно.
В понедельник меня положили, а в пятницу выписали, повторный анализ подтвердил то, о чем я и говорила маме, что гемоглобин у меня был в полнейшем порядке. На самом деле во второй половине беременности меня мучило сердце, пульс всё время был где-то около восьмидесяти, и слабая одышка появлялась. Лидия Тарасовна даже устроила меня на проверку куда-то в военный госпиталь, где работала сама, мне сделали эхограмму и посоветовали прийти после родов, а сама Лидия Тарасовна, внимательно прослушав мое сердце, сказала:
— Ты родишь без проблем. Просто немного тяжело дается сердцу двойная нагрузка, но роды ты выдержишь, — и она оказалась совершенно права, во время родов я ни разу не вспомнила про сердце.
Там, в больнице, мне запомнился смешной рассказ женщины из ее многострадальной жизни. Она долго лечилась от бесплодия, скиталась по отделениям гинекологии, а теперь ходила с большим животом, переваливаясь, как утка. Она и рассказала, как лежала однажды в гинекологическом отделении в одной палате с тонной такой бабой, большой дурой, любившей позаигрывать с мужиками, вот на утреннем обходе она пристала к лечащему врачу, маленькому сухонькому старичку интеллигентного вида, профессору:
— Доктор, мне такой сон странный приснился, к чему бы это?
И стала рассказывать врачу свои ночные видения, задерживая его и отвлекая от других пациентов. Но он выслушал ее, терпеливо стоя возле постели и не произнося ни слова, потом также молча, не отвечая, повернулся, дошел до дверей палаты, оглянул палату прощальным взглядом и со вздохом сказал:
— А мне всё ваши… снятся.
Рассказ этот очень развеселил нашу компанию бегемотиков, и мы долго хохотали, тряся своими толстыми животами. На начальных месяцах никого в палате не было, наша палата называлась — патология второй половины беременности, и мы всё время говорили или о жратве (кормили мало), или о родах, и рады были отвлечься от этих навязчивых мыслей.
Гемоглобин, как я сказала, у меня был в порядке, хотя я давно перестала глотать мерзкий железный порошок, который мне давали для его поднятия, и от которого у меня был понос. Я его не пила, а тихонько выкидывала, и меня выписали, и я отправилась гулять еще неделю, а потом меня снова положили, но уже с перехаживанием.
Уборщица мыла полы и кричала:
— Перехаживание у них! Попросили бы мужа, он бы простимулировал, и никаких лекарств не надо.
В медицинских книжках, которые я читала, было написано, что за два месяца до родов прекращать всякое сношение, но бабушка намекнула мне, что такой срок очень долгий и, если его соблюдать, то все браки распались бы.
— Ведь ты и после родов не сможешь, а ребенок защищен водой, — вот что сказала мне бабушка, — поэтому осторожненько можно.
Если же учесть, что мы только в марте сняли квартиру и стали жить вместе, то, очевидно, мы не очень-то и прислушивались к книжкам.
— Одну уже почитала, — сказал мне муж, — послушалась советов, теперь с животом ходишь, а еще хочешь наш брак разбить. Выбрось эти глупости.
— Да уж, это не Камасутра, здесь рекомендуют не чаще раза в неделю, — захихикала я, представив мужа на такой диете.
— И какой импотент это рекомендует?
Муж взял у меня книжку из рук, отложил в сторону и не глянул на автора, фамилии которого там не было, творчество было коллективное, некогда ему было смотреть, надо было уговорить жену не слушаться дурацких рекомендаций.
Но последние две недели, действительно, никакой стимуляции у меня не было, я боялась, и Алешку удалось запугать.
Врач меня посмотрела довольно жестко, не на кресле, а на диване, было неудобно, и у меня сразу после осмотра, при котором она сказала, что мне скоро уже рожать, матка приготовилась, начались боли.
В 2 часа дня пришла мама меня навестить, и я прокричала ей, что у меня болит низ живота, но мама смотрела на меня снизу вверх круглыми от страха глазами и не хотела верить, что уже началось. Я, приседая при сильных схватках и прижимая коленки к животу, поговорила с ней очень мало и пошла, легла.
Когда я стала скрючиваться и вертеться на постели, подтягивая ноги к подбородку, женщины в палате дружно решили, что всё, пора, и вызвали медсестру, которая проводила меня вниз, в предродовую. Было четыре часа дня. Вечером, около семи, пришел Алешка навестить меня, и ему сказали, что меня нет, увели рожать:
— Вы уверены, что это ее увели? — спросил Алешка. Его уверили, что не путают. Меня.
Женщина, которая ему это сказала, потом передала мне:
— Люблю говорить мужьям, что у них жены пошли рожать. У них при этом такой идиотски растерянный вид.
Алешка потом рассказывал мне: «Я медленно обошел вокруг роддома. Тишина, окна замазаны белой краской, и ты там, внутри, и что-то творится с тобой. Тревожно мне было, но чем я мог помочь? Я пошел домой».
А я в это время рожала. Боль начиналась где-то в районе поясницы и, медленно нарастая, переходила на низ живота, всё усиливаясь и расширяясь. Распирало пах, и я, схватившись руками там, где больно, делала движения по животу наверх, стараясь загнать боль повыше и не пускать ее туда вниз, где уже и так нестерпимо больно. Я гладила себя, гладила от низа живота к пупку, и тихонько шептала:
— Мамочка, ну почему же ты мне сказала, как только станет нестерпимо больно, меня отпустит, мама, меня не отпускает, и я не могу уже больше терпеть.
Я смотрела на часы, стрелки казались приклеенными к циферблату. Когда я рожу, эти часы, это время будет уже позади, думала я и чувствовала, что боль почти прошла, она отступила, хотя схватка уже была долгой.
— Хорошенькие схваточки уже идут, — приподнятым тоном говорит мне подошедшая врач, и ее радость мне непонятна.
Врач осматривает меня: — Еще неполное раскрытие. Еще надо подождать.
Но я уже не слышала, что она говорит. Боль опять захватила меня и всё росла и росла, и не было ей конца и края. Я металась по кровати, закидывала ноги на стенку, в положении березка мне было легче, рубашка сбилась, первое время я еще натягивала ее между ног, а потом уже перестала и совершенно не стеснялась санитарки, которая мыла пол возле моей кровати, мне было всё равно, какой у меня вид.
— Господи, мама, ну когда это кончится, мне трудно терпеть это, я скоро начну кричать, — шептала я, царапая пальцами шею в открытом вороте рубашки.
Боль снова затихла, и я снова посмотрела на часы, но стрелка сдвинулась чуть-чуть, схватки шли частые, каждую минуту.
Уже с половины восьмого было нестерпимо больно, и сколько еще мучиться не говорят, говорят, шейка открылась на четыре пальца, а на сколько она должна открыться, я не знаю.
И вдруг что-то теплое, какая-то жидкость с резким запахом потекла у меня между закинутыми на стенку ногами. Секунды две я была в испуге и ошеломлении, намочив пальцы и поднеся руку к лицу, я увидела, что это не кровь, вдруг поняла, в чем дело, и закричала:
— Воды, у меня воды отошли.
— В туалет хочешь по большому? — спросила меня акушерка.
— Да, да, — сказала я, хотя не вполне была в этом уверена, просто я хотела, чтобы что-то происходило и как можно быстрее, ну сколько можно терпеть.
С меня неожиданно сняли рубашку и надели другую.
— Стерильную, — ответила акушерка на мой недоуменный взгляд.
— Идем, — и я встала и пошла, пошла своими ногами, хотя только что мне казалось, что это невозможно, но потопала в родовую.
Меня положили, вернее я залезла на довольно высокий стол, с клеенкой в ногах.
— Тужься, тужься, как потуга пойдет, — объяснили мне.
Когда снова началась боль, я поняла, что это и есть потуга, и начала тужиться, стараясь задрать ноги к верху.
— Вот хулиганка, поставь ноги на стол, кричали мне акушерки и кидались, чтобы удержать мои ноги.
Когда я тужилась, боль уменьшалась, и становилось легче, только результата никого — тужишься во время боли, потом отдыхаешь, а что там у тебя происходит внутри, не знаешь.
На соседнем столе лежала красивая девушка. Ее смуглое большое тело было раздуто таким большим животом, что я испугалось, ей-то каково рожать. Мы тужились, то по очереди, то вместе.
Подошла акушерка и надавила мне на животик сверху, помогая родить, подталкивая ребенка.
— Не понимаю я, что они так кричат, я рожаю без схваток, — сказал она.
— Тебе крупно повезло, — сказала другая, немолодая акушерка или медсестра. Только четыре процента женщин рожают так, без схваток. А остальным больно, действительно очень больно. Вот они и орут.
— Давай, давай, — вдруг закричала мне акушерка, — давай, вот он тут, уже волосики видно.
Но я не смогла. Потуга кончилась, и ребенок опять ушел внутрь.
— Давай, давай, — кричали мне, но я не могла, не было сил.
Но вот опять началась боль, я вся изогнулась, напряглась и вдруг почувствовала большое облегчение, неожиданную радостную легкость. Я открыла глаза, и увидела между своих колен ребенка головкой вниз, у акушерки на руках. Я открыла рот, чтобы спросить, почему не кричит, и услышала громкий писк ребенка.
— У тебя девочка, — и я сразу поняла, что я всегда хотела именно девочку, дочку, доченьку. Как хорошо. Мне ее показали голенькую, подняв над моими ногами, и унесли.
Я провела рукой по своему телу. Живот обмяк и сильно уменьшился. Но всё еще был какой-то большой, только уже пустой. В тот же момент у меня снова началась боль.
— Ой, опять схватка, — вскрикнула я, и акушерка подошла, надавила на живот, и что-то из меня вытащила.
— Вышел послед, всё нормально, — услышала я.
— Разрывов нет?
— Да вроде нет.
Малышку мою не было видно, и я только слышала, как она попискивает где-то в углу, а потом меня перетащили на каталку, отвезли в угол родильной и оставили там.
Минут через двадцать ко мне подошла медсестра, и показала ребенка еще раз, уже запеленатого. Маленькое существо, покрытое густыми черными волосами, с крохотным крючковатым носом показалось мне прекрасным. Испытания были позади, я родила, и теперь лежала счастливая в осознании своего вновь обретенного легкого тела.
— Разрешилась от бремени, — вот что со мной произошло, и мне будет легко передвигаться, теперь я опять такая, какой была раньше, и у меня есть дочка.
Дочку унесли, а я осталась и в прострации слушала, как рожает вторая женщина. Она родила девочку 4 кг и рожала почти два часа, как потом говорили между собой медсестры, а я пролежала на столе всего сорок минут и родила в половине девятого вечера.
Потом меня осмотрели, нашли разрывы на шейке матки и шили. Было не очень больно, но я стонала и тихонько скулила, мне было обидно, я думала, что уже всё, а оказывается ещё мучения, к которым я, расслабившись, уже не была готова.
Потом отвезли в палату, и я уснула в 12 часов ночи, истерзанная, но счастливая.
Утром я с трудом, но встала и доползла до туалета, в каком-то тумане, но в хорошем настроении, что главное позади. Меня сопровождали женщины из палаты и открыли мне кран с водой, чтобы под шум воды легче было помочиться. Я минут десять простояла над унитазом, но всё же смогла, без катетера обошлась.
Днем принесли записку от мамы, поздравления и вопросы, что принести поесть. Я спросила запиской:
— А где цветы?
У всех столики были завалены цветами, мой же уныло пустовал, а мне хотелось цветов, как знак того, что мои близкие признают мой подвиг и разделяют со мной мою радость.
Мама купила букет, все цветы завяли быстро, и только одна бархатная темно-бордовая роза раскрылась в редкостной красоты цветок и гордо стояла в бутылке из-под кефира до самой выписки.
Вечером пришел муж, пьяненький, я с трудом еще стояла у окна, когда он позвал меня. Женщина из палаты накинула на меня теплый платок, укутав грудь: молодая, глупая, застужусь. А там недалеко до мастита. Муж сказал, покачиваясь и еле ворочая языком:
— Всё. Забирай девку, и идем домой, я уже соскучился.
Мне было приятно, что соскучился, но обидно, что девку. Сына хотел, подумала я, а вслух сказала:
— Через семь дней выпишут.
На другой день утром пришли Иришка и Динка с большой сумкой приданого для Кати, чтобы мама прокипятила до моего возвращения из роддома. По их взволнованным лицам я ясно поняла, какой важный рубеж перешла, я — мама, а они только дочки.
— Ну, и как оно? — спросили девчонки, которым тоже предстояло это, рано или поздно.
— На такое можно решиться только один раз и то по незнанию, — честно ответила я, твердо зная, что правда их не отвратит, всё равно побегут рожать.
Я еще не знаю, что природа позаботилась о продолжении рода — пройдет полгода, я буду помнить, как и что было, но саму боль, конкретное ее ощущение я просто забуду, ум будет помнить, что было очень больно, но тело, которому и было больно, забудет и будет подсказывать мне предательскую мысль — а может, не так всё и тяжко. Я обнаружу, что свои чувства при операции гланд, которая была 8 лет назад, я помню значительно ярче, чем роды. Но пока еще я говорю, что чувствую — нет, больше никогда, ни за что, ни за какие коврижки.
Дочечку, хотела написать Катеньку, но она еще не Катенька, просто моя дочка, мне принесли позже, не на второй день вечером как положено, а только на третий, к тому времени у меня уже пришло молоко, и я сцеживалась. Грудь набрякла, стала каменной, было больно, и больно давить соски, из которых брызгали белые струйки во все стороны, куда нипопадя. Через некоторое время раздаиваешься, как смеясь объясняли мне женщины, и потом уже легче, но первое время трудно приходится.
Когда первый раз дочку принесли, я взяла ее коченеющими руками, да так и застыла, боясь пошевелиться. Сосок я пыталась засунуть в ее маленький ротик, но она не брала, а потом вдруг срыгнула фонтаном. Я позвала медсестру, и дочку мою унесли переодевать.
— Наверное, пищала, и ее накормили перед тем, как принести, — объяснили опытные соседки по палате, нас было в палате 12 человек, кровати стояли рядами.
В обед принесли снова, и снова я с замиранием сердца разглядывала дочурку, держа ее на нешевелящихся, как парализованных, руках.
Вдруг она стал вертеть головой, и я неумело сунула ей в рот сосок. Ребенок ловко присосался и потянул, потянул на себя, освобождая мне грудь от молока и громко, так что и на соседних койках было слышно, причмокивая. Потрудившись минут 10 и облегчив грудь, девчушка заснула, а я продолжала сидеть, разглядывая дочь с чувством любви и благодарности.
На полчаса кормления закрывали все окна, чтобы не простудить детей, а когда детей уносили, открывали снова и болтали с мужьями и другими посетителями прямо из палаты, стояло лето, и было тепло.
Во время вечернего кормления кто-то нетерпеливый стал кидать камешки в окошко, подзываю жену. Так иногда делал Алешка, когда навещал меня в патологии. Встать я не могла, для этого надо было положить ребенка на кровать и выдернуть из-под него свою остекленелую руку, но я не решалась, боясь сделать что-то не так, вдруг головешка откинется резко назад, поэтому я сидела, как на гвоздях, а камешки продолжали бросать.
— Ой, наверное, это мой, — печально пискнула я.
— Безобразие, — возмутился кто-то.
Одна молодая девушка всё-таки освободилась от ребенка, подошла к окну и глянула, кто хулиганит, а заодно и попросила подождать.
— Это не твой муж, — сказала она мне, — это ваш, — обратилась она к немолодой, уже после 40 лет женщине, которая неожиданно для себя и супруга, прожив много лет в бесплодном браке, вдруг забеременела и родила мальчика.
— Совсем одурел от радости, старый дурак, — в сердцах сказала она, — ну, я ему покажу, только доберусь.
Мы все засмеялись. Приятно было, что седой лысеющий мужчина так обрадовался рождению ребенка, что вел себя как молодой и нетерпеливый отец, хотя отец он и был молодой.
Детей забирали от нас и клали на каталку, рядами, как батоны, чепчиков на головках не было, и свою дочку я узнавала по большому черному чубу, у нее были самые густые и длинные волосы из всей нашей палаты.
Врачи говорили мне, что девочка активная, хорошо сосет, только срыгивает, так как у меня было маловодье. Я вспомнила капельки жидкости, в небольшом количестве стекающей у меня по внутренней стороне ноги, — так вот что, пузырь был, наверное, слегка дырявый, я подтекала, — и вот и маловодье. Надо было бы пожаловаться, да я смолчала.
На выписку за мной и дочкой пришли Алексей, мама и Иришка. Я волновалась о всяких пустяках, мне сказали, что нужно обязательно положить медсестре, которая выдает детей, в карман три рубля. Так положено, за девочку три, за мальчика пять (сколько ни борись за эмансипацию, ее в нашей стране нет и нет, ну почему за девочку трешку, а за мальчика пятерку?) Я боялась, что неловкий Алексей не сумеет дать или забудет или еще что-нибудь.
Волновало меня это действительно или только был повод, а настоящей причиной были неуверенность и страх остаться один на один с маленьким беспомощным существом? А кто его знает?
Мы взяли такси, и еще в машине новорожденная открыла свой крохотный ротик и стала вовсю вопить тонюсеньким писклявым голосочком.
— Кушать просит, — одобрительно сказал шофер такси.
Мы поднялись в квартиру, и я сразу села кормить дочку. Несмотря на советы Маргариты Корбанской и мою усиленную подготовку, у меня всё равно уже образовалась трещина на соске, и было больно, когда она сосала. Ребенок поел и затих, но его надо было перевернуть, на ощупь пеленка была мокрой. А как? Никто ничего не умел, ни мама, ни Леша, ни я. Мама, как более опытная, решилась перепеленать внучку.
В роддоме я видела дочку запеленатой, и сейчас вид крохотных ножек и ручек испугал меня.
— Ну, и что ты делаешь, — заплакала я, глядя, как мама неловко и некрасиво пытается подоткнуть пеленку вокруг ножек, — разве так пеленают? Ты не умеешь.
Ошеломленная моим напором, мама испуганно сказала:
— Зоинька, но это было со мной один только раз, и то двадцать три года тому назад.
— Мне, кажется, я умею пеленать ребенка, я, во всяком случае, видела, как это делается, — сказала Ирина. — Но я боюсь Зойки.
Посмотрев на них взглядом тигрицы, на потомство которой покушаются, я молча вытерла слезы и стала сама перепеленывать малышку, осторожно подняв ее за ножки.
Потом мы положили девочку в кроватку, и я села и стала смотреть на нее, пока меня не позвали кушать. Расположились на кухне, чтобы в комнате было меньше всяческой инфекции. Все трое взрослых, кроме меня, выпили за здоровье новорожденной, а потом мы стали обсуждать имя. Но я всё время вскакивала и бегала в комнату смотреть на малышку, просто боялась оставить ее надолго одну. Всё наклонялась к кроватке и смотрела, дышит она или нет.
Кормить рекомендовали по часам, через каждые три часа с ночным перерывом на 6 часов, но ничего не получалось, дочка требовала еды через каждые два с половиной часа и еще ночью поднимала.
Я родила на две недели позже предполагаемого срока, и у мамы кончался отпуск, который она взяла, чтобы помочь мне. И мы с Алешкой, пока мама еще здесь, поспешили зарегистрировать дочку под именем Екатерины, и теперь она была у нас Катенька, Катюша, Екатерина Алексеевна.
Мама уехала, мы остались одни. Я жила в сонной одури постоянного недосыпа. Грудь у меня оказалась слабой, и стоило Кате крикнуть, как у меня мгновенно подступало молоко и текло струями по телу. Приходилось подкладывать пеленку еще и на грудь.
Катя до месяца поднимала меня каждую ночь. Первые ночи это был тихий писк. А потом уже хороший голосок. Я спала и как-то замешкалась, и Алешка проснулся.
— Почему она так кричит? — с ужасом спросил он.
— Есть хочет, — сонно ответила я, взяла дочку из кроватки, положила ее на подушку и сунула в ротик сосок, я кормила ее ночью с подушки. Катя стала жадно сосать, громко причмокивая. Алешка изумился.
— Это она так плачет только оттого, что хочет есть, а так у нее всё в порядке?
— Ну да. Видишь, замолчала.
Катя наелась и тут же заснула, а Алексей вдруг стал ее разглядывать, поглаживать и говорить:
— Вот какая у меня дочка. Замечательная дочка, баска́я какая дочка.
Я подождала, и когда они закончили нежничать, положила девочку в ее кроватку и легла сама.
— А что значит баска́я? — спросила я перед тем, как провалиться в сон, но Алексей уже отрубился и не ответил.
Через неделю мама привезла бабушку познакомиться с правнучкой, и бабуля осталась мне помогать. А через неделю пришла телеграмма, что умерла баба Вера, бабушкина младшая сестра. Она легла в больницу с обострением язвы желудка, вечером покивала в окошко больницы головой, мол, у меня всё хорошо, идите, а утром уже нашли холодную.
Бабушка поплакала, но ехать на похороны не решилась, трудно ей было, старой, добираться такую даль, в Сибирь, а я подумала — вот Катя родилась, а бабушка Вера умерла, так всё и идет по кругу.
Приехала свекровь проездом, она была на Аральском море у племянника, Женьки Гришко, и возвращалась домой. Мы с Алешкой обрадовались, что у нас столько помощников, и ушли погулять с Катенькой с тайной мечтой, что нам и пеленки постирают и обед приготовят. Алешка сильно уставал, работая и крутясь по дому, я еще была слабая, потеря крови продолжалась, и у меня часто звенело в ушах. Обед я готовила еле-еле, не то, что до родов, когда я целыми днями экспериментировала на кухне.
Но надежды наши не оправдались: пока мы гуляли, свекровь и моя бабка разругались в пух и прах.
Мама выделила веревки специально для Катиных пеленок, а Любовь Феопентовна (это свекровь моя Феопентовна, и я каждый раз спотыкаюсь на отчестве), так вот она выстирала себе платье, а Людмила Виссарионовна (это моя бабушка) не дала ей развесить их на балконе, сказала, веревочки для детских пеленок, нельзя стерильные прокипяченые пеленки и твое инфицированное платье на одной веревке сушить, а свекровь возмутилась, да еще утром бабулька подымала ее словами — чего лежишь, вставай, дел много, — а та: — Ты мне не указывай, хочу работаю, хочу нет.
Мы вернулись. Свекровь сидит на стуле, демонстративно держит мокрые платья в руках и ждет сына, чтобы он рассудил, а бабка на кухне готовит.
— Я уезжаю сию минуту, — сказала свекровь, и никакие уговоры Алешки на нее не подействовали. Он поехал ее провожать, я молчала, думая про себя: «Не очень-то нужна с такими капризами, пусть себе едет, придется обойтись своими силами», только сказала бабульке:
— Да бог с ними с веревками, всё равно пеленки гладим с двух сторон, пусть бы развесила. — И ушла. Возилась с Катенькой.
Бабушка моя любила показать себя, и покомандовать, а тут не получилось, нашла коса на камень.
Алексей отвез мать на вокзал, потом вечером сказал бабушке: — Маму я отвез. Но и вас отвезу домой. Будем жить сами.
Бабка ожидала попреков, а тут сразу же смирилась, даже обрадовалась. Уставала она очень, годы были уже не те, часто отекали ноги, и, по сути, бабуля моя была права: свекровь уже не работала и могла бы помочь, суеты с первенцем, часто излишней, много. А она приехала после отдыха, пожалела сыночка — бедный, всё на нем — туда беги, сюда беги, загоняли, мол, парня, но встать на его место, заслонить сына грудью и помочь не оправившейся после родов невестке, понянчить внучку хотя бы до месяца, нет, на это она не было способна и уехала, лелея свои старые и новые обиды, а я была рада ее отъезду, напрягала она меня своим недоброжелательством, своим вечно надутым видом.
Первые месяц после родов помнится мне в кроваво молочном тумане, кровь льется, молоко бежит, всё это пахнет, голова кружится от потери крови и недосыпа, соски болят, ребенок пищит, пупок у него кровит, не знаешь, за что хвататься.
Алексей отвез бабушку, единственную мою помощницу на вокзал и посадил в электричку до Москворецкой, сам вернулся домой и напился на кухне, выпил бутылку вина, которую позавчера купил, чтобы отпраздновать со свекровью рождение дочки, ее внучки. Алешка хотел праздника, а вышел скандал.
Я заглянула в кухню, и увидела, как он себе наливает и улыбается уже виноватой пьяной улыбкой, и ушла спать. Как-то после родов все эмоции у меня были притуплены, не до кого мне было, только моя дочурка меня интересовала. Когда, в какой именно момент мир вокруг меня так резко переменился, не помню, не могу поймать момент — вот я родила, вот первый раз покормила, вот сижу и гляжу на свою дочку.
— Красивая? — спросили меня подружки из окошка, когда приходили в роддом.
— Красивая, — счастливым голосом скажу я.
— А на кого похожа?
— На меня.
Меня будут дразнить этим ответом, но всё было правильно — дочка была красивая и похожа на меня, носик крючком, вся волосатая. Я всё еще не осознаю себя матерью, но постепенно, день ото дня всё меняется для меня в этом мире, и всё, что было до рождения мною дочери, представляется мне неважным, давно забытым, прошлым, какой-то ненастоящей, не моей жизнью, все эти экзамены, мечты о любви, разочарования — всё это так, разминка перед главным в жизни, всё прожитое стало бесцветным и тусклым, вылиняло, как черно-белое кино перед цветным. Главное, вот оно, ребенок, мое дитя, радостное улыбчивое дитя, и смысл весь в этом, в этой радости жизни, в приветливой улыбке ребенка, в быстром кручении ею своих маленьких ножек и ручек на мои приветственные слова, всё это и есть главный смысл моей жизни, но только не сразу после родов я это поняла, постепенно происходило мое перерождение, и только спустя два месяца я вспомнила об учебе и почувствовала, как мало меня это беспокоит, и удивилась.
Я была счастлива той осенью, недолго счастлива. Заметил ли это Алексей? Как-то раз, спустя год или два он, пересказывая мне пьяную исповедь своего товарища, у которого были нелады с женой, добавил:
— Сделал бы ей ребенка, и всё стало бы в порядке.
— Заметил, — подумала я.
У Катеньки не зажил пупок, и бабушка, старая акушерка, как глянула, так и сказала:
— Пуповину оторвали, не дали самой зажить.
Кроме кровящей пуповины, у Кати была гематома на голове. В роддоме меня успокоили, сказали, что кровоизлияние под кожу, никаких последствий иметь не будет, а образовалась в результате быстрых родов и не совсем правильного положения головки ребенка. Но купать осторожно, чтобы не лопнула.
Первое время ходила патронажная медсестра, обрабатывала пупок, потом я делала это сама. Алешка прозвал медсестру «Пуговкин», она походила на артиста Пуговкина. Маленькая, толстенькая, курносая, стремительная.
Купать Катю первую неделю после выписки мне не разрешили из-за пупка, я всё кипятила подсолнечное масло и поливала им дочку. — Пахнет, как жареная рыба, — смеялась я. Потом разрешили купать, но только в кипяченой воде с марганцем.
Как-то раз в субботу, — и мама была у нас, она приезжала каждые выходные, как только родилась Катя, — мы накипятили воды, но не успела она остыть, как Катя запросила есть, и я ее покормила, после чего ребенок уснул, и сколько мы ни пытались ее разбудить и не трясли под крики мамы:
— Оставьте в покое девочку. Завтра покупаете. Если бы у вас был беспокойный ребенок, который орал день и ночь, вы бы его не осмелились будить, а залегли бы спать сами, а тут издеваетесь.
Катюша не проснулась, мы сдались к торжеству мамы и тоже легли.
У Кати одна ножка не отгибалась в сторону как надо, врач сказала — дисплазия тазобедренного сустава, сделали рентген и назначили массаж.
Детская консультация была далеко от нас, надо было переходить трамвайные пути через Стромынку с коляской, чего я панически боялась, меня просто парализовала страшная картина — коляска застряла на путях, я изо всех сил пытаюсь столкнуть ее, но безуспешно, и тут на нас идет трамвай, который не может свернуть, идет, неумолимо, звеня и дребезжа, и нет от него спасения. Но делать нечего, придуманные страхи не шли в сравнение с реальной опасностью, что дочь будет прихрамывать, и приходилось ходить на массаж — километра два туда и столько же обратно. 10 сеансов массажа сделали Кате в августе, а потом я научилась и делала сама ей массаж каждый день.
Помню, как в июле, через месяц, мы с Алешкой носили Катеньку в детскую консультацию в первый раз. Я еще не окрепла после родов, чтобы выдержать этот двухкилометровый путь с коляской, который мне предстоял, и мы поехали на автобусе, Алешка держал дочку на руках. Зашла я в поликлинику, одеяло у меня размоталось, ребенчишко выпадает из рук, кое-как подхватила я край одеяла, чтобы по полу не волочилось, завалилась в кабинет врача, и она неодобрительно наблюдала за мной, как я маюсь с всевозможными завертками и закрутками вокруг ребенка.
— Чем кормите, мамаша? — строго спросила она меня.
Я замерла в испуге: опять что-то не так делаю.
— Чем?.. Как чем, молоком.
— Каким молоком?
Врач выронила ручку, и уставилась на меня в изумлении.
— Молоком… Чьим молоком? — повторила она вопрос.
— Как чьим, своим, — ответила я, всё больше ужасаясь по мере всё большего неодобрения врачом моих действий. Из-за моей тупости моей дочечке угрожает какая-то опасность. А какая, я и понять-то не могу.
— Грудью, что ли?
— Да, да, грудью, — с облегчением повторяю я. Вот, оно, ускользающее, вот как это называется, то, что я делаю. Я кормлю Катю грудью.
Врач, опустила глаза, что-то записала в карточке, потом подняла голову: — С Вами, мамаша, чего только не наслушаешься. Инфаркт можно получить.
Обратно мы пошли пешком, Катюшку бережно нес Алешка, боясь лишний раз пошевелить рукой.
Навстречу нам шел пьяный. Пьяный-то он был пьяный, но почувствовал напряжение и неудобство Алешкиной позы и сказал, покачиваясь: — Ты что делаешь? Ты бревно несешь или ребенка?
Мы оба были смущены. Наша неопытность и неловкость были так явно видны, что и пьяный заметил.
Дни мои протекали в трудах и хлопотах.
Утром проснулись в 8 часов, я раздела, положила голенькую дочку на стол, накрыла пеленкой, чтобы совсем не замерзла, и гладила ножки, ручки, спинку, особенно ножки, потом умывались кипяченой водой. Стерильной ваткой один глазик, потом другой, потом носик очистить ватным жгутиком, потом кушать, потом гулять, потом снова кушать.
Мне очень нравилось возиться с моей крошкой дочкой, но мама пришла, увидела, как я всё делаю, и ужаснулась: — Зоинька, да разве можно всё молча делать? С ребеночком надо разговаривать, чтобы она твой голос слышала.
Но это уже после того, как Катя стала видеть и слышать, после месяца. А до этого Катя не реагировала ни на шум, ни на свет, и довольно долго, а я всё водила рукой перед ее открытыми глазками, всё ждала, когда она повернет голову за моей рукой или начнет жмуриться на свет. Начитавшись в детстве Короленко, я испытывала страх при мысли о возможной слепоте ребенка.
Незаметно в кормежках и стирках прошло лето, и наступила теплая золотая осень. Всё стало привычно, буднично, я окрепла, справлялась с делами, много гуляла с дочкой в парке, катая коляску и вдыхая запах опавших листьев. Иногда вспоминала, что у меня диплом, и садилась на лавочку читать книжки по ЭПРу.
Катенька была таким спокойным ребенком, что я заводила будильник на шесть утра, чтобы не проспать утреннее кормление.
Однажды, когда ей было уже 4 месяца, она у меня стала плакать без причины. Плачет, а грудь не берет, и я в панике и слезах звонила в детскую консультацию и спрашивала, что мне делать, а потом тащилась такую даль, через трамвайные пути. Принесла Катю, положила на стол, а та напукала.
— Ну, и что вы, мамаша хотите? У малышки запор, дайте кефир и следите за тем, чтобы стул был каждый день. — С тем я и ушла.
Алексей помогал мне с каждодневной стиркой. Квартира была прохладной, и Катя часто пускала в пеленки, в день у нас выходило от 15 до 20 пеленок. Первый месяц я их все кипятила, а потом просто полоскала в воде. Накидаю в таз пеленки, а после обеда прополощу и развешу на балконе, а вечернюю порцию пеленок, накопившихся с обеда, стирал после ужина Алексей. Ему еще Мельбард говорил:
— Их дело рожать, мы это не умеем, а наше дело святое — постирать своему ребенку пеленки. — И Алексей очень проникся, что стирать проще, чем рожать.
Раз в три дня я кипятила одну порцию пеленок, считая, что так, по кругу они все раз в две недели попадут под настоящую стирку.
Я была связана ребенком, и если кто-то хотел пообщаться, то шастали ко мне. Вдвоем с Алешкой мы могли погулять только по выходным, когда приезжала мама, и то не надолго, ведь я кормила. Молока было много, я сначала сдавала на молочную кухню, а потом отдавала молоко Алешкиному приятелю, у которого родился сын, так что у Кати есть где-то молочный брат.
Я сцеживала молоко на одно кормление, и мы уматывали, в основном, в кино, телевизора не было.
Как-то ждали автобуса, всего было шесть номеров автобусов на этой остановке. А мы опаздывали. Видим, показался в конце улицы автобус.
— По закону бутерброда…
— Нет, — возразила я мужу, — закон бутерброда действует, когда 50 на 50, а сейчас должен действовать закон удачи. — И закон удачи действовал, номер автобуса был наш, и мы успели в кино.
Возвращаясь, мы иногда бродили по плохо освещенным улицам, тогда не было такой яркой рекламы, как сейчас, зато было больше тусклых фонарей, а на неоновых вывесках часто не хватало одной, а то и двух букв.
Мы шлепали по лужам в сумерках плохо освещенных улиц под мелким осенним дождиком, я разглядывала светлые витрины магазинов, манекены, покупала мысленно себе и Алешке красивую одежду или критиковала то, что было выставлено. Как-то раз, рассматривая манекен, я сказала Алексею:
— Посмотри, у нее кисти рук даже тоньше, чем у меня, а красиво смотрится.
— Это оттого, что она не шевелится, просто стоит, — быстро ответил муж. Непонятно было, шутит он или даже не замечает двойного дна своих выводов.
Часто приезжала Ирина, и мы играли с ней в преферанс на кухне, уложив малышку спать. После замужества и родов мы с Иришкой встречались реже, в ее рассказах стали мелькать другие имена, Аня Мовшович, с которой она отдыхала летом после пятого в спортлагере, Галка Чуй, которая пришла на ту же базу, что и Ирина, и училась на курс моложе.
Ирка жаловалась на стареющую бабушку:
— Если бы я не выросла в этой квартире, где меня очень хорошо знают, то бабка точно опозорила бы меня перед людьми. Ходит и жалуется соседям, что я ей вилки под бок подкладываю.
Как-то к Ирине пришла Галка Чуй, а в углу стояло ведро с водой, и рядом веник. Бабка посмотрела на ведро, явно надо убрать, взялась за ведро и говорит Галине:
— Ирочка придет с работы, помочит веник в ведре и хрясть, хрясть меня веником по лицу.
Рассказывая, Ирина снова смеется, снимает очки и вытирает слезы, веселая жизнь.
А Катенька в это время спит, или мы думаем, что спит, а она пакостит. Опрокинула на себя бутылочку с чернилами, потянула за скатерть, и бутылочка вылилась прямо ей в кроватку, устроила нам переполох.
Приезжали и Григорьевы посмотреть на нашу дочку, Дианка сунула малышке палец, любила она, когда детки за палец цепляются. Навещала меня Ленка Жулина, помню, мы с ней гуляли в парке, потом варили кисель. Я спросила Лену:
— Ты варила хоть раз в жизни кисель?
— Нет, но теоретически я помню, что надо делать.
— Теоретически и я знаю.
Я взяла чайную ложку крахмала, смешала с водой и бросила в ягодный отвар, помешала, помешала, никакого толку. Взяла еще чайную ложку крахмала, смешала с водой, опять помешала, опять ничего, никакого загустения, и на третий раз тоже самое.
— Странно, — сказала Ленка, — мама вроде то же самое делает, но у нее густой кисель.
— Не судьба, — вздохнула я, — будем компотом пить.
И выпили, две молодые женщины с высшим образованием, не умеющие сварить кисель.
А позднее я всё же прочла в поварской книге: «Две-три столовых ложки крахмала на один литр отвара, размешать и т.д.». Долго бы мы с Леной по чайной ложке бразгались, пытаясь сварить полную кастрюлю киселя.
Приезжала Люся, то ли с Сашкой, то ли одна, уже не помню. Наталья Зуйкова с Ингой Гавриловой были у нас при бабушке, а может бабушка попозже еще приезжала, тогда я и нарисовала ее портрет. Приезжала Милка Хачатурова, в общем, среди нашего окружения я родила первой, и народ ехал ко мне посмотреть на девочку и на то, как это бывает. Мы с Алешкой жили одни, без старших, к нам можно было забежать в любое время, и друзья забегали.
В ноябре Ирина, отмечала свои 25 лет, устроила грандиозный день рождения. Собрать друзей у себя в комнатке она не могла, снимать в кафе было не по карману, выручила ее одноклассница, чьи родители уехали отдыхать и разрешили Ирке погулять у них на квартире. Не помню, в какой части Москвы это было, помню только темноватую, хорошо обставленную квартиру и просьбу Ирины быть осторожными с дорогой посудой.
Была наша группа и девчонки с курса, Динка, Наташка Анохина, обычный состав, свой студенческий круг. Запомнилось оно хорошо, потом долго так не гуляли, не орали песни. Алешка с Пашкой Лебедевым сидели рядом и так нагрузились, что мы с Лялей не знали, как их домой доставить.
Катя пустышку не сосала, я пыталась ей засунуть, но она выплевывала, а потом, вдруг, с четырех месяцев стала сосать два пальца на правой руке, указательный и средний. Уложу ее в кроватку, Катя повернется на бочок, засунет пальчики в рот, чмок, чмок и уснула, а я подойду и осторожно пальчики изо рта выну.
На очередном приеме у врача я пожаловалась, что дочка стала сосать пальцы. К тому времени старая врач, та самая, которую я пыталась довести до инфаркта, объясняя, как я кормлю месячного ребенка, от нас ушла, и к нам назначили молоденькую девчонку сразу после мединститута. Услышав, что Катя сосет пальцы, она сказала со смешком:
— Подумаешь, у меня брат в институте учится, как задумается, так палец в рот засунет.
Так всё и осталось, Катя быстро с пальцами во рту засыпала, я и не боролась против этой вредной привычки, а когда в год спохватилась, было уже поздно, все мои попытки оказались тщетными. И горчицей пальцы мазала и даже раствором хины, и всё зря. Недавно старшая внучка сказала мне:
— Мама как задумается, сидит и пальцы сосет.
В начале декабря к нам пришел в гости приятель Алешки по ЦНИИМаш Юрка Подгузов. Сидим за столом, выпиваем, а тут Катя начала тужиться.
Я вскочила, подняла ножки и убрала пеленку, Катя пачкала таким образом только клеенку, которую потом легко было мыть.
Глядя, как вылезает желтая колбаска, нисколько не смутившийся, тогда еще бездетный, Юрка так охарактеризовал процесс:
— Ну, прямо как паста из тюбика.
Подгузов окончил мехмат Московского университета, сам был из Ржева, прекрасно играл в шахматы, был кандидатом в мастера и успевал в обеденный перерыв обыграть в блиц сразу четверых, пятерых своих товарищей за раз. Внешность у него была яркая, смуглый брюнет, может, и не красавец, но всегда заметишь в компании, а если не заметишь и не увидишь, то обязательно услышишь. Имел петушиный характер, хвастлив был и задирист, наверное, и по сей день такой же, только его портило, что после перенесенного в детстве полиомиелита он волочил одну ногу и остался небольшой тик в лице, к которому я быстро привыкла и не замечала. Увечье не мешало ему даже драться, как рассказывал Алешка, используя костыль как холодное оружие.
Любитель поговорить, он встретил в Криминском хорошего слушателя, а Алешку привлекали в нем, я думаю те черты, которых он сам был лишен: энергия и напор, способность быстро принимать решения, а не мучиться каждый раз, когда надо действовать, как это было и есть у Алексея. Они подружились и одно время часто виделись не только на работе, но и в свободное время, они вдвоем и еще Юрка Колюка, тоже с мехмата, но совершенно другого плана человек, тихий, из разряда тех тихонь, про которых бабушка любила приговаривать «в тихом омуте черти водятся». Но Колюка покажется на моем горизонте немного позже, пока я с ним не знакома, а знаю только Подгузова, еще по проживанию в Подлипках в мужской общаге. Как раз тогда, когда мы жили осенью 69-го года в Подлипках, во время отсутствия Пономарева, Подгузов и женился, и сам потом рассказывал про свою стремительную перемену жизни:
— Мы так познакомились и поженились, что с нас роман можно писать.
Его жена, Людмила, была родом из Томска, и они познакомились в аэропорту в ожидании самолетов, знакомы были всего день, понравились друг другу и разъехались, обменявшись адресами. Он не написал, зато написала она и упрекнула его:
— Быстро же ты меня забыл.
Он ответил, завязалась переписка, а спустя несколько месяцев она к нему приехала, они сошлись и сыграли свадьбу.
— Я женился на ней за смелость, — сказал он.
Человек решительный, он ценил решительность и в других, у Людмилы никого до него не было, а он мог оказаться и пустозвоном, развлечься и бросить, а вот они прожили всю жизнь, двое сыновей у них.
Женился Юрка, как и большинство парней из мужской общаги, без всяких перспектив на жилье, и их молодая семья, как и мы, повисла в воздухе, и пока беременная Людмила жила у его родных в Ржеве, Юрий пытался как-то устроиться, чтобы поиметь квартиру.
Наше воздушное существование на чужой, наёмной квартире было для него устроенной жизнью, так как я имела доход в виде стипендии, и папа мне помогал, вот мы и могли выкрутиться финансово, а им рассчитывать было не на что, и Людмила пребывала во Ржеве, у его родителей.
Юрка был весел, полон оптимизма, особенно после пропущенной с Криминским пары рюмок, но проскальзывало, что он скучает по жене. Я вспомнила как в их медовый месяц, Алексей зашел к ним, пригласить куда-нибудь пройтись вчетвером, и осторожно спросил у Люды, как ее впечатления от Москвы, от Подлипок, где они побывали, что видели.
— Да, — сказала ему молодая жена приятеля, — много где гуляли, всю постель истоптали.
Алешка пришел несколько растерянный, такая женская откровенность его смутила.
— Надеюсь, ты быстро ретировался, чтобы не мешать в таком святом деле? — похихикала я над ним.
Этот самый Юрка и сидел сейчас у нас, пил с Алешкой водку и не смущался, и тем более не терял аппетита от Катиных действий, которые были необыкновенно к столу.
Я пошлепала ладонью попку смеющейся дочки.
— Катерина, — строго сказала я. — Катерина, дай я тебя запеленаю, не мешай.
— Так и зовёте ее Катерина?
— Нет, вообще-то она у нас Лапушонок.
— Лапушонок, — задумчиво протянул Юра.
— Надо же, как женщины умеют придумывать ласковые названия своим детям, одна моя знакомая называла дочь «дочечка». Так удивительно, не дочка, не доченька, а дочечка.
Но вернемся к будням. После месяца стали давать ребенку яблочный сок, который отжимали из тертых яблок через марличку, марличку потом кипятили. Пластмассовую терку мама тоже прокипятила, и ручка у нее оплавилась, и я так и пользовалась теркой с расплавленной ручкой.
Вообще, мама была склонна прокипятить всё, и Алексей смеялся: — Теща и меня готова прокипятить, прежде чем пускать к дочери.
В общем, яблоки, а потом, в четыре месяца творожок, который брали на молочной кухне, позднее овощи и яичный желток. Алексей не убирал за дочкой даже в начале, когда всё пахло только творожком. Поднимал ее за ножки, щупал ползунки и кричал: — Зоя, скорей, там шишка.
Нас навестила пара с физтеха, Марина с Володей. Она училась на первом курсе, а он был лейтенант. Очень приятная была пара, но думаю, скоро ей пришлось выбирать — или институт, или муж. Когда они навещали меня, она была уже беременной.
Катя схватила Володю за палец и всё что-то ему рассказывала, всё что-то гукала и улыбалась, и радостно дрыгала ножками, и они ушли совершенно очарованные ею, а через полгода Маринка сама родила девочку. А вот как сложилась ее дальнейшая судьба, не знаю.
Первый раз Катя перевернулась, как это часто бывает, когда раззява мать меньше всего это ожидает — я положила ее вдоль дивана, а она скатилась и подняла рев, после чего я стала осторожней.
Монотонно текли день за днем. Утром кормление, потом прогулка, совмещенная с походом по продуктовым магазинам. Недалеко располагался магазин внизу жилого дома, слева винный отдел, справа мясной и гастроном, коляску с дочкой я ставила под окна винного отдела, и там же распивали купленное подозрительные матерящиеся небритые личности, и я всегда забирала улыбающуюся или смирно спавшую дочку, над головой которой стоял густой мат.
В начале декабря праздновали Катино полугодие. Мама ей подарила первую куколку Таньку, а Алешка сделал массу снимков дочки. Катя была очень хорошенькая девочка, на нее обращали внимание, я гордилась, что у меня такая куколка дочка. Глаза у нее были сине-фиолетового цвета, и только, если поднести к свету, в глубине глаза вокруг зрачка зажигался ярко желтый огонек, так и светилось золотистым вокруг зрачка.

В общем, я была счастлива своей дочкой и думать забыла, что ждала сына, даже разговаривая с ребенком, когда он только бился в животе, называла его Сережкой, а сейчас всё забыла. Но Алешка всё переживал, что девочка.
— Меня как обухом по голове, — так сообщил он по телефону Мельбарду, да еще при теще, которая страшно обиделась за внучку и заодно за весь женский род.
Идем мы с Алешкой как-то вдоль парка домой еще в конце лета, вечереет, но еще светло. Впереди нас из канавы выскакивает четырех-пятилетний мальчишка, рыжий, веснушчатый и грязный прегрязный, ну просто по уши в глине, живого места нет. Вылезает это существо из кустов на дорогу и на минуту замирает, швыркая сопливым носом.
Я везу свою красивую девочку, в чистеньком одеялке, завязанную розовыми ленточками, везу и думаю: как же всё-таки хорошо, что у нас дочь. И вдруг Криминский, когда мы уже прошли мимо, прижал кулаки к груди и застонал:
— Ну почему, почему у меня такого не будет!
Ну, и что скажешь на это? Без комментариев.
У Катеньки после прививки БЦЖ на ручке образовалась мокнущая ранка, которая никак не хотела заживать. При прикорме у нее не было ярко выраженного диатеза, только от яичного желтка и картофеля у нее слегка розовели щечки, но в год я вдруг увидела у нее под коленкой мокнущую ранку, после мандаринов или яиц заметно увеличивалась и чесалась. Подобная же ранка образовывалась и на локте. Ранки были размером с ноготь, не постоянные, то появлялись, то исчезали.
Мама сказала: — В сущности, у нее экссудативный диатез, не прошел ребенку даром твой зуд перед родами. Будет легко цеплять любую инфекцию. — Так оно и оказалось впоследствии.
На седьмое ноября к нам в гости приходит Ирина с Людой Лифшищ, Люда хочет посмотреть дочку мою, и как мы устроились.
Алешка перебирает и засыпает пьяный, свесит тонкие худые руки с дивана, забыв очки на носу. Я аккуратно снимаю с него очки и говорю Люде, перед которой мне особенно неловко за пьяного мужа, Иринка всё же своя.
— Ну вот, опять. Не знаю, что делать, хоть разводись.
— Мужья на дороге не валяются, ты что, — грустно говорит мне Люда, которая не замужем.
В это время, осенью, когда напряжение первых месяцев после рождения Кати начало спадать, Алешка всё чаще и чаще задерживался после работы и приходил домой поздно вечером, сильно наклюкавшись. Я не была готова к такому повороту в своей семейной жизни. Алешка любил выпить, но чтобы по два раза в неделю, бросив меня с малышкой, где-то пропадать, нет, такого я не ожидала, не знала, как с этим бороться, и первое время ничего не предпринимала.
Муж мой пьяный был лучше, чем трезвый, не вредный, не зануда, просто глупел до невероятности, но я не выносила пьяных на дух, выросшая в семье без мужчин, я брезговала пьяными и стелила ему отдельно.
Алешка упирался, ни за что не желал лечь один.
— От тебя несет перегаром, не могу я такой запах вынести, ну что за дрянь ты пьешь, — иди, ложись, где постелено, выталкивала я мужа на диван.
Криминский сидел на постели без очков, беспомощно озирался, и твердил с пьяной настойчивостью:
— Ты на меня сердишься. Ну, за что ты на меня сердишься? Я не лягу спать, пока ты меня не поцелуешь, я не могу заснуть, когда ты на меня обижена.
Меньше всего мне хотелось целоваться, но и надоел он мне до чертиков, и я чмокнула его в щеку, преодолевая отвращение к сильному запаху алкоголя.
К зиме стало еще хуже. Попойки участились, и уже событием стало, чтобы муж пришел домой сразу после работы. Длинные, настойчивые звонки в дверь полпервого ночи. Алешка, которого я жду с половины седьмого вечера, наконец, вернулся домой, не предупредив даже, что придет так поздно. Я сижу, обхватив колени руками, на стуле в комнате, сижу вся зареванная, гляжу на спящую дочь, и темное отчаяние переполняет меня. Это происходит не в первый, не во второй и не в третий раз, это теперь происходит регулярно, Алексей приходит со службы домой поздно ночью, не отвечает на мои вопросы, где он был и с кем пил. Мои вопросы — это покушение на его свободу, он независимый мужчина, а то, что я сижу дома совершенно одна, и нет у меня здесь ни соседей знакомых рядом, ни подруг, которые далеко, ни родителей, только он, это в расчет не берется. Я хочу, чтобы мой муж, соскучившись, бегом бежал домой, чтобы ценил, что его ждут и любят, ну, на худой конец, задерживался на работе по работе, но запах перегара, который густым зловонным облаком окружает моего молодого мужа, когда он приходит в час ночи домой, не позволяют мне сомневаться в том, как он провел время.
Я уже выстирала и вторую партию пеленок, которая его доля, искупала одна Катеньку, в общем, я справилась. Я всё сделала, но теперь я не хочу его видеть, пусть он уходит туда, где ему лучше, чем со мной, а я не открою ему двери, пусть уходит, мне такой муж не нужен.
Звонки прекращаются на время и начинаются с новой силой.
— Зоя, открой, — просит Алексей через дверь, просит довольно тихо, чтобы не разбудить соседей посреди ночи, но я молчу, только размазываю слезы по лицу.
Алексей звонит еще и еще, но я знаю, если я открою, всё пойдет по старому, а ведь надо что-то делать, он сопьется в конце концов. А нужен моей дочке отец-пьянчужка? — нет, не нужен, а мне нужен муж, который где-то шляется? — нет, я всё равно уйду. Не смогу я так жить.
И я плачу еще сильней, правда плачу совершенно беззвучно, вот бабушка вырастила дочку одна, и мама вырастила дочку одна, и мне предстоит то же самое, мне придется растить дочку одной, ну как можно вынести такое пренебрежение со стороны мужа?
Полчаса звонит муж, а потом наступает тишина, примирился он с тем, что я его не пустила, и ушел. Я знаю, он поехал в Подлипки в общагу, электрички еще ходят, пусть едет, пусть живет там, пусть как хочет.
Но потом мне становится страшно — а вдруг он ушел навсегда? Уже всё, полный разрыв? Я открываю дверь. Никого нет, я выхожу на улицу, в зимнюю ночь и стою на тротуаре. Темно, ветрено, звезд мало, на темном небе бегут серые облака, надо возвращаться, а то простужу грудь на ветру. И я иду домой спать, хотя я боюсь ночевать в квартире одна, ну, да привыкну. Я не буду ему утром звонить, пусть сам решает, как быть, а мне всё равно, сколько может вынести человек? Мне нельзя так переживать, а то уйдет молоко. И я иду и, как ни странно, быстро и крепко засыпаю, но утром встаю вся разбитая, замученная, слезы после вчерашнего у меня близко, глотаю капли валерианки, которые в нашей семье пили во все случаи жизни, и начинаю день как обычно, с массажа дочки — ушел муж и пусть работает, пусть только попробует не придти вовремя и сегодня, либо семья, либо водка, тут выбор один.
Алексей приходит злой, но я неожиданно молчалива и закостенела в своем упорстве — приходи домой вовремя или совсем не приходи, таковы правила игры, ты женат, а если любишь погулять, то не надо жениться, нельзя иметь что-то и не платить за это.
— В следующий раз опять не открою, — вот что говорю я мужу. Он не знает, что я всё же выбегала за ним в темноту ночи.
— Мне, может, некуда идти, — возмущенно говорит Алешка.
— Некуда — приходи, как положено, вот и весь разговор, я с пьяницей жить не буду.
— Я не пьяница.
— Так станешь им.
— Нет.
— Интересно, а из тех, кто спился, кто-нибудь собирался это делать, заранее планировал? — спрашиваю я зло. — Кто-нибудь из тех, кто валяется под забором, мечтал об этом? Рюмка за рюмкой, так это начинается, и у всех свой порог, после которого назад уже ой-ой как трудно. И потом мне скучно, я же жду тебя, а ты не идешь, ты меня унижаешь.
— Ну, ну, не выдумывай, я тебя еще и унижаю. Это ты меня унижаешь, в дом не пускаешь.
— Это ответные действия, а начинаешь ты, ты меня вынуждаешь.
Криминский молчит, но не потому, что согласен или ему стыдно, просто он устал после вчерашнего, и у него нет сил спорить, он идет стирать и быстро ложится спать туда, куда я ему стелю, на отдельный диван.
Неделю он не пьет, и мы миримся.
— Ты думаешь, я не страдаю, когда мы ссоримся? Да мне каждая твоя слезинка как жало в сердце втыкается, но я имею право выпить с друзьями? Я не подкаблучник какой-нибудь.
— Не передергивай. Никто не возражает, если ты выпьешь с друзьями, но не три раза в неделю, не до полпервого ночи (позднее я узнаю, что Алексей дотаскивал пьяного бесчувственного Мельбарда до его комнаты, а только потом ехал домой, вот и получалось так поздно).
— И потом, откуда у тебя деньги на выпивку? Володька тебя поит?
Пьянство Мельбарда разрушало и разрушило его вторую семью, и угрожало моей, и я боролась с Володькой за мужа.
В ссорах и примирениях подходил к концу 1970 год, год рождения нашей дочки. Зима выдалась снежная и морозная. В декабре, гуляя с дочкой, Алексей ухитрился выронить Катю, она перелетела через ручку коляски и упала в сугроб, не проснувшись. Алешка сознался в содеянном только на другой день.
Еще с ним приключилась беда, начался понос, я не обращала внимание, а когда он пошел сдавать анализ, в пенициллиновом пузырьке (Алексей всегда очень экономил, нелегко расставался со своим добром, и анализы как мочи, так и кала сдавал в таких вот пузырьках). Как только врачи увидели, что он принес, то без всякого анализа тут же дали ему направление в инфекционное отделение больницы в Подлипках.
Он пришел ко мне.
— Ну, уж нет, — сказала я, — не останусь я здесь одна, на четвертом этаже без лифта, как жить буду? Самой коляску таскать?
Я послала мужа в аптеку за синтомицитином. По три таблетки в день, и через шесть дней любую инфекцию убьем. У меня дома была хлорка, я купила ее или мама привезла еще тогда, когда мы сняли квартиру, я любила хлорировать туалет, вот уж после чего нет никакого запаха. Я прохлорировала унитаз и попросила Алешку каждый раз дезинфицировать после себя и тщательно мыть руки, чтобы мы с дочкой не заболели, особенно дочка, для детей кишечная инфекция опасна, учила меня мама. Через неделю Алешка выздоровел, всё прошло, а еще через неделю Алексея заловили врачи, как разносящего инфекцию, заставили сдать анализ и сделали ректоманоскопию. Вот тогда муж и позвонил мне и сказал:
— Меня поймали и изнасиловали.
— А диагноз?
— Всё хорошо.
Я гордилась, что быстро и без последствий вылечила мужа.
1971 год мы решили встречать дома. Где-то Алешка добыл маленькую елочку, или принес еловые ветки, и я нарядила ее, купив совсем крохотные шарики и игрушки, повесив конфеты в ярких блестящих обертках и смастерив из конфетных же оберток и бумаги хорошенького деда Мороза. Я так давно ничего не делала руками, совершенно одичав за годы физтеха; вязание и, особенно, шитье, которое я не любила, и шила только из необходимости, из-за отсутствия денег, в счет не шли, а тут я целый вечер под гуканье дочки в кроватке возилась с чем-то, не имеющим отношения к учебе или домашнему хозяйству, и муж мне не мешал, одобрял моё занятие.
Мы чего-то там выпили, а потом легли спать, и в три часа ночи нас разбудил телефонный звонок. В трубке звучал веселый пьяный голос Сергеевой, которая, вспомнив о нас среди всеобщего веселья, решила поздравить с Новым годом. Я что-то промычала в ответ на ее радостные повизгивания на другом конце провода, и вдруг она сказала, возможно, самой себе, возможно, окружающим:
— Ой, так три часа ночи, они же спят, — и в трубке послышался отбой.
— Кто это? — сонно спросил Алешка.
— Иринка поздравляет.
Но еще раньше, чем я ответила, Алексей, поняв, что ничего тревожного нет, заснул.
Разговор был уже в 1971 году.
1971 год, окончание института, Камчатка
Перед Новым годом мы с Алешкой поленились стоять в очередях за продуктами и с утра первого числа, когда вся страна, утомленная праздничной бессонной ночью, спит, поехали в центр за какой-нибудь едой. В магазинах было тихо, чисто, пусто, и полно продуктов. Мы отоварились на неделю и довольные вернулись домой, тогда у нас получилось, а как-то спустя года три мы решили повторить удачную вылазку, пришли первого января в магазин, и было всё похоже: тихо, чисто и пусто, пусто не только из-за отсутствия толчеи, но и из-за полного отсутствия продуктов, всё продано, и теперь жди завоза.
Дорогая хорошая рыба перевелась в свободной продаже, икра тоже, и Инга Прошунина рассказывала по этому поводу анекдот:
«Приходит старичок в магазин:
— Осетринка есть?
— Нету, не завезли.
— А лосось есть?
— Нет, не завезли.
— А севрюга есть?
— Ну, говорят Вам, нет, не было завоза.
Старичок надевает очки, смотрит на витрину и видит там одинокую ржавую селедку.
— А эта старая б… сама сюда приползла?»
Так что осетрины мы не купили, но мясо с большим количеством костей купили.
Мясо в магазинах рубили так, что кость, например, была толщиной сантиметров двадцать, а кусок мякоти к ней срезался клином, купишь кг мяса, а там костей на 700 г, а мякоти на 300.
На слабые протесты покупателей мясники строго роняли: — Мясо без костей не бывает. — И смотрели свысока с превосходством сытого, умеющего жить человека.
Любочка Пулатова, отпустила меня на полгода, до января. Полгода истекли, и надо было делать диплом. Алешка взял отпуск, договорившись, что иногда он будет выходить на работу, а потом отгуливать эти дни, так как мне не было необходимости каждый день ездить в институт.
Институт «Химфизики» находится на Ленинском проспекте, далеко от Сокольников. Я утром варила манную кашу, на обед овощи Кате, которые Алешке приходилось протирать, а ему суп и иногда второе, но это с вечера, и уезжала, стараясь приехать к трем часам, чтобы отдохнуть и приготовить ужин.
Любочка тогда часто болела, сердце прихватывало, и я редко ее видела, но было ясно, что делать, как и говорила мне в свое время Люда Фиалковская:
— У Пулатовой все аспиранты хороши, знают, куда идти, потому что она сама умница.
Алешке трудно давался уход за шестимесячным младенцем, хотя дочка у нас была жизнерадостным ребенком и редко плакала, хорошо ела и не простывала. Можно было дать ей газету, и она ее рвала часами, только надо было следить, чтобы не слопала, один раз не уследили, и ребенок какал газетой.
Но непривычный Алексей сильно с ней уставал, и я приходила домой и заставала такую картину — в углу кроватки сидит дочка с надутым недовольным лицом, а на диване, подальше от нее сидит Алешка с таким же точно лицом и говорит мне: — Она мне опротивела.
— Да ты ей не меньше, — обиделась я за дочь.
Мы сажали Катю за детский складной столик-стульчик, кто-то нам его подарил, может даже Ольшанецкие; вспоминается, что кто-то отдает, у кого ребенок маленький, и я спрашиваю, почему отдают, а сами не пользуются.
— А он вылезает, не сидит, и приходится кормить на руках, — отвечает мне Надя, жена Миши, симпатичная говорушка, несколько раз приходившая к нам вместе с мужем за деньгами. У них мальчик на полгода старше Кати, и они живут у тещи, так как Надя не может справиться с дитем.
Миша тыкает ее носом, что вот я справляюсь же.
— Всё от ребенка зависит, если спокойный, так чего и не справиться, — равнодушно парирует Надя Мишу, не обижаясь.
В общем, у нас есть приблудный стульчик-столик, мы используем его как столик и кормим Катю в комнате, она уже сидит. Катя маленькая, через верх стола-стула вылезти не может и выбирается на волю, проскальзывая со стульчика вниз, под столик, и уже оттуда на простор комнаты.
Алешка посадил Катю в стульчик, а сам стоит в коридоре, провожает меня, оставив дочь наедине с манной кашей.
Вдруг из комнаты раздается веселый поросячий визг, а затем в проеме двери показывается ползущий ребенок, вся рожица и слюнявчик в манной каше. Дочка быстренько доползает до ног отца и застывает там, с любопытством задрав голову на меня и заняв позиции между Алешкиных тапочек, за одно слюнявчик вытерла о брюки папочки. Алешка наклоняется, чтобы подхватить ее, но где там, Катя быстро, быстро, как зверек, уползает, скользя коленками по размазанной по полу манной каше и оглашая воздух радостными воплями, и Лешка бегом за ней в комнату, чтобы поймать и умыть, а я ухожу, — пусть сами разбираются.
Иринка забежала проведать нас. Я на кухне химичу, а Ирина в комнате с Катенькой беседует. Катя лежит на софе, что-то рассказывает Ирке, издает разнообразные, непонятные, но веселые звуки и дрыгает ножками, что означает у нее веселое расположение духа; я вхожу в комнату из кухни и слышу Ирину, которая говорит Катюшке.
— Хорошие у тебя Катька глазки, большие, красивые, и счастливая ты, у тебя есть и папа и мама.
Я тихонько сглатываю подступивший к горлу комок и неслышно ухожу обратно, не буду мешать, пусть себе говорят. На кухне я сажусь на табуретку, поджимаю коленки под подбородок и задумываюсь, вспоминая.

Вот мы идем с Иринкой по Москве, она знает, где мы находимся, ну а я рядом с ней. Вдруг Ирина резко сворачивает и говорит:
— Обойдем, я не хожу по этой улице, здесь живет мой отец.
Я молчу, в моем молчании сочувствие. Ирина не продолжает, просто подкидывает на своей руке мою ладонь, есть у нее такая привычка, и мы уходим.
И еще, как-то рассказывая о матери и бабке:
— Они не дружны, плохие у них отношения. Бабка не прописала отца, когда мать была беременна мною, не дала согласие.
Я и тогда ничего не сказала, в уме проворачивая всякие варианты: пришел бы жить зять, может, пьющий, стал бы хулиганить, гнать из комнаты, а комната всего 9 метров, как там жить вчетвером? А с другой стороны, близкий человек для дочери, которая беременна, может, и по-другому сложилась бы жизнь Иркиной мамы, если бы тогда бабушка не помешала, и не пришлось бы Ирине обходить улицу, где живет ее отец?
Безысходность нашей жизни и нашего быта еще и еще раз настигает и ранит меня.
На наш день рождения Алешка предварительно напился в кругу коллег на работе (после Нового года его еженедельные загулы почти прекратились, и мы стали жить значительно дружнее). Тогда население, как правило, с кем вместе работало, с теми и пьянствовало, отмечали все праздники и дни рождения. В результате я много лет подряд имела на день рождения подарок в виде мужа под хорошей мухой, вот к чему привело, в конце концов, это мартовское совпадение, которое казалось когда-то в полете чувств перстом судьбы указующим, а обернулось дополнительными обидами.
Естественно, вечером была привычная буря с моими воплями. Алешка, наутро, с похмелья, обиженный валялся на диване труп трупом. Я бросила ему дочку, пусть хоть ребенком займется, раз больше ни на что полезное он не способен. Алексей играл с дитенком, который, получив такую большую живую игрушку, радостно ползал по папочке, пускал на него слюнки и теребил за волосы. Кукле Таньке к тому времени Катя уже отодрала ее парик, а Криминский при уборке выбросил. Взял с полу осторожно двумя пальцами, с брезгливым отвращением, и выбросил, а теперь вот подставлял свой собственный скальп, а я на кухне готовила сациви, праздновать собирались в два этапа: в субботу родня, в воскресение друзья.
Дядя Резо пришел с родственницей из Грузии, Нателой. Натела была маленькая, худенькая, шустрая, с необыкновенным натиском и быстротой в домашних делах.
— Я очень любила детей, — сказала она мне, удивив своей открытостью, — но никак не могла выйти замуж, вышла только в тридцать лет, но успела, с тридцати до сорока троих родила.
Неожиданно попав на день рождения, она сбегала в ближайший магазин, купила подарки, потом кинулась готовить сациви, почти полностью отстранив меня от дел. Сели за стол поздно, часа в четыре, уже голодные. С приходом гостей Криминский с большим трудом принял вертикальное положение, но с дивана не встал, только сел и дочку переложил на колени.
— Очень большая редкость, чтобы мужчина так с маленькими детьми возился, цени это, — сказала мне Натела.
На другой день пришли мои друзья и доедали, что осталось. Выпивки было много, а закуски едва-едва, зато Наталья Анохина принесла соленых чернушек, засола ее мамы, я уже не кормила, и попробовала, и очень мне они понравились, сколько я потом солила их, но так не получалось.
Сейчас, вспоминая, как мы жили, имея три рубля на день, из которых я выдавала Алешке на обед каждый день по рублю, я удивляюсь обилию гостей и застолий. Приходили друзья, приносили с собой бутылку, я чего-то находила в морозилке, жарила, пекла, и вот, пожалуйста, сидим, едим, пьем.
С продуктами было туговато, но мясо еще было, треска тоже, я каждую неделю делала два рыбных дня, потому что рыба была дешевле, кг трески стоил 56 копеек, готовила супы, из супового набора за 90 копеек ухитрялась сделать и первое, и второе, т.е. сварить суп, заправить его, косточки обжарить, и к ним сделать картофельное пюре. Мясо я жарила редко. В основном делала гуляш или бефстроганов, при одном и том же количестве мяса это было сытнее, в общем, крутилась, как могла. Можно было в случае отсутствия продуктов и неожиданного прихода гостей сбегать в магазин и купить колбасы и сыра, нажарить картошки. Вот тебе и закуска, а выпивку приносили с собой.
Еще я покупала говяжью печенку по 1 рубль 40 за кг, это тоже было дешево, покупала и почки, готовила из них и первое — рассольник, и второе — почки жареные. Долго, дня два я их вымачивала, и потом ели. Было вкусно, и тоже дешево. Мозги же не пошли, пришлось выбросить, вымя тоже есть не стали. Еще были консервы рыбные дешевы, но я была то беременная, то кормящая, и старалась консервы не есть.
Мы решили приучать Катеньку пи́сать на горшок. В книжках было написано, что это нужно делать с шести месяцев, и вот мы с шести Катиных месяцев и начали, и мучились полтора года. В 6 месяцев Катя еще не сидела, и мы просто пи́скали ее на пол. Постелим половую тряпку и пискаем. Обычно перед сном это делал Алешка. Сядет на край дивана, посадит ребятенка на коленки, держит ее за ножки и сонно так, закрыв глаза:
— Пис. Пис, пис.
Катька хихикает. Дрыгает ножками, не хочет ни спать, ни писать.
Папочка наклонит голову, посмотрит на пол, нет ли там лужи, потом заглянет между ножек ребенка, сядет и вздыхает про себя:
— Девочка. Странно. Я ведь знаю, что это от меня, но как от меня может быть девочка? Почему так может быть?
Видно ребенка, как продолжение, муж воспринимал только того же пола, которому принадлежал сам. А иначе никак.
И снова монотонно, полузакрыв глаза:
— Пис. Пис.
— Ладно, Алешка, брось зря мучиться, ложись, — говорю я мужу. — Я уже постель постелила.
И мы ложимся спать.
Меня мучит кошмар. Я учусь, и мне надо сдавать Гос по физике, а у меня не сделана лабораторная про катушку и сердечник. Отчаяние наполняет меня. Лабораторные комнаты уже опечатаны, мне не сделать работу, и я завалю Гос. Панический ужас, который охватывает меня, сродни пещерному страху перед опасностью, таящейся в темных углах. Сердце мое замирает, потом падает куда-то вниз, и я просыпаюсь в холодном поту и несколько секунд таращусь в потолок, пытаясь осознать, где я и что со мной. Переворачиваюсь на бок и вижу в бледно голубом свете уличного фонаря, скупо освещающего середину нашей комнаты, детскую кроватку. Ребенка в ней не видно из-за раскиданных одеял, но я уже знаю, уже проснулась — это моя дочка Катенька. Вспомнила про дочь, и мысль моя бежит дальше, отделяя сон от яви — это дочка. Вон спит муж. Я замужем и уже родила. А замуж вышла и родила я после сдачи Гос экзамена.
Я встаю босыми ногами на холодный пол, вытряхивая из сознания мутные обрывки кошмара, подхожу к кроватке. Дочка напрудила, вылезла из мокрой пеленки и спит, задрав к потолку голую холодную попку. Я привычно выдергиваю мокрую пеленку из-под ее носа, стелю на клеенку новую сухую, переворачиваю малышку и запеленываю.
Сейчас ночью, после волнений тяжелого и глупого сна, я с новым, особенным удивлением рассматриваю ребенка, это маленькое, но замечательное, совершенное существо, к возникновению которого я имею столь прямое отношение, такие миниатюрные ручки с пальчиками, крохотными пальчиками на руках и на ногах, ушки, волосики, всё так неповторимо прекрасно сделано природой, и странно себе представить, из чего это образовалось, из этой мутноватой скользкой жидкости со странным запахом, которую я вовремя не вымыла из себя. И вот из этого может получаться такое? Старания мужа, мои чувства, всё это в счет не идет, от эмоций ничего не создается, всё материально, всё из-за этой жидкости, это ее наличие приводит к такому совершенству, и понять это можно только умом, а душа удивляется безмерно.
Ноги замерзли у меня от холодного пола, и я забираюсь в теплую постель, укрываюсь с головой одеялом, как я всегда любила с детства, и проваливаюсь в глубокий сон, который может позволить себе мать лишь тогда, когда ее дитя спит спокойно.
Я вставала к Кате каждую ночь, а иногда и по два раза, и мне всё время хотелось спать, и я просила мужа:
— Леня, я хочу поспать одну ночку, ну только одну единственную ночку. Я тебя очень прошу, встань ты хоть раз к дочке.

Леша обещал, но впустую. Начиная с месяца, Катя не плакала по ночам, а только кряхтела, вылезая ночью из мокрой пеленки. Это кряхтение я слышала и поднималась к ребенку, а Алешка не просыпался. Он спал крепким здоровым сном молодого уставшего мужчины, как будто весь день махал топором, а не держал в руках ручку или карандаш. Однажды он мне твердо пообещал встать. Ночью слышу, Катенька ворочается, а он себе дрыхнет, сопит в обе дырки, и ноль внимания на ее копошение. Я позвала тихо:
— Леня.
В ответ только ритмичное посапывание:
— Я позвала еще:
— Леня, встань, пожалуйста, ты же обещал.
Муж вздохнул. Перевернулся во сне на другой бок и дальше себе спит сном младенца.
Это было в пятницу вечером, ему на другой день не на работу, он клялся, говорил: «Зоинька, поднимусь, поменяю, честное слово, дам тебе поспать» — и теперь так надо мной издевался.
Черная зависть к безмятежному сну мужу охватила меня, я уперлась спиной в стенку и ногами подло столкнула бесчувственное тело на пол. Софа была низкой, увечья не предвиделось.
На полу он проснулся и очень удивился: — Я упал?
Не ответив, я со слезами перешагнула через него и направилась к кроватке. Больше я не пыталась его разбудить, себе дороже.
Кроме кошмаров об учебе, меня мучили другие страхи, во сне мне иногда мерещилось, что кто-то страшный стоит над Катиной кроваткой, нависает темной глыбой, уже протянул волосатые руки и оскалил клыки. Видение не отчетливо, но ужасно, и я в испуге открываю скорей глаза, чтобы в свете уличного фонаря оглядеть комнату — всё спокойно, вон стоит кроватка, и никого нет, ничто и никто не угрожает моей крошке. Это повторялось вплоть до лета, а потом незаметно спало напряжение жизни, и страхи прошли.
Я всё еще хожу в своей сильно надоевшей мне шубке из серого искусственного каракуля, стесняюсь, но хожу, больше не в чем.
— Мечтаю купить себе пальто, — говорю я Ирке, одеваясь, чтобы прогуляться с ней и Катей.
Шубу подает мне Алешка и в ответ на мои слова бросает Ирине:
— Одно меня утешает, что у нее денег нет, и купить пальто она не сможет.
— Ну, — засмеялась Ирина. — Денег у нее нет, но пальто она себе купит, одно другому не мешает.
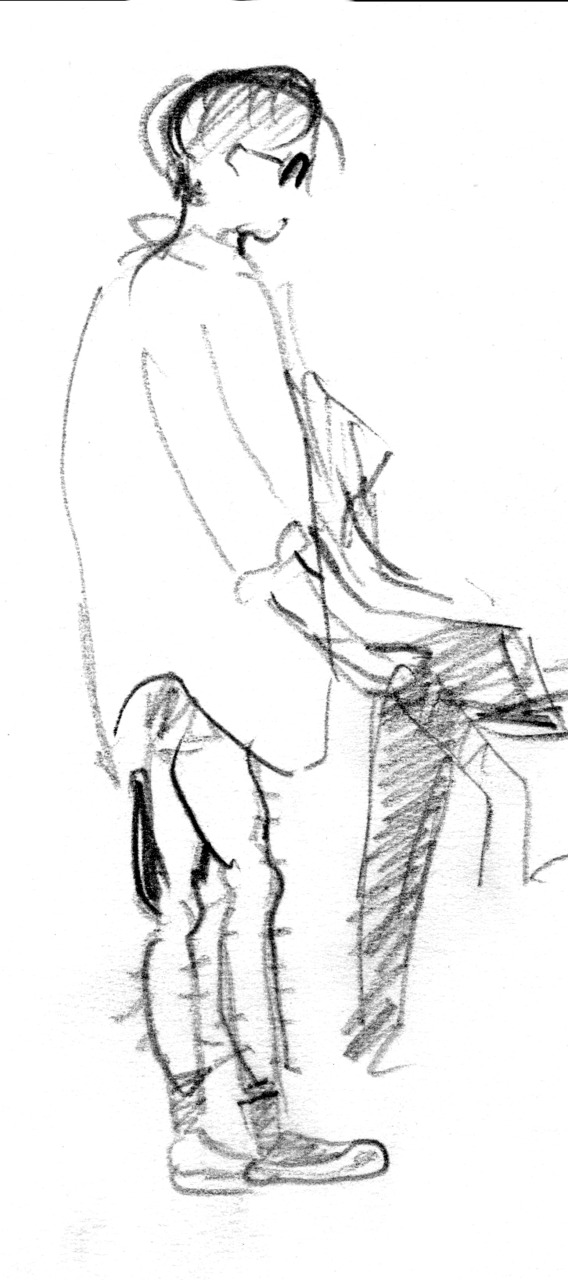
Это, конечно, шутка, — мешает и еще как. Папа четыре месяца не присылал мне обещанной еще на свадьбе материальной помощи, а потом прислал в январе сразу 120 рублей, и я решила на них купить себе пальто.
Тогда в моду, вернее уже года три как повально носили пальто с воротниками из натуральных мехов — из чернобурки, норки, песца, на худой конец, из каракуля. Желательно еще шапочку из такого же меха к воротнику, но и из мохера тоже недурно. В магазинах набежать на такое пальто было трудно, хотя стоило оно дорого, но женщины мечтали быть нарядными и покупали, экономя на питании и выкручиваясь. Каждая мечтала иметь такое пальто и вышагивать по улице, уткнув нос в пушистый мех. А если пальто не было, то женщина страдала, а если кто и не страдал, тому всё равно не верили, что не страдает.
На последнем профсоюзном собрании (напоминанию, в нашей группе это просто вечеринка, вернее хорошая пьянка по поводу или без повода) Лебедев подшучивал над женой, которая стояла рядом в пальто из норки.
— Не могла жить без нее, просыпалась по ночам и кричала: «Норка, норка».
Я знала, что 120 рублей мало на пальто, надо бы еще рублей 40, но всё же мы зашли в магазин недалеко от нас, посмотреть, что и почем.
Расслаблено шла я мимо рядов унылых драповых пальто с цигейковыми и кроличьими воротниками, и вдруг на вешалке среди моего размера увидела одно-единственное синее пальто с чернобурым воротником за 140 рублей, в общем, задаром.
— Вот пальто, как я хочу, — сказала я, и Алешка посоветовал мне примерить.
Я надела с тайной надеждой, что оно мне не подойдет, синий цвет не мой. Но, оказалось, как на меня сшитое, и к лицу, чернобурка была серебристая и освежала.

Какой-то азиат, который довольно бесцельно маячил между пустующих по случаю позднего часа рядов, сразу перестал маячить и подошел поближе к нам, приглядываясь. Явно ему понравилось это пальто на мне. Я была в отчаянии. Лучше бы я не мерила его, ведь денег у нас не хватало, не хватало всего 20 рублей, и взять-то неоткуда, во всяком случае, сейчас.
Я подошла к продавщице, сняв пальто и перекинув его на руку.
— Вы не можете отложить до утра?
— Нет, только до закрытия магазина, а перед закрытием, если кто купит, то всё, это очень ходкий товар, и откладывать мы не можем.
— Ничего, — сказал Алешка, — может, оно повисит до завтра.
— Повисит, как же.
Я снова встретилась с отбегающим взглядом типа среднеазиатского обличия, вон он ждет, чтобы тут же его схватить. Я повесила пальто и стала перебирать другие, делая вид, что не очень-то удовлетворена, тем, первым. Но азиат был хитер и не попался на удочку. Он взял и купил пальто, и довольный, со свертком в руке, пошел из магазина. Вышли и мы, и я заплакала слезами досады и разочарования.
— Он не догадался бы купить это пальто, он просто искал, чего ни попадя. Он увидел его на мне, и только потому оно ему понравилось, и купил своей какой-то, а там у них, оно и не нужно вовсе. Только для форсу, назло мне, — плакала я.
Алешка тоже огорчился. Он был существом равнодушным к деньгам и к тому, что они дают. Лишенный воображения, готовый всегда довольствоваться малым, он не представлял себе той свободы, какую дает наличие денег. Но вот такое, конкретное унижение нехватки небольшой суммы, он чувствовал и сопереживал. Ему хотелось, чтобы жена была в красивом пальто, не потому, что это хоть как-то было нужно ему, а потому, что это так нужно было мне.
Деньги я спрятала, не потратила, стиснув зубы, а потом, совершенно не помню как купила себе пальто с бежевой норкой из коричневато-сиреневого драпа, цвета, который я называла сливовым и который таковым не являлся, купила значительно дороже, за 186 рублей, но тут и папа прислал еще, и мама подбросила.
Когда пальто висело на гвозде на плечиках у мамы на Москворецкой, вошла соседка, старая цыганка, посмотрела на пальто и одобрила:
— Молодец, — сказала она, — красивое пальто, богатое.
Оно действительно было красивое дамское пальто, а то, что я пропустила, — девчоночье, молодежное.
Тогда, весной 71 года, устав от нехватки денег, Алешка устроился приработать на почте, разносил по утрам письма. Проработал он полтора месяца, заработал рублей 25 и бросил, износ обуви не окупал заработка, только уставал, и больше ничего.
В один из выходных, по весне, мы с Алешкой ушли в магазин за станцией Москва-3, оставив дочку с мамой. Потопали мы не напрямик, как бегал Алешка через заборы мимо собак, а в обход, по парку. По парку гуляли лоси, и они не так сильно интересовались проходящими людьми, как сторожевые собаки, так что я предпочла лосей.
В том месте, где мы собрались переходить пути, было сразу два крутых поворота. Между поворотами видимость была метров на 200, не больше, а путей было три, так что не поймешь сразу, по которому идет электричка. Идущая где-то за поворотом электричка свистнула, я услышала свисток и остановилась, решив переждать, пусть себе пройдет, — оно спокойнее.
Алексей шел впереди меня метра на два и продолжал идти, и я не стала его окликать, решив, что он успеет перейти, но тут он заметил, что меня нет за ним, остановился прямо между рельсов, повернулся ко мне и стал недовольно ждать, чтобы и я подошла, вдвоем веселее под колесами. Электричка уже выскочила из-за угла, стремительно приближалась и гудела, гудела Алексею. Но он смотрел назад, на меня, а я кричала, нет, визжала от страха. Лениво так Криминский повернул голову, посмотрел, убедился, что занял тот путь, который надо уступить, и в последний момент отошел.
Прогрохотал последний вагон, я подошла к мужу, прошла мимо, перешла пути, он что-то говорил, а я, развернувшись, с силой стала бить его круглой пластмассовой сумкой, которую несла в руке. Меня трясло, говорить я не могла.
Переходивший путь метрах в десяти от нас незнакомый мужик, наблюдал за моими действиями и подбадривал одобрительными криками, как болельщик футболиста на поле:
— Мало, слабо бьешь, такому дураку посильней надо, может, подольше поживет.
Дома я напилась валерьянки и целый день молчала, не столько злилась, сколько в себя приходила от стресса.
В конце мая, на воскресение, мы с Алешкой ходили в поход на байдарках вместе с Мельбардами. Наташка в то время помирилась с Володькой, он на некоторое время завязал с пьянством, Алексей перестал приходить домой полпервого ночи, в общем, казалось, что жизнь наладилась, и водка не победила.
Хотя я вспоминаю, что раз мы зашли к Мельбарду, когда он был совершенно пьяный, и две немолодые женщины, как потом оказалось, его мать и тетка, уговаривали его взяться за ум и не губить себя, и подумать о детях. У Мельбарда было две дочери, одна маленькая от Наташки, и другая от первой жены, уже подросшая, 8 или 9 лет.
Когда мы вошли, обе женщины стояли в пальто в коридоре. Володька грубо бросил одной из них:
— Сволочь ты, уходи.
Женщина заплакала и повернула к нам похожее на Володькино, только в обрамлении седых волос лицо:
— Вот, скажите ему, разве можно обзывать мать сволочью.
— Он не на Вас, а вообще на жизнь, Вы не поняли, — нашлась я, стараясь затушить пожар скандала и отвечая сочувствием на обиду, заставившую эту женщину обратиться к нам, совсем незнакомым, но как ей казалось, более близким ее сыну, чем она сама, обруганная.
Вторая женщина, ее сестра, быстро обняла ее за плечи и тихонько, медленно подталкивая к двери, вывела, махнув нам рукой, заходите мол.
Мы вошли и закрыли двери, а Мельбард с пьяным упорством повторил.
— Сволочь она.
— Зачем ты так? — устало спросила я, садясь на диван, я тогда была уже с большим животом, это было где-то в мае 70-го года.
— Она отца предала, отреклась от него.
Тут Алексей перевел течение разговора в более безопасное русло, на служебные дела, ради которых мы и появились здесь так некстати, а когда мы вышли, Алексей рассказал мне подробнее обстоятельства жизни Мельбарда. Володя был сын репрессированного в 37 году, а когда отца взяли, мать вызвали в НКВД, и она подписала бумагу, где отрекалась от мужа.
Сейчас, после публикаций большого количества материала о тех временах, мы знаем, что жене врага народа грозило тоже быть сосланной в лагерь, причем опасность была реальна и велика, и естественно было стремиться любой ценой избежать такой участи для себя и детского дома для ребенка, ведь мужу ничем помочь было нельзя, но тогда, в 70-е годы, такой поступок всё еще расценивался, как предательство. Мать не только отреклась от отца, но, не будучи уверенной, что это ее спасет, отправила быстренько сына в Нальчик к тетке, своей сестре, подальше от Московской неразберихи. В Нальчике Мельбард и провел большую часть своего детства, а теперь вот не мог простить ее трусости, а сам не был в ее шкуре, не испытал страх тех времен, страх живого легко уязвимого человека перед беспощадной государственной машиной.
Папу тоже в свое время вызывали в НКВД и требовали отречься от отца, моего деда Арама, и, по его словам, он послал их куда подальше, но папа был отчаянный Тбилисский парень, а женщина с ребенком на руках?
Совсем недавно муж неожиданно запел на кухне песню тех времен:
«Черный ворон, Черный ворон, Черный ворон,
Переехал мою маленькую жизнь».
Лучше не скажешь.
Этими событиями далеких довоенных лет и объяснялась та сцена, которую мы, так не ко времени заявившись, застали.
А теперь мы собрались на байдарках пройтись, где-то Алексей достал байдарку, мы поехали на Москву близ Звенигорода и ночевали в палатке вчетвером, а третья пара приехала утром с первой электричкой.
Ночевка была ужасной. Было три спальных мешка, два тонких и один теплый, двойной самодельный мешок, куда и положили нас с Наташкой, чтобы мы не простыли ночью. Но ночь выдавалась теплая, и как всегда под Москвой в это время года, если тепло, то комаров просто тьма тьмущая. Мужики выпили слегка и дружно храпели лежа с нами рядом в двухместной палатке, вернее храпел один Володька, а Алешка просто крепко спал, а мы с Натальей вдвоем в одном мешке никак не могли уснуть, и неудобно, и, главное, комары кусались по черному, пищали противно, и не было никакой возможности от них избавиться. Наталья вскоре ушла и сидела у костра, а я хоть и не спала, но заставила себя лежать, иначе я бы не вынесла предстоящего дня, ведь надо было грести в довольно быстром темпе, а я после бессонной ночи бываю как сомнамбула, и не выгребу.
Утром, с первой электричкой приехала еще одна пара, они вчетвером уже не раз проводили время отдыха на воде.
Нас, новичков, посадили вместе в одну байдарку, что было ошибкой, я имела очень малый опыт гребли, немного каталась в спортлагере, а Криминский сел в байдарку первый раз в жизни. Хотели нас рассадить, но когда дошло до дела, оказалось, что никто из женщин не хочет плыть с неопытным Алешкой, оставалась одна я, верная жена, и пришлось нам сесть вдвоем, и мы всё время отставали, старались грести, спешили очень, но только брызгались без толку и цапались, ударяясь веслами. Некогда глянуть на живописные берега, мимо которых проплывали, в общем, это мое первое и последнее путешествие по воде мне совершенно не понравилось, после бессонной ночи свистопляска наперегонки, с небольшим перерывом на обед, который мы не готовили, так как приплыли уже к готовой пище, плохо проваренной на костре, которую я не решилась употребить с моим желудком, в общем, усталая, голодная, изъеденная комарами, я клевала носом в электричке, а дома не могла уснуть до четырех часов ночи, переутомилась и перегрелась на солнце, плохо мне было, трясло всю, а на другой день вечером, Алексей, вернувшись с работы, сказал, что, по словам Мельбарда, Наташке тоже было плохо, не спавши ночь, весь день грести в темпе оказалось трудным и для нее. Больше я на байдарках не ходила.
В мае приехала свекровь, перед этим уезжавшая навсегда после скандала с бабушкой, кажется, была проездом недельки на две. Ездила в гости к племянникам то ли на Аральское море, то ли в Днепропетровск, то ли к подруге в Ейск, она почти каждое лето куда-то ездила отдыхать.
Пока гостила свекровь, неожиданно приехал и папа, как всегда, без всякого предупреждения, появился на пороге проездом из Камышина в Тбилиси и Ереван. Нашел здесь, в Москве, двоюродного племянника и потащил нас к этому племяннику в гости куда-то далеко, на проспект Вернадского в их уютную однокомнатную квартирку. Смуглый армянский племянник был женат на голубоглазой русской женщине, Наталье, продавщице из «Детского мира».
По случаю нашего прихода она приготовила салат из крабов («на скорую руку», как извинялась хозяйка), горячее второе, фрукты. Папа, надо сказать, недавно откопал адрес этого самого племянника, и виделись они первый раз в жизни, знал его племянник только понаслышке, как легендарную личность — дядю Гугуша.
Если сопоставить рассказы и отзывы родственников отца о папе и высказывания моей матери, то никто никогда не догадался бы, что речь идет об одном и том же человеке. У мамы папа резкий, невыдержанный человек, не очень высокого интеллекта, с хулиганскими замашками и казарменным юмором, — Карлос, одним словом, а у родственников это веселый разудалый человек, дядя Гугуш, рассказы которого, полные юмора, можно слушать с утра до вечера. Для встречи любимого, но никогда невиданного дядюшки были выставлены бутылка коньяка, бутылка сухого вина, а папа принес с собой, несмотря на мои попытки помешать этому, еще коньяк и бутылку водки, и четыре бутылки пива.
Сели мы за стол вчетвером, и давайте посчитаем, на трех мужчин и двух фактически непьющих женщин, (мы не одолели вдвоем и бутылку слабого вина), оказалось два коньяка, водка и еще пиво. Было уже часов семь вечера, когда сели за стол, и пошло поехало. Первый отключился хозяин, он оказался непьющим и через полчаса уже еле ворочал языком, пока еще, правда, сидел за столом, но уже не пил, а оставалась еще нетронутая бутылка коньяка. Эту добивали тесть с зятем пополам. После второй рюмки Алешка слабо запротестовал, мол, может, и хватит.
— А, ты слабак, а еще молодой, — закричал любящий подзуживать отец, и Криминский, дабы не ударить в грязь лицом перед тестем, продолжил.
Мы с хозяйкой, испугались, что дело плохо, но поздновато испугались, спрятали пиво и недопитое вино, однако, опорожнив коньяк, папа вспомнил про пиво. Он решил, что вино мы с Наташей выпили, а пиво нашел и еще пустил пивка по коньяку и водке.
— Как же я доберусь с ними до дому, — в ужасе подумала я вслух, несколько раз безуспешно пытавшаяся прервать их возлияния.
— И ночевать-то у нас негде, с тоской воскликнула Наташка, озирая свою уютную однокомнатную квартирку с одним двуспальным местом.
Я давно стояла, надеясь своим торопящимся видом столкнуть их с места. Время шло к одиннадцати, а потом к двенадцати. Свекровь была с Катей одна, я спешила к дочке.
Когда, наконец, гости поднялись из-за стола, хозяин уже мирно спал на полу на кухне, из-под стола торчали его ноги, и доносилось печальное периодическое всхлипывание.
Алексей держал шаг более или менее ровно и, казалось, отдавал себе отчет в происходящем, но папочка качался и заплетался и языком, и ногами:
— Вас не пустят в таком виде в метро, надо брать такси, — решила вышедшая проводить нас Наталья. Мы поймали такси и поехали через всю Москву. Отец отключился и только один раз проснулся, попросился из машины по малой нужде, Алешка тоже вышел, и они где-то в темноте орошали кусты. Потом папа снова уснул. А Алешка указывал шоферу куда ехать, и указывал правильно, так что мы доехали, и даже дошли. Свекровь и Катя мирно спали. Отец завалился на раскладушке храпеть; мы с Леней тоже легли, и я уснула, утомленная тревогами вечера. Вдруг посреди ночи я услышала рвотные всхлипы мужа и мгновенно села в постели как Ванька-Встанька с ощущением опасности, и Алексей перевернувшись, вылил содержимое своего желудка на подушку, на которой секунду назад лежала я.
Его трясло мелкой дрожью. Потом он встал и пошел в туалет, а я взяла подушку и пошлепала за ним замывать наволочку. Алешку продолжало рвать, а потом он уже протрезвевшим голосом спросил меня:
— Как ты узнала?
— Что?
— Что меня вывернет.
Я не удосужилась объяснять, спать хотелось.
— Пить надо меньше, смотри, до чего допился. А тесть-то храпит. Хоть бы хны ему.
Я замывала наволочку под струей воды в ванной, и ванна засорялась вонючими остатками крабного салата.
Смыв блевотину, я бросила наволочку на край ванны, принесла из кухни мужу кипяченой воды, накинула на плечи сухое полотенце. Он сидел в трусах на краю ванны, и его била дрожь, но уже не так сильно.
— Пойдем спать, утром разберемся.
— Иди, я сейчас.
Я ушла. Забрала у мужа его чистую подушку и представила себе, как мне было бы противно, если бы я не успела увернуться и непереваренный крабный салат, пахнущий перегаром, вылился бы на меня. Передернув от брезгливости плечами, я уснула и уже сквозь сон слышала, как минут через деять Алешка пришел и покорно лег без подушки рядом со мной.
Утром папочка был сконфужен, узнав про ночные неприятности, особенно, когда я передала ему слова, которыми он подзуживал Алешку.
— Ну, я сильно набрался, если так говорил, — оправдывался он.
Я долго поминала мужу его неуемную страсть к алкоголю, а отцу не могла, он укатил домой, в Камышин.
В июне, уже после моей защиты диплома, нас с Алешкой свалил вирусный грипп. Я лежала в прострации высокой температуры, которую плохо переносила. Лежала вместе с Алешкой, и диван наш в углу комнаты мама занавесила простынёй, спасая внучку от гриппа. И как ни странно, спасла.
Мы чихали за занавеской, и ни Катя, ни мама не заболели. Катенька подползала, любопытно заглядывала за край простыни и хихикала, но мама перехватывала ее и уносила подальше.
На распределение в институте Алексей пошел со мной, в надежде найти работу сразу на двоих. Такие случаи бывали, когда брали сразу мужа и жену. Кроме того, Алешка сказал:
— Знаю я твои знания географии. Будешь подписывать Красноярск, а думать что это Краснодар.
Ничего нам не подвернулось. Только Трошин (преподаватель на базе, в Курчатовском) долго уверял меня, что надо подписать распределение с квартирой. А было такое только во Владивостоке. Там тогда создавался Дальневосточный научный центр, и обещали жилье.
— Нет, сказал Алешка очень твердо. Это слишком далеко. Оттуда сюда не доберешься. Здесь у нас друзья, есть у кого занять до получки. Здесь родители. Что мы там потеряли?
Он оказался прав. Кто-то из наших туда всё же поехал, какая-то незнакомая мне пара физтехов. Квартиру не дали. Вернуться было тяжело, не было денег, они очень мыкались года три. А потом получили жилье, но всё же уехали, она не захотела там жить.
И я распределилась в Пущино. В год нашего окончания по Академии наук шло сокращение и довольно приличное, порядка 20%, а по договору с институтом нас должны были трудоустроить. Институт не имел в наличии ставок младших научных сотрудников, и Каюшин (заведующий нашей лабораторией) предложил мне аспирантуру к той же Любочке Пулатовой, моему шефу по диплому. Я хотела в аспирантуру. Но дочке был годик, денег не было совсем, я страшно устала, встав на весы после болезни, я обнаружила, что вешу 45 кг, вместе с кофтой и плащем. Нужно же было готовиться к вступительным экзаменам, ехать в Пущино, в Долгопрудный, срочно собирать документы, а сил не было никаких. Каюшин, правда, сказал мне:
— Какие там экзамены, только придите, и всё, мы вас должны принять, другого выхода нет, по договору физтеха с Биофизикой мы обязаны Вас трудоустроить.
У Любочки защищались все и быстро, Нина Кузьминична (воспитательница студентов от Биофизики) обещала через год комнату в коммунальном общежитии, потом квартиру-общежитие, и только потом настоящую квартиру.
Алексею же нужно было искать работу там, в Пущино, и находил он только с понижением на 20 рублей, он получал уже 140, а там давали 120.
Поддержки от родителей в этой своей затее дальнейшей учебы я не имела. Они были далекими от науки людьми и не понимали значения кандидатской в дальнейшей жизни, не понимали, что это удача, попасть в аспирантуру к хорошему шефу, для них важно было дать дочери высшее образование, в этом сходились и отец и мать, а вот кандидат наук, это что-то нереальное и не очень-то и нужное, муж же жалел меня и боялся, что я не выдержу еще учебы, но решала, конечно, я сама, и я сама опустила руки, — укатали сивку крутые горки.
В этот момент нашего раздрая и полной моей нерешительности позвонил Эдик Баландин, он довольно регулярно звонил нам, болтал с Алешкой, и я смеялась:
— Отслеживает свидетель нашу жизнь.
Так вот, Эдик позвонил, Алексей посетовал ему на наши проблемы, и Эдик дал номер телефона и посоветовал позвонить своему бывшему начальнику, от которого он тогда уже ушел. Это было в НИОПиКе (Научно-исследовательский институт полупродуктов и красителей), в Долгопрудном. Когда я училась на физтехе, НИОПиК слыл дырой, куда очень нежелательно было попасть, но тут на нас с Алешкой влияла близость Долгопрудного к Москве. Одно дело Пущино, другое — вот, рядом, в родном, можно сказать, городке, я пошла и встретилась с Толкачёвым, заведующим отделом, физиком, бывшим начальником Эдика Баландина, и на долгие годы моим. Мы погуляли по лесочку возле кладбища, и он расписал мне перспективы расширения своей лаборатории и, главное, возможности получения здесь квартиры:
— Через два года у вас будет квартира, у нас идет широкое строительство.
Толкачев был высокий «представительный», как сказала бы моя бабушка, мужчина в костюме и галстуке, с седыми висками, очень соответствовал моим представлениям о физиках и начальниках, интересно говорил о работе и, главное, обещал квартиру через два года, и я решила идти работать в НИОПиК.
Вопрос с жильем был такой острый в тот момент, что кто-то из знакомых Алексея, физтех, пошел работать дворником пять лет, после чего обещали дать и давали квартирку в Москве, а до этого можно было жить на ведомственной жилплощади. Дворников не хватало, а научных сотрудников было пруд пруди.
В июне мы еще жили у Ольшанецких на квартире. А в июле Алешка взял очередной отпуск и отпуск за свой счет и полетел на Камчатку в стройотряд, его взяли по рекомендации всё того же Мельбарда. Они полетели шабашить, или калымить, это называлось по разному, а я переселилась вместе с детскими пожитками на лето к маме на Москворецкую в ее комнату в коммунальной квартире, расположенной на втором этаже унылого трехэтажного оштукатуренного здания, с отоплением, туалетом и водопроводом, но без горячей воды. Квартира была трехкомнатная с большой прихожей, справа жила цыганка с женатым сыном Сашкой, красивым черным, но косоглазым парнем, большим гуленой, и невесткой, унылой рыжеватой русской женщиной, прямо была наша двадцатиметровая комната, и слева в маленькой жила рабочая с шиферного завода Валя с дочкой Зиной 8 лет.
Я оттуда ездила в Долгопрудный и в Москву, переоформляла документы, оставляя годовалую дочку бабушке и маме, мама возвращалась к двум часам домой.
Катенька еще не ходила, не то, чтобы совсем не ходила, нет, она уже могла, оторвавшись от стула, пройти до другого два три шага, но тут же садилась на пол и ползла. Ползала она очень шустро, быстро-быстро перебирая руками и ногами, и ей это казалось быстрее и надежнее, чем ходить на двух ногах. Ползала она даже на улице, по песку; отпустит край скамейки, за который держится, и ползет куда-то. Тогда же и произошел забавный случай, когда я оставила Катю бабушкам, сама уехала и строго так сказала:
— Когда уложите Катю спать, не смотрите на нее, а то она тут же вскакивает.
Они и не смотрели, а Катенька вся изгваздалась в какашках, еле отмыли и ее, и матрас, и пеленку, и пододеяльник.
Но это, когда я уезжала, а так мы часто гуляли с дочкой то в скверике под окном, где была песочница, то в парке неподалеку, тоже в песочнице. Катя подолгу играла в песке, самозабвенно копая и пересыпая его, и вытирая грязные руки о белую, кокетливо отделанную красной каймой, панамку. Можно себе представить в каком виде мы возвращались.
Уходили в белой панамке, светло-сером платьице, сшитом из рукавов пиджачка моего серого костюма, тоже отделанном красной тесемкой, и в темно-серых колготках, и серых ботиночках с длинной шнуровкой, как научила меня Валя Баландина, покупать ботинки с высокой шнуровкой, чтобы детская ножка не выпадала, а возвращались мы… сплошь темно-серо-бурые от песка. А воды горячей не было, а колготок было только две пары, и те с трудом были добыты.
Просто бич какой-то был с колготками Катиного размера, всё время, пока она росла, не было колготок именно ее размера до тех пор, пока она не доросла до такого большого размера, который был редкостью все годы. В тот год меня еще выручали ползунки большого размера, я их обреза́ла по талии и вдергивала резинку, вот и получалось что-то вроде колготок — не так красиво, но всё же сменка. А сшить ребенку платье из рукавов придумала Ирина, она сшила Катеньке платье из рукавов своего шелкового желтовато-зеленого платья, которое я тоже часто надевала на Катю. Однако рукавов на мою замарашку не хватало. Байковые платья стоили 5 рублей. Приталенные, с грубыми строчками, плохих расцветок, они уродовали ребенка; я поехала в «Пассаж» и купила по 60 см разноцветной симпатичной байки в количестве 5 кусков и сшила дочке платья по одной выкройке, которую сама же и изготовила по ее байковой кофточке, внося некоторое разнообразие в каждое платье: то с карманом, то без, то с воротником, то простой ворот, с застежкой спереди или сзади, плюс разная расцветка, — и вот получилось пять цельнокроеных симпатичных детских платьиц на те же 5 рублей.
У мамы не было холодильника, и невозможно было тогда пойти в магазин и купить хороший холодильник, даже имея деньги; холодильник надо было или несколько месяцев ловить по магазинам в очередях, записываться, или доставать через знакомых. И мама купила холодильник «Дон» без морозильной камеры и автоматического выключения, он жрал электричества на три рубля в месяц, но стоил на сто рублей дешевле и был в свободной продаже.
Привезла мама новенький агрегат, а он не включился. Алешка тогда был на Камчатке, и тащить холодильник в ремонт было некому, а на дом гарантийный ремонт не приезжал, и мама быстренько написала на завод-изготовитель письмо следующего содержания: «Вот я читала в газетах, как это бывает, купишь дорогую вещь, привезешь, включишь ее в сеть, а она не работает, а вот теперь и такое со мной случилось, хочу написать об этом в „Известия“, мою любимую газету беспартийной советской гражданки (последнее мама не написала, а сказала мне), но подожду, может вы всё-таки поможете, так как гарантийный ремонт у нас за две остановки электрички, а на дом они не идут, я же не могу донести туда холодильник, а мужчин в семье нет».
В результате прискакал из Ростова молодой голубоглазый парень, сказал, что его начальник, как прочитал в письме, что может быть замешана пресса, сразу и отправил его к нам.
Парень, не сводя с меня ни на минуту совершенно зачарованных голубых глаз, всё же починил нам холодильник, хотя я думала, что он и не видит, что там вертит, так он откровенно, зачарованно смотрел на меня, просто приклеился взглядом.
Когда он уехал, бабушка сказала мне:
— Говорит, что она у вас такая худая? Не кормите?
Я засмеялась; ну уж точно не только о моей худобе он думал, когда пялился.
Катенька была не капризна, но быстра и проказлива, а бабушки рассеянны и недостаточно осторожны, и Катя опрокинула на себя большую пятилитровую банку с тремя десятками яиц.
Бабушка купила эти три десятка, уложила их в банку, чтобы сохраннее были, и поставила банку на стол, а на столе была скатерть, Катька подошла и потянула за скатерть. Это у нее дело было проверенное, с шести месяцев так добывала всё, что на поверхности стола, и разбила яйца, к счастью, не нанеся не только себе никакого вреда, но и банке, на которую было наплевать, и которая осталась стоять на полу целехонькая совершенно загадочным образом, а вот содержимое банки превратилось в яичницу.
В середине июля Кате сделали прививку против кори. Вакцина была неудачная, и Катенька тяжело перенесла эту прививку. Температура была 39 почти сутки, и мама сказала потом, что ребенка так подкосило, как будто она корью переболела.
А спустя месяц, в августе, еще до приезда Алешки, Катенька стала температурить, утром нормальная, а вечером 38. Аппетит ничего, а жар каждый вечер. Я вызвала нашу участковую, немолодую грузную женщину, вечно усталую, но опытного врача. Вызвала раз, другой. Во второй раз она сидит, смотрит на Катю, думает вслух:
— Ну не знаю, что с вами, похоже на грипп. Но сейчас эпидемии нет.
— А вдруг это какая-нибудь тяжелая болезнь, например тиф? — в страхе спросила я.
Врач посмотрела на меня задумчиво, но не возмутилась:
— Нет, не беспокойтесь. Тифозный ребенок не будет так сидеть за столом и улыбаться. Тифозный лежит пластом. Потерпите, поберегите, думаю, всё пройдет. — И она оказалась права. Через 10 дней такой непонятной болезни Катя перестала температурить, и мы снова начали с ней гулять.
Так мы и жили-поживали два месяца, пока не вернулся с заработков Криминский, по которому в перерывах между Катиными болезнями я успела соскучиться. Алешка проработал там, на Камчатке два месяца, заработал кучу денег, тысячу триста рублей, повидал Дальний Восток, покупался в теплых гейзерах.
Приехал какой-то незнакомый, непонятный, чужой, в незнакомой одежде — в новом сером свитере, лохматом, напоминающий свитер с фотографии Хемингуэя, модной тогда фотографии, — не узнать лица, изображенного на ней считалось позором. У Мельбарда была такая фотография, свитер был толстый, не облегал шею великого писателя, видимо это во время охоты на львов в Африке он нарядился, и теперь вот и мой Хемингуэй надел такой свитер, теплый и толстый исландский свитер, рыбаки там, на родине его, наверное, надевали, чтобы выйти в холодную погоду в море, и наши интеллигенты тоже носили такие свитера.
На лице у мужа была поросль двухмесячной небритости, усы наросли симпатичные, густые, а борода смешными такими клочками, между клочков просвечивала тонкая чистая, не тронутая еще растительностью кожа.
Он сбросил рюкзак у порога, и мы обнялись радостно, но как-то отчужденно. Долгой была разлука. А Катенька осторожно допустила папу до себя, отворачивая личико от его щетинистых поцелуев.
Алешка привез еще себе полушубок черный, с нестриженой, свисающей клочьями шерстью внутри и казавшийся несносимым, два литра красной икры, много банок лососевых консервов, тогда уже дефицитных, и кучу впечатлений.
Деньги при нем еще не все, потом ему дослали.
Он летел 11 часов, очень устал.
— День длился и длился, — сказал он, — мы летели за зарей, всё на запад и на запад. В электричке сюда я не взял билета, и меня накрыл контролер. Впервые в жизни я не бежал от него, а лениво подал трешку. Приятно чувствовать себя при деньгах.
Поели, выпили, стали укладываться. Я разделась в тот первый вечер в темноте, отвыкла от мужа, чуралась. А среди ночи муж вдруг вскочил и спросил меня:
— Куда мы летим? — в голосе была тревога и напряжение.
— Всё, Лешечка, никуда не летим. Ты дома, спи.
— А ты кто?
— Жена твоя, Зоя. Спи.
Алешка отвернулся от меня и натянул на голову одеяло, что-то недовольно бурча себе под нос. Утром я ему сказала:
— А ты ночью разговаривал, всё выяснял, кто это я.
— Да, — вспомнил Алексей. — Да, я вдруг испугался и рассердился, кто это ко мне в постель залез?
— Ну ладно, ладно, поверю, — только и сказала я.
Алексей был доволен своей поездкой, и не только тем, что заработал деньги и повидал мир, но и гордился, что выдержал испытание тяжелым трудом. Как я поняла из его рассказов, непривычные к физическому труду молодые инженеры уставали, у некоторых были нервные срывы, а вот он, Алешка Криминский ничего, продержался, не устал и не орал на товарищей, не впадал в истерику из-за пустяков.
— Скучал, вспоминал меня, Катеньку?
— Последние дни, а до этого всё работа и работа, всё светлое время на стройке.
Мы взяли деньги и пошли по магазинам их тратить. Поехали даже на ярмарку в Лужники, в первый и последний раз.
Купили Алешке обувь, мне плащ и осенние туфли, неудачные, босоножки, удачные, Катеньке шубку красивую из стриженного крашенного кролика, рейтузы, кофточку, в общем, стали на эти деньги жить и тратить помаленьку, я ведь и не работала, и стипендию не получала, а жили на два дома, и жили неэкономно.
Привезенные два литра икры мы ели все впятером ложками, радуясь, что холодильник позволяет как-то растянуть это удовольствие. Катеньке тоже делали бутерброды с красной икрой, и она их ела.
Алексей уехал жить в Подлипки, ему было пора на работу. В общаге он жил уже в другой комнате, не с Пономаревым, а на этаж ниже, с Игорем Даниленко, тоже физтехом, однокурсником. Надоел Алешке этот Пономарев. Коллекционировал юмористические вырезки из газет и журналов и зачитывал Алешке. Криминский смеялся, а Пономарев спрашивал, объясни, мол, ну чему тут смеяться. А как это можно объяснить человеку без чувства юмора?
Устал Алешка от него, и ушел. Поселился с нормальным парнем, и я вот как-то приехала его навестить, Игоря не было, но зато в этот же день притащился к Алешке Мельбард. Он жил у жены с тещей, ему было близко, и он пришел отдохнуть от баб. Алексей лежал уставший на кровати, я что-то делала по дому, кажется, гладила мужу рубашки, а Мельбард, в очередной раз развязавший, всё цеплялся ко мне и говорил:
— А я на Камчатке спал с твоим мужем в одной постели.
Я ноль внимания, я понимала, что он хотел меня поддразнить и как бы сблизиться — спал с моим мужем в одной постели. Но когда он сказал об этом в третий раз, я разозлилась.
— Ну, спал и спал, почему это должно меня волновать? Ты что, гомосексуалист?
Бедный Володька был неожиданно шокирован моим прямым вопросом, пригнул голову как от удара и, переведя дух, сказал лежащему Алешке:
— Ну, и баба у тебя.
Я вся подобралась, ожидая реакцию мужа и собираясь тут же выпустить когти, если он меня обидит. Алексей лежал, расслабившись, и глядел в потолок, потом, не поворачивая головы и не проявляя никакого интереса к нашему разговору, ответил:
— А ты не нарывайся.
И всё, нечем было крыть Мельбарду, и он заткнулся.
Весь сентябрь и октябрь мы искали квартиру поближе к Долгопрудному и к Подлипкам, чтобы я могла ездить на работу. Квартиру так и не нашли, и сняли комнату с неотапливаемой верандой за 30 рублей в частном доме в Лианозово. Деревенский быт как ужасал меня, так и ужасает до сих пор, но деваться было некуда, и сняли, что подвернулось, сэкономив 20 рублей в месяц.
Договорившись с хозяйкой, тетей Тоней, круглолицей женщиной лет шестидесяти, Алешка перевез туда из общаги наш скудный скарб, всё тот же огромный белый эмалированный Лысьвенский таз для стирки, в котором были сложены две кастрюли, эмалированные тарелки, две вилки, две ложки, завернутые в газетку, две большие подушки, подарок свекрови на свадьбу, ватное синее одеяло атласное, привезенное мне Люсей из Кохмы, когда я еще была студенткой второго курса, ну, в общем, начало жизни, скудное домашнее хозяйство, из мебели у нас была одна Катина кроватка, но ее мы перевезли позднее.
Комнату мы сняли весьма скудно меблированную, был какой-то стол, развалюшечный полуторный диван и, кажется, старого вида гардероб, а может, даже и гардероба не было. Тетя Тоня, как потом окажется, сдавала эту комнату дачникам, а они приезжали со своей мебелью, как тогда было принято выезжать на дачу, взяв всё необходимое из дома, и жить постоянно на даче, благо близко.
Диван стоял прислоненный к деревянной перегородке, отделяющей нашу комнату от коридора, который одновременно служил и кухней — там стояла газовая плита, газ был в баллонах. Для отопления топили печку углём в комнате хозяйки, и теплая вода шла по трубам в наши батареи, но по утрам зимой было очень холодно, наша комната выстужалась полностью. Все удобства были во дворе, правда выручала веранда — можно было по малой нужде пользоваться ведром на веранде, — холодно, но всё же недалеко бежать.
Алешка снял эту комнату, и мы в выходные поехали ее смотреть (и остались переночевать), а потом вернуться домой; предполагалось, что Катенька будет пока ходить в ясли у мамы, а мы будем приезжать к ним по выходным. Ясли располагались по ту сторону железной дороги на расстоянии где-то километра от нашего барака; далековато было маме носить девочку, выручали санки.
Мы приехали в Лианозово вечером, и Алешка позвал меня в магазин.
— Там ведь ничего нет, надо будет что-то поесть.
И мы купили чаю, сахару, хлеба, сыра, и скромно поужинали.
Понравилась ли нам комната? С июля месяца мы первый раз остались, наконец, вдвоем. Хозяйка, тетя Тоня рано ложилась спать, а мы после объятий долго лежали в полной чернильной темноте и первозданной тишине и всё говорили, говорили, говорили, соскучились.
У мамы, когда приезжал Алешка, мы спали на полуторном диване, жестком-прежестком. Мама и бабушка завязывали на ночь платки на голову, у обеих мерзли головы, а когда приезжал Алексей, они надвигали платки на глаза и довольно демонстративно отворачивались к стенке. Но ведь уши-то у них были не завязаны, поэтому наше общение можно было назвать…
Недавно я смотрела фильм про американских подростков, и в нем есть сцена: более опытные товарищи поучают молодого мальчика, как подобраться к девушке. Заканчиваются поучения фразой:
— Ну, а если повезет, она позволит тебе перепихнуться на бензоколонке.
Так мы, будучи женаты, могли только как «перепихнуться на бензоколонке», а, может, на бензоколонке и удобнее, не знаю точно. И теперь нам эта комната в первый, пусть в самый первый момент понравилась.
В октябре у меня начались сильные боли справа внизу, похоже на аппендицит, но оказалось воспаление придатков, и пришлось лечь в стационар, расположенный на Цемгиганте. Я провела там 10 дней. Нас было в четырехместной палате трое, Людмила, лечившаяся от бесплодия, Марина, девятнадцатилетняя женщина на последних месяцах беременности, и я. От нечего делать все вечера болтали, каждая про свою жизнь. Люда и Марина сидели на одной кровати напротив меня, и Люда иногда гладила Маринкин живот и вздыхала — она уже три года была замужем и не беременела. Предметом разговоров были мужья, у обеих были шоферы, и свекрови, с которыми приходилось бороться. Правда, получалось, что Маринкина свекровь знает свое место и не выступает, а вот Людина мечтает разбить их жизнь и подсовывает сыну всяких баб, сводничает.
Большое место в их разговорах занимали бабки-пенсионерки, проводящие свою жизнь на лавочке возле подъезда. Это были враги, враги все до единой, поголовно, все сплетницы, повсюду сующие свой недоброжелательный нос, и вот Маринка рассказывала, как она дразнила бабок:
— Утром пойду в одном берете, а другой возьму с собой в сумку и, возвращаясь, надеваю другой берет, а они шипят от злости: гляди, гляди, вертихвостка, опять в новом берете. И сколько же их у нее.
Зависть соседок и сейчас вызывала у Марины неподдельное удовольствие победительницы.
Потом Люду выписали, и вместо нее пришла полная женщина, удивлявшая меня своим аппетитом — после обеда она приходила в палату, доставала круг краковской колбасы, брала хлебный батон, от круга отрывала кусок, от батона просто откусывала и съедала и то, и другое. Мне, способной съесть два кружочка колбасы на тоненьком куске хлеба, это обжорство казалось просто нереальным, как в кино.
Сама я не помню свои разговоры там, помню только постоянное чувство тоски по Кате, я впервые так долго не видела дочку и невыносимо скучала. Алешка привозил ее два раза, жаловался, что Катя бегает с моей карточкой и всё говорит:
— Мама, мама, мама, — как заведенная, и жалко ее, привыкшую быть со мной.
Через 10 дней меня подлечили и выписали, и я, слегка отвлекшись, вновь окунулась в свои проблемы.
Пока я лежала в больнице, Алексей не жил в Лианозово, и нас там обокрали. Тетя Тоня была в доме вместе с 11 летней внучкой Олей, когда поздно вечером на них напал пьяный сосед. Стал рваться во входную дверь, сломал ее, они укрылись в дальней комнате, заперлись и, пока он пытался сломать вторую дверь, вылезли из окошка, и убежали.
А сосед пошарил в нашей комнате, которая была не заперта, и утащил газетный сверток с ножом, четырьмя ложками и двумя вилками из нержавеющей стали, наверное, продумал, что там мельхиор, так как ложки, лежащие открыто, он не взял.
Чем с ним дело кончилось, отправился ли он в места отделенные, откуда только что прибыл, или нет, не помню, но тетя Тоня вернула нам вилки и ложки, купив их в магазине, хотя я и протестовала, считая ее невиновной в том, что произошло.
Катеньку стали пристраивать в детские ясли, нашили ей хитрые фартучки по специальной выкройке, которые там требовали, накупили колготок, отстояв в очереди, и я повела, а вернее, понесла ее в группу на руках, прижимая к себе маленькое тельце и содрогаясь от страха, как доченька со мной расстанется. Но доченька увидела детей, кучу игрушек, выпорхнула у меня из рук, как птичка, и, не поворачиваясь, убежала. Я ушла успокоенная, а когда после обеда за ней пришла, Катя радостно кинулась ко мне, и с таким же удовольствием, с каким она осталась с детьми, пошла со мной домой.
Пять дней она отходила в детский сад, а я ездила в Москву окончательно устраиваться на работу. Допуск у меня был оформлен еще на физтехе, В НИОПиКе сделали запрос в институт по этому поводу, но хотя всё было рядом, он еще не пришел, а начальник первого отдела захотел со мной познакомиться, вот я и поехала к нему в Московское отделение НИОПиКа.
Почтенный седой человек посмотрел на меня, спросил, откуда я, поговорил про Батуми, потом вдруг поставил меня в тупик вопросом:
— А кто у вас на физтехе начальник первого отдела?
Я посмотрела на него совершенно изумленными глазами, кроме фамилии ректора и физиономии Волкогона я не знала никого и никогда из администрации физтеха, кроме наших секретарш. Да и зачем мне были все остальные?
Мой собеседник засмеялся:
— Ну, вы сами видите, какая вы хорошая, даже не знаете, кто у вас был начальник первого отдела. Можете выходить на работу, когда захотите, и не ждать, когда придет подтверждение вашего допуска из физтеха, по нашим каналам это займет месяц.
Я поблагодарила его и ушла, но воспользоваться возможностью выйти на работу пораньше мне не удалось — тяжело заболела Катенька.
На ноябрьские праздники Алешка вышел погулять с дочкой в новой шубке из стриженого кролика, которая оказалась довольно холодной, а Катя была маленькой и мало двигалась. В тот день было ветрено, Алешка прогулял с ней два часа, и она заболела — сначала просто насморк, а потом, через три дня начался лающий глухой кашель на всю ночь, и наутро было 38,5, и ребеночек не поднял головы с подушки. Лежала, полузакрыв глазки и, отвернув от нас темную головешку на тоненькой шейке, быстро дышала и отказывалась от еды. Мы вызвали участкового врача, и мама в тревоге уехала на работу, а вернулась обратно раньше обычного с симпатичной маленькой женщиной-пульмонологом, ее приятельницей, имя и отчество которой я сейчас, к сожалению, забыла. Катенька спала, когда они приехали, но врач не стала ее будить, долго и внимательно слушала спящую, только затем разбудила и еще слушала сидящую с тревожным внимательным лицом, и я смотрела на нее и слушала тяжкий ход собственного сердца, за всё утро Катя выпила полстакана воды, не подняв головы от подушки, и не сказала ни слова.
— Обширное левостороннее воспаление легких. Немедленно пенициллин большими дозами 4 раза в день, а затем беречь и выхаживать, — таков был приговор врача.
Мама тут же и сделала укол, и они, пообедав, уехали на работу, а спустя еще два часа, к вечеру заявилась вызванная врач, но не наша участковая, а с другого участка, томная накрашенная девица, от одного вида которой в роли педиатра хотелось выть на луну. Равнодушно послушала она девочку, сказала что, в легких она хрипов не слышит, и антибиотики не назначила бы, но раз уж вы кого-то где-то там нашли, то колите, ладно.
Надо ли говорить, что рентген, который назначила нам участковая, когда вышла на работу через две недели, показал тяжи в левом легком — рубцы от воспалительного процесса, и что было бы, если бы мы затянули с уколами, не знаю.
10 дней мама делала инъекции, вечерами ставили горчичники или банки, попеременно; при уколах Катюша плакала, но не очень, на шестой день перестала кашлять, а температура упала через два дня после начала антибиотиков.
Катенька выздоровела. Но мама затаила обиду на Алексея, за то, что он простудил Катюшу, хотя я чувствовала себя виноватой — надо было не надеяться на мужа, а самой пойти с ними погулять, но гулять зимой я не любила — мерзла. Вот и увела бы их домой еще до простуды, хотя теперь, спустя много лет, я думаю, что так быстро перешла простуда Кати в воспаление легких из-за ужасающего загрязнения воздуха в районе Москворецкой. Летом на деревьях появлялся серый слой уже к концу июня, и деревья стояли седыми от цементной пыли, а зимой снег лежал белый буквально час-полтора после снегопада, потом начинал темнеть, и не вдоль дорог, как обычно, а повсюду, и в скверах тоже.
Экологически неблагополучный район, решила бы я сейчас, а тогда такими понятиями я не мыслила, не были они на слуху.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.