
Бесплатный фрагмент - Вторник, №12 (31), сентябрь 2021
ОТДЕЛ ПРОЗЫ
Сергей БЕЛОРУСЕЦ
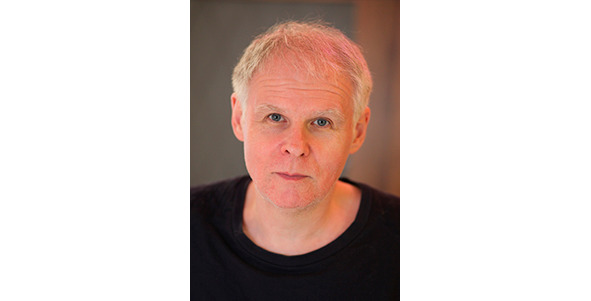
Не дело жизни, или Шоу маст Бибигон!..
Чукфест
Чёртова дюжина лет
(Хроника возникновения, выживания и умирания…)
Некоторые страницы из подготовленной к печати книги
Сергей Белорусец — не только широко известный российский поэт, лауреат ряда значительных премий в области детской и взрослой литературы, но и настоящий идейный вдохновитель, инициатор и многолетний председатель оргкомитета Фестиваля детской литературы имени Корнея Чуковского — легендарного Чукфеста.
Одной из долгосрочных программ Чукфеста была одноимённая литературная премия, вручавшаяся лучшим отечественным детским авторам-поэтам в течение целого десятилетия.
Именно она явилась предтечей новой премии Чуковского (иначе — Литературного конкурса имени Корнея Чуковского), которая существует уже второй год и очень скоро назовёт своих очередных лауреатов.
В своей предельно искренней большой книге (том!) воспоминаний о Чукфесте Сергей Белорусец, имеющий, кстати, самое прямое и непосредственное отношение к возникновению обеих чуковских премий, рассказывает не только об этом.
Пришло время…
Сегодня мы начинаем печатать некоторые страницы из упомянутой выше документально-художественной книги Сергея Белорусца.
Книги с более чем причудливым названием.
Итак…
2007, чуть раньше и несколько позже…
Вообще-то, когда мы только начинали, он был Департаментом СМИ.
Правительства Москвы.
Назывался.
Даже и не Департаментом вовсе.
Просто Комитетом.
Комитетом по телекоммуникациям и средствам массовой информации, если совсем уж точно.
В Департамент же средств массовой информации и рекламы он превратился путём волевого слияния с Комитетом по рекламе.
Когда тот расформировали, а его председателя Макарова отправили под суд.
Причём, кажется, по времени это примерно совпало со сменой городской власти.
На уровне градоначальника.
Мэра.
И — как следствие — сменой столичного чиновничества практически на всех других уровнях.
Ниже…
В общем, Комитет по телекоммуникациям и СМИ Правительства Москвы, председателем которого до той поры являлся Владимир Иванович Замуруев и у которого я неоднократно бывал, быстренько сделался Департаментом СМИ и рекламы, руководителем коего назначили господина Черникова, с коим личных контактов у меня так и не возникло…
Зато (то ли в рамках Департамента, то ли над ним) моментально возникла некая новая дополнительная охранительная структура.
Контрольно-ревизионное управление.
Работу которого стал курировать заместитель мэра Собянина по безопасности Горбенко…
И, забегая вперёд, скажу, что именно оно, контрольно-ревизионное, охранительное, по идее, управление, сыграло предельно важную, возможно даже, решающую роль в истории жизни нашего Чукфеста.
Впрочем, это случится потом.
Да и, к счастию, далеко не сразу…
А пока лучше отправиться назад.
Почти в самое начало истории Чукфеста.
В год 2007.
В месяц май.
В 30-е число.
С его тридцатичетырёхградусной жарой на московских улицах.
Когда на круглом столе, посвящённом затеваемой в столице сверху программе поддержки современного дошкольно-школьного чтения, я озвучил инициативу о проведении фестиваля детской литературы имени Корнея Чуковского и о создании одноимённой литературной премии.
Организатором круглого стола выступал тогдашний столичный Комитет по телекоммуникациям и СМИ.
А я выступал в качестве модератора этого двухчасового круглого стола.
В роли его абсолютно легитимного ведущего.
Ведь, будучи секретарём Союза писателей Москвы, плюс к тому хоть сколько-то известным детским автором, оказался для ведения настоящего мероприятия очень подходящей кандидатурой…
Местом круглого стола его устроителями был выбран легендарный Дом журналистов.
Домжур.
А людей из городского Комитета по телекоммуникациям и СМИ на меня навела журналист и критик детской литературы, соседка по родной улице и младшая соученица по общей английской школе Ксения Молдавская.
«Вот он — мой шанс!» — сразу же понял я, никогда доселе не ведший никаких круглых столов, и предусмотрительно захватил с собой документы, встраивающие Фестиваль Чуковского в сентябрьское празднование ежегодного Дня города…
Теперь есть смысл отъехать ещё чуток назад.
Чтобы понять, откуда они у меня взялись.
Эти загодя подготовленные документы…
Фестиваль детской литературы имени Корнея Чуковского на самом деле родился на крыльце мемориального Дома-музея К. Ч.
В четвёртом часу дня 15 сентября 2006 года.
Детище явилось на свет посредством скрещивания моей идеи «Дом-музей созывает друзей» с идеей директора этого самого Дома (на самом деле — заведующего отделом «Мемориальный дом-музей Корнея Чуковского в Переделкине» Государственного литературного музея) Сергея Агапова о премии Чуковского.
Сей, можно сказать (и написать), исторический акт (он же — факт) произошёл (от нас с дорогим Сергеем Васильевичем) практически на глазах у Марины Бородицкой, как раз бодро вызывавшей себе такси «Престиж» для отъезда домой.
С возрождённого на стыке второго и третьего тысячелетий традиционного Костра Чуковского «Прощай, Лето!».
Наряду с другим традиционным Костром «Прощай, Лето!», возрождённым примерно в те же сроки…
Всесоюзный Дедушка стал проводить свои Костры в 1955-м.
Для переделкинской детворы.
Причём регулярно устраивал их в начале июня и в конце августа.
Сменившие Дедушкины, новые чуковские Костры принялись ориентироваться и на разновозрастных москвичей, и на гостей столицы, и на многие другие зрительские категории.
А проводиться традиционные Костры их собственными устроителями — поджигателями — стали в конце мая и в начале сентября…
Я же мою магистральную идею «Дом-музей созывает друзей» — в буквальном смысле — словил из переделкинского воздуха и ландшафта, ведь в двадцати минутах ходьбы от бывшей литфондовской дачи К. Ч. (читай: нынешнего его Дома-музея) находится Дом-музей Булата Окуджавы — по сути — мекка для современной бардовской песни.
Вот мне и пришло в голову, что Дом-музей К. Ч. вполне в состоянии сделаться своеобразной меккой для современной детской отечественной литературы…
Тем более что ровно напротив бывшей литфондовской Дедушкиной дачи на поселковой улице Серафимовича — удачно располагался (располагается) Дом творчества писателей «Переделкино», где в то время ещё можно было скопом селить и льготно подкармливать столичных и иногородних детских «пера техников».
Проще говоря, инженеров человеческих душ…
С этой, занимающей пару-тройку предложений идеей, я ринулся к агаповскому заместителю, моему старинному знакомцу по отделу поэзии журнала «Новый мир» литературному критику Павлу Крючкову, который меня и переадресовал прямёхонько к Агапову…
Агапычу.
И — вот что получилось у нас на первых порах совместных действий.
Когда мои пара-тройка фраз превратились в наши пару-тройку страниц:
Проект «Дом-музей созывает друзей»
(Фестиваль детской литературы имени Корнея Чуковского)
В 2007 году будет отмечаться 125 лет со дня рождения знаменитого сказочника Корнея Ивановича Чуковского.
Его Дом-музей в Переделкине, недавно отремонтированный, самое подходящее место для регулярных встреч современных детских писателей — и с детьми, и друг с другом.
Дом Корнея Ивановича в Переделкине при его жизни всегда был открыт и для окрестных ребят, и для друзей-писателей. Чуковский очень любил устраивать на участке, примыкающем к дому, всевозможные детские праздники и выступления. Приглашал малышей и взрослых на традиционные Костры.
Дом-музей Чуковского в Переделкине, расположенный вблизи Москвы, — наилучшая площадка для проведения ежегодного фестиваля детской литературы имени Чуковского.
Удобное и компактное размещение иногородних участников и гостей Фестиваля призван обеспечить Дом творчества писателей, находящийся буквально через дорогу от Дома-музея Чуковского.
Для участия в Фестивале будут приглашены известные современные детские писатели из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и других российских регионов. Всего порядка 20 человек.
Дополнительная культурная программа может включать в себя пешеходные экскурсии по памятным местам Переделкина, которых в писательском поселке множество.
Здесь и Дом-музей Пастернака, и Дом-музей Окуджавы, и переделкинское кладбище, на котором похоронены выдающиеся деятели отечественной словесности…
Рабочая же программа будет состоять из выступлений писателей перед московскими школьниками, гимназистами и лицеистами. Какие-то выступления пройдут в Москве, какие-то в Доме-музее и Библиотеке Чуковского в Переделкине.
Открытие Фестиваля пройдёт в Центральном Доме литераторов в Москве 3 сентября непосредственно в День города, а закрытие — 10 сентября на территории Дома-музея Чуковского.
В канун празднования 125-й годовщины со дня рождения К. И. Чуковского Союз писателей Москвы совместно с Домом-музеем Чуковского в Переделкине выступили с инициативой об учреждении поэтической премии имени Чуковского.
Эта инициатива впервые была озвучена в конце декабря 2006 года на круглом столе, посвящённом детской литературе в рамках фестиваля чтения для детей и юношества «Вместе с книгой — в Новый год!» и получила одобрение со стороны участников и организаторов этого фестиваля.
В то же самое время президент России В. В. Путин в одном из выступлений подтвердил, что детскому каналу на российском телевидении быть. И очень скоро.
Цикл передач о Фестивале в Переделкине, о подготовке к нему и церемонии награждения Премией имени Чуковского на детском канале (или на каком-то другом) — по идее — должен привлечь внимание и средства потенциальных спонсоров этих сообщающихся мероприятий.
Чуковский вообще одна из немногих фигур, способная собрать и объединить вокруг своего имени практически всех: от мала до велика…
Две тысячи седьмой год, объявленный Годом русского языка в России, призван подтвердить это в полной мере.
Разнообразные издательства (не только детские), фирмы, занимающиеся производством и реализацией товаров (не только для детей), центральные и региональный фонды и корпорации, банковские структуры в силах помочь организации, проведению и достойному финансированию Фестиваля и Премии имени Чуковского.
Первого апреля 2007 года на праздновании дня рождения великого сказочника в его Доме-музее планируется подробно проинформировать широкую общественность о проведении:
с 3 сентября по 10 сентября 2007 года Фестиваля детской литературы имени Чуковского и об учреждении Премии имени Чуковского. А также, возможно, озвучить лонг-лист Премии;
1 июня, в День защиты детей, на традиционном празднике «Костёр Чуковского — Здравствуй, Лето!» в Переделкине, предполагается назвать номинантов шорт-листа Премии;
А 10 сентября, на традиционном празднике «Костёр Чуковского — Прощай, Лето!» на закрытии Фестиваля детской литературы имени Чуковского, наградить лауреатов Премии имени Чуковского.
Фестиваль вполне вписывается в программу празднования столичного Дня города.
Тем более, что в Москве 2007 год объявлен Годом ребёнка…
Но без поддержки Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Агентства по культуре и кинематографии, Российского книжного союза, Фонда социально-экономических программ и интеллектуальных Сергея Филатова, «Центра коммуникативных технологий» Нелли Петковой, а также дополнительных финансовых и информационных спонсоров здесь не обойтись.
Необходимо их приглашение в число учредителей и соучредителей Премии, а также в состав оргкомитета Фестиваля.
Примерный бюджет мероприятия:
Фестиваль детской литературы имени Корнея Чуковского — 3 млн рублей.
Поэтическая премия имени Чуковского — 4 млн рублей.
17 января 2007 года
Инициативная группа:
Сергей Белорусец — секретарь Союза писателей Москвы, детский поэт.
Сергей Агапов — заведующий Мемориальным домом-музеем Чуковского в Переделкине.
Павел Крючков — литературный критик, сотрудник журнала «Новый мир».
Да, ближе к концу декабря 2006-го я стал участником фестиваля «Вместе с книгой в Новый год!» (он проводился в Чебоксарах), где на круглом столе, посвящённом детской литературе, озвучил вышесформулированную идею, поименовав её инициативой Союза писателей Москвы и Государственного литературного музея.
Прикрывшись и подстраховавшись этими громко звучащими официальными названиями…
Дабы настоящую, лежащую на (переделкинской) поверхности идею, не спёр бы кто-нибудь более ушлый.
Менее предсказуемый в тогдашних реакциях…
Интернет на моё чебоксарское фестивально-премиальное озвучивание отреагировал молниеносно и в нужном мне направлении.
После чего, с конца января 2007-го, мы (в основном я) принялись старательно внедрять нашу инициативу в жизнь, сиречь — обращаться к тем структурам и персоналиям, кои могли бы нам помочь сие хоть насколько-то профессионально осуществить…
Однако никто так и не смог.
Или — не захотел…
Даже невзирая на то, что на дворе уже стоял (и довольно стремительно), уходил из-под ног год стодвадцатипятилетия со дня рождения патриарха современной отечественной литературы для детей.
Он же год девяностолетия с момента создания будущим всесоюзным и всероссийским Дедушкой первой стихотворной сказки «Крокодил».
(Не говоря уже о том, что это был Год русского языка в России и Год ребёнка в столице нашей родины городе-герое Москва…)
В принципе, мне стратегически мнилось, что Фестиваль Чуковского окажется Фестивалем поистине Федерального Масштаба!
Но, будучи достаточно крепко укоренённым в окружающей реальности, я понимал, что нужно иметь план.
Рангом чуть скромнее…
И он у меня — параллельно — дозрел, когда я сообразил, что можно попытаться встроить наш проект в рамки с помпой ежегодно празднующегося в столице Дня города.
Я не поленился и забросал собственноручно состряпанными просительными письмами, хоть сколько-то подходящие нам по тематике московские комитеты-департаменты…
Впрочем, положительный ответ пришёл лишь из комитета-департамента по семейной и молодёжной политике.
Нам предлагалось освоить сумму в размере 60 тысяч российских рублей.
По остаточному принципу…
Притом, что сумма нам требовалась в районе 7–8 миллионов…
В общем, подоспело время очередного переделкинского чуковского Костра «Здравствуй, Лето!», на котором мы надеялись объявить о том, что всё у нас отлично.
С Фестивалем и с Премией.
Однако же объявлять было нечего…
А на следующий после воскресного Костра майский понедельник вдруг возникло чудесное предложение.
Мне.
Сделаться ведущим круглого стола, как раз лихорадочно организовывавшегося Комитетом по телекоммуникациям и СМИ Правительства Москвы.
И — гонорар за ведение круглого стола мне тоже пообещали.
И — что характерно — позже выплатили.
11 тысяч рублей.
С копейками.
Как сейчас помню…
«Вот он — мой шанс!» — сразу же понял я, никогда доселе не ведший никаких круглых столов, и предусмотрительно захватил с собой документы, встраивающие Фестиваль Чуковского в ежегодное столичное сентябрьское празднование Дня города…
Итак, 30 мая 2007 года в тридцатичетырёхградусную жару в Домжуре состоялся исторический круглый стол, вокруг которого стояли многочисленные кресла.
Рядом со мной, упакованным в цивильный льняной костюм с шёлковым галстуком, на соседнее кресло внедрили заместителя тогдашнего мэра Лужкова по фамилии Виноградов.
Валерий Юрьевич по имени-отчеству, он курировал в Правительстве Москвы вопросы межрегионального сотрудничества, туризма, спорта, телекоммуникаций и СМИ.
Короче, влиятельного В. Ю. Виноградова внедрили на соседнее кресло.
Посадив рядом со мной.
Посредине круглого стола…
Остальное было делом техники.
Моей.
Мизансцену я разыграл — как по нотам, — благо здесь мне очень помогла дочь скрипача Марина Бородицкая, присутствовавшая в зале и предварительно мной проинструктированная…
Днём позже я поймал Успенского, накануне так и не доехавшего до круглого стола.
Хотя Правительство Москвы его там ожидало.
В лице Комитета по телекоммуникациям и СМИ…
Но 34 градуса со знаком плюс в таких (общественных) делах почти всегда играет в минус…
Да, я поймал Успенского.
Потому что я без ошибки знал, где его найду.
Несмотря лишь на пару градусов опустившуюся уличную температуру.
Абсолютно дикую для Москвы майской…
Успенского я поймал на совещании по авторским правам.
Где он защищал свои личные…
Поймал, чтобы заручиться его согласием мне поверить.
И — нам помогать…
В делах наших.
Чуковских.
Общих с ним, Успенским…
Уже через неделю я организовал встречу начальника управления печати Комитета по телекоммуникациям и СМИ Дмитрия Рунге (мы познакомились чуть раньше, в декаду майской подготовки к проведению круглого стола) и его ближайших аппаратчиц с инициативной группой грядущего первого фестиваля детской литературы имени Корнея Чуковского.
В инициативную группу, кроме легендарного Эдуарда Николаевича и не слишком пока знаменитого меня, вошли, упомянутые выше матёрые переделкинцы Сергей Агапов и Павел Крючков, а также привлечённый мной из рекламного мира в секретари Союза писателей Москвы урождённый москвич Сергей Катасонов и этническая ленинградка-петербурженка княжеских кровей Ольга Радзивилл — президент Фонда возрождения народной культуры…
К слову, Дмитрий Святославович Рунге (вскоре я стал к нему обращаться по имени) — сын советского пионерского поэта и мультипликационного сценариста Сокола Рунге — оказался давним к тому времени мужем очаровательной улыбчивой блондинки Ларисы, бывшей студентки МАДИ, с которой я познакомился, будучи третьекурсником, на свадьбе моего одноклассника, а потом (периодически) встречался.
С небольшими перерывами.
В течение лет семи…
Наиболее знающей и полезной хоть в чём-то из ближайших Диминых аппаратчиц глянулась мне неторопливая, довольно взвешенная Лена Карасёва.
В отличие, скажем, от остепенённой кандидатским званием весьма истеричной, склочной и аффектированной Ларисы Смирновой, ушедшей через несколько лет в декретный отпуск и благополучно разрешившейся там сразу двумя младенцами…
Да, комитетчицы-аппаратчицы были именно такие.
Что и подтвердил весь дальнейший ход моего достаточно регулярного делового общения с обеими.
Причём значительно больше, к сожалению, пришлось мне общаться с Ларисой Смирновой, которую верхи Комитета по телекоммуникациям и СМИ определили нашей команде в качестве некоего связующего и курирующего звена.
На той встрече в Комитете мы (наша чуковская команда) поняли, что хоть мэрское распоряжение о создании Фестиваля покамест не подписано и подпишется отнюдь не завтра, уже однозначно ясно, что финансирование мероприятия будет осуществляться из бюджета Правительства Москвы.
И — что характерно — это будет не только бюджет Комитета по телекоммуникациям и СМИ, но и бюджет Комитета по культуре…
Проект мэрского распоряжения, подготовленный в недрах Комитета по телекоммуникациям и СМИ, ждал своего часа.
И — ведь дождался.
Почти три месяца спустя, на излёте европейского лета, тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков его таки подписал.
После длительного и кропотливого согласования со всеми десятью столичными префектами…
Но акт подписания произойдёт только 29 августа 2007 года.
А пока, на первых порах, от нас требовалось налаживание рабочих отношений с Комитетом по культуре, составление и устаканивание сметы предполагаемых расходов, написание Положений о Фестивале и Премии, фестивальной программы, а также составление недельного графика выступлений участников Фестиваля на городских площадях, площадках, в помещениях детских библиотек, проведение писателями школьных уроков живой литературы в День знаний и несколько позже…
О количестве и местах которых (речь — про выступления) к тому моменту не было известно ничего.
По крайней мере, мне…
Впрочем, вру.
Подвираю.
Одно место мне было известно.
Заранее.
Костровая площадка на территории мемориального Дома-музея Корнея Чуковского в писательском посёлке Переделкино…
Продолжение следует…
Галина КАЛИНКИНА

С тремя неизвестными
1
Вопрос
Молчание — всему поможет.
Но мне по-прежнему непонятно, кем приходятся друг другу наши дети.
Может быть, ваш, именно ваш критический ум, жизненный опыт и отстранённая позиция помогут определить степень родства, какого не бывает. Как известно, есть в близости людей заветная черта, её не перейти влюблённости и страсти. А разгадки я прошу в отношении одного человека. Нет, он — не любимый мне. Не всё так просто.
Я люблю мужа. Второго. Первого тоже любила; остро поняла это на его похоронах. Тогда, в гробу, он лежал вдруг похудевший, помолодевший до юноши, с худенькими руками солдатика-первогодка. На запястьях его видны следы мучений. Его мучили и укрывали пять дней. Родня и друзья сбились с ног. В конце праздников он объявился: подброшенный и не живой, в нелюдимом месте, как раз в тот день, когда его нынешняя женщина возвращалась в город с каникул. Дело запутанное, следователям «не по мозгам». Помогла нарисовать портрет убийцы и не только психологический. Я разгадала его. Принесла им свою акварельную, едва просохшую, версию. Прониклись, убедились, поверили. Но бездарно погубили дело. Спугнули. Я отступила, сдалась, лишившись поддержки. Тогда в гробу он, единственный ребёнок родителей, лежал как серафим, сероглазый король. Во мне бродило родство с виною пополам. Моя вина за расставание, за разрыв, за отречение от него, слабого, висела в воздухе над моей головой и светилась: смертный грех, один ноль.
Помню, как нашего домашнего мальчика забрили в солдаты. Мы ждали его на побывку. Не дождавшись, сорвались сами в далёкий северный город с просторно выстеленной набережной на скатерти великой русской реки. Ему обещали увольнительную, и мы караулили нашего птенца, из гнезда выпавшего. Прятались от солнца в белезняке — так безупречно белы там слегка черноствольные русские берёзы. Сидели на примятой, податливой ладоням траве. И вдруг вдалеке мелькает фигура, лица не разглядеть. А берёзы слева и справа по аллее наплывают на нас, увеличиваются от крохотных саженцев до старожилок-белоплаточниц; человек, между тем, всё ближе и ближе — и тут мы понимаем, тот чужой в защитном, смешно и жалко размахивающий опущенными руками — это он, беспомощный, измученный первыми месяцами муштры. Бежит, руками размахивая в такт бегу, как деревянная игрушка, как марионетка на шарнирах в кисти кукловода, и будто кричит родителям и мне, ровеснице, которая сразу казалась его старше — заберите меня отсюда, зачем, зачем вы отдали меня в эту муку? Не знали ни он, ни мы; позже мука ему предстояла бóльшая, страшная, смертная мука — в те последние пять дней. А ведь когда-то в морозном снежном провинциальном воздухе, мы вдвоём, держась за руки, почти бежали в пустой дом, редко пустовавший дом. Вокруг звенела радость солнца, хрустящих снежинок, невинности снегов, приближающегося праздника. Утратив всё: возможность быть, дышать, позвать, откликнуться, забыть, мы обрели одну способность — забыться, способность окликать, губ не размыкая, останавливать, не прикасаясь. Мы бежали вдвоём мимо тётки со стеклянными бутылками молока в авоське, мимо детишек, строивших блиндажи в сугробах, бежали в пустой дом, редко пустующий дом. Мы — одно целое, не соединившись. Мы предвкушали жизнь на белых пока простынях. Никаких упрёков, угрызений совести. Только воздух радости, опьяненье скоростью.
Потом, потом у его гроба, я поняла, всего и было настоящим, когда он держал за варежку не дорожившую им (уже тогда?!) девочку и вёл к себе домой. Глупцы мы были. Мы просто были детворой, строившей ещё позапрошлой зимою блиндажи в сугробах так же, как те счастливые дети.
Я любила его, первого, пробной, не зрелой, не забытой любовью.
Так вот, тот другой, о каком речь, — он не любимый мне.
Потому что я люблю мужа. Второго.
Со вторым мы слишком долго через колючки и терновые кусты препон продирались к супружеству, чтобы теперь смотреть в сторону кого-то чужого. В то лето наш город задыхался от дыма близко подобравшихся и окруживших его торфяных болот, тлевших, тлевших и вздумавших вдруг воспламениться. В то лето два брака сгорели на глазах, как тетрадный лист с двойкой, корчившийся в оранжево-синем безжалостном пламени. В июле мой бывший сдался, уступил; а месяцем раньше — в июне — отошла она, его бывшая. Горькое освобождение. Говорят, на несчастье счастья не построить. А на чём нам строить?! Мы строили на руинах, на пожарище, на тлевших торфяниках.
С ним всего хотелось с самого начала; это же счастье — всё начинать с самого начала. Мы не могли оторваться друг от друга день за днём, месяц за месяцем. Прежде мы не знали, что так будет, и когда в дыму и удушье наступил летний день, бесповоротно не обещавший нам будущего, напрочь будущее перечеркнувший — оба плакали, расставаясь. Обнялись и плакали. В тот момент я целовала ему руки. А ведь женщина редко целует руки мужчине. Но потом неожиданное разрушение и чужая (чужая ли?!) беда дали нам шанс. Какое пошлое слово — шанс. Может быть, расплатой за то лето, удушливое, и удушившее прошлое, оба когда-то увидим в воздухе над собой мерцающую возмездием надпись: два ноль.
Но пока мы любим. Не без ссор, выяснения отношений и впившихся с лёту в косяк двери плоскогубцев. Не без того. Но зато без беготни на сторону, без развлечений поодиночке, без женских, мужских или смешанных компаний в сауне, без свингерства и групповух. У нас как-то по-другому, камерно и по-старорежимному: вместе в горы Сванетии, вместе на рыбалку в ахтубинскую пойму, вместе на футбол (болеем за команды-соперники), вместе в театр: он спит, я смотрю, по дороге домой пересказываю либретто. На этюды мы тоже вместе; правда, оба мольберта тащит супруг, ну, так нечего пейзажисту на портретистке жениться. Ночами я укрываю мужа и голублю, как младенчика, и теперь он почти перестал вскакивать в полночь и реветь медведем-шатуном. Чуть всплакнёт, всхлипнет и затихает. А я пою ему колыбельную. Утром спрашиваю, кто победил: наши или «духи»? Он понимает, что снова в ночном рёве из грудной клетки и в скрежете зубов я разобрала слова: эргешка, сарбоз, «лифчик». В Афган он попал из учебки под Гатчиной: салабоном, щеглом, в сержантском кителе сорок четвёртого размера. Попал на два страшных первых года той интернациональной, очень кому-то нужной, праведной, священной войны, пустившей, как при пиявках, молодецкую кровь для снижения давления государственного тела. Кителёк сорок четвёртого висит в шифоньере и бряцает медальками, когда подбираешь из костюмов пятьдесят второго нужный, на выход.
Ну, то есть, тут тоже можно быть спокойными. Тот другой мне не любовник. Банально, я не могла любить того. Я люблю мужа, второго.
Бывших соседей, бывших одноклассников, бывших коллег когда-то забывают, не правда ли?
А тот забываться не собирался, собственно, как и намеренно помниться. Было просто, пока относилась как к бреду: вот забуду, вот захочу и уеду куда-нибудь, в Москву или в степи Чимкента, вот запросто одержу победу за несколько дней. Но с собой бороться куда трудней, чем с кем-то. Он же оставался равнодушным к собственному присутствию в чужой памяти. Он самодостаточен. Он благосклонно принимал всякое к себе внимание. Он к нему привык. Ну разве что приятно испытать минуту тщеславия, не более. Сверкнуть весело глазами, мило улыбнуться, бережно приобнять, сказать «брось хмуриться, тебе не идёт» и тут же забыть о моём существовании до следующего неудобного напоминания. По крайней мере, большего придирчивость и цепкость его монгольских глаз не выдаёт.
В то моё непроходящее — он посвящён. Вопьётся взглядом, проверит, не дурачат ли его, убедится: живо ли оно, — и вновь выпустит из поля зрения, ничуть не заботясь о поражающей силе.
Он из тех мужчин, что необыкновенно расположены к женщине. Не в смысле флирта, а в смысле восхищения, пиетета, нежности и бережности. Но я не сестра ему, не золовка, не невестка и… не невеста. Его вежливое «до свидания, пиши», для меня — как гамлетовское «не пиши» (почти дыши, как не дыши). Его «роднее остальных», почти что как удар под дых: когда дыхания обрыв есть остановка бытия. Вы знаете, бывает близость меж чужих, а мы с ним — будто дальняя родня. Спасибо, с собой не звал, не давал поводов, обещаний дурацких. Глаза — жесточайшее из зеркал, смотревшие с нежностью братской.
Он даже ночью не упускал меня из виду. Приходил молоденьким, таким, как я впервые увидела его. Кстати, с первого нашего знакомства не поразил фигурой или особостью. Мне нравились другие, более… Предприимчивые? Нет, более ростановские, не в смысле внешности, а относительно романтичности. Озороватые? Да, небезупречные. Он — слишком цельная натура, если только цельным можно быть слишком. В нашем классе он — самый красивый, самый умный, самый спортивный, самый воспитанный, самый обособившийся и загадочный, самый правильный — он безупречен.
Оставался ли у меня шанс не заинтересоваться?
При всех перечисленных качествах он умудрялся избежать общественной нагрузки: отрядно-стадное, общное, неиндивидуальное никак не привлекало. Он лучше других играл в гандбол, дальше всех метал, больше всех отжимался; его боялась местная гопота. В хоккей он и сейчас играет лучше остальных в своей возрастной группе их бизнес-команды. Водитель привозит его к стадиону, достаёт из багажника спортивную сумку со снаряжением и клюшку, выгнутую под левую сторону; он играл только под левую. У него смуглая кожа, по-мушкетерски вьются волосы. Иногда, чтобы урезонить зарвавшегося, несущего перед девочками пошлятину, ему достаточно было сузить монгольские глаза, поиграть желваками, и пошляк тушевался.
У него уже тогда, в школьные лихие, сложилось мнение на правду и ложь учебников, на конъюнктуру и ангажированность. Он считал, большую травму нам нанесла учительница литературы (хорошо, что в любимчики из учителей я выбрала чертёжника — симпатичного молодого аспиранта, сперва обучавшего нас азам черчения, а потом таскавшего в Москву, в Пушкинский и Третьяковку, на самое-самое свежезавезённое и кричавшего нам, озябшим в очереди, «отцы, старики, будущие мастодонты и корифеи, приобщайтесь великому мировому искусству — это единственная прививка, необходимая вашему организму!»). Чертёжник его не волновал. Литераторша, внушая, что «Катерина — это луч света в тёмном царстве», вызывала в нём возмущение враньём; в старших классах он ещё не всё понимал в отношении гендерства, но интуитивно ощущал неправду. Хорошо, что меня совершенно не заботила литература, не то он тогда же ниспроверг бы мои идеалы, и я сменила бы их на чужие. В живописи он не разбирался, к чертёжнику относился слегка свысока, тот проигрывал ему в командном гандболе; потому у меня оставалась свобода приобрести здесь свои авторитеты. Врубель, Верещагин, Куинджи, Гончарова, Серебрякова-Лансере занимали меня каждый в своё время и настолько всепоглощающе, что тогда я чувствовала себя свободной от всего, ото всех. Возможно, несостоявшийся литературный разрыв пришёлся бы даже кстати — не с чем оказалось бы разбираться в будущем. Тогда вокруг меня всё время вилась стайка ухажёров. Отношения с одноклассницами не задались, с одноклассниками складывались гораздо проще: с кем-то дружить, другим — нравиться. И только один при неизменной улыбчивости, заботе и нежности отстоял в стороне. Тогда не разглядел за моей кротостью детское, еле слышное. Теперь все проповеди его — мне пропасти, все исповеди мои — ему лишние.
Ошеломительный случай в походе: лесная дорога спустилась в озеро-лужу, налитую недавней короткой грозой, заставшей нас врасплох посреди хилого орешника. И на растерянность моих сизых бархатных босоножек, прежде бывших голубыми, он привычно улыбнулся и, подхватив на руки, перенёс меня на другой край к сухим кочкам. Пока я качалась у него в руках, обнимая за шею и уставившись на его губы, он медленно, нащупывая резиновыми сапогами дно, шёл по озеру-луже и смотрел на мою грудь, облепленную холодным, не просохшим батистом. Вероятно, он помог ещё паре девочек. Кого-то перенесли другие ребята. Когда все перебрались, смеясь и шутя над вислыми мокрыми волосами, одинаково длинными у девчонок и мальчишек, над прилипшей одеждой, я думала, не смогу сдвинуться с места, если мы не пойдём за руку — после того, что только что между нами случилось. Но он, не оглядываясь, повёл всех вперёд. Он больше не обернулся. Он вёл всех вперёд и никогда не оборачивался.
Как-то мы возвращались домой с первой встречи одноклассников после пяти лет окончания школы. Вошли в троллейбус с задней площадки. Мне хотелось отделиться, остаться с ним там, где меньше пассажиров, нечаянно его касаться в троллейбусе бэушном; наверное, с ходу придумала и произнесла: люблю смотреть, как дорога убегает назад. Он тотчас парировал: мол, всегда смотрит только вперёд, и прошёл в салон.
Он не умеет врать.
На другой встрече в заштатном кафе он сидел среди одноклассников, как старший брат в стайке первоклашек. Причём не выпячивал свою успешность, не покровительствовал, так само собой выходило. Он снова слыл лучшим или просто им оставался. В полутёмном подвале его белый свитер на тугих плечах, белое пятно на чёрном, виднелся с любой точки танцпола, где меня кружил парень, хвастая, сколько патентов получил за свои рационализаторские находки и хмельно шепча на ухо, как нравилась ему со второго полугодия седьмого класса по первое девятого. О, мальчики, о сверстники седые, кого-то нет уже из нас в живых. Мы стали давным-давно другими. А вы все видите в нас девочек своих. Он пару раз оглянулся на танцпол, но не скажу, в мою ли сторону: глаз Тамерлановых в темноте не разглядеть.
И что мы имеем, так и не научившись жить? Какими чистыми были в начале, как нынче мы все обмельчали…
В белом свитере — невозможность моя, несбыточность — жизнь моя не начавшаяся, частичка чьего-то чужого счастья, не причитавшаяся мне. Ах да, между нами вышел один разговор — нет, два. Разговоров, признаться, помню немало: мы запросто обсуждали даже пикантные темы. После выпускного гуляли всю ночь по району. Когда шли тополиной аллеей из всей толпы перестроились так, что оказались вдвоём, рука об руку. Он спросил, чего мы, девочки, хотим от парней. Я ответила: жизни. Чтобы если мне грозит опасность, мой парень мог рыцарски защитить меня, ни на секунду не струсив. Тогда он как-то сердито вгляделся в моё лицо, будто обиделся, будто уличил в эгоизме. Будто предчувствовал того, моего будущего солдатика, беспомощного желторотика, который не защитил, которому не простила, которого и сама защитить не сумела. А может быть, предчувствовал что-то своё, ситуацию, в какой другая девочка потребует от него рыцарства и жизни? Когда, спустя годы, я напомнила ему наш разговор в ночь выпускного, он ото всего отрёкся.
Теперь он повторял мне: ты роднее остальных, ты чуточку родная, как будто родной можно быть чуточку. Но признавался, что хотел бы совсем другой женщине подавать пальто, чтобы другая стелила ему постель. Ждал ту, какую захочется провожать домой по длинному пути — со мной он всякий раз выбирал самый прямой, короткий путь, у подъезда неизменно ласково обнимал и целовал куда-то в висок или ухо. И каждый раз подъездная дверь — свидетель и судья — наблюдала, как огорчённо-непорочно я поднималась по лестнице и как равнодушно и облегчённо он нырял в темноту переулков. Бесконечные эти наши проводы стали обрядом: он, я, город, ночные всхлипы электричек, встречно-пешеходное «дай прикурить» и ответное «не курю». Жесточайшая гордыня, отказы, чтобы я дала сыну его имя, отказы принять бесчисленные портреты, наброски снов, где угадывался он, мы вместе. И горчайшая слабость заблуждаться в его словах — «роднее остальных». Сны, грёзы, заблуждения — случайные касания на всех углах по дороге, как полупразднество. Вот теперь поняла в чём причины бессонницы, подступающей к горлу смуты и даже свежей приклеившейся морщины: слышать — как искушение, как бес попутал — сердцебиенье чужого тебе мужчины.
Тогда в Москве на морозе хрустели нераспроданные арбузы. Их сторожа как будто в коматозе прилипли к заржавленной «шахе». Мы купили позднеосенний арбуз, и нас повёз кружным маршрутом ночи бомбила с чуть восточным акцентом, весёлый, словно подшофе. Луч с «Вавилона» протыкал тьму, как нож паюсную черную икру (забытый вкус советского пайка, по праздникам бумажного кулька соблазнительное шелестенье). У пивных ларьков привычное, как гуппи, мельтешенье, как броуновское вечное движенье, брожение пивных «горнистов».
В комнатах не зажигали света. Как это важно: не связаны долгом; как это глупо: спешила без толку, как лихорадка, испанка, чума. Главное выговориться, освободиться, пусть темнота затушёвывает лица, пусть воцаряется полная мгла. Просто смешно стыдились друг друга. Как это платье подпоясано туго… При свечах я бы так не смогла.
Но руки равнодушные отвела (обидно мало обо мне узнали). Его руки как-то сами собой в моём присутствии прятались в карманы. Ушла. Не провожал. Остался у окна на Останкинскую, где луч с «Вавилона» шарил в небе будто тревожная зенитка.
Всего-то надо мне, чтобы из сердца его лилась, нет, нет, не страсть, не благодарность (Боже упаси!), а нежность. Но он всё смотрел очевидцем, свидетелем, истцом, о нет, скорей ответчиком с непроницаемым лицом, где я пыталась что-нибудь прочесть. Но там одно: не то, не то, давай оставим всё, как есть, я женщине совсем другой так подавать хочу пальто.
И всё же, как бы ни был он со мною осторожен, в конце концов, прорвёт мужское, зрелое, наружу, как солнце проливается на стужу, несовместимости сливаются в одно, насущное и долгожданное тепло. Я говорю о сердце.
Он ждал ту женщину, от которой не захочется уходить.
Он встретил её в институте на втором курсе. Она носила необычное имя, в отличие безыскусных имён девочек нашего класса: три Ольги, четыре Лены, две Ани, две Маши, две Светы. А её звали то ли Регина, то ли Рената, и она очень быстро, до окончания первого семестра, стала его женой. Я видела её, ничего особенного, кроме имени. Да, миленькая, симпатичная — как многие. Но она взяла над ним верх. Тот самый трудный час настал — жить счастья их напротив. А моя радость оставалась бесхозна. Но, возникая и прячась, он даровал мне зрячесть.
Он часто уезжал из дому; город не выдавал его присутствия, но на отсутствие указывал прямо: воздух становился сиротским и горьким, словно зимой зацветала черёмуха. Он ездил по свету, становился точкой на карте — кажется, испытывал новые модели сверхзвуковых самолётов. Но с удалённейшего чужеземства или с такого же удалённейшего соседства застенного — отовсюду входил ко мне без стука, без спроса, во всякий час. Он был наивернейшим средством разбить мою бессонницу, как пустую посуду. В который раз подряд без спроса уносил мои мысли с собой, как мешок заплечный: все мои до свидания, доброго утра и добрый вечер, все мои спокойной ночи поверх крыш и набережных.
Что нас сближало? Ничего.
Нас не связывает ничего так крепко, чтобы неуклюже встретиться в потёмках и спросонья встать вдвоём к ребёнку. Только в окнах переплётшиеся ветки обнажённо тонких деревьев. Теперь мы жили в мегаполисе, в одном квартале, одна местность, одно солнце в постелях нежится в воскресенье, одно небо пастелью расцвечено по-весенне. Когда наши кровли почти срослись краями, одно и тоже по утрам цвело в оконной раме: будто немого кино чёрно-белая лента — зеркало его жизни с кем-то. Виделись мы редко, и при его сдержанности совершенно невозможным казалось узнать, счастлив ли? В душах с врождённой доброжелательностью и вроде бы открытых для всех иногда очень трудно бывает проложить путь одному человеку. Там выстроилась стена скрытности, и чтобы её преодолеть, недостаточно желания одного и вежливой доброжелательности другого: ты пытаешься, но стена перед твоей верёвочной лестницей вырастает и возвышается.
При его правильности, рациональности, прагматизме необъяснимо роднее заграницы ему оставался бедлам нашего города — сказывается та самая русская особенность. Меж чужбиной и родиной есть полоса, пауза, пограничные вёрсты, провода, кордоны и воспоминания. А чувство родины таким и бывает: с ностальгией пополам к той, что зовётся бывшей. Не помню, как и от кого, возможно, от него самого, я узнала, что свой развод он отметил «мальчишником» на стрельбище. Ребёнка забирал каждые выходные, лишь дважды до восемнадцатилетия сына нарушив обязательства.
Он никогда себе не изменял.
А я по-прежнему вовлекалась в его орбиту. Я не раздроблена, не разбита, как никогда — очень цельное, очень собранное явление, несмотря на нажитую (или врождённую?) нелепость и рассеянность. Мне хотелось когда-нибудь открыть его дверь своими ключами. Делить с ним однушку в спальном районе глухого мегаполиса или хотя бы проспать одну ночь где-нибудь в незнакомой провинции. Потом исчезнуть, не разбудив и унеся. Не спать до рассвета и гадать, кто же будет, сын или дочь. Не чувствовать боли острой, просто нарушить собственные табу, условности и запреты. Но стать счастливее. И чтоб никакого рыдания — одна радость бескрайняя.
Он неизменно снился, привычно ласковый, трепетно-нежный. Всякий раз сны о нём и с ним оставляли во мне тонкое послевкусие грейпфрутового фреша. Мне по-прежнему его мало, и я не помнила вкуса его губ. Он, может, горьковато-сладкий? Как жимолости плод или цветки акаций… Он казался мне островом плавучим, который сам себе и правило и случай. Не удержать которого в руках. Я и сама уплывала. Покидала город с надеждой избавления, как будто ухожу в кругосветку, не рассчитывая вернуться. Я думала, море выплеснет его вон, на линию береговую из души глубин. Я верила в память воды, в силу волн. Искала сердолик, повышала гемоглобин. И всё размышляла, что он делает дома один? Я думала, здешнее солнце сделает своё дело: выжжет его из мыслей, испепелив. Любовалась на своё новое тело мулатки. Цедила в себе по капле прилив и отлив. И представляла подъездную дверь — судью и свидетельницу. Жалеть, что так несмела? Зато как он бывал терпелив! Я думала, горы вскружат мне голову и горный воздух вытеснит глупости, блажи. Я мечтала о времени, когда кротость станет моим оборонительным оружием, а может, и наступательным станет даже. И тогда его взгляд мне будет уже не так и важен, и мой зрачок уже на него будет сужен. Но всё напрасно, с завидным упрямством он снился, не отпуская меня из виду даже за тридевять земель, в отпуске. С ним ценен всякий мимолетный разговор, звонок, сон и даже ценно молчание — всё без вычетов. Говорят, не войти в одну реку дважды, а если и единожды не вошла?
Он не ждал женщины из романа, не приближался к художницам и актрисам. Как никто другой достоин спутницы-единоверки, товарки-единомышленницы, заступницы, разливающей за обедом из фарфоровой супницы умопомрачительно вкусное — жалко есть. Достоин той, что читала бы его мысли, умилительно заглядывала бы в глаза. Но видимо она не сумела стать такой или слишком — до приторности, до надоедания — была умилительной. А я миловидностью не отличалась. Я иногда улыбалась ему чуть пьяно, бывала упряма, становилась при нём глупа. Но ему совсем не нравились сложносочинённые строительницы бесчисленных глупостей. Непризнанные художницы слишком заняты собой, порой ищут истину в вине. Я бы выпила с ним — «за всё несбывшееся, дорогой! Явление моё чрезвычайное, да не пугайся ты так отчаянно, не окольцую, только чаем тебя напою, с коньяком; пить чаёк, биться чашкой о чашку, закусывать счастье». Но он не пьёт ни коньяка, ни чая. Он играет в хоккей, гордится сединой, отжимается пятьдесят раз почти без отдышки и выходит на ежедневные утренние пробежки в любую погоду.
Упрямо убеждал: «глупо сближаться, не стоит, не стоит, не срастётся, не сложится». А глаза Тамерлановы следили за моими зрачками, как нарочно, бередили осевшее, убеждались: не кончилось, не ушло? И почему-то кажется, будто, скорее, простил бы мне запойную верность искусству, измену с другом, чем простое бабье счастье.
Говорят, живёт один и по выходным нянчит внуков. Дожили до времён, когда близок ответ о смысле жизни, а самой жизни почти уже нет. Всё же недосказанность какая-то осталась. Только вроде осозналась разница между вкусом к жизни и безвкусием, как уже пропало празднество, с губ исчезло послевкусие.
Он так и не полюбил смотреть назад, не полюбил воспоминаний. Если назад не смотреть, то не узнать, что никогда уже нигде не быть счастливей. Жизнь есть аксиома бездоказательная, только не вывели точной формулы, и оттого в ней напихано, скрещено и намучено чёрт-те что. Замолчу, уже достаточно произнесено.
Может, просто мы не виделись полжизни, мы не дотоптались в белом танце? Просто мы тогда недодружили, мальчик, за двоих таскавший ранцы попятам за девочкою рыжей? Разве я вам прежде не говорила, он — ни хозяин положения, ни гость, попросившийся на ночлег (он никогда, ничего у меня не просил). Он тот, кого не разбужу на рассвете, кому никогда не свяжу свитер, не напрошусь в подруги. Он — единственный человек, которому не скажу: люблю. Когда-нибудь потухнет упрямо раздуваемый уголёк, когда-нибудь смогу обрадовать: я не чувствую его больше. Я люблю мужа, мы слишком долго и трудно шли к сближению, чтобы теперь мне смотреть в сторону чужого мужчины.
Воспоминания и память — роскошь, средство. И он по-прежнему мне дорог, как может быть дорогим детство. Не раз говорила ему: ты помнить мне не запрещай, это мой суверенный феод. Решай за меня, вращай, стращай, забудь поздравить под Новый год. Ты только меня мне не возвращай: пусть это само пройдёт. Мне гордости не занимать. Вот потому могу — должна — унять нутро и женское начало. Немного? Для меня немало. Я та, кто говорил себе: достойных нет. И столько лет горю, как тихий-тихий свет вполсилы, вполнакала, всё радуясь, не злясь, в который раз, сама сгорая, я берегу его от нас.
Вы убедились, ни на одно родство не похоже? Может быть, подобное называется несовпадением? Это не страсть. Не привычка. Не растворённость. Это не любовь. А что же? Честно говоря, ни на что не похоже, а только мороз по коже и где-то под ложечкой дрожь. И мир обезвожен, хотя на улице дождь. Признаться, будь помоложе и менее строже, решила бы: это всего дороже. А нынче уж как положит Бог.
Умолкаю.
Молчание — всему поможет.
Но мне по-прежнему непонятно, кем приходятся друг другу наши дети.
Продолжение следует
Михаил МОРГУЛИС

Ворона над садом
С вечера и всю ночь над садом летала ворона и оглашала ночь хриплыми трагическими выкриками.
— Наверно, детей своих ищет… — сказала задумчиво жена, — иначе бы так не кричала.
Все промолчали. На душе стало скверно, как бывает, когда кричит непонятным голосом зверь или птица и мы за этим вдруг остро чувствуем опасность, смерть, ловушку, спрятавшуюся угрозу.
Наша овчарка Герда вначале металась по саду и, задрав голову со светящимися в темноте зелёным цветом глазами, звучно лаяла на каждый вороний крик, поворачиваясь к тем деревьям, откуда летели хрипло отчаянные вороньи жалобы. Потом она что-то поняла, подошла к нам и улеглась на веранде. Теперь на каждый новый всплеск вороньей боли она только молча поднимала крупную, почти волчью голову.
Мы сидели на скамейке и на стульях вокруг белого стола. В тот момент, наверное, не одному мне показалось, что мы попали в Россию, куда-то близко к временам Чехова. И разговоры появились созвучные.
— Да, боль всегда ранит… То ли криком, то ли молчаливым стоном… Вон Иисус — когда молчал, сколько боли претерпевал… Мы и сейчас её слышим…
Сказавший это священник сам вздохнул с болью и вернулся в созерцание дивной ночи.
— А я вот от этого крика её — детей своих вспоминаю, когда они были маленькие… а не такие, как сейчас.
Это высказалась «женщина в кринолине», всегда живущая в себе, смотрящая только в пол, пьющая только чай и только из своей чашки, принося её с собой, когда идёт в гости. На дне чашки написано: «Мама, люблю тебя!» — и каждый раз, допивая чай, она это признание читает.
Еле заметно мы придвинулись друг к другу. Горели фонарики над верандой, в них были нежность и чародейство.
Вдруг всё испортилось, всё опошлилось, даже предночной страх. Это дочь хозяина, не понимая ещё, что такое «величие настроения», поставила в доме диск с певцом, в жизни похожим на туземного вождя какого-то племени из джунглей, прыгающего и гнусаво поющего о прибоях, курортах, совращённых мальчишках, называемых им в песнях женскими именами. Даже от голоса певца пахло потом.
Потом кто-то оборвал его, и хриплый шёпот с грязными тайнами пропал.
Человек, просматривавший газету, усмехнулся и проговорил священнику:
— Мало кто на земле находит горнее. Все мы уводим друг друга от небес. Князь тьмы сделал нас рабами… Мы друг во друге изгоняем Святого Духа…
Священник задержал руку на бороде, удивлённо смотрел на читавшего газету человека.
— Вы, простите, богослов?
— Извините, не представился, новый сосед по даче, попал к вам случайно, хозяйка пригласила ради приличия, а я вот нахально взял, да и зашёл. И не чувствую себя среди вас одиноко, даже печально-радостно… Нет, не богослов, а врач. Точнее — медик, патологоанатом. Как шутят наши санитары, трупоразрезатель.
За столом стало тихо, только звякнула чья-то неосторожная чайная ложка.
Жена слегка дёрнула головой и зябко втянула плечи.
— Друзья, соседи, мы все разные, но надеюсь, все приносим пользу нашему несовершенному обществу. И я убеждена, что любые профессии в мире необходимы людям…
Человек с газетой посмотрел на неё (она заметила, что глаза его как будто ранены) и тихо произнёс:
— А палачи тоже нужны…
При этих словах все застыли, ибо никогда за этим столом не произносились такие обнажённые уродливые слова.
Тогда спросил и я:
— Вот вы — из своей патологической практики что уяснили? Что вам дало общение с мёртвыми людьми?
Человек приподнял голову повыше и стал смотреть в небо, как будто там искал ответ.
— Я не с людьми имею дело, а с их оболочкой. А сами люди уходят вместе с душой, туда, в небесные дали… Простите за патетику… Я это твёрдо уяснил, и не проявляю к оболочкам никаких эмоций… хотя посетители, бывает, падают в обморок. Меня интересует душа человека, которая при жизни живёт в человеке, а после смерти человек уже живёт в душе.
Священник привстал и, взмахнув рукавом рясы, горячо произнёс:
— Ваши слова не соответствуют каноническому учению церкви, они, простите, пахнут еретическим духом. Да, душа, увы, уходит из человека и по милости Бога улетает в небесные обители. Но при чём тут человек, якобы находящийся в ней?
Человек с газетой громко вздохнул:
— В том-то и дело, что душа человека — это и есть человек, невидимый человек… Другое дело, что во времена Моисея и времена Христа душа человеческая была маленькой, хотя и разум был ненамного больше. А сейчас, в век летающих в космос ракет, искусственного разума, всезнающих компьютеров, высочайшей технологии, душа наша какая? Она не изменилась, осталась такой же маленькой, как и в прошлые времена. А мозг человека необыкновенно вырос. И вывод: в битве души и разума побеждает более сильный и гордый соперник — разум!
Женщина в кринолине вскрикнула:
— Хотя ваши слова звучат неприятно, но объясните, как улучшить душу свою!
Человек с газетой помолчал, потом тихо, почти шёпотом произнёс:
— Во-первых, простите, что я порчу вам вечер. А на ваш вопрос отвечу так: сами мы её просто так не улучшим. Её что-то должно наполнить. Ну, к примеру, «возлюби ближнего своего» или «вера, надежда, любовь» — все слова важны, но любовь важнее всего. И условия здесь твёрдые: все эти выражения должны не красивыми словами оставаться, а стать красивыми делами. От красивых слов душа наша лучше не становится.
Священник рассеянно сказал:
— Но вы повторили слова Библии!
— Да, отец, многие знают эти слова, но мало людей с ними живут. А чтобы мы меньше плакали, а больше радовались, в этих словах надо жить!
Жена спросила:
— А вы — всех любите?
— Стараюсь, но часто плохо получается. Да, знаю, любить надо всех, но любить можно по-разному.
— А вот сидящих за этим столом — вы любите?
Человек с газетой вздохнул несколько раз:
— Да, надо любить всех вас, и я стараюсь…
— И собаку нашу любите?
— Да, люблю, и печальную ворону люблю, ведь все вы, ворона, и всё остальное в мире — это подарок. А за подарок надо благодарить и любить.
Мне показалось, что собака Герда посмотрела на него благодарно, да и ворона, каркнув напоследок без печали, скрылась по своим делам.
Мы все молчали, очарование вечера снова пришло и, по-моему, оно коснулось каждого из нас. Такое было впечатление…
ОТДЕЛ ПОЭЗИИ
Дмитрий АНИКИН

Римский дневник,
или Вторая книга од и эпиграмм
Ну что,
поняв, что большинство историй
не имеет ни конца, ни смысла, ни морали,
как ты станешь теперь писать?
Не лучше ли?
1
И наконец закончены дороги
изгнания. Уже никто не помнит
ни прелести стихов, ни тёмной страсти
политики.
Закрыты воротá
войны, опять открыты, так хлобыщут
по ветру продувному.
Над холмами
привычными привычные закаты,
и тени пиний всё темней, всё гуще.
От женщин с наших новых рубежей
есть запах в лупанарии особый.
Чуть больше статуй по дороге в храм,
чуть реже боги слушают мой голос.
Стихи не хуже тех, что изломали
судьбу и жизнь, я покупаю в лавках
на Форуме.
Кричат книготорговцы
виноторговцев резче, веселее!
2
Все примирило время. Мы равны:
льстецы, клеветники, те, кто пытался
слоновой кости башни воздвигать, —
иворий их истлел…
Шкала иная
воздвигнута.
И я, тот, кто умел
и льстить, и клеветать, и быть надменным,
высóко вознесён. Земли не видно.
3
Земли не видно — холод от изгнанья
и холод неба пробирают плоть.
Я пью, чтобы согреться, перестал
писать — и стало легче; перестанут
читать стихи — ещё мне полегчает.
4
Все издергались от твоих пророчеств,
этих вывертов слова, дисгармоний
звука, чтобы по нервам, — надоело.
Ты как будто злорадствуешь, торопишь.
* * *
Боги дали мне виденье событий
предстоящих — умение мне дайте
не проклясть этим знаньем свои песни.
Промолчать-то нельзя. Скажу невнятно.
5
Усталый человек уходит пить,
и медь готова стать вином, стать лёгкой
нехитрою закуской.
Пью один,
чтоб никого не мучить, не смущать
тем, что я вспомню, — старыми стихами…
6
А налей-ка мне что тут подешевле,
похмельнее, считай мои монеты,
сколько есть их, чтобы на них напиться,
как не пьют здесь давно; как раньше пили,
чтоб увидеть двух — Ромула и Рема.
У всего изменились вкусы, виды,
только пойло твоё как будто с той же
бочки грузной, которую украли
мы, юнцы, при какой, не помню, власти,
выпить мало смогли, пролили много.
Ох, кислятина, с гнилостью отдушка,
питуха, сдуру кто, польстясь на цену,
выпьет с нами, пробьёт ток сверху, снизу;
только наши лужёные желудки
римлян выдержат римское такое.
7
Я сегодня пить, мой Метеллий, стану,
не стесняясь пить, как какой из скифов,
как из черепов, за хозяйку пира —
смерть-чаровницу.
Мне сегодня можно, да всем нам можно,
пережившим ужас, дождавшись срока
худшего тирана, залить свободу,
чтобы не стыдно
за года терпенья, года изгнанья,
осторожной, быстрой года оглядки;
и за то, что умер в своей постели
нас убивавший.
* * *
Мы сегодня пить, мой Метеллий, будем,
смесью римских вин ублажая сердце;
а перед тираном уж тем мы правы,
что пережили…
8
Виноградный лёгкий ток
разлучает питуха
с памятью; её урок
выучен не без греха
и забыт не просто так,
а чтоб божий человек
не пил горький смертный мак,
воду из подземных рек.
* * *
Виноградом умудрил
землю нашу юный бог,
в ёмких чанах скорбь давил,
не жалея смуглых ног.
И бурливое питьё,
свежей прелестью дыша,
льётся на сердце моё —
ток из божьего ковша.
9
И мы молились всем богам,
несли им жертвы — груз
ложился щедрый к их ногам,
наш утверждал союз;
и боги помнили о том,
что нам они должны,
и богател наш общий дом
от мира и войны.
10
Различаем религию и веру.
Веру истинную и ту, что ложна.
Веру для простаков, для сельских дурней
или веру для томных богословов,
филосóфов. Прохладная ли вера,
вся обряд и порядок, или виды
изуверства, калечащего душу;
веру-этику знаем, уважаем —
с верой-ханжеством их не перепутать.
Всё точнее, умнее разделенья —
нас не спутать, за видимостью видим
настоящий смысл. Знания такие
тем даны, кому вера недоступна!
11
Мы по храмам пошли: себе искали
бога, чтобы родного, чтоб такого,
кто простит наши страхи, — сам был смертным, —
кто своих наградит почти бессмертьем.
* * *
Пьём фалернское жадными глотками,
хмель его хмару-смерть смывает с сердца…
И не надо воды: чтоб растворилась
смерть, питьё должно быть горючим, едким…
12
Гони её, паскуду, старость, сухость:
не та пора, чтобы смотреть вокруг
нетрепетными трезвыми глазами,
как может лишь бесчувственный, бесстыдный
раб. Бедам нашим радуется раб.
* * *
Страна мертва. Не только что народной
нет власти, но и тех благих тиранов,
кто Рим к вершинам славы взгромоздили,
нет никого. Кто правит нами? Вакх,
разрозненные звуки, виды, чувства
собравший и сопрягший. Протрезвев,
мы что увидим? — Небо и руины!
* * *
Мне скучно жить; когда б не Дионис,
нашёл бы способ — вот хоть на тиранна
есть эпиграмма злая, прочитаешь
друзьям — найдутся уши, чтоб услышать,
найдутся языки перенести…
* * *
Политика вся наша нестрезва
придумалась: был ум, вином взбодрённый,
рассказывал истории, стихи,
видения. Химерами своими
мы тешились, мы стравливали их.
Которая сильнее оказалась?
прекраснее? Вид чистого искусства
политика. Труд избранных умов.
13
Как писал Геродот, садились персы
первый раз чисто вымытые, в трезвом
виде персы судили да рядили —
как решить, приговаривали персы.
Во второй раз питьём багульным персы
упивались, блевали, дрались персы,
спор за глотки хватал — и вспомнит перс, кто
умом крепкий, с утра что, как решили.
* * *
Все уже решено, стрезва, со злобы,
приговоры богов для нас суровы:
все мы в жертву достанемся, мы — Орка
снедь несытная, яствие сырое.
Вы напейтесь, великие, упейтесь
до потери ума и вида, боги,
Вакха в клочья, на брызги растерзайте,
ради Вакха нас живыми оставьте.
* * *
Вы решённое, пьянь, перерешите.
14
Бога моего, от торговли бога,
не коплю дары — богатею, злато
притекай рекой, утекай ручьями.
В круговороте
экономики для себя стараюсь,
для других стараюсь, платя за роскошь;
вот и мы с тобою стране послужим,
уговорившись
о цене твоей. Ты бесплатным ласкам
предпочти меня, старого, седого, —
мы по жилам Рима благое пустим
золото, дева.
15
И что, скажи, крылатый бог,
там будет среди тьмы,
куда от горя и тревог
уносишь нас? Но мы
неблагодарны в добрый час,
не тяжелы тебе;
среди невидных держишь нас,
нетрепетных зыбей.
16
Бог, ты и смерть облапошил, туда-сюда шастает Хитрость —
только ли вниз она с грузом, так ли пуста возвращаясь?
По безднам носит, разносит мёртвое наше, — какие
прибыли числит, и сколько, бог, стоит, чтоб к свету обратно?
17
Ты обидишь бога, когда в торговле
честен будешь: малый доход постыден —
не Фемиде служим, чтобы весами
не шалить-двигать.
Помолясь, начнём: «золотые» гирьки
тряпкою протрём, на металл подышим —
пусть сверкает он без пятна, что наша
чистая прибыль.
* * *
Правила я чту, но они не все ведь
те, что написали, что вслух читали,
есть и потайные — весы кренятся
в малом обмане;
но на то и рынок, его весёлость,
чтобы вот в таком проявилась виде
правота торговли — она бывает,
бьют за какую.
18
Обвесили и обсчитали; значит,
я не похож на нищего поэта —
вполне себе солидный покупатель,
сам бог велел с такого поживиться!
19
Нет такого дела, чтобы безбожно
вовсе, воровство тоже ход событий
нужный, без него изменить попробуй
в мироустройстве
быстро то, что надо. И суд Кронида
не на всё простёрт, есть невидна область
малых дел, и в ней не перуном надо —
ловкостью пальцев.
20
Чего ещё нам надо от войны?
Богатств? Давно война себя не кормит,
убыточна, такие расстоянья
до стран чужих, что путевых издержек
добычей не покрыть.
Так рядом всё,
когда она — гражданская.
И вся
измучена земля, по ней прошлись
те, эти, засевая всякой солью…
* * *
Не дометнуть копья, не донести
к ним ненависть — о чём мы спорим? Варвар-
географ, расстелив свои простыни,
куда-то пальцем ткнёт… Там будет место
для римской славы…
Там не будет Рима…
21
Марс раздвинул рубежи
Родины. Война войне
нас наследуют; служи
смерти, доблести, стране.
* * *
Наше войско расточил
Марс на дальних рубежах,
возвращается без сил,
собирает свежий прах.
* * *
Будут новые войска
вместо нас и лучше нас,
станет Родина тесна
для полков своих, сейчас
в бой готовых, — вот он, враг —
свой, чужой, — рукой подать,
меч достанет — рухнет шаг
с высоты на землю-мать…
22
Все эти годы войны гражданские
страну терзали, молодость сгинула;
моё без толку поколенье
Родине было. Я — тот, кто выжил.
Я — тот, кто выжил, кто не участвовал,
кто даром хлеб и воздух отечества
глотать не стал — пути прямые
вывели беглого на свободу.
Я — тот, кто выжил; боги всевышние
меня хранили — годы изгнания
нетрудно длились и безвредно:
смерть не нашла меня, где искала —
в строях сограждан. Я, не запятнанный
ничьёю кровью, Родину милую
судить вернулся, я остался
верен своим довоенным мыслям…
23
Чуял Марса заразу — бессчётные, смертные дни;
слышал Марса запев — грохот, ропот вселенской облавы;
были Марса забавы — меня забирали они
и возвращали без ран, без добычи, без смерти и славы.
Цезарей юных занятье — терзать мир оружьем своим;
цезарей сильных проклятье — история дальних, гражданских;
цезарей наших несчастье — погибший от доблестей Рим,
гибнущий дальше, всё распространяясь в пространстве…
24
Марсово племя мы, нет чтобы гибкость, умелость Афины
взяли себе — только ярость прямая, лоб в лоб, и геройство
смертное; судьбы живых нам всегда подозрительны, этих
вспомню Горациев и Куриациев, где для живого
даже победа позор. Доделывай, бог, свое дело!
25
Ну, навоевавшись и дел наделав,
победитель-воин, чего ты хочешь
от страны своей?
Разве что забвенья,
имя чтоб стёрли!
* * *
Есть тебе земля на границе мира —
обойдёшь надел и за труд неловко
примешься мечом, им распашешь поле,
стебли порубишь.
* * *
Лучше нищета и ночлег холодный
на ступенях римских открытых храмов,
чем жизнь, где тебя ни-продать-ни-бросить
собственность держит.
26
Всё то, что было: деньги, имущество —
время забрало; нет у изгнания —
года прошли, распались клятвы —
прав никаких на своё что было…
27
По домам хожу, а на то и нужен
долг гостеприимства, чтоб, кто всем должен,
не смущал монетой — одной — столь многих,
асса не тратил.
Открывают двери — ах, ваша щедрость,
безразлична щедрость кому и сколько —
плуту, проходимцу, мне тоже надо.
Гостеприимец,
не узнай меня в моём, в отчем доме.
Лары не узнают по равнодушью
божьему к людскому. А мои шрамы
зажили напрочь…
28
Куда несёшь? О, запах! О, пирог с мясом!
Куда несёшь? Давай! Тут сам сидит голод,
и лязгает, и всё сметет — укус рушит
полпирога — о, ненасытная глотка!
О чём я и мечтал — давнишний бед данник,
о чём я и мечтал — в морях плывя дальних,
о чём я и мечтал — в чужой земле сытый:
такой калейдоскоп блюд уместить в брюхо.
А книги можно взять, читать среди бури.
А дружба? — Да в любом краю полно наших.
Любовь? — Изощрены в искусстве все девы.
Культура — это что? — Высокая кухня!
* * *
От прочего искусства я устал сердцем,
от прочего искусства я сижу слабый,
от прочего искусства ничего толку,
а тут икну, философ, умудрён пищей!
29
Зря болтают, зря прошлое тревожат:
мол, бывали пиры у Красса или
у Лукулла… Бывали, кто же спорит.
Были гении в деле наслажденья,
нам до них далеко, распалось время,
измельчало…
Доступней стало счастье.
* * *
А на те бы пиры нас не позвали.
Или только носить им яства, вина.
30
Истощились пиры аристократов.
Скольких консулов ты в роду считаешь,
украшая стол дедовской солонкой,
честной бедностью заедая вина
прошлогоднего сбора-урожая?
Скольких консулов ты в роду считаешь
и какие наследные болезни
лечишь скудной диетой — горьким, чёрным
запиваешь настоем полбу-кашу?
Скольких консулов ты в роду считаешь,
честных стоиков, — в чистом воздержанье
дни проводишь, и Сенеке ты пишешь,
как хорош, на воде сидя и хлебе.
31
Тот, кто на волю выпущен, жадною
томим привычкой — голод накопленный
сметает яства, не насытить
прорву, и глаз завидущий смотрит,
чего б ещё урвать, — для съедобного
всегда есть место, —
поём утробою
живые гимны ради большей
сытости: нам ещё жить до яблок.
32
Воля моя новая! Всем телом
ощущаю! Ем, пью волю вдоволь!
33
Развалив телеса на новом ложе,
привыкаю к свободе — мне двойная
воля вольная: по бумагам вышла
и отсыпана золотом хозяйским —
тем, которому я теперь хозяин.
* * *
Всё моё в вашем Риме, потрудились
Ромул с Ремом, Горации и эти…
Куриации — всё затем, чтоб умный
и богатый счастливец, новый Луций,
жил, во благо себе употребляя.
* * *
Ем мурену. Я, ей не ставший кормом,
понимаю теперь… Вкусна, зараза!
34
Этим разносолом да разновидом
вкус утешу, глаз — всё ушло из сердца
горе моё, есть челюстям работа
до самой смерти.
Мир ещё хорош, Рим достоин жизни,
если есть еда, хоть простая полба,
ну а тут такой стол, что славен Город,
ломится Вечный!
35
Мы начинаем пир горой,
и, сколько Город стоил весь
при Ромуле (расчёт простой),
на столько денег надо съесть.
* * *
Чтобы весь Рим достался нам,
жую, угрюмый патриот,
и нет износу челюстям,
и нет других каких забот.
* * *
Лукавый раб исподтишка
хватает, тащит, бледный рот
растягивает для куска —
и голод новой пищи ждёт.
* * *
Зверь-варвар с дальних рубежей —
о, горе нам! — себе гребет
еству; несытый пищей всей,
весь Рим с землёй его сметёт.
* * *
Вот так мы уничтожим мир,
а он пощады и не ждёт.
Рим канет в вечный, жадный вир,
в жерло развёрстое стечёт!
36
Истинный если философ, терпи, изучай наслажденье,
время теряй на пирах, гробь здоровье обжорством и пьянством,
похотью плоть изнуряй. В нужный час лёгкий так, как предсмертный,
мудрость придёт настоящая — не как у стоиков всяких…
37
Ну, встречай меня, мать, мать страстей трепетных!
Как Эней был ведом волей Кипридиной,
так и я, столько лет мучимый похотью,
не растратил свой пыл, денег припас тебе…
Я успел, будто сквозь царствие мёртвое,
я успел, пострашней плыл расстояния,
чем от смерти, войны, гнева всевышнего, —
я успел к тебе, мать Рима священная.
38
А те, ктó здесь были, кто мне дарили
наслажденья страсти, — кто где пропали:
кого увезли умирать в деревню,
а кто здесь успел, под привычным небом;
кто нашёл мужей, кто потомством многим
подстелили для старости соломку.
Не найти-сыскать никого; так время
разное текло: тут быстрее, в центре
жизни всякой, я же, вдали сидевший,
сединой чуть тронут, в холодном мире
неизменным строй нежных чувств оставил…
Я гуляю мимо домов знакомых —
не скрипят двери.
39
Играя чувством — сильными чувствами,
ведя дела со всеми любовные,
как не устало твоё сердце?
Мерила время людьми своими,
а я чем мерил? Ветрами во море,
движеньем звёзд, опасных погодою, —
Гиады или Диоскуры, —
ливни хлестали, одну терпели
природу мы: я утром, ты вечером,
кто в иды, кто в календы; при консулах
одних, других мы изнурялись
той же причиной — сгорали, мокли.
* * *
Теперь, когда мы все расстояния
свели с тобою к близости, вовремя
случится то, что уравняет
нас и бессмертных, тебя со мною…
40
В жарком искусстве твоём неудачливый, робкий участник,
я проливал свои слёзы, я помнил любовные клятвы
дольше, чем их говорила…
* * *
Много нас, кто увивался, кто состязался, ревнуя,
много нас было, скучавших, следивших движение ставней —
ждавших заветного зова, — много нас было — остался
только один я. Танатос Эросу так услужает!
41
Я выиграл игру. Никто к тебе
не ходит больше. А не только время
мне помогло — политика такая,
что как метлой мела… Как будто цезарь
знал, чем помочь мне…
Лучшие твои
любовники и первые среди
сограждан — одинаковых имён
два славных списка…
* * *
Я выиграл игру. Моя любовь
пережила всех, даже цезарь тот
возьми да и умри зимой — удар
своею кровью… Мы вот только живы…
* * *
И дверь твоя открыта. Ждёшь меня?
— Да хоть кого…
42
А эти игры сохранили пыл
и новизну. Ты как ни философствуй,
ни мучь дух контроверзами какими,
а смерть нам интересна — новый храм,
воздвигнутый ей Флавиями, полон.
Мы ждём великих зрелищ.
Перед смертью
мы не равны сегодня!
43
Полон новый стадион,
смотрят люди славных игр
ход священный — напоен
свежей, пенной кровью Тибр.
* * *
И пока идут бои —
мирны в Риме, долги дни.
И пока богов они
поят кровью — целы мы.
44
И новый бог приходит в Рим. Уж сколько
мы выдержали их в недобрый час,
богов, божков, но этот землю гнёт
движением своим.
Неужто мы,
поэты и философы, признаём
власть чуждую?
Пройдут года, и снова
мы под высоким, чистым римским небом,
мы под безбожным небом сядем пить.
45
Когда свобода ровно поделена,
равны перед богами, законами
мы и рабы, мужи и жены —
жить в этом ужасе не согласен,
поскольку все тогда вида рабского,
поскольку все тогда полу женского —
наказаны сполна богами
за их законами небреженье.
46
Ах, Стоя моя, Стоя расписная,
последнее прибежище людей,
в ком совесть не мертва, не весь ещё
извёлся стыд на мелочи…
47
Я, как глупый философ, отвлекаюсь
от событий арены, я теряю
время попусту, вместо чтоб катарсис —
праздные мысли.
48
Друг мой, я тоже мечом сосновым,
лёгким мечом награждён; убийство
не в моде нынче, и я в потешном
бою махаю смешною палкой.
И все вокруг, доспехи старинные
сменив на яркость хламид, издранность,
играя, носимся тут по сцене,
стучат котурны, и маски набок.
И что они играют! Я в ужасе
припоминаю порядок действий,
слова какие, кому, размером
то героическим, то любовным
писались, — было же тут искусство!
Было, старинное, высшей марки.
49
Не так чтоб либерал на самом деле,
но в эти времена — я либерал…
50
А огни у Весты горят, не гаснут.
Подойду, воды вскипячу, поджарю
хлеба кусок, будет добра богиня —
яблок подкинет.
А не мне, не мне бы сидеть у этих
очагов священных — ох, побродяга,
гость досужий, варвар, а тоже любят
римские боги!
* * *
Тёмной ночью Рима держите, девы,
в бодрости дух, руки в труде; поленья
чтоб сухими были. Не будет света,
вашего кроме.
51
Ты своих три срока отбедовала,
отслужила, ты, со священным маясь
и с неженским маясь, дрова колола,
Рим сохранила.
Поумнела, как никому из женщин
умной быть не надо, ты всё видала,
ты в келейке малой, на стадионе
нудила силы
божьи и не божьи, — а смерть и девство
издревле сродни, — а срока закончив,
ты пойдёшь из храма, с порога сразу
в Рим тебе должный.
* * *
Кто ещё, как я, со священным всяким
управляться ловко умеет? Станем
двое мы с тобой, отслуживших пара,
грузом постели.
А без этих ваших-то страхов — яма,
в ней воды баклага, немного хлеба —
как любовь тебе?
Мы любовью шутим
только на радость.
52
Варвары… Мы примиряемся, даже находим приятность
в варварских громких распевах, мы ценим их кухню, их женщин.
Я сам пою свои песни, хлеб чёрствый водой запиваю,
я заползаю, кряхтя, на последнюю римскую шлюху.
53
Тяжолый год дарами обильными
пригнул к земле тугие ветви — скрип
под ветром; холодов вы ждёте,
яблони, скинуть в траву сырую
груз истомивший. Долгими летними
стоит стон днями — с прибылью каждый час,
и сроки августа предстали
смертными сроками: ствол кренился.
* * *
Ну вот дожили и до безвременья,
до голых веток, разве что бурый там
листок — отрепье риз зелёных —
плещет, трепещет дырявый парус.
В священной смерти с тёмной природою
сады сравнялись, лёгкого времени
пора настала, снег кидала
зима, и солнца лучи чуть видны.
* * *
Не дичка — яблонь. Сна беспробудного
ей не хватило. Вдвое с несчастною
расчёлся Вертумн, ей давая
год полусна под взыгравшим небом.
Весна бессмертна, яблонь бесплодными
дрожит ветвями — воздухи движутся,
и белым цветом сад усыпан;
пусто будь, лето. Вздохнем свободно.
Владимир БУЕВ

Пародии на стихи Ганны Шевченко
Ганна Шевченко
колышет воздух волны вётел
шуршит струной по всем ладам
чуть выше странствующий ветер
стучит по голым проводам
и чистота стоит в округе
как будто вылился эфир
как будто выполнил услуги
работник клининговых фирм
но нарушают диаграмму
косые стайки воробьих
они разыгрывают драму
мужей чирикают своих
над воробьями суд верховен
им в прокуроры будет зван
один лишь людвиг ван бетховен
один бетховен людвиг ван
Владимир Буев
Работник клининга сегодня
округу чистил поутру.
Отмыл он в небе лик Господний,
Почистил и зажёг зарю.
Ему заданье дал начальник:
Мол, экологию спасай,
эфир загажен, как свинарник,
ступай, природу возрождай.
Но с воробьями сам не сладил
работник клининговых фирм.
Он столько сил на них потратил —
всё без толку, молчит эфир.
Он от художественных свистов
вконец охрип, стал уставать.
На субподряд специалиста
решил для верности позвать.
Пришлось работнику изрядно
карман свой жалкий растрясти.
Бетховен мастер хоть и знатный,
но дорог, мог не снизойти.
Торг оказался неуместен.
Чтобы согласье получить,
пришлось не денежку отвесить,
а лжесвидетельством платить.
Бетховен ведь не просто мастер.
В петлицах. Бравый прокурор.
Он стаям намекнул на карцер —
и воробьиный спелся хор.

Ганна Шевченко
Стоят коралловые клёны,
проспекта линия пряма,
и город кажется влюблённым
в свои высокие дома.
Народу осенью несладко,
и здесь обходится не без
полубезумия осадков,
косноязычия небес.
Листва стекает понемногу,
но не берёт меня хандра,
мне хорошо — я верю в Бога,
в победу света и добра.
Кустарник птицами забанен,
он сверху кажется литым,
как будто лично мэр Собянин
листву покрасил золотым.
Владимир Буев
Столица любит что повыше:
дома, деревья, небеса.
Влюбиться можно даже в крышу,
коль отказали тормоза.
Собянин рассадил по веткам
пернатых, по шесткам — сверчков.
И за одну лишь пятилетку
очистил город от ларьков.
В году менял по пять раз плитку
в местах одних и тех же мэр.
Он менеджер крутой и прыткий,
Всё было честно, без афер.
Листву теперь решил покрасить
во славу светлых добрых дел.
В нём куча разных ипостасей.
…Бордюры клал вчера, пострел.
Ганна Шевченко
Суетливые мамы на всех парусах
уплывают с детьми по домам,
я, железный солдат, оживаю в глазах
удивлённых, взволнованных мам.
Я сама себе сын. Я сама себе спесь.
Я сама себе враг и стекло.
Время детских площадок закончилось здесь
и в песочницы перетекло.
Но цветущая груша безумствует так,
что за светом не видно ствола,
засыпающий город, как толстый гусак,
колыхает звезду у крыла.
Остаюсь равнодушной к его галдежу,
к пролетающим грушам в цвету,
как простой пианист на скамейке сижу
и руками ищу темноту.
Владимир Буев
Если мамы домой уплывают с детьми
(раз уж день для площадок погас),
то каким же макаром в домах за дверьми
наступает песочницы час?
Реновация новые типы жилья
подарила московским жильцам,
где песочницы детские для бытия
предусмотрены в радость мальцам?
Коли так, то, конечно, сама себе сын,
а не дочь, кем положено быть.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.