
Предисловие
Представленное повествование не претендует ни на ответственное звание родословной, ни даже автобиографии. Местами подробное, оно остается прихотливой выборкой более или менее последовательных фактов, сопровождающих их мыслей и настроений. Понятие «даль времен» пришлось разъединить на самостоятельные векторы. «Времена» часто изменялись либо на одном и том же месте, или — неподалеку, «дали» же уводили, за сравнительно ничтожные сроки, на немыслимые прежде расстояния.
При записывании удержанных памятью событий пришлось встретиться с «эффектом разорванного ожерелья». Тогда как оставшаяся на нитке часть бусин сохраняла первоначальный рисунок набора, раскатившиеся, уже при случайном нанизывании, составляли новые неожиданные сочетания и ассоциации. По этой причине вначале довольно строго соблюдаемая историческая канва далее часто нарушается отдельными вставками-комментариями.
Как подчеркнуто выше, эти мемуары не призваны воспроизвести хронологически выдержанные биографии главных персонажей. Так, в первых двух частях — «Ранних воспоминаниях» и «О детстве», ограниченных детскими годами, судьбоносные события ХХ столетия либо совсем не упомянуты, либо представлены через призму восприятия их ребенком. Однако допущенные в тексте «экскурсы в будущее», завершающие заложенное в детстве событие, указывают на его дальнейшую в жизни персонажа значимость. Помимо того, уже сам по себе разительный контраст условий воспитания и формирования натур девочек двух смежных поколений свидетельствует о происходивших в стране эпохальных переломах, о жестокости и неотвратимости их последствий. Поэтому первая и вторая части воспоминаний, пожалуй, психологически более связаны между собой, чем вторая — с третьей и четвертой, хотя и обобщенных главным действующим лицом.
Третья часть, «Дороги и тропы», несмотря на частые реминисценции, построена на материале, главным образом, эпизодическом. Отходу от временной преемственности происшествий, соблазну их свободного, лишь «пространственного» изложения они обязаны оставленному о себе, по-видимому, неизгладимому впечатлению. Здесь уже скупо проливается свет на домашнюю и личную жизнь автора (искренне считающего их подробности для стороннего лица не более любопытными, чем и чьи-либо иные).
Интерес анализу нового мира могло бы придать разве что перо родившегося и выросшего в нем третьего поколения, со своим виденьем эпохи и своими путями противоборства ее рутине. Тогда представленные записи, получив желательное развитие, заслуженно обретут значимость семейной трилогии. В предвидении такого варианта, в настоящем тексте допущены (докучливые для случайного читателя) подробности, из которых его возможный продолжатель сумеет почерпнуть некую полезную информацию. Пожалуй, с этой же целью введен четвертый, не уточненный временной период, явно подпадающий под власть «далей» — как логическое и важное для автора завершение своих биографических этюдов. Это — «Фотографии на стенке». Одновременно, с переработкой семейной рукописи в книгу, автор был вынужден подойти к тексту более объективно, убрав множество мелких, но тем и дорогих деталей.
Т. Томилова
Ранние воспоминания
Составленные и записанные моей матерью, Натальей Леонидовной Томиловой
(1895—1971)

Первые впечатления
Почему так отчетливо запомнились мне многие, очень ранние и, на первый взгляд, несущественные события? Скользят они перед моими глазами, как сохранившиеся обрывки старой киноленты. Главной причиной, оставившей их в памяти, были тяжело переживаемые мною разлуки, пусть и кратковременные, с мамой. Я росла хилым, болезненным ребенком. Все мамино вниманье, даже после рождения остальных детей, всегда было приковано ко мне. Я же была страшно к ней привязана. Всякий ее отъезд по делам в уездный Себеж сопровождался ревом и цепляньем за мамино платье. В ее отсутствие я чувствовала себя угнетенной и прямо воскресала при виде возвращавшейся знакомой линейки. Было мне тогда едва ли три года (стало быть, что-то около 1898 г.). Сохранилось в памяти и несколько других событий, наоборот, тесно связанных с утешительным маминым присутствием.
Помню кое-что из своего первого приезда в Петербург, где жила папина мать (Наталия Готфридовна Томилова) со своими младшими детьми — моими тетями и дядями. Согласно семейной легенде, бабушка была родом из «наполеоновских австрийцев», оставшихся после пленения в России.

Ко времени нашего визита ее супруга, Александра Николаевича Томилова, приобретателя «Залосемья» и первого из нашего рода владельца этого имения, уже не было в живых. Детей же в их семье было десять человек, хотя, кажется, дожили до взрослости не все. Итак, льет дождь, мы подъезжаем к какому-то дому, где нас встречают несколько дам и маленькая девочка моих лет. С нею мы укрываемся под столом с коробкой кубиков, которые раскладываем и складываем с большим увлечением. Взрослые беседуют за столом, на нем — прекрасная ваза с плавающими в ней восковыми лебедями. Помню и посещение маленькой комнатки, где рядом с большим креслом с дыркой посередине стояло и маленькое креслице, на которое меня посадили. И так оно мне понравилось, что стала проситься на него уже без всякой в том надобности. Помню также и охватившее меня негодование, когда узнала, что увиденные мною пестрые песочные формочки предназначены в подарок другой девочке. В такой же дождь мы переехали на бабушкину финскую дачу в Мустомяки (Мустомяэ), где с моей младшей, примерно восьмилетней тогда теткой Лидой подставляли ведерки под водосточную трубу.
Хорошо запомнилось и возвращение в наше Залосемье. Дом кажется громадным, необъятным. На всякий случай осведомляюсь у мамы: «Это — наш дом?». И, с трудом преодолев порог, — «Это — наш порог? Это — наш балкон?». После стесненной жизни в городской квартире, где ничего нельзя было трогать и следовало вести себя тихо, обретенная свобода приводила меня в восторг.

Вскоре, по-видимому, наступило и Рождество — помню большую елку в столовой у печки, украшенную длинными, нарядно обернутыми конфетами, фигурными пряниками. Ярко горели свечи. Вокруг сидели такие близкие мне взрослые: мама, бабушка (ее мать), Ипатенька (сельская акушерка), Волченька (старушка-помещица из соседнего имения). Присутствия детей, однако, не помню. Папа снимает с ветки, а я отношу каждой гостье по подарку, боясь кого-нибудь пропустить.
Помню и прогулки с нянькой Анисьей на «картофельные ямы». Песчаная дорога идет в гору, вдоль нее — глубокие ямы, в которые зарывали картошку. Сами поля расположились ниже, а еще ниже, в котловине — наш дом с громадным садом и речка, лентой окружающая усадьбу с трех сторон. Прогулки казались мне целым путешествием, от иных я уставала, и нянька какое-то время несла меня на руках. Тем радостней было дома залезть на колени к маме, которой я совала оборванные по дороге головки бессмертника…
В имении бабушки (маминой матери) Степеницы в сорока-а верстах от нас мы обязательно подолгу гостили раза два в году. Там же родился и мой брат Сева, сразу взятый бабушкой на попеченье. Поэтому я долго не могла понять, чьим же ребенком был Сева — маминым или бабушкиным? Но и в гостях мама часто уходила из дому «по делам». Во время одной прогулки я увидела ее выходящей из избы бабушкиных работников и кинулась к ней. Оказывается, и у бабушки мама лечила все окрестные деревни. Каждый день к ней приходили бабы и приводили детей. У мамы было много лечебников, а дома, в одном из буфетов хранились всевозможные лекарства и перевязочный материал. Была и большая книга в красном переплете «Мать и дитя». Любя читать медицинские книжки, мама повторяла, что если бы не семья, обязательно училась бы на доктора.

Аист
Мама медленно идет по узенькой тропинке, распустив над собой яркий зонтик. Наташа бежит впереди, усердно поднимая столбы пыли. «Фи, не пыли же так!» — кричит мама. «Это — море!» недовольно отвечает Наташа. Но ссориться с мамой некогда — вот и поле, на нем несколько баб, обливаясь потом, жнут рожь. Наташа подбегает к знакомой Федоре.
«Богъ на помочь, Федорушка!» — кричит она бабе. Как приятно говорить «Богъ на помочь»! И Наташа поочередно говорит всем бабам: «Богъ на помочь, Приска! Богъ на помочь, Алена! Богъ на помочь, Мавра!». «Спасибо, барышня!» — отвечают бабы. «Какая же ты стала толстая! А раньше была худая-прехудая!» — с удивлением оглядывает Федору Наташа. «Наша участь бабья» — вздыхает та, с трудом разгибая спину. «Какой живот огромный! Право, у тебя водянка! Так бывает — мама говорила».
В это время подходит мама. «Видишь ли, Наташа, у Федоры нет водянки, ей аист должен скоро принести ребенка». Наташа смотрит на улыбающуюся Федору и больше маму не расспрашивает — у нее для этого нет нужных слов. На обратном пути Наташа издали подходит к неразрешенному вопросу: «А гуси очень сильные птицы?» — «Как какой гусь» — отвечает мама. «Ну а гусь может поднять маленького ребенка?» — «Ну, нет, он не настолько силен». — «А кто сильнее — гусь или, ну хоть аист?» — «Думаю, что они одинаково сильны. Ффу, какая жара!».
Наташа у речки смотрит на аиста, расхаживающего по лугу. Вблизи аист кажется намного больше, чем издали. Но, по-видимому, не из храбрых — заметив наблюдающую за ним Наташу, он перелетает подальше, к старым березам. На одной из них — гнездо. Очень хочется найти большое аистиное перо, хотя оно, наверно, и дешевле страусиного. Но аистов никто никогда не ловит и не стреляет — это грех. Нянька рассказывала, как аист отомстил крестьянину, разорившему его гнездо — бросил найденную где-то пылающую ветку на крышу и спалил хату.
Наташа идет домой. Но что это? На трубе, ведущей в теткину комнату, стоит аист. Зачем он здесь? Наташа полна сомнений, но можно ли медлить? И она вбегает в гостиную, где сидят мама и тетя, бросается к ним: «Тетя! У тебя сейчас родится ребенок!» — «Наташа сошла с ума! — восклицает удивленная тетя, — что за ребенок?» — «Он в печке, ему там душно!» И Наташа сбивчиво рассказывает, как видела аиста на трубе. Взрослые разражаются хохотом. Понимая, что сглупила, Наташа все же упрямо их торопит. Видя ее волнение, дамы поднимаются наверх, где в это время спит теткино божество, Ляля — во время её сна запрещалось входить даже в соседние комнаты. Занавеси спущены, Ляля посапывает в своей кроватке. В печке ребенка нет, но лежат какие-то клочки ваты. Наташе и этого довольно. «Аист сначала бросил вату, чтобы ребенок не ушибся». Тетя не спорит, успокоенная тем, что Ляля не проснулась. «Теперь иди, стереги аиста с ребенком!» Но Наташа подкарауливать аиста не идет.
Три сестры
Верстах в трех по песчаной дороге от «картофельных ям» было именьице, принадлежавшее трем сестрам. Мы, дети, называли их именами персонажей услышанных от них «звериных» сказок — Волченька, Медвединька и Лисиченька. Был у нас и еще один герой бесконечных фантазий — проказливый зайчонок Чернуха, постоянно попадавший в неприглядные истории. Разговоры с Волченькой, которую мы любили больше остальных сестер, о всех новых приключениях Чернухи, а так же о хорошем Ванечке и плохой Катьке из воображаемого имения Исажино передавались как бы «по наследству» от старших детей, меня и Севы, к младшим — Сереже и Нине.
Сестры часто у нас гостили, особенно же — Волченька. И мы навещали их, летом — пешком, осенью и зимой — ездили. Домик был маленький, разделенный, как изба, на две части большими, заставленными хозяйственной рухлядью сенями. В большой комнате с русской печью и небольшой кухонькой в подвале и жили все три сестры. Две-три комнаты другой половины дома обычно пустовали. Обстановка жилой комнаты была довольно уютной — старинные комоды, сундуки, широкие деревянные кровати. На стенах — картины религиозного содержания, в углу — большая божница с иконами. Сестры были отличными рукодельницами — букет живых цветов Медвединька буквально «срисовывала» на канву тонкими шелками. Покрывала на постелях были из кружев домашней вязки. Удивительно вкусным было и домашнее угощенье к чаю, который пили из разнокалиберных цветастых чашек, каждый — из своей любимой. Около дома были ягодный садик, огород и пруд. За ним — небольшая деревушка.
Вечерние игры
В детстве я ненавидела время сумерек, когда в доме уже становилось неуютно, но свечей еще не зажигали. В такой час «темных углов» я не находила себе ни места, ни занятия, угнетенная вынужденным бездельем, предавалась томительному ожиданию. И оживала вместе со светом и ярким огнем в печке!
Вечером, когда свет от зажженных ламп причудливо чередовался с резкими тенями на полу, мы, перевернув свои детские стульчики, любили играть в «лодочки», переплывая освещенные места («вода») к затененным («суша»). Конечно, не без приключений и богатой «рыбалки». Часто к нам приходили деревенские приятельницы — Маринка, Авдотья и пастуховы девчонки. Игры тогда заводились хороводные, а то и страшные, например, «в волка», прятавшегося под роялем. Надо было успеть пробежать от дверей гостиной до парадной прихожей и обратно, не попавшись ему в лапы.
Я и Сева, моложе меня почти на два года, занимали маленькую детскую, оклеенную обоями «в павлиний глаз» (Сережа и Нина размещались в спальне родителей). Здесь же были и наши игрушки, за открытой дверью стояли две лошади — Севин Карий с выдранным хвостом, и моя Стрелка с расчесанной гривой и хвостом, заплетенным в косичку. Задремывавшая нянька не мешала нашим тихим беседам о двух воображаемых семьях, обитавших одна — в углу залы, другая — в столовой за печкой. Мы изощрялись в придумывании для них самых невероятных происшествий, и провинившихся наказывали, даже секли (хотя нас никогда не били). Хорошие же поступки поощряли удивительными подарками. А то — вылетали на подушках в окно, по дороге делясь впечатлениями. Над озером бывало даже страшно, порой неосторожный визг будил няньку, а то и отца, появлявшегося на пороге и строго нас приструнивавшего. Сева мигом проваливался в сон. Я же должна была удостовериться в наличии любимой тени, отбрасываемой приоткрытой к родителям дверью — в форме гигантского кофейника. Несколько более или же менее открытая щель тихо мною исправлялась до нужного размера, после чего и я мирно засыпала.
Мои приятельницы
Наши приятельницы, Маринка и Авдотья (дочки наших «исполовщиков») приходили к нам почти ежедневно. Марина была старшей в нашей компании, спокойная, рассудительная девочка. Взрослые прочили ее в красавицы. На нас она имела влияние, и в полном подчинении у нее была младшая сестра, Авдотья. Однако удерживая нас от шалостей, наша руководительница тут же предлагала, взамен, пойти воровать наливные яблоки у староверов-арендаторов (хотя своих наливных яблок у нас валялось под деревьями сколько угодно). Но — на чужой яблоне яблоко слаще, это известно всему миру. Две девочки пастуха, почти наши ровесницы, тоже были, не в пример нам, серьезные и хозяйственные. Они постоянно были заняты — то помогали старшей сестре пасти гусей, то бегали с обедом к отцу на пастбище. Вечером они кричали нам идти встречать коров, мы неслись со всех ног, чтобы успеть войти в деревню рядом с пастухом, щелкая кнутиками. Приходила иногда и дочка столяра, болезненная и несколько умственно отсталая, к тому же угнетаемая властной Маринкой. Все эти девочки зимой ходили в сельскую школу.
В маленьком домике за плотиной поселился пастор Мендель, арендовавший у нас коров. Как-то во время разговора мамы с «Менделихой» мы увели их дочку Ривочку в сад. С тех пор она стала ежедневно к нам ходить, одетая по-городскому, в чулочках и туфельках, с туго заплетенными вьющимися косичками. Я очень с ней подружилась, девочка была умненькая, тихая, не способная на шалости. Но яблоки воровать ходили всей ватагой. Оба Ривиных брата — Любка и Филька, к сожалению, не подходили нам по возрасту и появлялись редко. Ривочка проводила у нас целые дни, уходя домой только обедать («кошерной пищей»), от нашей еды решительно отказываясь. Скучно с ней было разве по субботам, когда «по Закону» ей нельзя было рвать цветы, ягоды и фрукты.
Нина Таубе
В один прекрасный день мама привела к нам в сад маленькую, коротко остриженную девочку. Своим неподвижным личиком и сшитым на кукольный манер светлым платьицем она и сама напоминала куклу. Замерев, девочка испуганно смотрела на шумную толпу детей. Мама представила ее как Ниночку Т. и оставила под покровительство старших — меня и гостившей у нас Веры Млевской (ее отец вскоре после своего отпуска должен был увезти семью в Самарканд, где прокладывался участок железной дороги). «Как тебя зовут?» — спросил Сева. «Откуда ты приехала?» — спросила Вера. В ответ — ни слова, ни движенья. Маринка, заинтересовавшись оборками платьица неподвижной гостьи, деловито их пощупала. «Ты кукла?» — решился спросить маленький Сережа и, подтянувшись, провел ногтями по Нининой щеке. Тут заревели оба — на щеке «куклы» появилась длинная царапина с капельками крови. Мы, ее несостоятельные покровители, принялись за лечение — послюнив подолы грязных передничков, вытерли кровь и слезы, затем приложили к ранке надкушенное кислое яблоко. Нина поморщилась, но плакать перестала, и мы рады были показывать ей сад до самого обеда.
Царапина сразу была замечена, Сережа с новым приступом рева повинился в своей ошибке. Но удивил нас строгий тон Нининой матери, которым она обратилась к своей дочке. Получилось, что виною происшествия все же оказалась Нина. Потом мы узнали, что строго воспитываемая Нина, в отличие от нас, бросавшихся со своими шишками и ссадинами к маме, старалась свои беды от матери скрывать. К тому же, совершенно лишенная детского общества, конечно, была слишком ошеломлена незнакомой обстановкой, чтобы сразу «поставить себя как следует». Ее мать, Анна Дмитриевна, решила исправить ситуацию по-своему, заново представив свою дочь нам и гостям на террасе. Тут, к нашему изумлению, немая Нина с милой улыбкой начала делать реверансы направо и налево. А когда старичок-сосед, притянув к себе, спросил, как ее зовут, то, нимало не смутясь, ответила: «Нина Сергеевна, баронесса Таубе!». Тут мать ее строго поправила: «Просто Нина!», но дочь упрямо повторила и свое полное имя, и титул. Такие приступы упрямства у боявшейся своей матери Нины иногда случались. Похоже, что после этой маленькой победы Нина восстановила свое самообладание, стала и бегать, и болтать, как обычный ребенок. Одно отличало ее от нас — ее светлые в полоску платьица неизменно оставались чистыми. А также, критически осматривая наши игрушки, замечала, тут же ставя нам в вину, и битую кукольную посуду, и нехватку кубиков в коробке, и покалеченных кукол.
Особенно же мы были поражены ее благоразумием в день своего рождения. Утром мама, придя к Нине со всеми нами, передала ей вместе с поздравлениями длинную коробку. В ней оказалась прекрасная кукла. «Какая кукла! Отнесем ее в наш домик в саду!» — в восторге закричала Вера. Исподлобья взглянув на нее, Нина, сделав реверанс маме, сказала: «Данке, но кукла такая нарядная, что здесь она испачкается. Я буду с ней играть в городе». С этими словами, даже не вынув подарка, она попросила маму убрать коробку в зеркальный шкаф. «Очень, очень аккуратная девочка, это все — немецкое воспитание» — говорила А.Д.
На поиски коров
Помимо сада, мы ходили в соседний лес Шарыпино — за грибами, хотя хватало и своих. Конечно, уже в сопровождении взрослых. Перед лесом был широкий выгон, где паслось наше стадо. Мы очень боялись племенного быка Бышку, грозное мычанье которого приводило в трепет. Но после надетой на рога доски он, по заверению пастуха, стал безопасен. И мы уже проходили мимо стада без страха. Как-то мне пришла мысль подоить коров самостоятельно. Я не посвятила в эту затею Веру — возможно, потому, что она была «городской» и коров побаивалась. Прихватив свое ведерко и дойдя до конца сада, через щель в заборе, я вылезла на тропинку к Шарыпино. Коров, однако, не видно, не слышно и мычанья. Решив искать их в стороне, я свернула с тропинки и пошла полем. Солнце сильно пригревало, путь шел в гору, я, упрямо шагая, вышла к лесу, но левее, чем обычно. Начав обходить его, очутилась на краю болота. Сад наш совсем скрылся за горкой, тропинок не видно, как и коров. Я очень устала, и вдруг осознание совершенного преступления меня сразило. Сев на камень, я начала было плакать, но и этого мне не позволила проснувшаяся совесть. Ведь меня, конечно, уже ищут, волнуются, надо идти. Но куда? Я совсем потеряла чувство направления. Под ногами захлюпало болото. К своему ужасу я еще вспомнила, что около Шарыпина останавливались цыгане, крадущие детей. И опять растерянно остановилась.
Вдали послышались крики, ауканье, ко мне бежали молодая нянька Фрина, Маринка и кучер. Бранившая меня Фрина успела сообщить: бабушка заболела, решив, что я утонула, как маленькая Катя из деревни. Излучина речки проходила сразу за садом, и нам строго было запрещено подходить к воде. Оттягивая обещанное наказанье, я еле плелась, покуда Иван не взял меня на руки. Я дернула его за рыжую бороду, но он пригрозил пожаловаться «папеньке». Дома, поставленная в угол, наслушавшись упреков разгневанных и перепуганных мамы и бабушки, я уже вволю предалась слезам. Дети молча смотрели на меня, как на выходца с того света — разговаривать со мной им запретили. Все же я узнала, почему не нашла коров — в тот день они паслись у озера.
Происшествие с Сережей
Упомяну еще об одном происшествии, связанном с коровой. Вскоре после моего неудачного путешествия в поле вновь — и детям, и взрослым пришлось натерпеться страху. Как-то, играя в песке возле оранжереи, мы услыхали мычанье, после чего плохо приставленная калитка между двором и садом была сорвана с петель и черная корова ворвалась в гущу детей. С криком мы кинулись врассыпную; помню, что с ловкостью белки вскарабкалась на оранжерею. Подхватив на рога замешкавшегося Сережу, корова стряхнула его себе под ноги и скрылась в саду. К нам бежали перепуганные взрослые. Мама бросилась к Сереже, безмолвно лежавшему на песчаной дорожке. Мальчик был в сознании, глаза его были широко раскрыты, он не плакал и на тревожные вопросы мамы не отвечал. Синяя сатиновая рубашка была распорота рогом, но на теле повреждений обнаружено не было. Послали за доктором в Себеж, бабушка боялась, что Сережа так и останется немым. Приехавший доктор ее успокоил, прописал какие-то лекарства и уехал. Сережа поправился через несколько часов, стал разговаривать и вскоре заснул.
Поведенье коровы объяснили следующим образом — по каким-то соображениям ее не пустили в стадо, оставив на скотном дворе. Соскучившаяся Ночка, слыша мычанье товарок, пасшихся за садом и, особенно, призывный рев Гришки-Бышки, стала рваться напролом, сокрушая все преграды, также и попавшегося ей на пути Сережу.
В гостях у дяди Мини
Мы любили ездить в имение Лосинцы (названное, наверно, по протекавшей невдалеке реке Лосьве) в гости к одному из младших братьев моего отца, дяде Мине, и его жене, тете Яде. Их большой красивый дом был почему-то выстроен в низине, на болоте, да еще окруженный лесом, хотя рядом имелось тоже лесистое, но высокое место с прекрасным кругозором. Имевшийся при доме сад на болоте расти не желал, за 10—12 лет в нем остались только чахлые ягодные кусты и несколько хилых яблонь. Не было ни клумб, ни цветов. Внутри же дома царила красота. Хороши были большие, почти квадратные, светлые комнаты с белоснежными полами! Мама не могла не пенять тетке за странное расположенье дома, в котором только бы жить да радоваться. Ядвига же только вздыхала: «Вениамина не переспоришь». Вздыхала и мама. А болото явно оказывало свое влияние и на детей, которые после постройки дома не замедлили появиться на свет. И Шурочка, и Люда развивались так же плохо, как и яблони — жестокий рахит превратил их круглые головки в четырехугольные, кривые ножки отказывались ходить, доктора из их дома почти не выходили.
Да и дорога в Лосинцы была из рук вон плоха. С одной стороны — лес, с другой — болото; разъезженное «полотно» объехать было невозможно, лошади с трудом тащили линейку. Надо сказать, что дорогу неоднократно чинили, выстилали вдоль и поперек хворостом, даже горбылем, засыпали песком. Но болото неизменно торжествовало, засасывая любое мощение.
Шурочка и Люда были еще совсем малышами, с ними нельзя было разговаривать, но можно было возиться, что я очень любила. Помимо этого удовольствия у тети Яди всегда было много лакомств. Фрукты, конфеты лежали грудами на подносах. Но всю радость чаепития портила ужасная вода с привкусом дегтя. Пить ее я не могла и потому в Лосинцах меня всегда мучила жажда. Но была там для меня и главная приманка — на столе в гостиной лежала огромная книга — «Потерянный и возвращенный рай» Джона Мильтона с рисунками Доре. Всякий раз, бывая в гостях у дяди Мини, я пробиралась в гостиную и с трепетом перелистывала широкие страницы. Явно не будучи книгой сказок, иллюстрации в ней заставляли свято верить в изображенное (происходившее в прошлом, может быть, где-то и сейчас, или даже в будущем). За разъяснениями я к взрослым не обращалась, боясь, что книгу отнимут как у «еще не доросшей». Эта книга теперь есть и у меня. Я долго ее не раскрывала. Записывая свои воспоминания, хотела открыть, посмотреть, чем она меня так очаровывала (чем ужасала — понятно) в детстве. Но решила писать, как помню.
И привлекала еще одна вещь в гостиной — музыкальная шкатулка. Говорили, что когда я была не старше Ядиных ребят, заводили шкатулку и клали ее мне под подушку для быстрого засыпания. Она потом сломалась. А тихую, грустную мелодию тоненького голоска тетиной шкатулки хорошо помню до сих пор. Шурочка и Люда умерли от крупа, в течение двух дней, еще малютками. И много еще бед пронеслось над жителями Лосинцев. Пишу эти строки уже старой женщиной. Но, кажется, что если бы услыхала эту простенькую мелодию — разорвалось бы сердце.
Есть у меня и сейчас музыкальная шкатулка. Моя мама, уже безнадежно больная, заводила ее маленькому сыну (Коле?). Шкатулка эта у меня надежно спрятана, и при мне ее никогда никто не заведет…

Фрейлейн Юлия
В начале осени к нам приехала, взамен фрау Граббе, уехавшей не то в Митаву, не то в Ригу, новая бонна, коренастая, угловатая женщина лет 35-ти, с багрово-красным неулыбчивым лицом. Я и Сева всецело перешли в ее ведение, и мы сразу почувствовали разницу с прежним нашим бытием. Вместо няньки в нашей с Севой комнате теперь спала фрейлейн Юлия, с нею же мы проводили и все остальное время суток. Дав нам в первый день прибытия наговориться по-русски, на второй — объявила, что запрещает русский и признает только немецкую речь. Незнакомые слова и фразы велела спрашивать и повторять до запоминания. Выяснилось, что мы кое-что понимаем по-немецки, но говорить совсем не умеем. И началась учеба с утра до вечера. Юлия сумела так прибрать нас к рукам, что слушались мы ее беспрекословно. Утром, самостоятельно и тщательно умытые, причесанные, убрав свои постели и позавтракав, садились заниматься. Пересказывали небольшие прочитанные нам рассказы, заучивали стихотворения, затем — по косым линейкам я писала слова и фразы, а Сева — палочки, нолики и буквы. Во время прогулки повторяли стихи, учились счету, называли встречные предметы, конечно, по-немецки. Дома до обеда играли в лото и другие настольные игры, после обеда опять шли гулять. Вечером немного бегали в зале, но уже без наших деревенских приятельниц, их визиты Юлия решительно прекратила. Перед сном прибирали игрушки, старательно складывали белье и одежду. Освоив этот минимум, мы вскоре научились подметать пол в детской, вытирать пыль, содержать игрушки и книги в полном порядке и пришивать к своим лифчикам пуговицы (что нам с Севой очень нравилось).
Юлия никогда нас не ласкала, но, если была довольна, устраивала «елку». В роще она срубала кухонным ножом выбранную ею хорошенькую елочку, в деревенской лавке покупали немного конфет, которые завертывали в пестрые и серебряные бумажные ленточки наподобие хлопушек. Елку устанавливали на табуретке и украшали цепочками из нарезанных кусочками соломин и бумажных квадратиков, поочередно нанизываемых на нитку. А потом втроем ходили вокруг и пели немецкие песни. Мы с Севой очень любили рисовать, но до фрейлейн Юлии нам было, конечно, далеко — она рисовала нам небольшие картинки, нас восхищавшие. Она же обновила потрепанные от частого употребления декорации к моим картонным кукольным театрам «Робинзон Крузо» и «Золотая рыбка». Особенно хорошо получился тропический лес с пальмами и лианами.
С Юлией мы никогда не скучали, но любви к ней не чувствовали, а приласкаться к ней — и в голову не приходило. Однажды (правда, еще вскоре после ее приезда) Сева решился тряхнуть стариной — кривлялся за завтраком, во время урока нарочно коверкал немецкие слова. Вдруг, к нашему удивлению и смущению, Юлия расплакалась, побежала к маме и решительно потребовала, чтобы Севу высекли — для его же несомненной пользы. Мама предложила угол, но та уперлась на своем, грозя немедленным уходом. Очень дорожа Юлией, при которой дети «стали неузнаваемы», мама распорядилась принести розгу. Притащили ревущего испуганного Севу. Дрожащими руками мама ухватила пуговицу штанишек …, но тут Юлия объявила, что прощает Севу, но только в первый и в последний раз. Русский язык был совершенно изгнан из обихода, и результаты оказались блестящими. Мы свободно заболтали по-немецки. Юлия же по-русски обращалась к нам чрезвычайно редко — именно когда бранила. А бранила нас она строго, грубо и даже раз назвала меня «русской дурой», чем страшно обидела. Я пожаловалась маме. Во всяком случае, остаток этого дня Юлия сидела, надувшись, и почти со мною не разговаривала.
Зимой выяснилось, что Юлия любит кататься на коньках. Но кататься у нас можно было только на озере. Оно уже замерзло и представило собой отличный каток. Пока Юлия кружилась на коньках, мы по-простецки скользили на пятках, таскали друг друга на салазках. Вволю натешившись, начали просить ее пересечь озеро, став как бы его первопроходцами. И ведь пошли! Но ближе к середине озера неровный, застывший словно волнами лед заставил нас вернуться.
Опять Петербург
Эту зиму было решено провести в Петербурге. Возможно, причиной поездки было ухудшившееся состояние бабушки (она болела астмой), или что-то другое, заставившее моих родителей подняться с места в разгар зимы с четырьмя детьми, бонной и нянькой. Я ехала довольно охотно — была обещана новая головка для одной из моих дорогих фарфоровых кукол. Их привозила мне мамина сестра, тетка Ольга, постоянно лечившаяся заграницей. А главное — была надежда приобрести новые книги. Я страстно любила книги и давно уже читала совершенно свободно; все русские и немецкие мои книжки были перечитаны по нескольку раз. Начались сборы. В доме работали две портнихи из Себежа — хромая Сара и еще одна молодая и хорошенькая евреечка. Строча на двух машинках, они распевали чувствительные романсы. Нам готовили новые зимние пальто и костюмы. И тут Юлия опять сумела проявиться, на этот раз — прекрасной портнихой. Умело исправив испорченное Сарой пальто, она смастерила мне и нарядную зимнюю шапочку. Двух разрешенных в дорогу кукол (мою и Севину) тоже принарядила.
Зимней дорогой в санях меня всегда тошнило, хотя до станции было не больше дюжины верст. В унылом зале ожидания мое внимание привлекли две одетые на монашеский манер в черное женщины. Везли они куда-то «святую икону» громадных размеров. Тщательно упакованная, она была прислонена к стене. Вот они развернули узелок, покушали и набожно приложились к упаковке. В поезде мы с Севой прилипли к окну, пока мама с Юлией готовили постели. Маленькая Нина спала на руках у молодой няньки Саши, сменившей нашу старую, ушедшую на покой Анисью. Я же долго не могла заснуть — было жарко, душно. И вагонная бессонница так и не оставила меня до самой старости.
В Петербург мы прибыли опять в хмурый, неприветливый день, и город нам сразу же не понравился. Бабушка занимала квартиру в собственном четырехэтажном доме. Жила она вместе со своими младшими детьми — тетей Раей, только что закончившей Институт (Смольный Институт для благородных девиц) и собиравшейся стать врачом, гимназистом дядей Сашей и тетей Лидой (еще учившейся в Институте и заезжавшей домой только по субботам). В передней, пахнувшей масляной краской после недавнего ремонта и лекарствами, нас встретила Рая. Папа и мама сразу же прошли к бабушке, младших детей куда-то устроили, мы с Севой, оставленные в холодном зальце, подошли к окну. Серое небо, серые крыши… К вернувшейся за нами маме бросились с ревом, просясь домой. Но пришлось идти к бабушке, которая сидела на кровати, опустив ноги на скамеечку. «А-а, Наташа и мальчик» — сказала она, протягивая руки. У бабушки было множество внуков и внучек, имена которых она не помнила. Я составляла исключение, вероятно, как старший ребенок ее старшего сына, к тому же, родившейся и жившей первые годы жизни с нею вместе. Нас, троих старших детей и Юлию, поселили в небольшой проходной комнате, единственным своим окном выходившей на стену соседнего дома. Вечер еще не наступил, но стало так темно, что пришлось зажигать лампу. Я, подобно насекомому, реагируя на свет, из своего угнетенного состояния перешла в возбуждение, вдруг принялась болтать, оживленно рассказывать зашедшим к нам Саше и его товарищу что-то смешное, хотя помню, что смешно мне не было.
Столичная родня, столичная жизнь
Дяде Саше было тогда лет 14—15. Это был спокойный, ленивый мальчик, к которому ходил репетитор. Под предлогом головной боли Саша часто пропускал уроки в гимназии. Родственники сетовали, что мальчик совершенно не хочет учиться и неизвестно, что из него получится. С нами же наш дядя был всегда ласков, дарил шарики и картинки. Тетя Рая тоже была с нами приветлива, но ее мы видели редко. В своей комнате она подолгу готовилась к экзаменам на аттестат зрелости, да и уход за больной матерью отнимал много времени. Впоследствии, выйдя замуж за болгарина и уехав с ним в Пловдив, Рая исполнила свою мечту и стала врачом. Наши ближайшие родственники Доманевские гостили в Болгарии у нее и ее семейства в разное время, но уже после Отечественной войны.
Младшая же наша тетка, институтка Лида появлялась дома субботними вечерами и тогда же уезжала одна, без провожатых, в Финляндию, на бабушкину дачу. Проведя там воскресенье, катаясь с гор на лыжах и санках, вечером возвращалась прямо в Институт. С нами, детьми, она обращалась холодно. Так же относилась и к маме, и к нашему отцу — самому старшему своему брату. Когда ко дню рождения папа купил ей красивую шкатулку с рукоделием, она отвергла подарок со словами «На что она мне нужна?» (позднее шкатулку отдали мне). Наши родители считали, что бабушка страшно распустила Лиду. Видано ли, чтобы девчонка в ее возрасте ездит, куда вздумается, и часу не пробудет с больной матерью! Был у нас еще один дядюшка — Вадим, живший отдельно. Но ни в Петербурге, ни где-либо впоследствии я его не встречала.
По семейным сведениям, судьба Лиды закончилась печально. Причиной, скорее всего, стала продажа завещанного бабушкой ей и Рае имения в Финляндии, ставшей после Октябрьской революции самостоятельным государством. На полученную после продажи долю Рая купила в Пловдиве дом. Лида же, проживавшая до этих пор в имении, решила вернуться на родину, в Ленинград, к дочери Елене (Ляле) и внуку Всеволоду. Переведенная ей, уже «из заграницы», значительная сумма немедленно возбудила интерес ЧК. Во время организованного ею домашнего обыска, помимо денег, был обнаружен и дневник с нелицеприятными высказываниями в адрес большевиков. Записи сочли, по заявлению агентов, «вполне достаточными» для ареста, и Лиду тут же, на глазах дочери и десятилетнего Севы, забрали, как шпионку. В течение всего разыгранного «следствия» в Большом доме на Литейном Ляля носила матери передачи, выстаивая длинные очереди. В них ходили слухи о пытках, которыми вынуждали арестованных к «признанию вины». В конце концов, Лиду расстреляли. Лялю не тронули «по знакомству» с соседом — НКВД-ешником, однако семья ее распалась…
Наша столичная жизнь, в общем, текла, как и в деревне — учились, гуляли, даже в каком-то красивом парке, скорее всего в Таврическом. Там было много детей, весело игравших со снегом. Нам тоже купили лопатки. Восхищались мы и витринами игрушечных магазинов. Мама дала Юлии денег для покупки немецких книжек. Так впервые я попала в большой книжный магазин. Пока Юлия присматривала книгу, я, бродя вдоль прилавка, читала названия книг на корешках. Не хватило бы и целой жизни, чтобы в них хотя бы разобраться, не то, чтобы прочесть! В результате была куплена толстая немецкая книга в красивом переплете, с массой картинок, сказок, рассказов и стихов.
Зубы
У меня очень рано стали портиться зубы, еще пятилетняя, я плакала от зубной боли. Вопреки мнению бабушки, не советовавшей возиться с молочными зубами («сами выпадут») мама решила, благо мы в Петербурге, свести меня к зубному врачу. И вот мы сидим в залитой солнцем (редкий случай) приемной, у стола, заваленного журналами. У окна в клетке неумолчно поет канарейка. Пожилая докторша встретила меня ласково, и я спокойно переносила сверление, неприятное, но безболезненное. Наконец, зубы приведены в порядок, кроме одного, росшего как-то вбок. О следующем визите, вспоминая канарейку и журналы, я думала не без удовольствия. Знакомая врачиха показала мне блестящий инструмент: «Его ты тоже не боишься?» Я покачала головой и открыла рот. От мгновенной сильной боли я закричала. Но мне уже показывали вырванный зуб — «Умница!». Дома же я превратилась почти в героиню, что окупило неприятное переживанье.
Опять Нина
Мы собрались в гости к Нине Таубе на ее день рождения. Игрушек решили не покупать и остановили выбор на аквариуме с золотыми рыбками. Кроме баночки с рыбками нам дали и другую, с водяными растениями. Возня с устройством рыбок и заняла основную часть этого праздничного вечера. Во-первых, Нинина фрейлейн по незнанию наполнила аквариум кипяченой водой — пришлось спешно менять воду. Затем — повторно менять ее на более теплую. Наконец, аквариум готов, и Нина повела нас в свою детскую. За два года девочка успела сильно измениться — вытянулась, отрастила волосы. От робости не осталось и следа. Игрушек было много и все — в отличном порядке. Но стоило мне взять какую-нибудь из них, Нина вырывала ее из моих рук: «Ты уронишь, разобьешь! Помню ваши битые игрушки! Теперь хочешь перебить и у меня?» А отношения с фрейлейн у нее были самые дружеские — нам на удивление. Уже в санях, на мамины расспросы, я поведала ей о своем разочаровании — и в Нине, и даже в чашке шоколада, «от которого тошнит до сих пор».
Вскоре и Нину привезли к нам на целый день. С фрейлейн Юлией она бойко болтала по-немецки, подробно рассказывая о своем распорядке дня. Надо было видеть, как ласкова и мила была с нею наша немка! Во время прогулки она беседовала только с Ниной, а нам делала только замечания. После отъезда наша фрейлейн сказала по-русски, от полноты чувств: «Какая воспитанная девочка — прямо как Эльза» (которую в качестве идеала всегда ставила нам в пример).
С Ниной мы встретились снова уже четырнадцатилетними подростками.

Рождество
Под Рождество, в сочельник, в зал внесли большую елку. Дворник с дядей Сашей долго возились, укрепляя ее в крестовине. На рояле, на столах появились таинственные свертки. После обеда нам, детям, велели сидеть в детской, запретив заглядывать в зал. Через закрытую дверь, однако, слышались негромкие переговоры украшавших елку взрослых, что увеличивало наше любопытство. Наконец, раздались звуки марша, который заиграла тетя Рая. Саша открыл двери, и мы ринулись в зал. Нарядная елка сверкала огнями, и чего только на ней не было! Гирлянды бус, цепочек, флажков, а среди них и стеклянных шариков светились прелестные фонарики со слюдяными окошечками. Особенное наше внимание привлекали изящные бонбоньерки с драже, а также мандарины, пряники, продолговатые яблоки с розовыми щечками. Посторонних не было. Не было и Лиды, которая на каникулы уехала в Финляндию. Я была вполне удовлетворена своим подарком — куклой в бархатном платье, шляпке, чулочках и лаковых туфельках. Сева и Сережа тоже получили по кукле-солдату, в шинели и солдатской шапке. Маленькой Нине достались резиновые игрушки. Кроме этого, старшим детям папа подарил по замечательному шкапчику для игрушек.
Отъезд Юлии. Фрейлейн Луиза
Вскоре после Рождества нам пришлось расстаться с фрейлейн Юлией. От своего единственного брата, обосновавшегося, кажется, на Дальнем Востоке, она получила письмо об открытии им собственного заведения (гостиницы?) и о необходимости ему помощницы. Мама очень уговаривала Юлию остаться, предлагала прибавить жалованья, но та была непоколебима, не желая отказать в помощи своему брату. После отъезда Юлии мы с Севой не очень о ней горевали. Вскоре у нас появилась фрейлейн Луиза, совсем молоденькая и хорошенькая девушка, олицетворение ласки и доброты. В первый же день она взяла меня на колени, чем удивила и растрогала. На этот раз мы с Севой прибрали нашу бонну к рукам! Правда, Луиза также занималась с нами ежедневно — мы, как и при Юлии, читали, писали, рассказывали прочитанное. Но говорить между собой стали по-русски; начались капризы, болтовня перед сном в постелях, что прежде было запрещено.
После зимних праздников мы вернулись в деревню. Стояла прекрасная погода, уже были и намеки на весну — очень ярко светило солнце, снег рыхлел, с сосулек капало. Мы были, наконец, счастливы, хотя в заваленный снегом сад было не зайти, и наши прогулки с Луизой ограничивались двором и дорогой через село. Гулять ей приходилось уже с нами тремя, то и дело залезавшими в мокрый снег, а позднее — и в лужи. Иногда мы невольно доводили Луизу до слез, которые катились у нее, как горошины. «Гадкие дети, как вы меня измучили!» — жаловалась она. Мы, смущенные, утыкались носами в ее пальто и начинали громко реветь. Тут же она принималась нас утешать, и прогулки продолжались чинно и мирно. В доме опять появились наши деревенские приятельницы, опять началась беготня в большом зале «от волка». Луиза же тем временем передружилась с их матерями, завела в деревне знакомых, а среди нарождающегося поколения у нее появилось много крестников. Теперь она часто крутила второпях ручку швейной машины, мастеря им очередные крестильные рубашечки и чепчики с ленточками.
Вскоре к нам приехала и молоденькая двоюродная сестра Луизы — фрейлейн Марихен, в исключительное ведение которой перешла маленькая Нина. И в то время как мои и Севины успехи в немецком не очень-то прогрессировали, Нина скоро стала и говорить, и думать исключительно по-немецки, хотя, конечно, понимала и русскую речь.
Пасха
Наступила и долгожданная Пасха. На праздники из Петербурга приехал дядя Саша, очень кстати привезший нам хорошие детские книжки. Начались предпраздничные хлопоты, нас живо занимавшие, особенно, конечно, окраска яиц. Вкусно пахло сдобным тестом. На столе стояли тарелки с приготовленным для него миндалем и изюмом. Белка же взбивали целые горы. В комнату приехавшей из Степениц бабушки вход был запрещен — там всходила какая-то необыкновенная опара, грозившая осесть от малейшего сотрясания пола.
Обе наши немки, стараясь удержать в детской или «красной» комнатах, всячески нас занимали и, конечно, не доглядели, как Нина добралась до блюда с изюмом и быстро съела все содержимое. Мама с бабушкой пришли в ужас, боясь за Нинин желудок и стали ее бранить. «Вот ты и превратилась в булку с изюмом!» — сказал папа. Мы тут же стали просить отрезать нам «от булки» по кусочку. Толстая Нина, сначала смущенная, а теперь испуганная, вытянула руки: «А разве у булок бывают ручки?» — плаксиво спросила она. Но мы не отставали. «А разве у булок бывают ножки?!» — заревела тут Нина басом. Марихен подхватила ее и, утешая, унесла в детскую. Нинино обжорство не принесло ей никакого вреда.
А у взрослых и без того хлопот хватало. Бабушка сокрушалась, что на сей раз у нее «банкух» (высокая «баба» с тестяными же шипами, обычно занимающая центральное место на пасхальном столе) вышел с каким-то дефектом. «Банкух» же приготовляли так: род вертела крутили над раскаленными углями, поливая его тестом на ста желтках и пряностями. Каждую весну взрослые сомневались в необходимости возиться с этим капризным изделием. Но в результате всегда сдавались традиции, и красивая полая башня из теста с украшенной бумажными розами верхушкой возвышалась у нас на столе всякую Пасху. Уж не говорю о множестве куличей, баб, мазурок — бабушка была исключительной кулинаркой. А Луиза и Марихен приготавливали подарочные корзиночки, наполнявшиеся мхом с разрисованным яйцом посередине. Такие корзиночки мы преподносили маме, папе, бабушке под поздравительные немецкие стишки.
На несколько дней к нам приехала и Анна Дмитриевна Таубе, без Нины. А.Д., закончив в свое время консерваторию, была отличной пианисткой. Она рассказала, что Нина играет уже маленькие пьески и спросила — учит ли и меня мама музыке? Мама играла тоже хорошо, у нас был прекрасный рояль фирмы «Блютнер», и она несколько раз пыталась давать мне уроки. Но более или менее серьезно я стала заниматься музыкой после поступления в московскую гимназию. Дома же каждый вечер мама играла нам на рояле, мы скакали под ее музыку и часто хором пели детские песенки из привезенных петербургских сборников. Знали мы и множество немецких песенок, которые тоненькими голосами распевали наши немки. Хорошо и верно пел маленький Сережа.
У мамы был хороший, но не поставленный голос. Репертуар ее был обширен, тут были и оперные арии, и цыганские романсы. Говорили, что если бы она училась — была бы замечательной певицей. Я очень любила слушать мамино пение, забравшись с ногами на диван в полутемной гостиной. Больше всего нравились старинные песни, вызывавшие легкую грусть, особенно — «Ты не вейся, пташечка, не кружись, касаточка!» Цыганские романсы же не трогали — я не понимала их слов. Часто мама пела: «Пусть будет завтра день ненастья, я не боюсь, мне все равно! Сегодня б было только счастье — нам жить недолго ведь дано!» В моем воображении возникали две грустные фигуры, почему-то в хитонах, прислонившиеся головами друг к другу. Но какое же в этом счастье, если завтра им суждено умереть?
Как-то папа принес что-то похожее на круглую металлическую коробку с продольными отверстиями. Он подул в одно из них, раздался приятный звук, подул в другое — то же. «Кто там поет?» — спросил музыкальный Сережа. Это была эолова арфа. Ее водрузили на шесте над мезонином. В ветряную погоду мы с удовольствием прислушивались к ее мелодичному голосу.
Домашнее образование
Мне было семь-восемь лет, когда мама решила, что мне пора приниматься за регулярное учение. Читала я хорошо, писала отдельные слова и фразы, таблицу же умножения заучивала со слезами. Арифметические задачи, даже не сложные, решала с великим трудом. До этого времени я занималась с мамой весьма непоследовательно. Обремененная большой семьей, подрастающими детьми и хронической нехваткой денег, она вынуждена была нередко улаживать дела при обычном невозмутимом оптимизме отца и даже вопреки некоторым его экстравагантным хозяйственным затеям (в одном случае, кажется, речь шла об использовании на псковских угодьях верблюдов, поразивших отца во время его делового пребывания в Средней Азии).
Первым нашим с Севой преподавателем был сельский учитель, ежедневно приходивший к нам на два часа. Это был добрый и веселый молодой человек, приносивший из школы интересные книги и журнал «Детское чтение». Но сами занятия шли кое-как. Через год этот учитель уехал. Его заменил другой, прыщавое, вспыльчивое и нетерпеливое существо. Неправильно написанную страницу он любил перечеркивать красным карандашом, иногда ее надрывая. Как-то мама, найдя в тетрадке много рваных страниц, этим заинтересовалась. Что-то написала на обложке, для нас неразборчивое. Но с тех пор листы больше не рвали. Арифметика же по-прежнему мне не давалась. Особенно трудно приходилось с задачами про сажени дров — никак не могла принять сажень, состоявшую, как я знала, из многих поленьев, за единицу. Также не получалось у меня заучивание молитв и чтение на церковно-славянском, поскольку я не понимала значения слов. К счастью, это не входило в учебные программы ни гимназий, ни Института. Новый учитель, однако, постоянно пугал меня экзаменами у какого-то инспектора, чего я, сознавая свои слабые успехи, очень боялась. Говорили, что мой мучитель жесток и с учениками своей школы, порою их поколачивая. Думаю, что и как преподаватель он был не на высоте. Последним моим домашним учителем был Иван Гаврилович, готовивший меня уже по программе гимназии. Его я понимала гораздо лучше, и успехи стали куда значительнее. Мы, дети, даже его полюбили. Я занималась с ним весну и лето — до самого моего отъезда в Москву.

Послесловие к маминым запискам
Из сохранившихся поздравительных открыток узнаю, что первый свой школьный год мама прожила в «заведении Потоцкой». С подрастанием детей в Москву перебралось и все семейство, сперва снимая квартиру в доме князя Горчакова на Страстном бульваре, а затем в Мамоновском переулке. Главу же семьи оставили управлять имением. После смерти в 1915 году Марии Карловны окончившей гимназию Наташе (уже — «Ее Высокоблагородию») пришлось опекать двухлетнего брата Колю — в Москве и в Петербурге, где на улице Миллионной имел квартиру муж ее тетки, О. К. Балабиной.
Завершая печатание маминых записок (с некоторыми примечаниями по тексту), я нахожу целесообразным закончить их отчетом о своем посещении Залосемья. Несколько раз командированная в северную часть Псковской области, все же в августе 1992 года я выкроила два дня и междугородним автобусом пересекла Псковщину на юг, до Себежа. Дальнейшее мое продвижение осложнилось расписанием местного автобуса, отбытие которого было назначено лишь на послеобеденное время. За вынужденные часы ожидания я успела обойти достопримечательности городка: оба храма (католический и православный) и древнюю околицу города — укрепленный, далеко вдающийся в ближнее из двух смежных озер мыс, с выразительной статуей Петра в замусоренном скверике. Под конец на старинном кладбище тщетно поискала однофамильцев.
Проходной автобус на Борисенки, сначала повозив по окрестным деревням, высадил меня, уже на обратном пути, последним пассажиром прямо на шоссе. За ним виднелось озеро, к нему я и спустилась по проселочной дороге. Справа шли дачные постройки. С вышедшей на порог женщиной мне и повезло начать свои расспросы. Она мудро посоветовала обратиться в местную почту, а то и прямо к почтальонше на другом конце села. Иной администрации здесь, похоже, не водилось. По возможности стараясь не петлять, я прошла центр с деревянной школой и запертой по случаю нерабочего дня почтой. Еще полсела — и горизонт расширился. Кругом раскинулась пустошь с остатками каменной кладки по краю и даже руинами стен. Сердце мое забилось — уж не на фундамент ли заветного дома я набрела так скоро? Удивительно, но в тот вечер ни обратный путь, ни ночлег меня совершенно не заботили. Я чувствовала только удовлетворенность и покой — сама местность вокруг не ощущалась чужбиной. И хотелось засветло в чем-то, для начала, преуспеть.
Тем временем из стоявшей в отдалении избы вышло несколько человек, направившихся в мою сторону. Агрессии в них видно не было, скорее — веселое любопытство. Они, видите ли, давно приметили из окна странно рыскающую по полю фигуру и просят разъяснения. Женщине, представившейся заведующей почтой, я с готовностью поведала причину своего здесь появления и цель моих поисков. Реакция была несколько ошеломительная. «Хозяйка приехала!» — пронеслось по обступившим меня людям. Тут же я была отведена в дом и усажена за стол с остатками пирушки — справляли чей-то день рождения. Обновились закуски, возобновились расспросы. Фамилию «Томиловы» помнили некоторые из наиболее пожилых гостей. Однако решили отвести меня, за несколько домов, к старейшему жителю Залосемья.
Владимир Филиппович Бонифатов вполне оправдал наши ожидания. История нашего дома за многие десятилетия проходила на его глазах. После революции последний владелец (скорее, арендатор заложенного имения), дедов брат Вениамин Томилов («дядя Миня») на какое-то время превратился в коменданта устроенного в доме общежития. Затем уехал вместе с женой Ядвигой в Петроград, заново обзавелся потомством — Иосифом (Юзей) и Варварой (Валей). Со слов моего троюродного брата Севы Доманевского (внука погибшей Лиды) семейство вначале осело на улице Воинова (нынче Шпалерная), у самой Невы, где в то время была рабочая пристань — разгружались баржи, сновали буксиры. Мальчишки свободные часы проводили на набережной, а Валя даже переплывала широкую здесь реку. Вениамин умер в ленинградскую блокаду. Сын его, оставив в городе детей — еще одного Иосифа и дочь Ирину, погиб в боях под Мгой. А залосемский дом, за войну не однажды переходивший из рук в руки, и в послевоенное время сумел простоять немало лет, прежде чем, не так давно, был разобран для капитального ремонта школы. Груда досок, которую я заметила возле нее, и были его остатки. Остановившие же меня кирпичные кладки у поля принадлежали не дому — то были лучше него сохранившиеся следы добротных коровника и конюшни. Тут Владимир Филиппович подхватился и повел желающих к месту, где прежде стоял дом.
Признаться, я бы в жизнь не сумела отыскать этот невысокий заросший фундамент среди чащобы поглотившей его рощи. О великолепном саде, столь часто упоминаемом мамой устно и письменно, ничего не осталось — яблони заглохли и погибли. С трудом можно было опознать лишь знаменитую липовую аллею — по нескольким старым толстым деревьям среди буйного орешника и ольшаника. Встречались там и мощные дубы, возможно, из тех еще времен. Грустно было мне на этом фундаменте, грустно за маму и Нину, так сильно свое детство любивших. Я понимала маму, отказывавшуюся посетить Москву и, тем более, родные места, желая, очевидно, сохранить в памяти их прежний облик. Каково бы ей было видеть это запустение!
Переночевав у сочувствующей хозяйки, с утра пораньше я решила самостоятельно вернуться к фундаменту, чтобы ознакомиться с ним наедине. Но, как ни искала, не нашла! Пришлось опять обратиться к помощи В.Ф.. Отсюда мы направились к Залосемскому кладбищу на холме. Мне было показано несколько могил прежних владельцев имения. Кажется, какие-то могилы и были «Томиловскими», но, по причине незнания истории имения и времени его покупки нашим семейством, необходимых ассоциаций они не вызвали и потому принадлежность их мною уже забылась. Полагаю, здесь были похоронены члены семьи, жившие в Залосемье и поблизости от него. В первую очередь это могли быть мать Марии Карловны (мамина бабушка) и оба ребенка Вениамина. Показал В. Ф. и место, присмотренное им под собственную могилу. Хорошее место, привольное, над самым обрывом. Под венчающей холм церковью, оказывается, не однажды делались подкопы в поисках где-то зарытого в крутые времена церковного клада. Но, кажется, он и ныне там. Распростившись со своим проводником, я закончила день на озере, считая, что уж что-что, а берегов его не миновали посещения давнишних хозяев. И что вряд ли открывавшаяся перед ними панорама с тех пор сильно изменилась. В этом озерном краю залосемское озеро должно считаться совсем небольшим, но обойти его все-таки было бы не просто. Вода в его известняковой чаше оказалась вполне чистой. В случайно попавшемся мне журнале с приблизительным названием «Рыболовство и рыбное хозяйство» (где-то 50-60-ых годов) я нашла маленькое нечеткое фото озера, подписанное «Залосемское рыбоводческое хозяйство», без сопровождающего текста. Мама тоже, конечно, не смогла рассмотреть на нем ничего ей знакомого.
Вечером в Себеж меня отвез на мотоцикле, коротким путем, сын Веры Михайловны (Соколовой). Влетели мы в город, прямо к автостанции, вряд ли на допустимой скорости, но зато я успела к автобусу на Псков. Первое время мы с гостеприимной хозяйкой старались переписываться, но, видимо, из-за семейных переживаний общение получалось очень уж безрадостным. Пьющий сын В.М. попал в тюрьму. А Владимир Филиппович все никак не мог собраться навестить своего сына в Прибалтике. Думаю, что нынче покоится он на облюбованном месте над обрывом, так и не исполнив своего желания…
О детстве и блокаде

Клиника. Дом
Я родилась в Ленинграде в голодный, по свидетельству мамы, 1931 год, и выросла на четвертом этаже Второй хирургической факультетской клиники Первого Медицинского Института. После его окончания в этой клинике стажировались, как молодые хирурги, а затем закрепились врачами-интернами моя мама, Наталия Леонидовна Томилова и тетка, Елизавета Семеновна Драчинская (сестра моего отца, Петра Семеновича Драчинского, инженера-строителя по профессии). Глубины происхождения отца мне неизвестны. Знаю лишь, что мой дед с отцовской стороны, Семен Драчинский, переехав с семьей из Харькова в Москву, преподавал в Ветеринарной Академии. Профессорская дача в Кузьминках с подрастающими двумя сестрами и братом обычно полнилась молодежью. Обе мои тетки со вздохом вспоминали веселое время в прекрасном парке, теннис, крокет, городки, лодочные прогулки по прудам. Пешие походы обычно сопровождали коза и собаки. Высшее образование, однако, было решено получать в Петербурге. Старшую, Веру, поступившую в класс ваяния Высшего художественно-промышленного (теперь — Мухинского) училища, отец брал с собой в Париж для ознакомления со знаменитыми музеями. Младшая же, Лиза, более близкая отцовским интересам, поступила на курсы в Женском (позднее — Ленинградском) Медицинском Институте при Петропавловской (в советское время — имени Эрисмана) больнице.
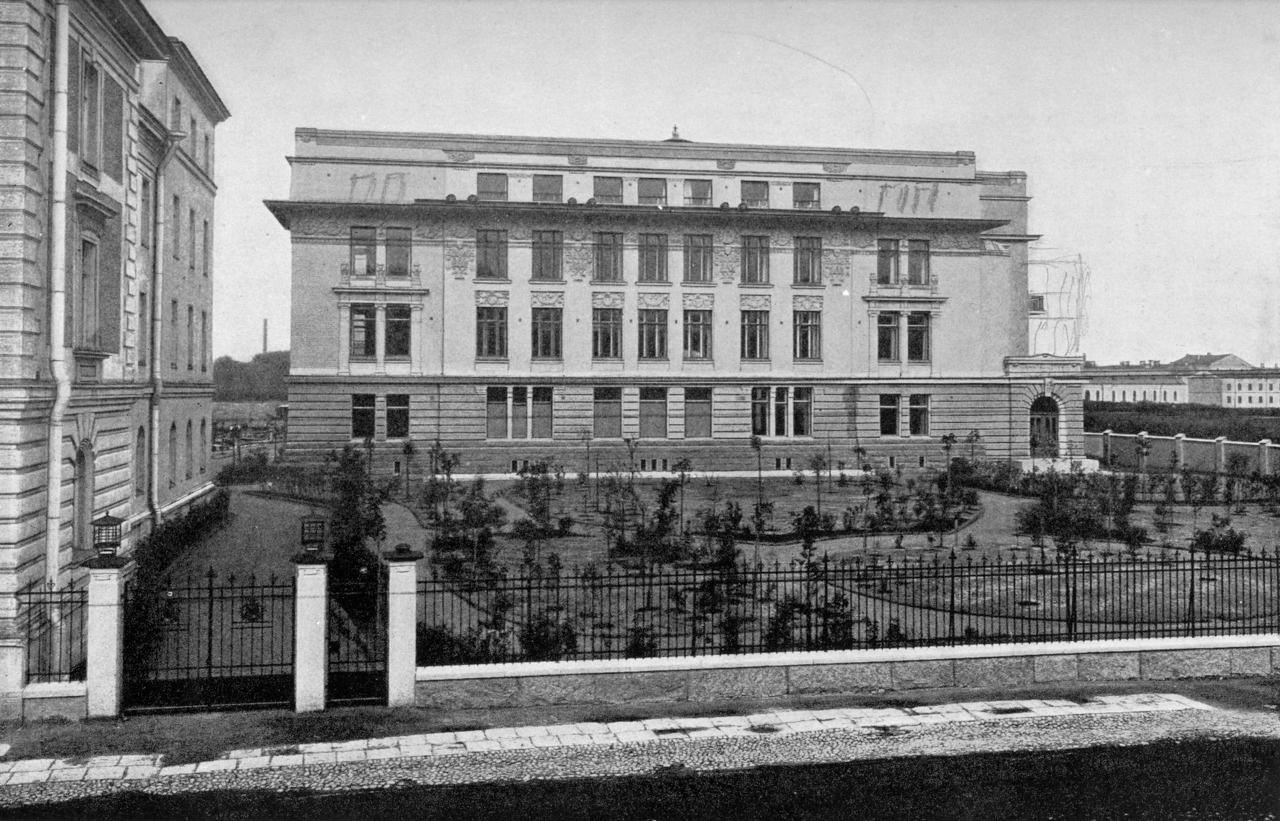
Возведение в 1912 году, по проекту финских архитекторов, нового здания хирургической факультетской клиники для этого старого, открытого еще в 1835 году медицинского учреждения, было спонсировано выпускницей Женских медицинских курсов г-жой Нобель-Олейниковой (о чем гласит недавно появившаяся на фасаде мемориальная табличка под бронзу). Показательное целесообразностью планировки и гигиены четырехэтажное здание оживлялось, помимо высоких окон, открытыми на юго-восток лоджиями-соляриями средних этажей и застекленным пролетом парадной лестницы. Полированные перила внизу заканчивались резным столбом с львиной мордой (столб этот, переживший тяготы революции и блокады, все-таки исчез во время ремонта на переломе веков). На север, во двор, выходили «черная» дверь и стеклянный амфитеатр операционной. В подвальном этаже размещалась котельная, питавшая клинику водой и теплом. Отдельный трехэтажный «флигель» во дворе (сейчас — институтский архив) заселял подсобный персонал.
Двор ограждали деревянные сараи, с которых зимой в наметенные сугробы прыгали местные мальчишки. Возле одного сарая разгуливали куры; мама покупала у их хозяйки яйца. Вдоль южного, более нарядного фасада был разбит сквер, в обиходе называемый «Цейдлер» — по фамилии одного из первых профессоров клиники. От улицы Льва Толстого (прежней Архиерейской) его отделяла островерхая решетка на высоком гранитном фундаменте. К началу моего детства саженцы успели превратиться во взрослые деревья, преимущественно — клены и несколько уже необъятных ив и тополей. Среди них были проложены дорожки со скамейками для моциона выздоравливающих пациентов. В сквер же выходила широкими ступенями третья дверь, обрамленная серым рустованным камнем, с маской на фронтоне.
С востока вся больничная территория была ограждена бетонной стеной, за которой параллельными рядами валов раскинулся обширный пустырь. Он именовался «Гренадеркой» в честь некогда проводившихся здесь военных учений гренадерского полка; зимой, особенно в каникулы, ближнюю гряду «штурмовала» лишь местная детвора. В отдалении желтели низкие Гренадерские казармы, растянувшиеся своими филиалами вдоль речки Карповки почти до больничной мертвецкой. Часть их занимал Институт кораблестроения, часть — студенческое общежитие. Стены давно нет, весь же казарменный комплекс, как памятник архитектуры начала XIX века, сохранен.
Речка Карповка, тонкий «рукавчик» Большой Невки, соединяет ее, подобно тетиве, с Невкой Малой, отделяя больничную территорию от Ботанического сада.

Скромная в своих зеленых берегах, на карте города малозаметная, она, тем не менее, не отказывается от участия в регулярных набегах ее полноводных сестер на сушу. Так, мятежный дух ее вполне проявился и в знаменитом наводнении в сентябре 1924 года, серьезно затопившем город. Мама рассказывала, как, будучи тогда аспиранткой, еле успела выскочить из здания лаборатории, «преследуемая по пятам» расползавшейся между корпусами водой. Скоро «Вторая хирургия» (в обиходе — «клиника Эрисмана») стояла, подобно скале, среди плещущейся мутной стихии. Залиты были подвальное помещение и ступени первого этажа, что несколько дней держало население клиники, пациентов и врачей в осаде.
Больничная кухня с очень высоким крыльцом работоспособности не утратила, и на другой день храпящая от страха лошадь уже развозила по корпусам определяемыми палкой маршрутами какую-то еду.

Улица Льва Толстого в 30-е годы представляла собой булыжную мостовую с парной трамвайной линией. Одна из остановок приходилась против Института. Разноцветные булыжники были очень хороши собой, особенно после дождя — отполированные подковами и колесами, они ярко сверкали на солнце. Тротуары же были выложены широкими, известняковыми, с глубокими «оспинами» от выпавших ракушек, плитами, между которыми веснами пробивались одуванчики — приметой скорого отъезда на дачу. Постоянные звонки, скрежет тормозов, а по вечерам — и голубые блики в наших незанавешенных окнах воспринимались как обязательная часть городского уклада. По мостовой же грохотали грузовики и телеги, запряженные тяжело подкованными битюгами.
До войны в Ленинграде лошадей было, пожалуй, не меньше, чем легковых машин. С задней стороны скромных магазинов нашей Петроградской стороны разгружали конные фуры; лошади, подгибая то одну, то другую натруженную ногу, хрустели овсом из подвешенных к головам мешков. Навоз под их хвостами тут же измельчался стаями воробьев, сегодня поредевшими до незаметности. По Кировскому (теперь — Каменноостровскому) проспекту к Серафимовскому кладбищу еще можно было встретить мерно продвигавшиеся похоронные процессии — траурные дроги влеклись парой, а то и четверкой попарно впряженных, крытых сетками, в шорах и султаном на голове лошадей, ведомых под уздцы возчиками в пелеринах и высоких шляпах. Детей иногда подсаживали на край катафалка. Состоятельные провожающие следовали в легковых машинах на «черепашьей» скорости. Оркестр шел пешком. Наша больничная лошадь обитала в маленькой кирпичной конюшне рядом с таким же домиком конюха. В телеге на резиновом ходу ежедневно развозила она от кухни-«пищеблока» по клиникам бидоны и огромные кастрюли, с натугой поднимаемые санитарами.
Уже после войны, как-то избранная в районные депутаты, тетка настояла на асфальтировании нашей улицы под мотивом недопустимого вблизи лечебных учреждений шума. К сожалению, заодно с булыжниками пропали и любимые мною плиты.
Последний, четвертый этаж клиники изначально был распланирован под общежитие для молодых врачей и сестер милосердия, народа холостого, довольствовавшегося светлыми, южными комнатами, приятно обставленными лакированной белой мебелью шведского образца — с зеркалами платяных шкафов и комодов, веселой обивкой мягких стульев и длинными жардиньерками перед окнами. В некоторых комнатах были и свои раковины с крытыми полочками для предметов гигиены. Широкий коридор, наполовину застекленный, заканчивался местами общего пользования — ванной комнатой, туалетом и кухней с большой чугунной плитой. В эту его часть открывались и две комнатки, предположительно — для горничной и кухарки. Там же висел и телефон-вертушка. Коридор заканчивался дверью на «черную» лестницу (тоже достаточно светлую и широкую), ведшую и во двор, и в сквер. Ею пользовались в обиходе.
В противоположном конце коридора, за «служебной» дверью, помещались две большие смежные комнаты для заседаний и других общественных мероприятий, кабинет заведующего, свой анатомический музей и лаборатория. В ранние мои годы «Второй хирургией» заведовал уважаемый всем персоналом (и мною тоже) профессор Вильгельм Адольфович Шаак. Последующие же «завы» в моей памяти как-то не отложились.
В настоящее время к основному зданию пристроено обширное, вполне современное продолжение. Оно, вместе с новыми, вплоть до улицы Рентгена, клиниками полностью поглотило исторический пустырь. Новый вход с улицы Льва Толстого скрыл и красивую дверь в бывший сквер. Лишенный решетки и прочих признаков благоустройства, тот превратился в проходной затоптанный палисад. Давно нет и общежития. Его население, после получения в хрущевские годы отдельных квартир, разлетелось по всему городу, и четвертый этаж превратился в лабораторное отделение клиники.
За мои довоенные десять лет жизни в «идеальном общежитии» произошли изменения. Часть одиночек обзавелась семьями, на этаже появились дети. В беленькие комнаты втиснулись разностильные книжные шкафы, буфеты, письменные столы, детские кроватки и даже два рояля.

По коридору носился высокий трехколесный велосипед, обычно с парой седоков (второй, стоя на задней оси и опираясь на плечи «водителя», азартно понукал его и голосом, и нетерпеливым кулачком). В ванной постоянно сохло белье; кухонная плита (духовка которой бывала востребована только по большим праздникам) стала плацдармом для частных примусов и керосинок. И столько же заставленных посудой тумбочек и полок теснилось по стенам — шестеро, по числу «семей» (из которых половину все же составляли одиночки). Принципиально наше общежитие отличалось от обычных в Ленинграде коммуналок разве что своим чисто медицинским контингентом, исключая одно семейство (неясной профессии, подселенное в те две комнатки «черного» конца). Впрочем, там было двое детей, и мы ладили.
В роскошных, по нашим представлениям, условиях разместилась семья врачей Бекерманов, покинувшая, согласно легенде, Германию для спокойной жизни в Союзе. С ними прибыла и обстановка, занявшая три смежные комнаты. Главе семьи, доценту, был отведен кабинет, на фундаментальном письменном столе которого я, в редкие свои визиты, спешила любоваться (с ручками за спиной) малахитом многопредметного чернильного прибора, бронзовыми почтовой тройкой и медведем у колоды с медом. К круглому столу в столовой (более мне памятной) Каролина Марковна нередко созывала соседей угощаться то фаршированной щукой, то мацой, то иными кулинарными чудесами. Над столом царил обширный оранжевый абажур, в углу поблескивал буфет, возле дивана на тумбочке белела мраморная фигурка босого мальчишки в кепке, забавляющегося ссорой за какой-то клочок у его ног двух кур. В наибольшей, светлой угловой комнате, помимо детской мебели, поглощали внимание необыкновенный, черный, весь в перламутровой инкрустации, шкаф и большой рояль «Becker». Правда, на нем никто не играл. С родителями приехала и старшая их дочка, красивая гимназисточка Белла, плохо знавшая по-русски. По-взрослому высокомерная, она все же давала мне читать привезенные с собой уже гораздо более современные юношеские повести. Младшая, Лида, появилась на свет года на три после меня. Семью обслуживала преданная ей, ежедневно приходившая Христя, практически Лиду и воспитавшая.
У нас с мамой была одна, довольно большая, в два широких окна, но заставленная комната, прихотливо разделенная шкафами на персональные углы. Помимо двух (а с переездом к нам деда — трех) кроватей, столов — обеденного и письменного, с некоторых пор она вмещала и рояль, хотя и кабинетный (пианино мама не уважала).
Насчет окон. По причине нелюбви мамы к занавескам одно из них вечерами целиком, вместе с ветками наиболее рослых цейдлеровских деревьев проецировалось на стене над ее постелью. Моя детская кровать (пока еще — не убираемая на день раскладушка) помещалась как раз между источниками уличного света и «экраном», равномерно расчерченным переплетами рамы на прямоугольники. В каждом из них «шел» свой, причем постоянный, сюжет. Так, запомнилось мне в одном (верхнем левом) — «чаепитие». Персонажи, наклоняясь, что-то брали, протягивали чашки, вновь откидывались. Мирная вроде сценка настораживала своим автоматизмом. В других — перебегали, метались неприятно изменявшиеся формы, от которых ждать можно было только дурное. Но опаснее всего было разделение всего светового поля тощей фигурой великана с раскинутыми руками. Было ясно, что вся эта неживая жизнь вокруг — его злой каприз. И я вынуждена была смотреть и смотреть, не отворачиваясь — руки-то у чародея были длинные! Беспомощно засыпая, я еле успевала призвать своего постоянного спасителя — Белого Коня, на неоседланной спине которого уже мало боялась клубившихся вокруг его копыт чудовищ. Что касается «ночного кино», то оно тревожило меня даже и после разоблачения его тайны.
Комнатку для себя (а также — кровать и радио) я получила, будучи уже старшеклассницей. И впервые услышала «Пионерскую зорьку», памятную многим мелодию утренней зарядки, массу волнующей информации и музыки.
Тетка же перебралась в обе комнаты, оставшиеся после войны бесхозными. С ее легкой руки и верного вкуса и в них воцарился всегда окружавший ее дух чистоты и элегантности, создававший впечатление изящного жилища ученой феи. Сверкали белая мебель, зеркала, хрусталь, светлый, обихаживаемый приглашаемым полотером паркет. Вольно ниспадал невесомый тюль. Понятно, никаких ковров, портьер и даже обоев — стены наших комнат красили в нежные бежевые или зеленоватые тона. Теткины стены в те времена оживляло несколько репродукций из книги шведского художника К. Ларссона «Дом на солнце». Под ними — любимая мною пестрая кушеточка. За ширмой — кровать под пикейным покрывалом. На серьезном письменном столе — милые, памятные мне безделушки. Голубая китайская ваза (единственное сохраненное мною наследие) на круглом столике, с хороводом зверушек из уральского камня. И цветы, цветы, корзинами и букетами — подношения поклонников и благодарных пациентов. Лизоча считалась редким хирургом, подвизаясь, главным образом, в операциях на щитовидной железе. В этой области и защитила свою докторскую. Одаренная многими талантами (она могла хорошо рисовать, шить, готовить, петь, играть в городки, ездить верхом), проявляла их лишь по необходимости или по желанию. Не утруждаясь бытом, предпочитала услуги приходящей домработницы, а по праздникам — и повара.

Большие праздники, особенно новогодний, предварялись многообещающей кухонной суетой. В духовке, под присмотром приезжавшей на помощь тетки Веры, томилось жаркое; терпеливым верчением ручки мороженицы вымешивалось домашнее желтое мороженное (это поручали мне). Перетирали парадную посуду, переливали десертное вино в хрустальные графины. Многое приносили из ресторана (запомнились то ли копченые, то ли маринованные миноги — не вкусом, а новизной). Семейным вечером торжество не ограничивалось. С возвращением послевоенного Ленинграда в ранг второго по обеспеченности города тетка воскресила праздничные «корпоративные междусобойчики». По-прежнему в первой «комнате заседаний» накрывали стол на весь врачебный персонал клиники. Понятно, приглашались и родственники, близкие друзья, дорогие соседи. Мое место было «навсегда» застолблено в конце стола рядом с младшим тогда врачом клиники, Петром Сергеевичем Кустовым. В те времена моему застольному кавалеру было, вероятно, за тридцать. Места определялись прелестно нарисованными теткой Верой пригласительными карточками. Не обольщаясь мыслью, что мой сосед, будь на то его воля, не выбрал бы себе в соседки одну из аспиранточек, я все же была благодарна за внимательное наполнение моих тарелок и бокала. Последнее обстоятельство лишало покоя трезвенницу маму, то и дело вскрикивавшую с дальнего конца: «Петя, ради Бога, больше Тайчику не наливайте!». Тетка ее утешала: «Уж от кагора плохо ей не будет». Плохо мне не бывало. И я уходила к себе, предпочитая сон любым поздним радостям, оставляя взрослых освобождать себе место для танцев.
Танцевать Лизоча умела и любила. У нее, разумеется, был хороший патефон и много пластинок — с классикой, а также — с современными песнями и танцевальной музыкой. «Первым концертом для рояля с оркестром» Чайковского, особенно ею любимым, тетка даже умудрялась излечиваться от простуды. Из танцев же ведущим был фокстрот «Три поросенка», на слова «Нам не страшен серый волк, старый волк, глупый волк», но по-английски, под забористый джаз. Я тоже любила эту пластинку, но в один из своих черных дней нечаянно на нее села. Явное огорчение тетки было мне тяжело. Пластинка нигде не продавалась. Искала я ее не один год, нашла, наконец, но на русском и в худшем варианте, без лихих ритурнелей и неповторимого азарта.

Воспитание
Заложить во мне основы правильного мировоззрения мама пробовала несколькими вымышленными, положительными и отрицательными персонажами. Их поступки иногда, во время прогулок, выносились на обсуждение. Но, кажется, искреннего моего отношения никто из участников этого длившегося не один год сериала так и не заработал. Я больше доверяла читаемым мне книжкам, не уставала рассматривать иллюстрации в прекрасных кнебелевских изданиях к народным сказкам с рисунками Билибина. Читать я научилась рано, лет с четырех. С тех пор чтение стало занимать большую часть моего досуга. Сама страстно любившая книги, мама по возможности не препятствовала моим «запоям», считая их непременным этапом воспитания души. Со временем, однако, «моя душа» определила для себя области, доступ в которые, к сожалению, был решительно закрыт городской повседневностью. Все сильнее захватывали меня повести о природе, главным образом, о мире животных. Многие замечательные авторы-анималисты, в особенности, Сетон-Томпсон, заставляли сочувствовать и, нередко, подолгу горевать, пробуждая к своим героям интерес и жалость.
Не имея домашних любимцев, отдушину своему влечению в ранние годы я находила на даче. Помню, как чаровал меня большой крестовик, раскинувший роскошную паутину против лестничного окошка. Любоваться им приходилось тайно, в страхе привлечь к пауку безжалостное внимание хозяйки. Помню и голое деревцо, по всему стволу которого мельтешилась тьма божьих коровок. Каких тут только не было: и в черную крапинку — красных и желтых, и в красную крапинку — угольно черных! Посещение дерева (очевидно, пораженного тлей) со своей не редеющей клиентурой стало целью каждой утренней прогулки. Помню и ящерку, принесенную мною на веранду и увлеченно метавшуюся по подоконнику за мухами. Решив перед выпуском на волю ее «окольцевать», я не пожалела и хранившегося у меня серебряного кольца. А затем, испугавшись содеянного и не сумев снять с Лиззи ошейник, с плачем покаялась гостившему в те дни у нас «онкелю Паулю», мужу нашей с Ритой гувернантки. Он и провел операцию, смазав маслом головку ящерицы. Вспоминается мне и волнение, охватывавшее меня при виде бегающих (уже возле другой дачи) хозяйских кроликов. Однажды мне удалось ухватить одного серенького брыкающегося зверька и унести в комнату. Мадам Ло ушла в магазинчик; драгоценный отрезок собственного времени я провела с поджатыми ногами на раскладушке, следя за каждым движением оставленного посреди пола пленника. Он же, щедро насыпав «орешков», быстро освоился и, даже не поискав дверей, принялся за какую-то бумажку. Опыт был прерван вторгшейся хозяйкой, обвинившей меня в истязательстве. Досталось заодно и от вернувшейся мадам.
До войны я успела закончить три класса школы общеобразовательной и один класс — музыкальной. Первая школа, дугообразная новостройка напротив Института, устраивала и Лидию Николаевну Гелерт, врача-терапевта эрисмановской поликлиники. И — маму моей единственной за всю жизнь подруги Риты.

Ритино семейство (бабушка, мама и младшая сестра Муся) жили на недалекой от нас улице Скороходова (нынче — Большая Монетная). С Ритой мы дружили задолго до поступления в школу, получая воспитание из «одних рук». Обе мы, одногодки, едва ли не с колясочного возраста пестовались гувернантками — прибалтийскими немками, сестрами Бертой и Августой Гронвальд. Подобно многим своим соотечественникам, в разное время занесенным судьбой в Петербург, обе зарабатывали на житье этим востребованным тогда делом. И редко какой ленинградский ребенок «из интеллигентной семьи» не посещал «языковую группу». Правда, с не гарантированным успехом.
С первого моего школьного года Августу сменила раза два в неделю приходившая француженка мадам Лора («Ло»), успевшая ознакомить меня с основами чтения, письма и пересказать почти все романы Гюго. Понимая больше интуитивно, я с восторгом слушала, в ее живом изложении, сцены битвы героя с осьминогом из «Тружеников моря», безумия матери Эсмеральды, блуждания Жана Вальжана и его преследователя в парижской клоаке. Мадам же принципиально не понимала по-русски ни слова (по крайней мере, при мне мама общалась с нею только по-французски). И за два года, включая и дачное лето в Лисьем Носу, мне пришлось овладеть некоторым запасом разговорного французского для достаточного общения. Имевшиеся дома несколько толстенных «годовых» фолиантов юношеского «Mon Journal», ряды старинных «Bibliotheque rose» и «bleu», коллекции «Hetzel» быстро приучили меня к самостоятельному чтению, как классиков, так и вполне симпатичных бульварных романов. Когда в 1971 году наступил-таки месяц срочного освобождения ленинградской квартиры, связки книг заняли целый кузов предоставленного мне с работы грузовика. Вряд ли нашелся в городе хотя бы один крупный букинистический магазин, в котором не осталась бы часть этого печального груза. И кое-что, срочно перенесенное к Рите, еще долго распродавалось ею по ближним книжным лавкам. Оставлено книг было ровно на два доморощенных стеллажа — единственную увезенную с собой в Подмосковье мебель…
Как-то мы с мамой зашли к мадам Ло домой (жила она в «коммуналке» одного из красивых домов на Кировском проспекте) обсудить план предстоящего лета. В углу у дверей поразило множество столбиком составленных маленьких чемоданов. «На случай срочного переселения — большой кофр я не смогла бы унести», — пояснила хозяйка. Я же подумала, что упасти этакое стадо без урона еще менее возможно. Показано мне было несколько детских журналов с популярной тогда героиней — вечно попадавшей в глупые истории служанкой Becassine. Оказалось — память об умершей в раннем возрасте от дифтерита дочки Тамм (что заставило меня взглянуть на свою наставницу по-новому). Маме была подарена ее фотография — нарядно одетой и в локонах парижаночки. В Россию мадам была завезена своим русским супругом, которого скоро потеряла.
Лето в Лисьем Носу, под вполне демократичным управлением мадам, вначале оказалось терпимым, особенно после появления на нашем горизонте пожилого француза-гувернера при подопечном — маленьком худеньком мальчике. Слушая за спиной прекрасную французскую речь занятых беседой взрослых, шли мы с ним большей частью молча — наш французский отнюдь не располагал к доверительной болтовне. Невзирая на запрет, тихонечко на русском все же делились впечатлениями о наших наставниках. Но разница в возрасте сильно умеряла интерес к общению.
В дальнейшем же это лето было серьезно омрачено поселением на нашей даче бойкой до жестокости, ловкой и хорошенькой девочки Нелли, прямого моего антипода. И дни потянулись полосой страха, а, порой, и боли — приходилось «выкупать» то целость любимой игрушки, то жизнь словленного насекомого. Если я кого и ненавидела ненавистью, непонятой взрослыми и беспомощной, так это Нелли. Годами тлело это неутоленное чувство, пока при нечаянной встрече, уже в блокадные времена, я с облегчением не выплеснула всю горечь памяти в ее веселое, удивленное, затем — рассерженное лицо. Опомнившись, Нелли и сопровождавшая ее девочка принялись кидать мне вслед камни, что было, конечно, уже неважно. На той же даче некоторое время с нами жил и мальчик Женя Киссель, миротворец и вообще святой ребенок, чем-то неизлечимо болевший и умерший в 25 лет. А море у Лисьего Носа казалось мне, после Черного (где я успела побывать несколько раз) безжизненным и скучным. В нем нечего было делать, разве что мерзнуть.
Зимой были отведены дни и для «англичанки» Анны Ивановны, быстро обучившей меня азам грамматики. С одинаковым увлечением читали мы с ней прекрасные повести моих многочисленных английских книжек — пожалуй, лучшую детскую литературу по оригинальности фантазии и нравственному здоровью. В предвоенные годы букинистические магазины Ленинграда были богаты нанесенной сюда потомками перерождавшейся петербургской интеллигенции «иностранщиной». Среди добротных, иллюстрированных, излучавших обаяние ушедшего века томиков можно было встретить имена известных детских писателей. Некоторые повести этих авторов были переизданы на русском, даже и в последние годы. Там же теснились книжки популярного издания «Tauchnitz» в мягких обложках, специализировавшегося преимущественно на приключенческой литературе. По сей день у меня осталось несколько романов Хаггарда и, конечно, вся «Книга Джунглей» Киплинга. Наши занятия проходили (вероятно, по причине более приличествующей для них обстановки), за письменным столом в нередко пустовавшем кабинете заведующего. Строгость кабинета меня не смущала. С рождения обретаясь во врачебной среде, вдоволь наслушавшись профессиональных разговоров, особенно — мамы с теткой, о пережитых радостях и страхах, я на всю оставшуюся жизнь прониклась доверием к «людям в белых халатах», возможно, иногда и вопреки рассудку.
Дошкольные времена
Однако трудно переоценить роль моего первоначального, «немецкого», периода, заложившего прочную основу не только языка, но и моей дружбы с Ритой. За наши ранние годы мы овладели разговорным немецким не хуже, чем русским, свободно управлялись как с латинским, так и с готическим шрифтом наших книжек. Также научились немного пользоваться иголкой. Так, профиль моего дальнего родственника Севы, мальчика спокойного, но ранившего мое самолюбие обладанием выводка морских свинок, Рита вышила, мне в утешение, с зеленой каплей на кончике носа. Но не могу похвастаться приобретением пресловутой немецкой добросовестности и аккуратности. Вероятно, русская часть моей натуры активно противилась чуждым ей элементам. За что расплачивалась хроническим состоянием нечистой совести и вины. Зато в Рите они укрепили то, что было ей дано, по-видимому, от природы.
Сестры появлялись утром, к моменту убегания на службу наших матерей (Августа — моей, Берта — Ритиной), и сдавали нас с рук на руки по их возвращению. Мама тогда совмещала приемы в детской поликлинике им. Филатова с дежурствами в хирургическом отделении одноименной больницы, ходила по вызовам и приходила домой поздно. «Моего ребенка воспитали чужие руки!» — часто сетовала она при разговорах со знакомыми матерями. Бонны жили с нами и в снимаемых на лето дачах, обычно в районе Парголова, на единственной в Старожиловке улице Шишкина. Как-то вначале мама сняла комнату в Толмачево. Из этого помню только наличие в доме двух мальчишек, одного — с противным именем Юзик (хозяйка была полькой), ее ежевечерний зов: «Котаны! Котаны!», да ужас при виде меня на дальнем дворе в обнимку с цепным и слывшим очень злым псом. По-моему, скучавшая собака остро нуждалась в обществе — недаром она так рьяно натянула навстречу мне свою цепь.
Парголово
В годы моего детства Парголово с его селами Старожиловкой и Заманиловкой еще было традиционным дачным местом петербургской, а затем и ленинградской интеллигенции. Правда, к тому времени уже исчезли дачи Стасова, Шишкина и множества других знаменитых людей искусства и литературы. Вроде бы остался Шаляпинский дуб — «открытая сцена» певца, но нам об этой стороне Парголова не рассказывали. Зато сохранился старинный парк с прудами; средний, из-за своей формы, звался «Шляпой Наполеона». Снаружи оставленный без изменений, Шуваловский дворец внутри подвергся переделке в элитный дом отдыха, с кегельбаном во дворе. Вершина самой высокой точки в парке, горы Парнас, была коронована смотровой площадкой, к которой со стороны прудов вела длинная лестница. Другим своим склоном гора круто обрывалась в овраг, куда открывались скрытые в папоротниках, уже недоступные подземные ходы. Много десятилетий спустя я случайно узнала из городской газеты об обрушении этого склона и погребении в песках двух игравших там местных мальчиков, одного из которых спасти не удалось.
Иногда снимать дачу мы ездили с мамой вместе, задолго до дачного сезона, еще зимой. Помню заваленный снегами парк, через который, ради моциона и сокращения пути, приходилось прокладывать дорогу в деревню, карабканье на холмы и спуски (часто — на подолах пальто) в овраги, особенно с Парнаса. Нельзя сказать, чтобы экстрим меня увлекал, но — спускалась мама, спускалась и я. На обратном пути к далекому трамвайному кольцу, пытаясь скормить бутерброд с котлетой, мама с раздраженьем убеждалась в тщетности своих усилий разбудить во мне здоровый аппетит. Еда была основной мукой моих довоенных лет. Поскольку мне всегда хотелось только уже у кого-то пробованных мороженного и лимонада. Мама же потакать вредным моим вкусам опасалась, считая эскимо проводником простуды, шипучие же напитки — прямой отравой. Как-то в антракте детского спектакля я, нервно выстояв очередь, купила на данные мамой деньги («возьми, что хочешь») бутылку лимонада. Мама застала меня за опорожнением второго стакана и в ужасе изъяла бутылку. И допивать ее она, вероятно, по педагогическим соображениям, не стала.
Комнату выбирали в наиболее скромных домиках, однако с верандой на случай дождливой погоды. Не смущаясь оклеенными самыми дешевыми обоями, а кое-где — и просто газетой, стенами, смотрели лишь на их чистоту и отсутствие клопов. Помимо того, интересовались наличием в семье детей моего возраста. Им мама отвозила мои вышедшие из употребления игрушки, устраивала между нами тематические конкурсы на лучший рисунок (например, — двух дерущихся петухов, козлят и мальчишек). Трудились мы с хозяйским Колей над этой нелегкой задачей за столом на веранде, ладошкой прикрывая листочки от подглядок. Наградой в этих беспроигрышных соревнованиях бывала коробка цветных карандашей. Игрушки же вызывали скорее удивление, играть с ними сельские дети совершенно не умели, да и взрослые считали это пустым баловством.
На прогулки нас с Ритой сестры выводили одновременно. Если не на станцию за керосином (и — вожделенным шариком мороженного в вафельках), то для обхода наших «знаковых» мест в Шуваловском парке. Ими были признаны мрачноватый пруд с готической церковкой на высоком берегу и таинственным склепом некого Адольфа Полье под нею, довольно разрушенная каменная скамья на вершине скользкого от сосновых игл холма. И, конечно, — полянка в старом хвойном леске с древней елью, известной нескольким поколениям дачников своим обнаженным драконоподобным корнем. Эта ель, под которую и мама, и я водили уже «своих» детей, совершенно усохшая, недавно срублена и распилена. Но все так же, среди непролазного кустарника, в зеленой шубке, встречает меня старый дракончик. Подолгу засиживались наши наставницы с вязаньем на гранитных валунах у опушки ельника. Мы же рыскали поблизости, преследуя громадных стрекоз, цеплявшихся за наши нагретые солнцем панамки.
Совершался и более долгий променад на Воронью гору, крутой берег «чухонского» (теперь — «финского») озера с зеленым островком посередине. Одинокий дом на нем тревожил нас своей таинственной безлюдностью. В озере водились лещи, которых иногда покупали на обед. Неумолчно что-то обсуждая, предпочтительно на немецком (за этим следили), мы с Ритой шествовали впереди. За нами следовали одна или обе гувернантки с двумя белыми собачками — лупоглазым карликовым пинчером и болонкой. Лохматого, стриженного под пуделя кобелька я гордо выдавала интересующимся за мелкого льва.
Впоследствии, однако, какие-то причины заставляли Риту проводить лето в Юкках. Маме же Старожиловка оставалась более удобной (о, жестокая расчетливость взрослых!), и свои каникулы я проводила на дачах вместе с дедом. Завершилась парголовская эпопея моих ранних лет чуть ли не трагически — острым приступом аппендицита.

Инстинктивным отказом от касторки я вынудила деда позвонить маме. На «Скорой» мы с ней вернулись в Ленинград — сразу в операционную. Любопытно, что тетка суеверно побоялась меня оперировать, поручив это хирургу Татьяне Николаевне Черносвитовой. Аппендикс оказался накануне разрыва, успешность дела решали минуты. Потом сколько-то дней я лежала в палате с тяжелым, набитым льдом, пузырем на шве, а пить давали изредка, по чайной ложечке.
Бессменную нашу Старожиловку война пощадила. С продуктами, однако, было неважно. Мы с дедом покупали у хозяев картошку, а обедать (все еще по карточным талонам) ходили в открывшуюся на островке церковного пруда чайную. Мама еженедельно нас навещала; разгрузившись, выслушивала наши отчеты и засветло торопилась обратно. Спешным шагом я провожала ее до шоссе, дальше ей было спокойнее одной.
Особенно же запомнилось одно наше в Старожиловке пребывание. В соседнем доме снимает комнату молодая женщина с годовалой, начавшей ходить дочкой. Убегая в магазин, то и дело доверяет мне присмотр за чадом, резвящимся на расстеленном во дворе одеяле. В напряжении считаю минуты до возвращения «бесцеремонной мамаши». К счастью, дитя занято собой и не заставляет ни прикасаться к себе, ни, тем более, удерживать от непредвиденных поступков. Любуясь уже крепко стоящей на ножках девочкой, довольная мать повествует о своих походах по стране, о палаточной жизни, кострах, в общем — о счастье в чистом виде. О котором я столько читала, всерьез для себя (да и для знакомых сверстников) возможным не считая. Но вот передо мной не книга, а сама живая реальность! Уверенная, принципиальная, очень «советская» молодая особа, это она отговорила меня, комсомолку (стало быть, я уже закончила десятилетку, заодно и семилетнюю музыкальную школу) от почетной роли крестной матери хозяйской внучки. Которой, кстати, я и в глаза не видала.
Конечно, я не помышляла тогда о легкомысленности своего согласия на хозяйскую просьбу, плохо представляя себе обязательства такого «родства». Но для моей наставницы главное табу заключалось в совсем ином — в недопустимости якшания с религией и церковью в любом виде. Ее горячее вмешательство меня озадачило. Воспитанная в лояльности к религии в ее популярном изложении, я прилично знала библейскую версию Сотворения мира и последующую историю человечества в изложении Старого и Нового Заветов. Главным образом, — по пронизанной благочестивыми настроениями классической литературе, иллюстрациям Доре к Библии и художникам Возрождения. И, не осложняя себе жизнь бессмыслицей выбора, без претензий принимала неизбежную разнородность окружавших меня миров. Но вот один из них диктует мне свои принципы. Надо же! Пришлось объясниться с хозяйкой.
Последнее о Парголове
Последнее свое юношеское посещение Парголова я совершила после окончания первого курса биофака ЛГУ, накануне весенних экзаменов. Прекрасный майский день, солнечный и ветреный, утянул меня за город. Как сейчас помню легкое свое настроение, надетое впервые после зимы коричневое «демисезонное» пальтишко, вязаную шапочку вместо ушанки и сменивший шарф алый шелковый бант в крупных черных горохах. Как развевался он на ветру! Направилась я, конечно, в Старожиловку, к последним нашим хозяевам — повидаться, покрасоваться в новом качестве, посетить заветный лес. Долго сохранять достойный облик студентки не получилось — вскоре он сменился безудержной беготней в круговой лапте с парой увязавшихся со мною девчонок. Взмокшая, сбросив пальто, жадно напилась из катившегося из-под снега ручейка. И на другой день не смогла встать с постели…
Эксудативный плеврит свалил меня на добрую часть лета. Спас выхлопотанный теткой американский пенициллин, которым я была исколота до позеленения в глазах. Сессию я, конечно, пропустила; готовясь к осенней сдаче, не в силах была запомнить прочитанное. Особенно плохо укладывалась в моей усталой голове «Зоология беспозвоночных», которую не однажды пришлось пересдавать нашему доброму профессору Догелю. Туберкулезная этиология моего плеврита долгие годы затем проявлялась случайно и некстати обнаруживаемыми в легких очажками, беспричинным кашлем и приступами необоримой слабости.

Бывая в Ленинграде, наблюдаю за неуклонным приближением города к таким когда-то далеким заповедным местам. Трамвайное кольцо у Озерков, от которого еще приходилось шагать и шагать, обычно, с полными сумками, дополнилось станцией метро, от которого предпочитаю добираться наземным транспортом (по такому изменившемуся Выборгскому шоссе!) до старого железнодорожного моста. За ним уже с облегчением сворачиваю в наконец-то узнаваемую среду. Где-то справа — Парнас с его прудами и дорожками. Когда же покажутся стражи невидимых ворот в мир воспоминаний? Вот они, наконец: скамья на холме и напротив церковка над прудом «Драконовой рощи».

Еще о нас с Ритой
Рита училась на филфаке. Здания наших факультетов стояли рядом, но встречались мы редко — новые интересы и неотложные заботы отдалили нас друг от друга, поставив преграду прежним откровениям. Иногда сведения о наших взаимных успехах мы получали через частную преподавательницу английского языка, которую обе, но порознь посещали. За войну полученные мною от Анны Ивановны скудные сведения по английской грамматике успели выветриться. И Рита, как будущий профессионал, ревниво относившаяся к моему поверхностному «полиглотству», была, похоже, этим несколько утешена. Однако в руках специалиста я подверглась реальной опасности переплюнуть Риту (если вообще это было возможно). Молчу о грамматике, но до сих пор помню двустишие о мудрой сове на дубе, которое меня заставляли повторять по нескольку раз кряду. Выправленная таким образом, я убедила маму в достигнутом пределе своих способностей. При расставании получила то ли в награду, то ли в поучение томик «The Personal History of David Copperfield» с тонкими рисунками известного в век Диккенса иллюстратора под странным псевдонимом «Phiz». С рекомендацией читать понемногу, но вслух. Увы, оба совета я нарушила. И с легкой душой отпустила Риту в океан подобающего ей безграничного совершенствования. Только удивлялась ее упорному отлыниванию от вылазок в столь богатое общими воспоминаниями Парголово. С тех пор пришлось нам идти далеко и надолго разведшими нас дорогами. Много страниц наших, часто не самых веселых, суетных лет так и остались взаимно не прочитанными и дружески не пережитыми.
Ада
Я не хочу сказать, что некоторому наступившему между нами отчуждению способствовало обретение Ритой громадной опоры и пожизненной привязанности в лице своей названной сестрицы Ады. Что было хорошо для Риты, было хорошо и для меня. В данном случае — добавляло спокойствия за ее плохо приживающуюся к реалиям жизни натуру. Добрейшая до святости Лидия Николаевна, оценив возникшую дружбу, удочерила Ритину однокурсницу, сироту из Белоруссии, и этим обеспечила свою дочь истинно близкой душой на доброе сорокалетие. Ада, вначале поселившаяся у них на Скороходова, уже журналистом, Адой Ивановной Луговцовой, получила жилье на Гаванской, где я с нею в один из своих наездов и познакомилась. И тотчас перенесла на новую «родственницу» часть своих к Рите дружеских чувств. В Аде, открытой и приятной в общении, угадывалась натура исключительно прочная, верная и глубокая. А внимательная ее доброжелательность всегда облегчала решение тяготивших проблем.
Заняв должность заместителя редактора «Ленинградской Правды», Ада вместе с Ритой поселилась рядом с редакцией, в уступленной Мусею «полуквартирке» с огромной, выходящей тремя окнами на Фонтанку, комнатой. Муся же переехала к супругу на Большой. Хорошо памятна мне эта комната с высоким лепным потолком, из окон которой, минуя набережную, словно в Венеции, глаза сразу встречали воду. Здесь хозяйки оставляли меня с детьми Мишей и Асей на часть наших отпусков в обществе черного кота Мурильо. Этот Мурильо в первый же год моего знакомства с Адой был почти насильно навязан ей во время нашего случайного отдыха на Гаванском бульваре. Там к скамейкам поочередно подходил черный, как смоль, хромой кот, выпрашивая подаяние. Закончились мои горячие убеждения крепким сном кота на ворохе газет в углу Адиной комнаты. Мурильо, проведший в довольстве и неге немало лет, сменивший три дома и летом регулярно вывозимый на государственную дачу в Зеленогорске, лишь немного не пережил свою хозяйку.
Наконец, путем обменов, подруги объединились в приличной квартире на улице Жуковского, ставшей и моим очередным и счастливым ленинградским пристанищем. Сколько раз, перед парадной, с чемоданом в руке, меня охватывал страх, что капризный код почему-либо не сработает. А найдя в дверях записку — о досрочном выезде в Зеленогорск, или просто о выходе за молоком, соответственно отправлялась либо на вокзал, либо, подстелив газетку, устраивалась на ступеньках. За порогом же чувствовала себя вернувшейся, наконец, домой из долгих и непонятно зачем затеянных скитаний. Но пополнявшийся Адой небольшой отрядик сувениров на шкафу — то мечтательной химерой с Нотр-Дам, то — терракотовыми быками Испании, настраивал на иные мысли. Меня, ежегодно занятой разъездами по диким весям своей страны, эта выставка заставляла задумываться о неизбежности походов и в противоположном от них направлении. Когда-нибудь…
Первые признаки неблагополучия я осознала во время нашей экскурсии в Выборг. Бессильно присев на край громадного «бараньего лба» в парке «Монрепо», Ада тихо попросила меня не привлекать к своей слабости Ритиного внимания. И с каким грустным умилением крошила она, в ожидании электрички, хлебные остатки деловитой воробьиной стайке! Затем — диагноз «белокровие»; повторная госпитализация, под руки ведем Аду в ее больницу на какую-то из Красноармейских улиц. Затем — Ритина телеграмма о сроках похорон, служба в церкви на Серафимовском кладбище, речи и поминки в Доме журналистов. Квартира опустела. Муся, успевшая вернуться на Фонтанку, тотчас увезла Риту к себе. Я отважилась вновь посетить ее не ранее, чем через год, может быть, и два — соображаясь с поступаемыми от Муси заключениями. Рита диким зверьком сидела на своем диванчике в углу комнаты. Кажется, она не работала, но что-то уже читала. Поговорили. В дом на Жуковского Рита вернулась еще не скоро. Ночуя в маленькой Адиной комнате, укладывала меня на свою кровать. И еще полтора десятка лет старалась жить, работать и быть полезной сестре на даче. Пока просто не изнемогла от всего этого, ей не нужного. Умерла она в состоянии крайнего физического истощения.
Юг
В свой всегда осенний отпуск мама возила меня на юг, к Черному морю, однажды даже с Августой в помощницах. Таким образом, дошкольницей я успела побывать и на крымском, и на кавказском его побережьях. В Феодосии более всего была изумлена заверением сторожа в «настоящей» дикости шнырявших по винограднику кроликов (полное же винограда ведерко интереса не возбуждало). Запомнились и беспокойные морские картины в музее Айвазовского, но понравилась — влачившая высокую арбу пара волов. В соседнем Коктебеле нами собирались огромные количества знаменитой зеленой гальки (которую я, расставаясь с Ленинградом, пакетами высыпала в детскую песочницу). Песчаное же побережье Хосты и Анапы показалось пустоватым. Зато в песках можно было отыскать створки раковин в изящной известковой бахроме нежнейших оттенков. Купаться в море я не любила — вода казалась холодной, было больно ступать по крупной скользкой гальке, да и заманить меня, не умеющую плавать, на глубину выше колена не удавалось. Так что с опаской переносила я учиняемые мамой морские купанья «на глубинах» с мылом и губкой, предпочитая обливания из ведерка. На мелководье же увлеченно охотилась за разнообразными дарами моря, особенно богатыми после штормов. Ловле морских коньков, игл и мелких камбал очень способствовали трусы, используемые в роли сачка. Неразрешимую загадку представляли выбрасываемые прибоем почти квадратные, как бы из темной резины мешочки, скорее похожие на изделия рук человеческих и поэтому вызывавшие брезгливость (много позже я узнала, что, вероятно, это были яйца акулы-катрана).

Черное море и впоследствии притягивало меня к своим берегам. Однажды я прибыла в Хосту к отдыхавшим в «Доме художника» теткам прямо с оборвавшейся студенческой практики в Кара-Кумах, через Каспий и Кавказ, «от моря и до моря». В те годы от Красноводска до Баку ходила старая «Багира». Жаркую ночь приятно было коротать на палубе, под свисающим углом какого-то брезента, вдоволь насмотревшись на глазастые морды любопытных нерп. В Хосту заезжала и с еще дошкольным Мишей — из Адлера, проведать «ванны» Агурских водопадов. Но за полтора десятка лет и ванны, и сами водопады успели сильно обмелеть, так что желаемого эффекта не произвели.
Любимый же Крым навсегда запечатлелся Гурзуфом, где тетушки, сняв комнату прямо над крутым, заброшенным спуском к морю, подарили мне незабываемые каникулы в диких заливчиках среди воды и камней. После спада жары и вечерних заплывов мы, уже вместе, вливались в «культурную жизнь» узких улочек. Заходили и в кино, где, к приятному нашему удивлению, встречались предающиеся столь простым удовольствиям весьма знаменитые и чтимые нами персоны. Приобщать детей к крымским прелестям сперва удавалось с Мишей, с которым я старалась пройти все радости свободного приморского житья. Сюда включалось освоение, с помощью ласт, и самого моря. Затем, втроем, вместе с уже обретшей «портативность» Асей, широко путешествовали вдоль побережья, вплоть до севастопольского Мемориала. Окончились наши семейные туры памятным Коктебелем, где вошедший в подростковый возраст Миша быстро от нас откололся. Загоревший и взъерошенный, возвращался он со своих с местными приятелями эскапад только к хозяйским борщам и сеновалу. Мы же с Асей предались всеобщей страсти искательства самоцветов в лице агатов, сердоликов и халцедонов, еще выдаваемых Кара-Дагом. Купались ли мы? Если отпускали поиски. Насчет мощи воздействия этой болезни могу добавить, что и несколько лет назад, завершая свой «крымский цикл» на биостанции под Кара-Дагом, я вернулась домой опять лишь с пригоршней шелковистых морских камней.
Ностальгические будни
В городской повседневности наши с Августой прогулки сводились к посещению продуктовых магазинов, особенно — в полуподвальном этаже роскошного элитного дома на Кировском проспекте. Надо сказать, что я рано оценила архитектурную красоту этого проспекта, с обоих концов завершаемого прекрасными мостами и украшенного нарядными жилыми ансамблями из серого камня. Их обширные, соединенные арками или колоннадами подъезды совсем не напоминали описанные классиками петербургские глухие «колодцы» с опасными подворотнями. Хотя — составляющими и сегодня, конечно, основную архитектурную особенность множества жилых кварталов «северной столицы». За красивыми, в бронзе и стекле, парадными представлялась некая идеальная жизнь, суть которой, однако, я не смогла бы объяснить. Но мама, иногда бравшая меня на вызовы и оставляя на время визита во дворе, неизменно гасила мои фантазии описанием быта обычной коммуналки. И все-таки даже спуск в уютный магазинчик по гранитным ступенькам с замысловатыми чугунными перилами всегда обещал что-то большее, чем овощи или мясо. Частенько ходили мы и на Ситный рынок «пробовать молоко». В то время как Августа с бидончиком неспешно продвигалась вдоль нескончаемого ряда молочниц, я устремлялась в рыбный отдел, где замирала над живыми карпами и раками. Иногда мне выискивали еще не вполне уснувшую рыбешку, но разумная моя бонна умела находить доводы против подарка.
Сестры часто приводили нас к себе, в одноэтажный деревянный дом на Кировском, между улицами Скороходова и Мира. В глубине двора к глухой стене многоэтажного здания прислонялся крошечный флигелек (еще сохранился отпечаток его угловатого контура) с гипсовым гномом в ухоженном палисадничке. В этом флигеле проживала старая фрау Кирштайн с коротким пальцем, «когда-то уколотым еловой иголкой, воспалившимся и ампутированным» (потрясала ничтожность причины этой драмы). Чинно поздоровавшись, косясь на палец, мы любовались гномом и уводились.
Хорошо помню небольшую комнату в конце темного коридорчика (напротив ютилось еще одно семейство, их белый, голубоглазый и глухой кот доживал в нем свой век). Эта комната, в которой жили обе сестры и Бертин муж, разгороженная занавеской, была тесно, но по возможности уютно заставлена. В левом углу у окна, меж двух, в оранжевых чехлах, кресел стоял рабочий столик. Середину его занимала неизменно восхищавшая нас низкая, прямоугольной формы ваза с очень живыми фарфоровыми птичками по краям. В вазе хранились клубки болонкиной шерсти (из нее сестры вязали рукавички и носки) и костяные вязальные крючки. А кроме них — длинная гирлянда каменных или стеклянных пестрых яичек, одно другого прекраснее. У противоположной стенки стояла этажерка с безделушками. В особенности тянуло нас к большой перламутровой раковине, в которой «еще слышался шум моря». Брать в руки эти сувениры разрешалось не всякий раз. Зато с неизменным благодушием встречал нас нигде не работавший «онкель» Пауль, занимавшийся, по-видимому, только своей коллекцией неких жестяных жетончиков на обитой черным бархатом доске. Долго хранился у меня его дар — три жетона, изображавших подкову, желтый щит со скрещенными на нем черными мечами и четырехлистник клевера с божьей коровкой.
Иногда мы заставали там и гостей — «танту» Труду с сыном-подростком Петером (почему-то прозванным мною «красным петухом», конечно, по-немецки). Взрослые, сидя за занимавшим середину комнаты столом, беседовали, благовоспитанный пионер Петер помалкивал, мы же с Ритой занимались никогда не надоедавшим делом — перебирали у окна шкатулку с пуговицами, бусинами и подобными драгоценностями. У каждой из нас уже были свои накопления, приносимые в фирменных коробочках из-под чая на смотрины и обмен. Помню, как жалко было мне Муську, которая, в случаях моих свиданий с Ритой у них дома, пыталась разглядеть своими огромными черными глазищами что-нибудь из дивных красот наших «сундучков». В отличие от нас, Муся получала вполне обычное домашнее воспитание под присмотром бабушки. Ее не учили языкам, не обременяли музыкальными занятиями, летом не бывала она вместе с нами на даче. Скорее всего, по причинам материального плана. Рита же, в те далекие времена державшая сестру на расстоянии (вероятно, ревнуя к матери), не допускала с моей стороны никаких поблажек. А с ее сложным армяно-шведским характером спорить не приходилось.
Перемены и разлуки
К чему это подробное предисловие? Очевидно, для закладки контрастной основы последовавшим переменам, разлуке с нашими воспитательницами, а затем — и с привычным жизненным укладом. С поступлением в семилетнем возрасте в первый класс мне пришлось расстаться с Августой, Рите — с Бертой. Для присмотра за мной мама переселила к нам моего деда, Леонида Александровича Томилова, с улицы Воскова, из прокуренной комнатушки моей третьей тетки. Мамина сестра Нина Леонидовна, врач-невропатолог, была, в глазах знакомых, человеком оригинальным. При входе в ее комнату сразу удивляли стены, увешанные географическими картами сибирского Юго-Востока (всегда интриговавшее меня теткино хобби). Собирала она и книги о знаменитых путешественниках в эти края. Но сама «принципиально» никуда не выезжала, довольствуясь одинокими многочасовыми прогулками по пригородным болотам. Опасаясь близких со мною контактов («чтобы не привыкнуть»), она, хорошо рисовавшая, все же дарила мне портреты животных — героев моих детских фантазий, а как-то — и целую коробку картонных елочных фей и эльфов. Помимо того, художественно обшивала двух своих кукол — от белья и шляпок к разнообразным костюмам до чулок и кожаных туфелек.
Дед, отработав свое на каком-то заводе и выйдя на пенсию, в свободное время от необходимого за мной надзора и выходов в булочную, тоже с увлечением предавался чтению. Сидя в большом кожаном (подаренном Лизочей) кресле возле заставленного горшками «своего» окна, углублялся в очередной фолиант о путешествиях. Особенно мечтал приобрести книгу доктора Елисеева о поездке в Африку (книгу, в конце концов, нашли в каком-то «буке»). Свою же основную, хроническую тоску «по землице» старался отводить уходом за густо заселившими оба наших окна растениями. Помню великолепные «ковровые» бегонии, мощные алоэ, регулярно цветущий наглый «тещин язык». Окно над дедовой кроватью пришлось перегородить дополнительной полкой — подоконники уже не вмещали разрастающегося обилия зелени. А на углу письменного стола, уже много лет росла порядочная финиковая пальма, выращенная мамой из косточки. Подозреваю, что в моих родственниках тосковали несостоявшиеся натуры, голодные души странников, а возможно — просто подавляемая бытом тяга к свободе…
Вот и мама, не имея больше возможности брать меня, школьницу, с собой в отпуск, сразу отбросила не любимый ею юг. Зато пристрастилась ездить до станции Веймарн под Кингисеппом в деревню к некой Ане, кажется, давнишней своей пациентке. Оставляя меня и деда временным заботам Нины (откровенно ими тяготившейся), она проводила скупые счастливые дни в быту деревенской избы, бродила по лесам. В город возвращалась, нагруженная брусникой и солеными грибами, заранее встревоженная ожиданием домашних новостей. Я понимала отвращение мамы к предстоящей до следующего отпуска «каторжной» жизни, отравляемой скандалами заведующей ее поликлиники. Но, сочувствуя, не умела выбрать верный тон для встречи. Кидаться с объятиями, подобно книжным персонажам, считала для себя неприемлемым, сантименты мне претили. «Мертвая душа!» — вздыхала мама. Утешеньем ей служила убежденность в моей поднадзорности и несомненные успехи в немецком. На нем я не только предпочитала, по случаю, общаться, но и размышлять. Даже отца, вернувшегося из очередной поездки и которого быстро забывала, я ошарашила вопросом: «Bist du mein Papa?». Мама же вроде осталась мною довольна — мол, времени мы тут даром не теряем!
В защиту свою, однако, скажу, что нежностей в семье не водилось. Вымотанной двойной работой и туберкулезом маме было не до «китайских церемоний». Это выражение ввел добрый Лизочин знакомый, прозванный мною, по инициалам, Ююшей. В свои визиты он брал меня, маленькую, на колени и торжественно чмокал в одну и в другую щечки. Мама же, со своими «очагами» и представлениями о гигиене за преступление сочла бы целовать ребенка. «Самое поганое место у человека — его рот!» — повторяла она (я твердо это усвоила). Рассчитывая только на себя, иногда ограничивалась риторическими обращениями типа «Думаешь, мне легко одной росу обивать?». Я молчала, ибо о «росе» не задумывалась — обходились же без отцов многие знакомые дети! И втайне досадовала на пустые жалобы. А ласкаться к энергичной, хорошо одетой тетке — еще надо было выбрать момент, в подозрении, что ответных чувств не вызову. Уж очень я не дотягивала до юных героинь прочитанных повестей. И поэтому имела причины сомневаться в чьей-либо ко мне любви. Даже — маминой, уяснив, что начавшаяся было ее научная карьера была напрочь загублена семейной жизнью, к тому же — не сложившейся.
Под рачительным женским руководством я вырастала феминисткой. Известные мне женские слабости, пожалуй, не без основания почитала добродетелями. Мама питала явную слабость к книгам, Лизоча и Вера были очень неравнодушны к красивым вещам — цветам, посуде, картинам, тетка Нина увлекалась виртуальными путешествиями, обе бонны — вязанием «напульсников», затем раздариваемых. Мамина знакомая, «Кошья матерь» любила кошек. Все это было благородным, добрым, созидательным. Чего, конечно, нельзя было утверждать о пресловутых слабостях противоположного пола, многие из которых, на мой взгляд, не заслуживали снисхождения.
Тем не менее, боясь вырастить из меня «не научившуюся делиться эгоистку», мама часто сетовала на отсутствие у нее нескольких детей. Сама же она, проведшая свое дошкольное детство в компании двух братьев и младшей сестрицы, похоже, большой привязанностью к ним не страдала. Но к чужим малышам, по ее словам, тянулась всегда, особенно в гимназические годы, с дозволения родителей одевая их и даже купая. В замужестве главным образом рассчитывала завести собственное потомство — «уж не меньше троих». Еще перед войной мама серьезно присматривалась к прехорошенькой кудрявой девчурке лет четырех, жившей со своей бабушкой в каморке под черной лестницей нашей музыкальной школы. Умершая мать, кажется, работала в ней уборщицей. Мама относила туда мои старые вещицы и, вероятно, вела с бабушкой соответствующие переговоры. Возможность появления сестры меня ни радовала, ни пугала. У Риты была Муська, с которой она ссорилась (на мой взгляд, излишне часто), «делиться» игрушками (но не всеми) было вроде не жалко; всплывали и смутные опасения о дополнительных нагрузках и обязанностях. Но война положила конец маминым планам. Бабушка умерла, мою несостоявшуюся сестричку как-то быстро эвакуировали с детдомом, и концы затерялись.
Вовка
Позднее выпала для меня еще одна возможность обзавестись, на сей раз, братом. Вскоре после войны некая неожиданно объявившаяся родственница привела к нам черноволосого парнишку лет восьми — с просьбой приютить его на время ее отъезда по вербовке куда-то «на севера». Дед на это время переселился в свое прежнее жилище, к Нине. В нашей комнате произвелась небольшая перестановка — мою раскладушку придвинули к противоположной стене у «прохода». На мое же место у рояля поставили раскладушку для Вовки. Дело было где-то в начале осени, Вовка был гол, как сокол, в узких для него коротких штанишках. Возмутившись, в тот же вечер мама села кроить и шить на нашем старом «Зингере» ребенку штаны, причем — «на вырост» (этих штанов Вовка ужасно стеснялся всю свою у нас жизнь). Сильно подозревая, что чадо подсунуто ей, возможно, и навсегда, с присущим ей чувством долга мама взялась перекраивать и его по своим понятиям с первых же дней. Сразу устроив в школу общеобразовательную, тут же записала и в музыкальную. Бедный Вовка только кряхтел, непривычный к такому родительскому напору. Мама не ленилась ежевечерне проверять его тетрадки и дневник, ходила на родительские собрания, спрашивала заданные наизусть стихи. Кажется, она даже пыталась общаться с маленьким дикарем по-французски. Читать Вовка приучен не был, с изумлением осматривал он мои набитые детской литературой шкафы. Возможно, он и читал бы, если бы позволяло время. Барабаня на нашей «прямострунке» какое-то начальное упражнение, тоскливо оглядывался на разложенный конструктор. Зная, что мама прислушивается к доносящимся к ней на кухню звукам, я давала Вовке передышку, подменяя его за роялем на безопасное время.
Закончив класс (без особых успехов), Вовка вздохнул свободнее — начались каникулы. По больничной территории мы часто бродили втроем с вернувшейся из эвакуации Лидой Бекерман. Ходили и к кольцу на Петропавловской, следили за тормозящими трамваями — хотелось научиться вскакивать на ходу. Но решимости совершить это преступление всякий раз не хватало. Наконец, пришлось расписаться в своей несостоятельности, оправдывая ее нежелательным присутствием среди пассажиров знакомых «институтских». Как-то, найдя заблудившуюся в задворках кухонную тележку, мы, откатив находку в укромное место, решили «приладить к ней мотор и использовать в качестве вездехода». Но, для начала, покрасить. В ту весну город усиленно залечивал военные раны — где отстраивался, где ремонтировался. На площади Льва Толстого, видно, что-то красили; прохаживаясь мимо оставленной в подворотне банки с краской и кистью, мы подхватили ее и унесли без зазрения совести. Два дня наслаждались мы покраской каталки в ярко-зеленый цвет и нетерпеливо ждали ее обсыхания. Банку тем временем тайно поставили на старое место, заранее хихикая над удивлением маляров. Но — смеется всегда последний. Нашу зеленую красавицу увели, не нашли мы ее и на парковке при кухне. Пришлось искать утешение для Вовки на Гренадерке, где я показала ему место моей некогда вырытой в холме землянки. К этому времени она просела и осыпалась, но парень взялся за ее восстановление с энтузиазмом.
Надо было заняться творчеством и другого рода. Раз, купив мороженного, наломав в стакан немного шоколада, я принесла это потрясающее лакомство Вовке с вестью о якобы открытом заезжим фокусником (почти волшебником) конкурсе на «верное имя» своему ручному бегемоту. Не может бегемот взлететь без вслух произнесенного правильного имени! А «пломбир» — задаток. Уверовал ли мой кузен (официальный Вовкин статус для посторонних) в экспромт, подобно снежному кому, обраставший парадоксальными подробностями? Верить хотелось, да и столь весомый аргумент, как мороженное, сбрасывать со счетов не приходилось… И началось, по известной сказке — «А не звать ли его так-то, или этак-то?». Я, принося очередной стаканчик, подбадривала Вовкину фантазию невероятными подсказками и сообщениями о начавшихся маленьких взлетах животного. Наконец (в предвидении конца моих финансов), мы вышли, после проб и переделок, на имя уж совершенно неотразимое — «Великое Фыркалище». В момент его оглашения бегемот взлетел на глазах у допущенных к опыту свидетелей, но приземляться раздумал. Сейчас держит курс, похоже, на Африку. Вдогонку послан самолет с крепкой сетью. А мороженное это, стало быть, последнее. «Да ну его, мороженное! Только бы долетел!»
В конце лета, однако, вернулась Вовкина мать. Бедный парень так и кинулся к ней. Мне она привезла целую коробку сушеных звезд и ракушек (положивших начало собственным сборам). Вовка же вытребовал у мамы свои старые штаны и тут же в них влез. Покинули они нас в тот же день. Но все это, вместе с разлукой, произошло значительно позже…
А в тот, первый свой школьный год я оказалась разлучена с Ритой — попав в одну школу, мы оказались в параллельных классах. Виделись урывками, на большой перемене, когда можно было съесть свои завтраки на одном подоконнике и обменяться информацией. К тому же в первом классе Рита, часто болевшая, сумела пропустить чуть ли не весь учебный год. Несправедливость судьбы удалось исправить лишь к третьему году обучения. Но и тогда для общения оставалось времени в обрез. Особенно у меня, занимавшейся еще с мадам Ло и Анной Ивановной.
К этому добавились поездки (куда-то в зимнюю тьму) к двум сестрам-немкам, для совершенствования языка. Эти уроки были групповыми. За большим столом мы писали диктанты, читали вслух, играли в требовавшие внимания игры, цифровое лото. В страхе что-либо не понять, я не имела времени рассмотреть своих соседей, не знала ни числа их, ни имен. О каком-либо более близком знакомстве не могло быть и речи — после занятий родители одевали нас в темной прихожей и уводили. К стыду, не помню точно имени нашей строгой учительницы (Амалия?), хотя довелось общаться с нею и позже. Но помню имя ее более мягкой, ведшей домашнее хозяйство сестры, склеившей мне раздавленного чужой неосторожной ногой пластмассового льва. Ее звали Агата.
Встречаться с Ритой мы еще могли на так называемых уроках ритмики. Проводили их, по договоренности с родителями славного Жени, в одной из их комнат, в которой имелись «инструмент» и оскаленная шкура бурого медведя (заранее скатываемая). Там мы, несколько девчонок с тем же Женей попадали под руководство восседавшей за роялем учительницы. Для начала маршировали под бодрый «Светит месяц, светит ясный». Его я долго принимала за «Турецкий марш» Моцарта — по причине «месяца». Затем под музыку изображали насекомых. Мне удавался разве что Муравей, медленно переставлявший ноги под тяжким грузом (согнутые колени, сцепленные руки закинуты за плечо). А ведь рядом порхали и Мотыльки, и Стрекозы! Не помню, кем бывала Рита, возможно — Пчелой. Был у нас и «оркестр» из ударных инструментов. С трудом удерживала я на весу тяжелый блестящий треугольник, в который еще надо было ударять палочкой. И завидовала невесомому Тамбурину, Погремушке и Рите с ее маленьким, легким треугольничком. Зато научилась лихо скакать «боковым галопом» в роли Охотника, иногда — даже в такт музыке.
Дополнительно к этим занятиям, для выправления лордоза, меня возили в группу профессора Турнера при ортопедической клинике Военно-медицинской академии, где мы на четвереньках подолгу ползали по кругу и качались на кольцах. Ползание я пыталась оживлять хищными поворотами головы и тихим рычаньем. Это позволялось.
Не рассчитывая на нашу природную одаренность, обе мамы со второго класса начали готовить нас к поступлению в музыкальную школу. Раиса Федоровна (учительница по фортепиано) у нас с Ритой была общая, но дни занятий не совпадали. Какое-то время, правда, до покупки рояля, готовить задания меня водили к Рите. Отбарабанивая упражнение (одно и то же для обеих), мы орали придуманные под мелодию слова: «Здравствуйте, здравствуйте, как вы поживаете?» — «Я живу великолепно, живу очень хорошо!». Потом мама купила старенький рояль, угловатую прямострунку (кажется, фирмы «Wirt») — «для начала». С концом наших с Ритой совместных занятий мой «интерес» к музыке сменился упорным отлыниванием, тут же каравшимся суровой рукой. Через несколько лет прямострунку сменил кабинетный «Bechstein», мамина гордость. Пережив вдруг открывшееся во мне лихорадочное увлечение музыкой, все же он, после моего решительного расставания с Ленинградом и переезда мамы с дедом на Выборгскую сторону, тоже был продан. Добавлю, что, проведя около тридцати лет в общежитии, мама ни разу не пожалела о перемещении в отдельную, хотя и «хрущевскую» квартиру. Вот уж она-то ностальгией по оставленному жилью не страдала. Я же в своих «домашних» снах, из всего числа смененных затем квартир неизменно вижу себя в нашей первой, в два широких окна, комнате.
Ольгино
Последнее наше, предвоенное лето нам с Ритой удалось провести вместе на даче в Ольгино. Хотя Рита и жила (с бабушкой?) у другой хозяйки, выгуливались мы, конечно, вместе, под условным присмотром деда. В кочковатом вытоптанном леске, прорезанном, к тому же, «торфяной» одноколейкой (переходить которую нам запрещалось), нашей фантазии стоило немалого труда найти себе достойное занятие. Приняв одноколейку за государственную границу, мы занялись ловлей шпионов. Каждая личность, в любом направлении дерзнувшая пересечь рельсы, вызывала наше острое подозрение. И по возможности прослеживалась с запоминанием максимального числа примет. Конечно, некоторые «перебежчики» в немноголюдном поселке попадались нам и по нескольку раз — их мы записывали в резиденты.
«Картотека» пухла от прозвищ. Но главным ее украшением стал списанный с внутренней стороны колодезного сруба (враг хитер!) «пароль» из трех букв. Было скопировано и еще кое-что, явно не на русском языке, хотя писано кириллицей. Как-то на поочередно хранившийся у нас дневник напоролись наши мамы. Учинив по возможности деликатное дознание, они, вероятно, вздохнули с облегчением, убедившись в полной нашей невинности. Более того, мы с готовностью отвели их к колодцу, где они смогли ознакомиться с первоисточником. После визита к председателю сельсовета «пароли» в колодце чем-то закрасили, а нам запретили к нему приближаться. Страница в дневнике оказалась вырванной. Поняв крайнюю секретность добытых нами сведений, мы воздержались от каких-либо вопросов по этому поводу.
Апогей нашей бдительности вызвал гнилой пень, ну до чего же подозрительный! Явно переносной, помещенный у самой «границы», он, конечно, прикрывал собой лаз в подземный проход под рельсами. Мы подергали пень, он наклонился и, действительно, обнажилась яма. Ждать было нельзя. Обмирая, я укрылась для дальнейшей слежки, Рита же бросилась за помощью на дачу к деду. Не спуская напряженного взора с объекта (он шевелился, увеличивался, уменьшался), я жаждала подмоги. Но вот, ведомая Ритой, появилась внушительная фигура деда, да еще с раскрытым «складником» в руке! Могу вообразить, в каком стиле был представлен ему казус! Тут же пень был сброшен, яма обследована, обнаружен кишащий населением муравейник. Удивительно, но столь вроде бы бесспорное доказательство нас до конца не разубедило — отыскивая по лесу мохнатых гусениц (для окукливания), присматривались мы и к пню. Пока он таинственным образом не исчез. Яму же плотно засыпали. Кто знает, не предотвратили ли мы «готовившееся» крушение вагонеток?

Школьный возраст
Поступив в первый класс с большим опозданием из-за последнего вместе с мамой «юга», в школьную жизнь я входила с трудом, совсем не ориентируясь в правилах поведения уже как-то сложившегося детского общества. В первый свой школьный год спросить кого-нибудь о чем-либо я просто не смела, пытаясь разобраться в ситуациях самостоятельно. Так, впервые столкнувшись с проблемой «раздельных» туалетов, радостно направившись к обнаруженному вожделенному закутку, я была поражена обрушившимися на меня насмешками мальчишек, да и девчонок тоже. Учительница поставила на вид мое неадекватное поведение пришедшему забрать меня деду (мне не доверялся самостоятельный переход через трамвайную линию). Дед тоже как-то постеснялся уточнять расположение дамской уборной, и туалетная проблема в первом классе стала моей «казнью египетской». Ибо, уже изучив дорогу, я боялась отпрашиваться на уроках…
Несмотря на отрешенность от окружающих общественных интересов, с течением времени я все же определила для себя и врагов, и личности более или менее мне симпатичные. Среди первых, появление которых заставляло держаться настороже, выделялся настойчивыми нападками крепыш с круглыми совиными глазами. На беду, он сидел прямо за мной, чем втихомолку пользовался, то — пиная, то — засовывая что-нибудь подручное за шиворот. Наконец, признавшись в своих ежедневных страхах маме, получила от нее категорический совет «дать сдачи». Трезво оценивая слабость своих рук и полное отсутствие навыков самообороны, я могла рассчитывать только на ноги.
Следующим же утром, подойдя к ничего не подозревавшему мучителю, я, видимо, сильно, ударила его носком в живот. Вызванная по этому случаю мама меня оправдала, мне этого было достаточно, и, главное, я была оставлена в относительном покое.
Большой помощью при врастании в школьный коллектив оказалось распространенное в те годы прямо-таки повальное увлечение фантиками. Присоединение к СССР Прибалтийских республик наводнило Ленинград невкусными, но нарядно одетыми конфетами. Непривычно красивые, разнообразные фантики приобрели среди младших школьников хождение чуть ли не наравне с мелкой монетой. Их сортировали, оценивали, обменивали, ими любовались и хвастались. У меня накопилась большая шкатулка этого добра, редевшего по мере замещения более насущными интересами, но успевшего потешить меня азартом и гордостью обладания.
В классе, состоявшем в большинстве из детей малообеспеченных и малообразованных семей, определенное уважение вызывали три девочки. Две из них, кузины-татарочки Адиля и Роза, поражали аккуратностью синих халатиков и нарядностью тетрадных обложек. Мне, садившейся за уроки с досадой, и в голову не пришло бы украшать тетрадки переводными картинками и ленточками — закладками. Со слов мамы, знакомой, благодаря вызовам, с условиями жизни многих детей своего района, я знала, чего стоило сестричкам быть одними из лучших учениц класса. Росшие в бедных «подвальных» семьях с пьяными, скандальными, рвущими школьные тетрадки отцами, девочки могли готовить уроки и приводить в порядок свои вещи лишь ночью, под храп угомонившегося родителя…
Третью особу, спокойную, разумную и дружелюбную Асю Лебедеву я даже как-то осмелилась пригласить на свой день рождения (Рита еще не вернулась с дачи в Юкках). Помню, как удивилась эта девочка, оглядываясь в нашей «замеблированной» комнате, абсолютно непраздничной, и узнав, что будет единственной моей гостьей. Очевидно, она предвкушала какое-то общество, музыку, веселье. А у нас в то время не было даже радио. К счастью, удалось завести разговор о прочитанных книгах. Потом поиграли в настольные игры, которых у меня было множество (рассчитанных, правда, на нескольких игроков). Окончательно утешились пирогом-«утопленником» (перед раскатыванием тесто опускали в воду, где ему полагалось то ли утонуть, то ли — всплыть), неизменно пользовавшимися успехом сосисками в томатном соусе и домашним «хворостом». На память оставила мне Ася обвязанный ею самой платочек с вышитым попугайчиком в углу. Все же после того я уже не приглашала к нам сверстников, кроме, понятно, привычной к нашему укладу Риты. Да еще — не смущавшей меня своей веселой кротостью Лизы Киташкиной, в короткой, с вихром, стрижке и как бы сироты при родственниках. Мама, по-видимому, ее жалела и часто кормила нас вместе.
Тогда школа для таких детей, как Лиза и Роза, составлявших в стране большинство, одна могла стать средоточием всего интересного, доброго, правильного. Именно она внесла, за считанные десятилетия, основной вклад в формирование идеологии сословия, когда-то с самыми чистосердечными побуждениями эту страну перекроившего, а затем — защитившего. И, завершая предопределенный круг, сгинувшего в уже чуждой ему среде. Приходится сознавать, что совсем не так воспринимались школьные годы небольшим числом одноклассников, успевших дома превзойти и азы обучения, и много еще чего и полезного, и вредного для развивающегося мировоззрения.
Уходя в своих школьных воспоминаниях несколько вперед, признаюсь, что школа меня не увлекала. Безропотно подчиняясь необходимости ее посещения, я порой отвечала «гуманитарное» задание не по учебнику, увлекая слушателей (и себя) когда-то прочитанными и вспомнившимися подробностями. Но с ужасом ожидала встреч с двумя отравлявшими мои школьные и ранние университетские годы (а также — многие сны зрелых лет) дисциплинами — физикой («кинетикой») и органической химией. Всякую четверть по которой-нибудь их них мне грозила двойка, в последний миг как-то исправляемая не без Ритиного возмущенного вмешательства. Голубые плитки ее печки-голландки не раз сверху донизу бывали исписаны вязью химических уравнений. Однако окончательно развеять химический кошмар мне было не суждено. Нанимаемым же репетиторам по физике я не в состоянии была объяснить своих затруднений. Просто не умела мыслить в этом ключе. Удивительно, что на конкурсных экзаменах я умудрилась схватить по физике «пятерку», но, конечно, по иному ее разделу. Прочей математики эти трудности не касались. Да и ныне некоторые бытовые расчеты решаю через «икс». Рита же, до старости лет не научившаяся смирению, более всего негодовала на перенесенную десятилетнюю пытку раннего вставания и муштры. Но училась упорно и хорошо.
В любимицах у меня все же шли науки биологические. Исключением были уроки, на которых наша Антонина Антоновна обещала провести опыты по возбуждению лягушачьей мышцы током, или же — показать внутреннее строение земноводного. Помнится, ей ни того, ни другого сделать так и не удалось — накануне с трудом добытые лягушки неизменно исчезали. К концу уроков, с Ритой на стреме, я шла в кабинет биологии и выхватывала из банки пленницу. Придерживая ее носовым платком в кармане халатика, направлялась к туалету. Там пересаживала лягушку в мешочек и в портфеле уносила домой. Накапливавшиеся переселенки содержались в широкой банке, периодически отмываемой в общественной раковине. По зимнему времени плохо съедаемый мотыль гнил и вонял. В мои загруженные дни, бестрепетно пересадив «лягв» в чистое, мама мыла склизкий сосуд сама. От нее, нетерпимой в вопросах хищения чужой собственности, по этому обстоятельству упреков не помню. С оттаиванием в Ботаническом саду прудов я относила к ним своих пансионерок, моля судьбу более не искушать меня непосильными ситуациями.
Стремилась ли я тогда к чему-нибудь? Скорей всего, желания мои были либо несбыточными, либо недостаточно определившимися. В годы войны взрослые мечтали о мире. Но что бы мог изменить даже «мир» в непробиваемой рутине жизни? Деньги на небольшие личные потребности я получала, толком не зная им цены. А первый опыт их зарабатывания энтузиазма мне не прибавил. Некий гражданин через маму попросил меня перевести с немецкого какой-то технический текст. Задача оказалась сложнее ожидавшейся. Я всегда воспринимала смысл читаемого иностранного текста непосредственно, без потребности «внутреннего» перевода на русский. Здесь же — сразу затруднилась необходимостью подбора грамотного русского эквивалента каждой мысли и фразе. Многого не понимая, не имея словарей, свои скудные свободные часы я вынуждена была проводить над скоро опротивевшими листами. Всякий раз — поражаясь умению портить себе жизнь.
Наконец, накатав перевод с пробелами и вопросами, обратилась к Рите. Она же — выказала к проблеме вполне достойный ее самолюбия интерес. Были взяты словари, остальное доделал характер. К оговоренному сроку вся работа, переписанная Ритиным красивым округлым почерком (он оставался неизменным в течение всей ее жизни), была сдана заказчику. Мы получили двадцать рублей, тут же их разделив. Свою «десятку» я равнодушно отдала маме. Печальная судьба первого моего оплаченного перевода, главным образом, определилась полным отсутствием любопытства к содержанию текста. Самолюбия же, порою поднимавшего голову в близких мне вопросах, эта глубоко чуждая мне область задеть была не способна.
Радости
Возвращаясь ко временам дошкольным, вспоминаю, однако, свои праздники не столь одинокими, как описанный выше. На мои дни рождения собиралась довольно веселая компания из квартирных детей, Риты с Мусей, и некоторых «институтских». Для таких случаев тетка запускала нас в «комнаты заседаний». Мы играли в «золотые ворота» (пары пробегали под высоко сомкнутыми, но готовыми мигом опуститься руками), пятнашки, даже — в прятки за гардинами, с предварительными, бесконечной длины «считалками» («На золотом крыльце сидели…»). Прыгали, как умели, под теткин патефон, разваливались перевести дыхание в креслах и на кожаном диване. Много лет над ним висела большая картина, очевидно, графическая копия в духе Семирадского (позднее замененная портретом профессора Павлова). Удивительная по своему содержанию для хирургической клиники, она изображала накал соревнования двуконных колесниц то ли в Элладе, то ли в Риме. Угощались мы за большим заседательским столом, за которым я, в голубом крепдешиновом платьице, чувствовала себя хозяйкой замка…
Под Новый год в квартиру приходил строгий Дед Мороз, которого мы, столпившись в коридоре, ожидали с некоторым страхом (за год успевали накопить прегрешений!). После короткого допроса (за нас горячо заступались родители) Дед, оправляя ватную бороду, нас прощал и по очереди, начиная со старшего, Арнольда, вручал из мешка немудреные игрушки вроде бильбоке, калейдоскопа, прыгающих на скрытой пружинке «солдатиков» (ими сразу можно было заняться) и сласти. Принаряженные, мы, взаимно угощаясь из своих кульков, ходили из комнаты в комнату, рассматривая украшенные елки, подарки, вдыхая доносившиеся из кухни ароматы, пока нас не разводили по семьям. На другой день тетка устраивала у себя лотерею-«рыбалку» за выученный к этому случаю стишок или песенку. За плотную ширму закидывалась удочка, к которой прицеплялось нечто соответствующее возрасту и вкусу соискателя.
Из городских удовольствий первостепенными были зоосад и кино. В первый я ходила с дедом (всякий раз надеясь и не успевая усесться верхом на вороного карусельного коня, обгоняемая бесцеремонными мальчишками). Зверей я знала уже хорошо, удивляя собиравшийся у клеток народ подробными комментариями. Приближение же к кинотеатру за руку с мамой доводило до сердцебиения, а ее слова: «Не зайти ли нам?» — до прилива острого счастья. Высиживали мы только журнал — мультик или что-либо иное «детское», сбегая из зала под титры «взрослого» фильма.
Иногда вечерами мама брала меня и на продолжительные прогулки — в сторону Большой Невки. До войны на Петроградской набережной еще сохранялось несколько обшарпанных деревянных особнячков. Один из них, голубовато-сизого окраса, с колоннами и портиком в классическом стиле старых усадебных построек, особенно трогал мамину душу. В свободные дни ходили мы и дальше — мимо Нахимовского училища на Петровскую набережную, к любимым мамой домику Петра Первого и маньчжурским «львам» над хлюпающей о ступени Невой.
В предвоенную зиму мне уже дозволяли самостоятельные прогулки, которые обычно проходили на Гренадерке. После школы здесь собирались институтские ребята с лыжами и санками. Несколько детей жили в дворовом «флигеле». Хорошо помню старшую, серьезную, больную туберкулезом Лиду (она умерла в раннем возрасте), ее цыганистую двоюродную сестру, сапожникову дочку Веру, предприимчивого мальчишку Толю, а также — глазастую Тоню, жившую в здании Института с матерью-медсестрой. Избегая Толькиных накатанных трамплинов, я уводила свои санки в еще неосвоенные дали. Отыскав крутой, вполне дикий склон, отчаянно прорывалась сквозь снежные завалы с торчащим из них бурьяном. Иногда приглашала на такие рейды и Лизу Киташкину. Спускались то вдвоем, то по очереди, и уже в сумерках поднимались к нам сушиться.
Обычно же, приведенная дедом домой, накормленная и усаженная за уроки (проверка которых предстояла вечером маме), я предавалась привычному одиночеству. Игрушек было много; их, худо-бедно, я устроила в отведенном мне небольшом шкафу — спальни на верхних полках, гостиные и столовая — на средних, кухня — внизу. Были у меня и большая фарфоровая, с настоящими волосами и закрывающимися глазами кукла Лиза, которую я боялась уронить, большая же, с конфорками и луженой кухонной посудой плита, в духовке которой удавалось выпекать «жаворонков» («топилась» плита спиртовками), фарфоровые чайные сервизы. Был (но припрятываемый мамой) «Кинескоп». В некоторые дни его устанавливали позади меня, усаженной лицом к стене. На ее светлом фоне проецировались незамысловатые изображения забавных персонажей в несколько увеличенном виде. Проведя картинку до окна, мама вставляла следующую. Чтобы не портить торжественность события, я просила запустить которую-нибудь повторно. Настоящего кино, конечно, все это мне нисколько не заменяло. Но лучше всех был Лизочин подарок — в натуральной шерстке, со светлыми гривой и хвостом, под съемным кожаным седлом со стременами лошадь-качалка «Стрелка».
С запрятанными в шкаф постояльцами я общалась редко, довольствуясь набором «Конструктор» и альбомами для рисования. А также — получаемыми от Лизочиной сестры, скульптора Веры Семеновны, имевшей в помещении ЛОСХа свою мастерскую, кусками пластилина. Углубляясь в свой отчасти рукотворный мир, я, вероятно, никак не нарушала дедова покоя, не замечая ни присутствия его, ни отсутствия. Правда, показывала ему свои рисунки (лошадей). И разговоры наши велись о лошадях же, особенно о предпочитаемой всем другим породам работящей, выносливой «вятке». По дедовым словам, этих лошадок он оценил еще в дореволюционные времена строительства пермской ветки железной дороги, в чем принимал участие.
Моя тяга к лошадям не укрылась от тетки, посещавшей конное спортивное общество, обладательницы значка «Буденновский наездник». С Лизочиной подачи и ее экипировкой — бриджи, сапожки, шпоры и кожаный плетеный хлыст (тетка ездила с элегантным стеком) я сумела набрать для занятий в манеже группу из знакомых детей. Конечно, в нее записалась и Рита. Помню, как качнулась, напугав меня своей «неустойчивостью», высокая вороной масти Лавина во время рывка при моем первом вознесении в седло. Но — и необычное чувство наконец-то реализованной мечты. Войти в конюшню, вдохнуть ее теплый живой запах было счастьем. Лошадей наш Харитон Иванович менял каждое занятие. Мы сами их взнуздывали, седлали, с трудом затягивая подпругу и подгоняя стремена, расседлывали, протирали влажные спины пучками соломы, угощали.

Характеры попадались разные. Удачей считалось получить Тонкую, упитанную вороную лошадку, доброжелательную и с плавной рысью. Труднее всего приходилось с мышастой Тайгой, злонравной и упрямой. Помню, как мучилась я с ней, не в силах поднять в галоп. Приходилось выезжать из идущего мерным манежным галопом круга на опасную близость не разбиравшего коня и всадника длинного бича. Внутри круга Тайгу, продолжавшую некоторое время мчаться скорой рысью, суровый «Харитоныч» немедля «призывал к порядку». И мне дозволяли вписаться в строй. А сколько раз на барьерах мы перескакивали через седельную луку по капризу той же Тайги! Уж очень она любила, резко приземляясь, стряхивать нас с шеи себе под ноги. Рысью же мы ездили и учебной, и «строевой», без стремян и с ними. Но все это, прямо относившееся к верховой езде, меня не смущало — в отличие от вдруг введенных Харитонычем элементов «циркачества». Остановив круг, он заставлял нас вертеться на лошадиной спине, садиться то боком, то задом наперед. И, очень страшное для меня, — вставать на скользком седле во весь рост (не выпуская повода). Спасибо, ученые лошади стояли, не шелохнувшись. Однако ожидание этих фокусов значительно омрачало удовольствие от занятий.
А как гордо переводили мы лошадей в другую конюшню, ведя их по улицам под уздцы, позванивая шпорами! Правда, картину портили сами кони, которые, не постигая торжественности момента, то и дело поднимали хвосты, усеивая наш путь «яблоками».
Был в конюшне и рыжий «дончак» по кличке Пляж. Его нам не давали, боясь «испортить». Тетка же, часто на Пляже ездившая, любила его и хвалила. Дело доходило даже до размышлений о его покупке, но, под трезвым влиянием Веры и мамы, заглохло. Конная наука, захватившая и первый год моего студенчества, закончилась отправкой лошадей зачем-то на Урал, в город Чкалов (Оренбург). Как бы то ни было, все эти «принимания», «вольты», смены аллюров, казавшиеся нам тогда необходимыми ступенями к совершенству, облегчили мне в дальнейшем общение с лошадьми и езду на них.
Тематика моих игровых фантазий как-то всегда сводилась к сборам в странствия. Героями выступали елочные фигурки зайчат на удобной проволочной основе, при гужевом транспорте из осликов и верблюдов. Верховых коней приходилось создавать из пластилина — вороных и саврасых, по цвету материала. Выстраивать свои караваны я предпочитала на безупречно гладкой рояльной деке, вполне пригодной под пустыню. Оттуда их решительно выдворял самум в лице мамы, не терпевшей профанации инструмента. Поэтому постоянный лагерь пришлось разбить на полированном красном дереве комода. Под его туманным зеркалом выстроилось несколько разноцветных бумажных палаток. На переднем плане — «очаг» с собравшимися вокруг котелка путешественниками, и развьюченный караван в сторонке. Бывало, я подолгу не могла оторвать глаз от этой завораживающей панорамы. То ли своим увлеченным постоянством я накликала себе судьбу, то ли инстинктивно ее предвидела? «Бивак» же сильно затруднил уборку пыли с комода, пылился сам и, наконец, рассеялся на уже ничего не говорящие моему воображению детали…
Визиты
В гости мы ходили редко, разве что к моим теткам Нине или Вере, жившим — одна на улице Воскова, другая — на углу Максима Горького и Блохина, напротив зоопарка. Впоследствии, после расселения нашего общежития в конце 50-х годов, полученную где-то отдельную квартирку Лизоча обменяла на комнату в коммуналке этого красивого дома. Правда — на комнату отличную, с высоким потолком и, главное, смежную с Верочкиной.
Иногда навещали (обязательно с гостинцем) и некую Е.М., прозванную «Кошьей матерью» по причине нескольких обитавших у нее кошек. Жила «Кошья матерь» в одном из красивых домов на правом берегу Карповки. Уже с порога квартиры в нос било резкое кошачье «амбре» — результат активности некастрированного котяры Мишки. Из его гаремчика особую симпатию вызывала ласковая яркая трехцветка. Но меня, так и не воспринявшую от своих воспитательниц «духа порядка», и то поражал царивший здесь развал, разбросанные по полу вещи, неубранные кошачьи «противни». И — седая, весьма интеллигентного облика, с тонкими чертами лица, по-видимому, совершенно неприспособленная к самостоятельной жизни хозяйка. Жила она, кажется, распродажей дорогих вещиц, сохранившихся после состоятельного, уже покойного супруга. Поработав одно время в архиве Ботанического Института на составлении списка научных коллекций, не сумела найти там дальнейшее себе применение. Хорошо зная шведский, пыталась заняться переводами, затем была устроена регистратором в одну из наших клиник. Но нигде надолго не приживалась — то ноги не шли, то глаза уставали. Как-то подарила она мне американский альбом для открыток в обложке из мягкой кожи (считалось, бизона), с профилем индейца в уборе из орлиных перьев. От нее же на нашей новогодней елке появилось несколько изящных шведских цепочек и колокольчиков. Боюсь, что войну ни «Кошья матерь», ни тем более ее питомцы не перенесли.
Из навещавших нас отлично помню мамину добрую знакомую, врача Веру Ивановну Грибкову, внук которой, Стива, выпасался в Старожиловке одновременно с моей дочерью Асей. В свои приезды в Ленинград я долгие годы один из обязательных визитов наносила В.И. и, впоследствии, ее интересному семейству. Иногда из своих лесов, всегда радостно мамой встречаемая, появлялась Аня. Из родственниц же наиболее часто заходила к нам в клинику, да и после переезда мамы на Торжковскую, ее кузина Ляля (Елена Александровна Доманевская-Епифанова), приходившаяся матерью тому спокойному мальчику Севе. Впоследствии, в годы моего отсутствия в Ленинграде, Сева Доманевский и его жена Ида, выручая маму, летом забирали деда на дачу. Дед же мой, дождавшись, наконец, правнука, не дотянул всего двух лет до своего столетия. Забрали Доманевские к себе и моих, временно оставшихся без надзора ребят в первые же дни после маминой внезапной гибели (в 1971 г. она была сбита поздним трамваем прямо перед домом Веры, где вдвоем поминали умершую два года назад Лизочу). В год написания этих строк (и — первого своего визита после сорокалетнего перерыва) я нашла Севу с Идой благополучно проживающими в Кобринском — зеленом селе под Гатчиной. Село отмечено «могилой Ганнибала» и охраняемым домиком няни Пушкина. Впереди — надежда познакомиться с живущими в городе их детьми, уже при нескольких внуках.
Я же, кроме дачного знакомства с Севой, других родственников своего возраста не знала. Как-то «тетя» Маруся (Мария Томилова-Никитина) привела с собой дочку, косоглазенькую и некрасивую. Не помню, чтобы за время визита мы с ней о чем-либо говорили. Танечка эта стала артисткой какого-то постоянно гастролировавшего театра, к тому же, по свидетельству мамы, очень даже хорошенькой. Где-то был еще и Сашенька, представленный мне, уже юношей, на родственном слете в Подольске.
Изредка наезжала (я, привыкшая ничего не уточнять, считала, что из Прибалтики), наполняя комнату низким насмешливым голосом, Ольга Карловна Балабина, «тетка Ольга», сестра рано умершей в Москве моей бабушки Марии Карловны Томиловой (урожденной Васильковской). Правда, приходили от нее открытки из Познани. Когда-то, забрав у овдовевшего и обремененного заботами главы семьи (моего деда) пятерых детей, она перевезла их в Петербург, где отдала двух мальчиков, Севу и Сережу, в Кадетский корпус, а Нину — в Смольный Институт для благородных девиц.

Младшую дочь Ольги Карловны, маленькую «Мьелик», пришлось тоже похоронить, рядом с моей бабушкой, на Новодевичьем кладбище. Мама много лет переводила туда деньги на уход за обеими могилами. Какое-то время пыталась это делать и я. К моему немалому облегчению груз был снят неожиданным письмом от старшей Ольгиной дочери, Лили, взявшейся оплачивать могилы. Дама эта, изрядно пожившая заграницей, обосновалась в Прибалтике, наезжая в Ленинград и изредка нас в Эрисмана навещая (к маминому недовольству и даже ужасу). Помню, как в один из визитов Лиля поразила меня своим манто без пуговиц — мол, даме неприлично таскать что-либо в руках. Они должны лишь изящно кутать их обладательницу, придерживая изделие у горла и ниже. Подозревая подлую провокацию, мама запретила мне отвечать на ее письма.
Помню и высокого, худого, темноволосого юриста Колю, жившего под Подольском, по короткому посещению нас в Ленинграде незадолго до своей смерти от туберкулеза. Мама, с неудовольствием вспоминавшая время своих с ним забот, встретила его сдержанно. Мне он оставил маленькую фотографию двух своих дочек-школьниц, имен которых я не запомнила.
Судьбы других своих дядей не знаю, мама никогда о них не говорила. Однако недавно пришлось и мне услышать семейную легенду об одном из них, Всеволоде (мамином брате Севе), уже служившем в казачьем полку и во время гражданской войны попавшем в плен. За сопротивление при срывании с него погон их якобы заживо прибили к его плечам гвоздями. У нас в ворохе старинных безымянных фотографий есть одна любительская — несколько напряженно глядящего в объектив (очевидно, товарища) молодого всадника в казачьей фуражке на круто вздыбленной лошади.

Слышала ли о его печальном конце мама? Кажется, Сева был ей ближе остальных детей. Меня она порой посвящала только в самые ранние воспоминания своего детства. О жизни семьи в «переломные годы» у нас, по понятным причинам, особенно же в моем присутствии, не распространялись. Не замечая особого тепла между мамой и родственниками, я и сама держалась с ними довольно отчужденно.
Но однажды, на пути из Алма-Аты домой в отпуск, по приглашению маминой тетки Лизы (Томиловой-Рытиковой), я остановилась на пару дней в Подольске. У Елизаветы Александровны, учительницы на пенсии, двадцать лет преподававшей в школе на Чукотке, я ночевала в крошечной комнатке на Красной улице, окруженная уходом и уютом. Утром, с меня, еще сонной, были даже сделаны два карандашных наброска некой молодой художницей. Торжественное знакомство с еще несколькими родственниками, в суете праздничного обеда мною не запомнившимися, состоялось уже на чьей-то другой квартире. Этот визит оказался единственным… Даже став постоянной жительницей Мытищ, добираться до Подольска мне утомительнее, чем съездить в Петербург. Да и к кому?
Гатчина
Возвращаясь памятью в Гатчину, я по-прежнему попадаю в страну нескончаемых лесов с глухими полянами и непроходимыми верстами малинников, безлюдных размытых дорог в неизвестные направления. Несмотря на неоднократные посещения дачи своей приятельницы в Гатчине-Варшавской и дворцово-паркового комплекса (частично восстановленного) в Гатчине-Балтийской, никак не могу выйти из своего первого о ней впечатления, сложившегося в пионерском лагере — кажется, в первое послевоенное лето. Мне было, вероятно, уже лет четырнадцать. В лагерь нас привезли на автобусе и к вечеру распределили по звеньям и палатам. Возможно, по старшинству меня назначили звеньевой, обременив ответственностью за исполнение звеном лагерного расписания, аккуратной застилки кроватей и дежурства по утреннему мытью полов в коридоре. Вечером же нас накормили в столовой, повергнув в изумление полной тарелкой манной каши и широким ломтем белого хлеба с маслом. За столом пошли тревожные толки, что этакое — для первого раза. Буфетчица, однако, смеясь, уверила нас, что так кормить будут всегда. Что скоро и этого нам покажется мало, и будет добавка.
Исполнять роль звеньевой я взялась рьяно, вставая раньше всех, для обретения сноровки в управлении постельным бельем. Надо ли говорить, что дома этому умению уделялось минимальное вниманье. Швабру с мокрой тряпкой я держала в руках впервые, но работа показалась проще, чем ожидалась. До завтрака надо было успеть во двор на зарядку, затем, с полотенцем на шее, — к установленным в ряд умывальникам. Нельзя было опаздывать на утреннюю линейку и подъем флага. Выстроенные по звеньям и отрядам в каре, при белых «верхах» и красных галстуках, мы выслушивали от начальства расписание на день. Дома в моем гардеробе белой блузки не оказалось; пришлось надевать белую мужскую рубашку, многослойно подворачивая рукава. Маме и в голову не приходила мысль их обрезать, а мне — попросить ее об этом. Лагерное начальство выговаривало за рубаху и мне, и маме, но дела не изменило. Расписание же было достаточно свободным. Правда, полное довольство жизнью, включая волнующие лекции местного краеведа, нарушали «массовки» (в основном — спортивные, из которых меня быстро исключали). Запомнился и поход — бесконечным шаганием по неудобной лесной дороге, и бессонной холодной, полуголодной ночью у костра. Утром лесник ругал вожатую за поломанные на топливо кусты и растащенные на шалаши стога. Сено пришлось сгрести. И долгий обратный путь был не весел. Романтики в этой «подначальной» затее я так и не ощутила.
В обычные же дни до обеда меня можно было найти на протекавшем по обочине лагеря звонком ручье, занятой промыслом — ловлей на вилку таившихся под камнями гольцов. Охота была непростой, от переворачивания камней и ледяной воды ломило руки и ноги, от солнечных бликов рябило в глазах. Добытых трех-четырех гольцов я несла на кухню. Добрая кухарка испекала их, нечищеных, на плите рядом с котлами и противнями готовящегося обеда. С кусочком хлеба я объедала рыбок до предполагаемых внутренностей, гордая умением добывать себе пропитание. После мертвого часа наступало время творчества. Невдалеке от моих охотничьих угодий обнаружились залежи прекрасной голубоватой глины, из которой я, имея опыт общения с пластилином, принялась создавать небольшой зоопарк. Хотелось вылепить грифона, или хотя бы сохранить у пантеры крылья. На улице Песочной еще и в блокаду одиноко стояла, не связанная с соседними домами, массивная арка «в никуда», с парой чугунных крылатых пантер наверху. Ничего прекраснее сочетания их точеных фигур с поднятыми на геральдический манер орлиными крыльями представить себе я не могла. Но мои глиняные изыски, высохнув, скоро отваливались. Да и само гибкое тело хищника приходилось творить лишь в позе скрадывания. Надо сказать, что мое хроническое отшельничество даже поощрялось — готовился межотрядный конкурс «Умелые руки». Дабы не быть обвиненной в отрыве от коллектива, я постаралась подрядить малолеток на сбор свежих репьев (репейника кругом росло вдосталь). Из них мы скатывали толстых мишек и котов с «цветущими» глазами. Право, получались они неплохо, при полной экономии клея и бумаги. И свежо выглядели среди приевшихся колпаков, масок и гирлянд.
Родители посещали нас еженедельно. Несмотря на хорошую кормежку, мы нетерпеливо ожидали гостинцев. Тут же их и поедали, уединившись с гостями на брошенных во дворе бревнах. Затем обычно, с разрешения начальства, уводили их в малинники. Вероятно, то были разросшиеся остатки довоенных сельских посадок, хотя никаких следов строений не обнаруживалось. Ягод была пропасть, причем разных сортов, от почти черных до янтарно-желтых. В город наши посетители уезжали тяжело нагруженными, но, надо думать, вдвойне довольными.
Уверившись, по-видимому, в моей благонадежности, начальство доверило под мою опеку трех младших девочек, выпросившихся набрать ягод накануне своего отъезда. Согласилась я неохотно, предчувствуя, что мне самой будет не до малины. Запасшись банками, пошли по знакомой тропе. Строго велела я своим подопечным держаться на виду. Но где там! Вскоре из поля зрения и слуха стали пропадать за громадными кустами то — одна, то — другая сборщица. Третью пришлось искать уже наобум, таская остальных за собой. Нашли ее где-то на краю поляны, напуганную неожиданным одиночеством и поэтому на ауканье не отвечавшую.
Поляна оказалась незнакомой. Пытаясь вернуться, я поняла, что совершенно потеряла направление. После нескольких вылазок в разные стороны стало ясно, что силы девчонок скоро окажутся на исходе. Пришлось выбрать одно, наименее лесистое направление и идти, идти, с солнцем за спиною. Присмиревший мой отрядик покорно брел, неся свои полупустые баночки. Утешать его я пыталась посулами на обязательный выход к какому-нибудь селу, а уж оттуда… Настало обеденное время. Скомандовав «привал», я предложила пообедать малиной — и вкусно, и банки нести легче. Несколько отдохнув и воспрянув духом, мы отправились дальше. Похолодало, солнце опустилось за вершины соседнего ельника. Заметив в стороне несколько копен, со вздохом подумала о возможном в них ночлеге. Но пока — надо идти. «Лишь бы не болото» — молила я судьбу. Про мины, по уверению краеведа, подобно маслятам наводнявшие лес, не хотелось и думать. Так же мало хотелось встретиться с таинственным существом, типа звероящера, якобы вылезавшим из болот и пугавшим жителей нападениями на собак и мелкий скот. И вдруг едва не сваливаюсь в первый признак цивилизации — канаву. За ней — дорога. Мы, помню, свернули налево.
Через некоторое время нас обогнала телега. Возчик названия нашего лагеря не знал, но, что-то вспомнив, посадил на мешки и хлестнул лошадь. В лагерь мы проскользнули очень вовремя. С невинным видом успели-таки занять свои места на вечерней линейке. Нас не бранили, поняв, очевидно, и свою вину, даже похвалили за возвращенные банки. Правда, уехать девчонкам пришлось без ягод. Зато — какое приключение!
Пушкин
К сожалению, первый мой, предвоенный опыт коллективного отдыха не вызвал у меня даже и части только что описанных положительных эмоций. Июнь 1941 года застал меня в детском санатории города Пушкин под Ленинградом. Не сумев вписаться в принятый там бодрый режим во всем, начиная с утреннего одевания и кончая вечерним раздеванием, я постоянно оказывалась последней. Особенно долго засиживалась в столовой, как и дома, над полной тарелкой. В подвижных играх на террасе последней, задыхаясь, добегала до заветного стула, на который уже хлопался чей-то более резвый зад. Что-то близкое для души я находила разве что в библиотеке. Книги глотала с непозволительной здесь скоростью. Их стали мне выдавать с недоверчивой осторожностью, и то — после пересказа содержания сдаваемой. Первое мое, очень поверхностное, знакомство с Парком произошло именно в то лето. Запомнилась тогда только башня — руина, овеянная мрачными легендами (близко подходить не разрешалось) и отлов прудовой фауны для живого уголка. Ловить дозволялось двум наиболее крепким мальчикам, хотя душа моя рвалась к воде, как к свободе. Ловить жука-плавунца — это ли не счастье? Но не в такой кутерьме.
Как-то семенили мы обычным строем, попарно. Не имея постоянной пары, я путалась возле воспитательницы в ожидании «назначения», иногда — шла с нею за руку, во взаимном недовольстве. Как-то в такой ситуации она высказала сожаление, что ничем особенно хорошим обрадовать мою маму не может. Не вполне ее понимая, я вдруг увидела идущую навстречу нашей колонне маму. Шла она по обочине, неторопливо, с букетиком полевых цветов в руках, видимо, занятая своими мыслями. Я рванула к ней, но тут же была возвращена в строй. Похоже, мама не слишком обрадовалась встрече, предпочитая держать свои визиты к моим менторам в тайне. А мне вдруг открылось новое видение ее, как человека вообще. С касающимися не только меня чувствами и интересами. С миром, в котором она отдыхала без меня (возможно, и от меня). Особенно поразили цветы, с привычным усталым и раздраженным обликом мамы несовместимые. Было о чем подумать.
Шли последние мирные дни.
В Пушкине мне суждено было провести еще одно лето (вместе с дедом), уже студенткой. Насколько помню, питались мы исключительно отварной картошкой с постным маслом, не печалясь об отсутствии гастрономического разнообразия. Иногда ради форса я забирала у соседа прыткого ирландского сеттера, который за два часа успевал протащить меня по всему городу, и не однажды. Странствования по паркам я совершала в одиночестве. К тому времени Екатерининский дворец еще оставался не восстановленным. Но как-то уцелели Камеронова галерея, Мраморный мостик над незамутненными водами, гранит фонтана «Дева с разбитым кувшином», арка ворот со снесенной с нее пагодой… В одичалом Александровском парке последствия войны были еще разрушительнее. Уцелевший же корпус дворца производил впечатление не менее угнетающее, чем руины, своим горьким сходством с «оригиналом». Так потрясает сходство мертвого лица с некогда живым. Выстоявшие его основы хотя и утешали разум, но чувств не щадили.
Третьим, светлым периодом общения с Парком были наезды, уже втроем с детьми, ради лодочных катаний по его протокам и прудам, с перекусами на одном из «необитаемых» островков. Но, конечно, более частым местом наших экскурсий был лабиринт «Кировских островов» (теперь — острова Елагин и другие) в нескольких трамвайных остановках от нового маминого жилища на улице Торжковской. Там Мише впервые доверялась лодка на самостоятельное плавание, конца которого мы Асей не без тревоги смиренно ожидали на прибрежной травке. Искали мы и неизведанных водных путей, в том числе и в Кронверкской канавке, откуда, пытаясь обогнуть зоопарк, попали в слив какой-то химии. Поскольку разворот был невозможен, пришлось форсировать «завесу». Ах, эти ясные дни, полные неторопливого плеска весел и душевного покоя! Да запомнились ли они самим, когда-то юным, гребцам?
А тогда, в 1941-м, нас, ребят, вдруг собрали, вернули домашнюю одежду (здесь мы носили казенное) и за один день на автобусах развезли в Ленинграде по адресам.
В начале войны из детей на этаже я оказалась старшей. Арнольд погиб перед самой блокадой, катаясь на трамвайной «колбасе» и как-то попав под колеса. Помню, как ворвался в нашу квартиру его приятель Толя с ужасной вестью: «Арнуське отрезало ноги!», как выбежала на лестницу в халате и фартуке Нина Дмитриевна. И как потом мы четверо — маленькая сестра Нонна, Лида, я и Толик (взрослые пустили нас вперед) стесненно стояли в морге у открытого гроба, рассматривая бледное личико, аккуратно зачесанные со лба волнистые волосы (Арнуся был красивым мальчиком).
Начало войны
Слово «война», похоже, сначала особенно не пугало — даже Лизочу, хлебнувшую военной жизни в качестве военврача в прошлогоднюю финскую кампанию. Ведь совсем недавно мы «без особого труда» разгромили белофиннов (расплатившись «всего лишь» десятками тысяч убитых, зато — «отодвинув границу от Ленинграда за весь Карельский перешеек»). Во всяком случае, и в моей, и в Ритиной семье мужчины призывного возраста отсутствовали как репрессированные. К этому времени моего отца, арестованного в 1938 году, вероятно, уже не было в живых. Документ же о его реабилитации моя тетка (возможно, как однофамилица) получила только где-то в конце 50-х. Вопреки долголетнему маминому страху, арест отца, как обычная тогда мера разрежения популяции методом случайной выборки, на семье, вероятно, не отразился. Отец же Риты, вовремя предупрежденный, успел скрыться. Пребывая в бегах, в семью он уже не вернулся, обосновавшись на Урале. Однажды он появился в Ленинграде, уже после смерти Лидии Николаевны, старый и больной, но Рита все же его не простила. Однако с уральской родней отношения, в конце концов, наладила.
За неимением мужчин из наших семей было призвано по женщине. Военными врачами пошли на фронт тетка Нина (без перерыва прошагав в своих кирзовых сапогах обе войны, соответственно заработав медали «За победу над Германией» и «За победу над Японией», демобилизованная в чине капитана медицинской службы), Ритина тетя Катя, а также, военфельдшером, ее крестная Люба.
Улицы пестрели воззваниями патриотического содержании. Гигантские изображения Родины-матери в красных одеждах, с требовательно воздетой рукой, вызывали беспокойство. Появившиеся первые политические карикатуры наших известных художников Гальба и Кукрыниксов — обнадеживали. Мадам Ло, с содроганием разглядывая на плакатах советские кроваво-красные танки, считала их окраску натуральной — «чтобы не было видно крови раздавленных» (это были последние наши «уроки»).
В процессе поглощения разноязыкой классической литературы, в том числе и советской, единогласно проповедовавшей среди высоких человеческих чувств и патриотизм, я убеждалась в похвальном наличии его у каждого народа, а в конфликтное время — у каждой противоборствующей стороны (что усложняло сюжет). Всей душой восхищалась бы я подвигами Красных дьяволят и ватагой Семки Буденного, если бы не возмущение гибелью не менее смелых «антигероев» — гимназистов-белогвардейцев и прочих юных сопротивленцев новой жизни. Их правда, подкрепляемая семейным настроем, была мне не менее понятна. Объявление Молотовым 22 июня 1941 года начала войны с Германией тоже не миновало маминых неосторожных (на весь коридор) проклятий. И в чей же адрес? Да того, кто подвел-таки страну под смертельную угрозу. Ох, уж эти мне игры взрослых! Они рушили все, в том числе мой жалкий беззащитный космополитизм, к ненависти не подготовленный и вмиг оказавшийся вне закона…
Быстрое продвижение немецких войск по растянувшемуся с севера на юг фронту заставило трезвее оценить обстановку. В обиходе появилось новое слово: «эвакуация». Из города потянулись эшелоны, груженные основными его богатствами, уезжали в далекий тыл целые заводы, институты вместе с персоналом, музеи; люди делились сведениями о наиболее «безопасных» городах и направлениях, многие из которых уже завтра становились недоступными.
В городе стало тревожно. Проносили «под уздцы» газовые баллоны для аэростатов. Во дворах (и в нашем «Цейдлере») рыли траншеи, еще работавшим лифтом поднимали на крышу мешки с песком. На перекрестках появились противотанковые «ежи» и надолбы, что наглядно свидетельствовало о возможности уличных боев. Оконные стекла оклеивали косыми крестами бумажных полос против разлета от взрывной волны, к вечеру — спускали по ним рулоны темных бумажных штор.
Веяние войны коснулось больницы Эрисмана и ее населения задолго до блокады. Медперсоналу запретили бегать по двору в белых халатах. Но белые больничные корпуса оставались хорошо видной мишенью. Наша клиника, размещавшаяся в те годы «на отшибе» институтских владений, рано перешла на военный режим. Первые раненные стали поступать сюда уже в июле 1941 г., когда еще далеко от Ленинграда шли яростные за него бои. Уже не хватало рук, и тетку мою, Елизавету Семеновну, заступавшую в то время вместо заведующего клиникой, приходилось заставать едва не в слезах после особо большого привоза изувеченных тел. «Поточные» операции сутками держали ее и оставшихся хирургов в бессонном состоянии.
Приступили, наконец, и к массовой эвакуации детей. Их отправляли группами по еще свободным железнодорожным веткам и водным путем, через Ладожское озеро, на восток и северо-восток. Эта припозднившаяся акция стоила жизни многим детям — и отправленным, и поневоле возвращенным, и изначально остававшимся в городе.

Мы уже были наслышаны о налетах вражеской авиации на эшелоны и баржи, о «белых панамках на воде». Тем не менее, с нашего этажа эвакуировались оба семейства с детьми — Бекерманов, сразу и в полном составе, позднее — Кочкиных. Проводив мужа на фронт и успев опухнуть за осень от хронического недоедания, Нина Дмитриевна Кочкина сумела уехать с Нонной в первую же зиму. Много лет спустя (я заканчивала ЛГУ), меня как-то позвала к себе тетка. В ее комнате стояла очень высокая и красивая молодая девушка. Это была Нонна. Пережив войну в эвакуации, они с матерью возвратились в Ленинград, где-то устроились. Отец лишился ноги, получает пенсию. Сама Нонна учится (чему-то «интересному») и работает. Бекерманы же после снятия блокады вернулись в свои апартаменты. Комната, в которой временно была устроена наша «общага», после первой же блокадной зимы была посильно приведена в прежнее приличное состояние.
В то лето и маме выпало на долю решение нелегкой задачи о смысле моей эвакуации. Уже был приготовлен заплечный мешочек с моей фамилией на пришитой тряпочке. Не помню, что в нем было, вероятно, какие-то теплые вещицы. Вопрос, так мучивший маму, мало меня трогал. Привычная подчиняться воле взрослых, я без особого восторга, но и без протеста приняла бы любое решение. Для меня привлекательной версией могла бы стать разве что возможность затеряться в лесах и зажить в них охотничьей жизнью. Однако взятие 8-го сентября 1941 года немцами Шлиссельбурга прервало всякое сухопутное сообщение города со страной. В быту ленинградцев прижилось новое понятие — «блокада», громогласно ознаменованная первой «ковровой» бомбежкой города и иллюминированная пожаром Бадаевских складов. И вопрос о моей эвакуации закрылся.
Одновременно с вывозом «благонадежного» населения проходил и процесс выселения из Ленинграда иностранцев, главным образом — немецкого землячества. Под эту насильственную акцию попали и знакомые мне лица. Помню, как тетка с отчаянием приняла приказ об отчислении из штата старшей хирургической сестры, опытнейшего профессионала, немки по фамилии Киттер. Эта одинокая строгая дама, занимавшая комнату рядом с нами, была незаменима в непрерывной череде операций. Особенно — после придания нашей клинике статуса военного госпиталя. Мы, остававшиеся, со слезами провожали старую женщину с ее чемоданом и рюкзачком куда-то на Урал, к большему, меньшему ли худу? «Сестра Киттер» оставила тетке все вещи, которые не могла взять с собой. Нам досталась небольшая хрустальная люстра с прозрачными шариками на цепочках (она и теперь висит в нашей спальне). Мне же она вручила разборную мозаику из тонко выпиленных забавных профилей гномов в колпачках и шкатулку. В ней я храню несколько осколков, пронзивших нашу комнату во время одного из обстрелов клиники…

Об артобстрелах
Артиллерийские обстрелы Ленинграда начались еще до объявления блокады, где-то в августе. Во всяком случае, бои за город велись уже в июле. Радио о начале обстрелов не предупреждало, а лишь сообщало названия обстреливаемых районов. Поэтому особенно ошеломляли яростная внезапность, свист и оглушительные взрывы, а, главное, «убойная» их способность. В отличие от более высокого разрушительного эффекта бомбежек обстрелы уничтожали гораздо больше самих жителей.
В старых районах неожиданную популярность получили знаменитые подворотни-туннели и глухие дворы-«колодцы». Пробивая фасады и сворачивая углы домов, снаряд до таких дворов вроде бы не добирался. Туда и сбегались прохожие, а жильцы пережидали обстрел на черных, выходивших во двор, лестницах. Зато явно увеличивала опасность прямолинейная планировка улиц и проспектов, способствуя разлету осколков на большие расстояния. Обычными поражаемыми мишенями становились людные места — очереди, трамвайные остановки и сами городские трамваи. Много их, искореженных, еще оставалось на путях после сбора и увоза пассажиров. Особенно опасен был проезд по неизбежным в любом ленинградском трамвайном маршруте мостам. Считается, что по Ленинграду было выпущено около полутораста тысяч снарядов. А «тихих дней» за всю блокаду не наберется и полусотни!
Нашу клинику, как один из нанесенных на карту объектов желательного уничтожения, числившийся под номером 89, обстреливали, как и другие госпитали, с пристрастием, особенно — после занятия немцами удобных позиций на южных высотах. В результате множества обстрелов в разное время получилось почти два прямых попадания с недолетом в считанные метры.
Один снаряд с умопомрачающе звонким грохотом разорвался прямо перед «фонарем» парадного входа и лестницы с ее окнами зеркального стекла. Дом ощутимо пошатнулся. В это самое время мы с теткой Верой (переживавшей блокаду в клинике, поближе к сестре), как обычно, отстаивались в глухом «рентгеновском» коридоре первого этажа. Тетка потом рассказывала, как, совершив необычный для меня прыжок, я почему-то рванулась к выходу, как раз под хаос обрушивавшихся стекол, но была вовремя поймана «за хвост». И тут уж мы обе обомлели — фасада с первого по четвертый этаж как бы уже не существовало, остались межоконные перегородки. По ступеням же парадной лестницы с шуршанием и звоном стекал, подобно льдинам, поток осколков самой разной величины. Погода была ясная, и толстое стекло сверкало на западном солнце. Внизу обнаружились остатки самой парадной и обширная воронка в асфальте. А окна пришлось забить фанерой — до лучших времен.
В другой раз, весной, снаряд, нацеленный как бы прямо в наше окно, ударился в гигантскую иву напротив. Эта ива была любимым средоточием наших с Ритой ранних, еще поднадзорных прогулок. Цепляясь за грубую кору слегка наклонного ствола, мы долезали до первого разветвления, на большее не отваживаясь. А в этот день дед, решительно отказывавшийся «бегать по тревогам», и при обстреле не удосужился выйти хотя бы в коридор. Остался лежать в кровати, укрывшись, на всякий случай, одеялами и «зипуном». И не зря. Мы с мамой, с трудом войдя в заваленную изнутри дверь, нашли его погребенным под грудой стекла, обломков фрамуги и сучьев, которую пришлось разбирать с великой осторожностью.

Дед оказался невредим, зато уже чуть выше в мебели и даже в двери застряли мелкие осколки. Даже через пару лет был найден осколок, поразивший истинно достойную мишень — сборный кукольный домик на книжном шкафу. На следующий день я осмотрела последствия взрыва. Стекла и рамы, конечно, вылетели и в нижних этажах южного фасада. Кажется, обошлось без жертв — койки из южных палат заблаговременно были переставлены в коридор. Пришлось завесить ряды высоких окон одеялами, пока и эту сторону клиники не застеклили заново. По причине занавешенного окна бедный дед долго был лишен возможности читать даже в светлое время суток. С котенком на ногах, тосковал целыми днями в своем кресле. Я, каюсь, была ему плохим компаньоном, имея большинство своих интересов и забот вне дома.

Добрая часть ивы валялась по всему скверу, серебрясь ворохами молодой листвы. От кроны остались нижние сучья, придавленные еще более накренившимся стволом. Вспомнив о прочитанных «привоях и подвоях», с помощью ножа и бинтов взялась я пересаживать срезаемые с оторванных суков побеги в надрезы на оставшихся ветках, где только находилось место. Наконец, ствол, тяжело опиравшийся на свои «локти», приобрел вид израненного, перебинтованного и встрепанного воина. Во всяком случае, наши «ходячие» раненые, хмуро обследовавшие нанесенный зданию урон, явно видели в дереве боевого товарища, и шутки их над моими трудами были сочувственными.
К собственному моему удивлению, большинство побегов принялось, что ставлю в заслугу живучести ивы, и бинты (не успевшие поглотиться свежими наплывами) были сняты. С удлинением веток, частично прикрывших ствол, конструкция приняла вид высокой плакучей клумбы, исправно зеленевшей. Но не дано мне было до седых волос наслаждаться мыслью о «спасенной жизни». После окончания войны волна реконструкций задела и зеленые насаждения Института. Несмотря на довольно активное заступничество старожилов, наша спасительница была выкорчевана как «нестандарт».
О налетах
Попытки уничтожить военный лазарет делались не только с суши, но и с воздуха. Несколько госпиталей в городе было разрушено именно бомбами. Помимо студенческого общежития, в Гренадерских казармах расположилась воинская часть. К ее зенитному расчету снаряды подвозили, до ледостава, по Карповке. И в холмах, закамуфлированные, стояли зенитки, энергично отстреливавшиеся при налетах на наш сектор Петроградского района. Дворовые ребята убеждали, что, разобранная, зенитка была поднята и на крышу клиники (уверенности в этом у меня нет). Но, хотя налетчиков часто и удавалось держать на расстоянии, почти всякая крыша нашего квартала получила свою долю зажигалок. Не везло и общежитию в «казармах»: вскоре его повредила упавшая рядом фугаска, потом оно горело. А 25-го сентября 1941 г. фугасная бомба все же упала в сад перед нашей поликлиникой, но не взорвалась. Последнее обстоятельство оказалось для больничного квартала спасительным — бомба весила тонну! Этот факт был воспет поэтессой Верой Инбер, переживавшей блокаду в Институте вместе со своим мужем, профессором Страшуном, в ее известной поэме «Пулковский меридиан»:
«В пролет меж двух больничных корпусов,
В листву деревьев золотого тона,
В осенний лепет птичьих голосов упала
Утром бомба, весом в тонну.
Упала, не взорвавшись: был металл
Добрей того, кто смерть сюда метал».
По нашей улице перестали пускать трамвай, из ближних зданий пришлось перевести больных и персонал в другие помещения. Среди старых лиственниц денно и нощно саперы пытались хотя бы остановить уходившую в «ленинградский» грунт махину. Бомбу разрядили лишь где-то в начале октября. Позднее мы ходили ее смотреть в Музей обороны Ленинграда, что открылся в Соляном Городке. Затем экспозиция была переведена на набережную Лейтенанта Шмидта, в Музей истории Петербурга. Где, по-видимому, бомба находится до сих пор. Поскольку в возвращенном в Соляной городок музее ее нет.
Налеты набирали силу. Ведь тот сентябрь был всего лишь их началом. Перед зимой бомба взорвалась в Ботаническом саду (где среди деревьев скрывали аэростат). В разбитых оранжереях пальмы погибли за одну морозную ночь. А как, еще недавно, гордо поднимались их раскидистые вершины, полюбоваться которыми удавалось только с хорошего расстояния!
Редко счастливилось остаться в постели до утра. Изнурительные часы не единственной за ночь тревоги приходилось, чисто формально, отсиживать в рентгеновском кабинете. Хотя фугасные бомбы прошивали донизу здания и выше нашей клиники, все-таки здесь было не так страшно, как наверху. Вылезать по нескольку раз на холод, едва согревшись, было невозможно тяжело. Подвал дома был оборудован под приличное убежище, предназначенное, в основном, для постоянного пребывания «тяжелых» раненных. Туда же по тревоге спускались и ходячие, с необходимым сопровождением. Для остального персонала просто уже не хватало места. А вскоре кровати с «лежачими» выстроились по всему подсобному первому этажу, также и вдоль стен рентгеновского коридора. От близких разрывов всякий раз наш крепкий дом шатало, что переживалось молча. Тетка же вообще появлялась наверху редко.
Но есть справедливость на свете! Как-то, прислушиваясь к необычно частому «лаю» зениток и дожидаясь близкого взрыва, мы были поражены известием о сбитом над «Гренадеркой» вражеском самолете. Летчику удалось то ли посадить машину, то ли — спуститься на парашюте, он вроде ранен и определен в нашу клинику для операции. Очнувшись, держал себя высокомерно, почти уже победителем. Однако, узнав, что находится под охраной Красного Креста, тут же сменил тон, прося перевода из военного госпиталя в гражданскую клинику, «не желая попасть под налет своей же авиации». Этот случай упомянут и в дневнике «Почти три года» Веры Инбер, которой тетка пожаловалась на «наглого паршивца». Хорошо помню нервную реакцию Лизочи, которой предстояло его оперировать! И ведь не только лечить, но еще и подыскать ему безопасное помещение в переполненном ранеными здании! С трудом пыталась она склонить свою натуру на выполнение врачебного долга. В итоге, конечно, вражеское бедро было прооперировано. И немец тот, пролежав где-то положенное ему для излечения время, был увезен от нас навстречу своей дальнейшей судьбе.
Воздушные тревоги, особенно изводя людей хроническим недосыпом, вторгались в нашу жизнь и днем, чередуясь с артобстрелами. Наряду с фугасами город осыпали зажигательными бомбами — по официальным сведениям всех вместе было сброшено более ста тысяч. На нашей крыше дежурства были в принципе круглосуточными, с пересменой. Из верхнего окошка соседнего корпуса сирена оповещала о налете продолжительным, морозящим душу воем. Метроном уличного репродуктора принимался частить, но вскоре умолкал, иногда — надолго, до бодрых звуков «отбойного» горна. Молчало радио, и территория вымирала; бежали лишь припозднившиеся — либо прятаться, либо, наоборот, занимать свое место на крышах. В промежутки между свежими привозами раненых и срочными операциями поднималась наверх и моя тетка. Она уже имела на своем счету несколько «зажигалок». Для меня ход на крышу был категорически запрещен. Впрочем, сознавая свою неумелость, да и ненужность, я туда и не рвалась.
Зимние проблемы (1941—1942)
Питание
К зиме 1941/42 г. в общежитии оставалось девять душ жильцов — нас трое (мама, дед и я), две мои тетки (тетка Вера временно поселилась в опустевшей комнате Киттер), одинокая профессор Славская со своей домработницей Анной Тимофеевной, два кота — Лизочин мраморный красавец Барсик и мой, подобранный перед самой войной котенок Нетти. Прошедшая горнило гражданской войны мама еще летом первая оценила ситуацию и занялась сушкой сухарей — черных, как более питательных. Высушенные на солнце ломти ссыпали с противней в марлевые косынки и развешивали по стенам комнаты. Тетка, с неодобрением относившаяся к маминым «паническим настроениям», в конце концов, сдалась на мольбы, позволив посушить сухарей и на ее долю — «но только белых, пожалуйста». Полагаю, что эти сухари да кое-какие припасенные крупы, растянутые почти до весны, спасли наши жизни.
Тем временем вопрос с питанием становился все более проблемным. Никого удостоенного «рабочей» карточкой среди нас на этаже не было. Наш семейный карточный расклад был не самым удачным — «служащая», «детская» и «иждивенческая». Вначале растущая скудость обедов показалась мне, всегда приступавшей к надоевшим котлетам с тоской (и куда я их только, всегда неудачно, не запрятывала!), чуть ли ни благом. Когда на завтрак я получила четыре непривычного вида лепешечки, и в робком сомнении воскликнула: «И это — все?», мама с горечью ответила «Все!». «И больше ничего не будет?» — не верила я. «До обеда — ничего»!» — подтвердила мама. «А что давать Неттке?» Но котенок в этом плане нас не затруднил, поедая все, что получал, в отличие от любившего рыбку Барсика. Барсик худел, отворачивался от политых теткиными слезами сухарей, приводя ее в отчаяние. И в моем повернутом на романтику мозгу стала созревать идея спасения. Удивительно, что она была принята и, в общем-то, трезвого ума теткой, лишь технически ею усовершенствованная.
И вот, с Барсиком (в шлейке с длинным бинтом вместо поводка) на руках я сползаю по темной лестнице в глухую тьму предзимнего вечера. Остерегаясь нежелательных свидетелей, держу путь к студенческой столовой, наиболее притягательному для крыс объекту. Прислонившись к дереву, слушаю обстановку. Крыс не видно, но они тут, кот напрягается в моих объятьях, дергается. Тихо опускаю зверя на землю, вероятно — впервые в его жизни. Как-то он себя проявит? После паузы, хищник медленно приступает к обходу территории — его маршрут легко прослеживается по перемещению белеющего бинта. Вдруг вялые изгибы выпрямляются, все быстрее, устремленнее. Крепко обматываю концом ладонь. Рывок, визг, шум короткой возни. Бегу, сматывая бинт. Барс уже скрючился над жертвой, порядочной крысой, вероятно, не знакомой с кошками. Пытается удрать с нею во мрак. Отдает с ворчаньем. Роняю крысу в пакет, ухватываю кота, шепотом хвалю и тащу свою ношу домой. Тетка, удивленная и умиленная подвигом любимца, ловко препарирует добычу. Тушку варит на спиртовке в специальной консервной банке, за плотно закрытыми дверями. Как вкусно пахнет мясной бульон! Сколько-то его отливают и для Нетти. Крысу растягивают на два-три дня. И поход повторяется. Кот быстро освоил всю технологию охоты, лучшие места для засады, миг атаки. Казалось, выход найден, и надолго.
И дожил бы Барсик до сытных времен, кабы не возраставший риск моих одиноких блужданий по задворкам. В лучшем случае отняли бы кота — держать живых кошек к тому времени считалось просто неприличным. Это с окончанием войны всем въезжающим в Ленинград рекомендовалось привозить кошку. Помимо того, кошек отлавливали и эшелонами завозили в город из других областей. Смысл акции: борьба с крысиным засильем «биологическим методом». Судьба же переселенцев — покрыта мраком, хотя есть свидетельства, что кошек разбирали прямо на вокзале. Надеюсь, что не на жаркое. 1 кг хлеба стоил (тогда!) 50 рублей, кошка же 500, а то и 1000. Так вот, вероятно, состоялся серьезный разговор мамы с Лизочей, и охоту пришлось закрыть. Барсик все же умер, на своем любимом стуле, отвернувшись к стене от просиявшей было и затем предавшей жизни. Парни, из выздоравливающих, под одним из кленов выкопали могилку. Тетка похоронила кота одна, без свидетелей, заровняв холмик. Во всяком случае, в своей печали, правильный клен я отыскать не сумела.
Однако пришлось испытать и более сильные потрясения, связанные все с той же, мучительнейшей стороной затяжной блокады. Голод ломал не только физически, но и психически. По больничной территории забродили личности, притягиваемые работавшей и в блокаду кухней, из которой вручную, на тележках (с необходимым эскортом) развозили питание по корпусам. А так же студенческой столовой, источавшей в обеденный час подобие тепла и не вполне ароматные запахи. Проникавших внутрь выдворяли, но не активно. Некоторые так и оставались сидеть, а затем лежать неподалеку от порога. Бродила по территории и всем известная полубезумная «академик Фарро», жена институтского бухгалтера, всегда — с небольшим чемоданом, в котором брякали, как рассказывали, с маниакальной ловкостью похищаемые ею ключи от дверей, шкафов и даже денежных сейфов. Поскольку она их не отдавала, приходилось запасаться дубликатами.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
