
- Все
- Экономика и бизнес
- Промышленность
- СМИ и индустрия развлечений
- Издательская деятельность и журналистика
Бесплатный фрагмент - Субботние беседы
Истории о людях, которые делают жизнь интереснее
Идея этих бесед пришла ко мне однажды вечером, когда я сидела дома и чувствовала себя ужасно несчастной. «В мире столько интересных людей, к которым у меня столько вопросов, а я не могу их задать», — так я размышляла. Потом эта мысль снова посетила меня, когда я пекла пятничный яблочный пирог. «А что, я могла бы угощать пирогами собеседников». И, наконец, полностью созрела, когда предстала передо мной в своей обескураживающей простоте: «Хочешь поговорить — иди и говори». Сначала это напоминало больше неуклюжее ковыляние, чем уверенный шаг: я не знала, как вести беседу, как приготовить порционное пирожное и категорически не умела фотографировать. Но после долгих часов, проведенных в муках творчества, после множества загубленных тортов, так никогда и не появившихся на свет, после сомнений и неудач — наконец, начали получаться беседы, которые и вошли в эту книгу. Здесь собраны истории о людях, которые делают жизнь интереснее. Режиссеры и писатели, изобретатели и художники, музыканты и борцы с властью — те, кому есть, что рассказать.
Мария Метлицкая. История литературной Золушки
Она пишет по три книги в год, которые расходятся многотысячными тиражами. Огромная армия поклонниц считает ее своей подругой, учительницей и наставницей. Ее книги часто называют «мелодрамой в прозе»; читая их, кажется, что смотришь сериал про маленькую жизнь маленьких женщин, про их обиды, ошибки, страдания. Про то, что понятно каждой Писательница Мария Метлицкая рассказала мне о своей невероятной писательской судьбе, о тяжелой болезни и о том, что самое главное в жизни.

— Мария, люди начинают писать по разным причинам. Кто-то от тоски, кто-то от скуки, кто-то от желания разобраться в чем-то, а кто-то просто потому, что не может без этого жить. Отчего вы начали писать?
— От депрессии, душевной боли. В нашей семье произошла драма, о которой я не хочу говорить, и я заболела. Где мы только не были, куда мы только не обращались, вплоть до знахарок. И мне долго не могли поставить диагноз, пока не выяснилось, наконец, что это классическая депрессия, организм перестал бороться с действительностью.
— А в чем она выражалась?
— В полном отсутствии физических и душевных сил. Мне, человеку коммуникабельному, стало трудно общаться с людьми. Я не могла находиться в толпе. В эти дни мне был нужен только мой муж- потому, что он все понимал и не давал дурацких советов. Однажды я услышала- «депрессия — это онкология души». И это правда. Потому что теперь я знаю, пройдя вот это, что физическую боль переносить легче.
— И как вы с этим справились?
— Ну, конечно, врачи. И это правильно. Любую болезнь надо лечить. Но и ты сама, безусловно. Нужно вытаскивать себя из-под руин. Однажды муж отправил меня с собакой на дачу. Делать мне особо было нечего, потому что это был апрель, еще снег лежал и было холодно. И я искала, чем себя занять. И как-то мне пришла в голову идея реставрировать старую мебель: шкурить, полировать, расписывать масляными красками- только они и были под рукой. Получилось очень симпатично. Потом я пошла на курсы и освоила технику декупажа. Я этим очень увлеклась, делала картинки, тарелки. Потом мне это надоело, и я решила: попишу что-нибудь. А у меня в голове давно крутились идеи, сюжеты, персонажи. Компьютера не было, я не умела на нем работать. Я взяла обычную ученическую тетрадку и написала несколько коротких рассказов.
— И с этого началась карьера знаменитой писательницы.
— Ну можно сказать и так. Муж приехал, я ему прочла эти рассказы, и он заплакал. Конечно, он субъективно отнесся к моему творчеству, потому что понимал, в каком состоянии я нахожусь. И с тех пор я стала пописывать. Тем летом я написала еще несколько рассказов.
— Ну знаете, многие пишут поздравительные открытки, но не все становятся писателями.
— У меня произошло так. Когда мои рассказы прочитали родственники и друзья, то сама собой возникла идея: надо бы показать профессионалам. А каким профессионалам? Я ведь не знала никого. Просто рассылать по издательствам? Этого я делать не стала. А в сентябре в Москве каждый год проходит книжная ярмарка. Мы с мамой взяли дискету, тогда еще даже флешек не было, с моими рассказами и, как бедные родственники, пошли гулять между стендами. А на сцене в это время сидели Устинова, Донцова, Маринина, и другие звезды. Тогда мне в голову не могло прийти, что через три-четыре года я буду сидеть рядом с ними. Я, как сиротка Хася, подходила к представителям издательств и спрашивала робко: «Вас не интересуют рассказы?» И мне отвечали: «Нет, рассказы не интересуют». Но счастливый случай привел к тому, что наконец кто-то эту дискету взял и передал редактору. И редактор не выбросила ее тут же в помойку, а прочитала. И спустя три месяца она мне позвонила.
— Просто история литературной Золушки.
— Ну как-то так. Моя первая книжка была издана тиражом в тысячу экземпляров. Оформление было ужасным, бумага была жуткой, но это меня мало волновало. Когда я получила свою первую книгу — это было великое счастье. Никто ее, конечно, не раскручивал, никто ее продвижением не занимался. Был ли продан этот крошечный тираж в тысячу экземпляров? Ей богу, не знаю. Вскоре вышла вторая книга. Кажется, с той же судьбой.
— Вы тогда уже всерьез решили заняться литературой?
— Нет, тогда я еще относилась к этому как к способу потешить свое небольшое самолюбие. Потому что как раз в то время моя подруга открыла антикварный магазин и пригласила меня туда поработать. Я страшно удивилась: я никогда не работала в магазине. Но согласилась.
— Это при том, что образование у вас медицинское.
— Да, но в медицине я почти не работала и следов там не оставила. Мне всегда неловко говорить об этом. Я была домохозяйкой.
— То есть вы, как я, профессиональная домохозяйка.
— Абсолютно так- именно профессиональная! Где все по местам и как надо! Но я до пятидесяти лет сидела дома, и шансов проявить себя было не так много. И я уже ни на что рассчитывала. Ведь это было такое счастье в девяностых годах, когда мужья начали хорошо зарабатывать, посадили нас, жен, дома. Мы могли заниматься детьми, собой. Из моих подружек никто не работал.
— У вас такой кружок неработающих женщин был?
— Так случилось, что у нас была компания из нескольких мам, и мы, как в курятнике, высиживали наших деток и были абсолютно довольны. Мужики зарабатывали, мы жили в полном достатке. Меня все устраивало, я сидела дома с удовольствием.
— А вас это не терзало? Я имею в виду, ваша профессиональная несостоятельность.
— Ну разве что немножко. Я слегка стеснялась этого. Я чувствовала, что моя карьера не сложилась. Но менять что-то было уже поздно.
— И вот, книжки вышли, вы себе потихоньку трудитесь в антикварном магазине…
— А спустя год или два позвонила мне моя любимая редактор со словами: «Маша, куда вы пропали? Вы нам срочно нужны!». Ну я, конечно, немного обалдела. Но она продолжала: «У вас есть два месяца, чтобы написать новую книгу. Напишите — звоните». Это был десятый год, когда горела Москва, и мы сидели на даче с мамой, которая только-только приходила в себя после инсульта.
— И что вы ответили на это предложение?
— Ну первая реакция была, конечно, отказаться. Ведь это казалось тогда совершенно нереальным. Но вот ночью я лежу и думаю: с одной стороны, это невозможно; с другой стороны, мне дан шанс, и я не имею права его не использовать.
— То есть вы вытянули свой счастливый билет.
— Да. Не всем он дается. А мне в руки упал. И я согласилась.
— Однозначно.
— И вот, я сижу все лето на веранде и в тетрадке пишу. И когда эту книжку приняли в издательстве, я поняла, что жизнь-то моя меняется. Причем стремительно. Потому что это уже три книжки в год, это контракт, это гонорары.
— Одну секундочку. Вы говорите про три книги в год?
— Да, в год. Таковы условия контракта.
— Но это же издевательство.
— Нет, это работа.
— Адская.
— Но любимая! Значит, я кому-то нужна! Прибавьте к этому интервью, командировки, встречи с читателями. То есть из тихой домохозяйки, варящей борщи, я вдруг превратилась в крайне занятую даму.
— Вы были готовы к этому?
— Нет, конечно. Я боялась, что не справлюсь, что у меня не будет сюжетов, что я подведу кого-то.
— А вы не боялись жесткой конкуренции? Войти в этот книжный мир, где так много зависит от случая.
— А вы знаете, я до сих пор не вижу конкуренции и не знакома с этим жестким миром.
— А другие писатели вас признали?
— А я их и не спрашивала.
— Ну конкуренция есть между вами?
— Я ее не чувствую. Я как-то попала на свою грядку, которую окучиваю. Я быстро заняла свою нишу. Конечно, это была совместная работа- издательства и моя. Они занимались продвижением, а я… Я писала. И меня назвали «открытием года» -ничего себе, а? я и сама обалдела.
— Для вас это было абсолютно неожиданно.
— Абсолютно. Но так расположились небеса, и я вытянула этот выигрышный билетик. Судьба, видимо.
— Ну как же так! Есть огромное количество людей, которые мечтают о том, чтобы их напечатали в каком-нибудь толстом и важном литературном журнале. А вы смогли избежать этого долгого и унизительного процесса.
— Понимаете, я никогда к этому не стремилась. У меня не было никаких писательских амбиций. И еще я никогда никому не завидовала.
— Ну что значит не было амбиций? Ведь вы показали свой диск на книжной ярмарке?
— Ой, я так робко его показывала, что серьезно ни на что не рассчитывала. Вот не получилось бы тогда, на этом бы все и закончилось. Это я вам говорю совершенно точно.

— У вас очень счастливая писательская судьба.
— Да, мне об этом говорили. Я поначалу не задумывалась, а потом поняла. Ведь сотни, тысячи людей пишут, и у них не складывается. А у меня все получилось.
— Как?
— Понимаете, нашлись люди, которые поверили в то, что я буду интересна определенной категории читателей.
— Это женщины средних лет, часто одинокие или с неудачной личной жизнью.
— Или с удавшейся. Но проблемы то остаются! И у бедных, и у богатых. В общем, у людей. И перед болезнями, предательством, изменами мы все равны, поверьте.
— Ваши читательницы — это женщины, замордованные, уставшие, растерянные. Вы рассказываете им о них же и поэтому пользуетесь такой популярностью. Вас не обижает, когда вас называют «женским автором»?
— Ни в коем случае. Я это полностью сознаю. Женщины вообще часто более активны. А кто ходит на концерты? Кто посещает выставки? Кто записывается в библиотеки? Женщины. Это моя аудитория, я к женщинам отношусь с глубоким уважением, жалостью и нежностью. Я их понимаю. И они воспринимают меня, как подружку. Они мне пишут: «Вы это списали с меня».
— А на самом деле, с кого вы списываете?
— Беру из своей больной головы.
— Но, читая вас, действительно возникает ощущение, что вы такая подружка, которая сидит на кухне и рассказывает рассказы.
— Для меня это комплимент, спасибо! А на самом деле, девяносто процентов написанного в моих рассказах, — выдумка. Остальное — не списанное, а выхваченное. Ни одного списанного сюжета или персонажа у меня нет.
— Вы производите впечатление человека, который не только пишет, как подружка, но и ведет себя, как подружка.
— Да, есть такое. Но у этого есть и оборотная сторона. Потому что женщины чувствуют меня своей, и на меня сыплются их письма, жалобы. Я участвую в их трагедиях, болезнях, обидах. И я всегда отвечаю. Через меня проходят судьбы этих людей и я, конечно, стараюсь их пропускать через себя.
— А как происходит этот процесс сочинительства?
— Это происходит обычно так: около двенадцати ночи я иду на кухню курить. И в этот момент у меня что-то щелкает. Вот можете не верить, но это так. Иногда я вижу сразу готовый сюжет. Иногда я чувствую, что из этого ничего не получится. Самое главное успеть записать, потому что наутро я уже ничего не помню. С опытом пришло и понимание. Иногда я вижу, что это сюжет для полноценного романа, а иногда понимаю, что здесь можно ограничиться рассказом. Иногда у меня рождаются готовые сюжеты, иногда над ними приходится покорпеть. Но ни реального Васи Иванова, ни Абрама Рабиновича у меня нет.
— А вот, кстати, об Абраме Рабиновиче. Вы практически не пишите на еврейские темы.
— Ну здрасьте! Вы меня не всю прочитали!
— Ну извините! Двадцать пять книг я не осилила!
— Ну вот, вы не дочитали. Еврейская тема у меня, конечно, есть. Может быть, не в том объеме, как у других авторов, но есть. Например, автобиографическая книга «Можно я побуду счастливой?» как раз об этом. В ней я пишу о своих еврейских корнях, совершенно это не стесняясь, а наоборот, гордясь. Моя бабушка Софья Борисовна Метлицкая — это главный человек в моей жизни. Она нас с сестрой вырастила, сформировала, и все, что есть хорошего во мне, — это от нее.
— Расскажите.
— Это была абсолютно еврейская семья из белорусского местечка. Мой прадед, Борис Метлицкий, работал лесником у богатого помещика. У них был крепкий дом и трое детей. Человеком он был практичным, скуповатым и кажется, любил женщин. Он был красивым мужчиной. Кстати! Мой сын похож на него. Я выросла с сознанием того, что я еврейка. И в моем окружении были евреи- родительская компания. Я никогда не отдавала себе в этом отчет, потому что мы жили в стране победившего Интернационала. Среди моих подружек были и русские девочки, и еврейки. Так сложилось. А потом, после школы, у нас образовалась еврейская компания. Мы встречались у синагоги на улице Архиповой. Конечно, мы не ходили молиться, но праздники праздновали и весело там тусовались. Это была отчасти диссидентская компания, некоторые уже успели посидеть, это были «отъезжанты» и отказники. Уезжали тогда практически все, в основном, в Америку. И я тоже собиралась, но ситуация сложилась по-другому. И, кстати, мы до сих все дружим.
— Мария, вы часто в ваших книгах затрагиваете темы предательства, обиды, нелюбви. Вам пришлось это испытать?
— Нет, по счастью. Хотя, как и у любого человека, у меня были разные периоды в жизни. Но оба мои брака были по любви. Когда закончилась любовь в первом браке, от мужа я ушла- встретила новую любовь. Как оказалось- главную. Мы прожили непростую жизнь. С жизнью сытой и благополучной, с внезапной потерей бизнеса, и даже бедностью, с моментами отчаяния, с болезнями. Но мы смогли выстоять. Да и в моей семье тоже было все непросто. Со своим родным отцом я встретилась только в тридцать лет. Но была бабушка, которая нас с сестрой растила, была мама, которая развивала, был достаток. Нет, я не могу сказать, что меня предавали. Но самое главное, что мне удалось в этой жизни, — это мой сын. Мы с ним большие друзья. И друзьями были с самого первого дня. Мы можем поругаться, наорать друг на друга. Но у нас не может быть принципиального конфликта, из-за которого мы не будем общаться. Ну, а уж то, что произошло со мной в плане карьеры — это просто какие-то чудеса. Я до сих себя немножко самозванкой чувствую. Однажды Виктория Токарева подарила мне книжку с надписью: «Ученику от побежденного учителя». Я тогда была еще, собственно, никто, и это было, конечно, большое признание.
— А вы сознательно не пишите на темы, условно говоря, войны и мира? Вы рассказываете о маленькой жизни маленького человека, у вас даже сборник есть с таким названием.
— Я думаю, это происходит естественно. Это то, в чем я лучше разбираюсь. Я не настолько образована, чтобы браться за серьезные темы. Я бы побоялась. Я не чувствую для себя возможным писать на какие-то сложные исторические, политические, словом, глобальные темы.
— А вы вообще к себе серьезно относитесь?
— Я отношусь к себе с уважением.
— А в чем женское счастье?
— Ну, если по классике, то, конечно, это семья — муж и дети. Но увы, так получается не всегда. И женщина, лишенная этого, тоже может прожить вполне цельную жизнь. Счастьем может быть и успешная карьера, и жизнь, наполненная путешествиями, и хобби, и увлечения. Счастье — это близкие подруги и дорогая родня. Составляющий много. Есть и короткое счастье: чашка кофе по утрам, хорошая книга, пейзаж за окном, новые туфли, в конце концов!
— А что, по-вашему, главное в жизни?
— Душевный комфорт. А это, поверьте, очень глубокое понятие! Потому что оно включает в себя все вышеперечисленное и плюс — спокойную совесть. А это означает, что вы — хороший человек и проживаете свою жизнь правильно. А это ведь главное, правда?
Мария Метлицкая совсем недавно репатриировалась с семьей в Израиль и теперь живет в Хайфе, где мы с ней и встретились. В качестве угощения я принесла очень вкусный пирог из песочного теста с лимонным джемом.
Лимонный пирог с джемом

Для песочного теста:
— 300 гр. муки
— 200 гр. холодного сливочного масла
— 100 гр. сахарной пудры
— 2 желтка
— щепотка соли
— 2—3 капли ванильной эссенции
Способ приготовления:
Высыпать в чашу миксера просеянную муку, сахарную пудру и соль. Добавить масло, замешивать до состояния крошки. Влить желтки и ванилин и замесить однородное тесто. Отправить в холодильник минимум на полчаса.
Для джема:
— 2—3 лимона
— сахар по вкусу
— 10 гр. желатина
Способ приготовления:
Перемолоть лимон с сахаром. Добавить желатин и хорошо перемешать.
Для белкового крема:
— 100 гр. сахара
— 50 гр. белка
— ¼ ч.л. лимонной кислоты
Способ приготовления:
Взбить белки с сахаром, добавить лимонную кислоту. Перенести миску со взбитыми белками на водяную баню и продолжать взбивать венчиком до полного растворения сахара.
Способ формирования пирога:
Раскатать охлажденное тесто толщиной в 4—5 мм. Запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 15—20 минут (зависит от диаметра коржа). Остатки теста можно заморозить.
Выложить на готовое охлажденное тесто лимонный джем.
Сверху украсить с помощью пекарского мешка белковым кремом и отправить в духовку, разогретую до 220 градусов, на 3 минуты.
Михаил Лабковский. История гиперактивного психолога
Мы договорились встретиться вечером, после лекции. Ожидая его возле концертного зала, я увидела женщин. Их было много. Они приходили на лекцию с подругами, реже с мамами или в сопровождении мужчин. Все они громко обсуждали только что услышанное. Одни захлебывались от восторга, другие цинично кривили губы. Наконец вышел он. Тоже с женщинами. В окружении свиты из поклонниц, сотрудниц и просто любопытствующих, он напоминал Воланда, который прилетел в ненавидимый прокуратором город. Мне ничего не оставалось, как присоединиться к этому шлейфу и брать интервью в сложных полевых условиях. Вот такая беседа у меня получилась с психологом, лектором, автором книг и любимцем женщин всех возрастов Михаилом Лабковским.

— Михаил, как вы стали страшно популярным человеком, которого цитируют, ругают и обожают?
— Я сформулировал шесть простых правил поведения, которые оказались очень эффективными для изменения психики людей, которые страдают от неврозов, страхов, тревожности и других проблем.
— Правила очень простые.
— Да, но их очень сложно реализовывать. Все шесть правил я прописываю в очень редких случаях, когда человек находится совсем в плохом состоянии и не хочет жить. Обычно достаточно соблюдать одно-два, чтобы изменить свою жизнь.
— Ну давайте пройдемся по правилам. Первое: делать только то, что хочется.
— Это значит, что, когда вы принимаете решение, у вас есть рациональная мотивация. Я так делаю, потому что это правильно, справедливо, нужно и так далее. Я предлагаю убрать рациональную мотивацию и оставить эмоциональную: я делаю так, потому что я так хочу. Единственная причина, почему я так делаю, — потому что мне так нравится. Без логики.
— То есть вы считаете, что это правильно, когда мозг не включается.
— Кроме меня так считает все человечество, потому что это было доказано опытным путем. В хосписах проводили опрос среди пожилых людей, которые вот-вот должны были умереть. Им задавали только один вопрос: о чем вы жалеете в жизни? И все отвечали, что жалеют о том, что не жили, как хотели. Когда вы делаете, что хотите, это всегда правильно.
— Таким образом, такого понятия, как ошибка, вообще не существует. Если я делаю что-то сейчас, то для меня единственно правильное решение, даже если потом он приведет к каким-то катастрофическим последствиям.
— С вами приятно разговаривать! Вы схватываете на лету!
— Я вообще-то умная.
— Ну точно не дура.
— Хорошо, когда мы друг друга понимаем! А вот у меня очень настороженное отношение к психотерапии. Мне кажется, что ковыряние в себе и поиски виноватых вообще-то ничего положительного не несут. Вот если я считаю, допустим, что жизнь у меня не сложилась потому, что мама меня в четыре годика шлепнула по попе, то это не способствует улучшению моего самочувствия и налаживанию личной жизни. Вам так не кажется?
— Хороший вопрос. Проблема в том, что так не кажется Фрейду, который в течение ста лет считается лучшим психологом в мире.
— Но Фрейд был один. А его последователей, которые не обладают его талантами, миллионы.
— Я тоже считаю, как и вы, что Фрейд был великий лечащий врач. А опыт, как мы знаем, не передается. Передаются знания. Можно прочитать книгу про психоанализ, пройти курс и назваться психоаналитиком. Но не стать Фрейдом. Фрейд был именно практикующим врачом, и он умел лечить неврозы. Но давайте посмотрим на проблему детской травмы под другим углом.
— Давайте.
— Представим себе ситуацию, что мама идеальная и по попе не бьет. А ребенок в три месяца попал в больницу с гнойным стафилококком. И он полностью теряет чувство безопасности и становится невротиком. А мама тут вообще не при чем.
— При этом невозможно прожить жизнь без травм.
— Конечно. Может быть все, что угодно, это неважно. В связи с этими ситуациями у вас сформировались определённые психические реакции на окружающий мир. Это означает, что в пять лет уже сформированы предсказуемые реакции на внешние раздражители. Эти реакции могут быть следствием повторяемости действий или психотравмы.
— То есть если сменить эти паттерны, то можно сменить и реакцию психики на внешние раздражители, и, как следствие, изменить свою жизнь.
— Да. Мои правила формулируют две вещи: действия и коммуникации. Невротик никогда не делает то, что ему нравится. Он делает то, что надо. Он никогда не говорит о том, что его беспокоит. Он держит все свои страхи и обиды в себе.
— И часто упивается этим.
— Да. Так вот, следование моим правилам разрывает привычный шаблон поведения. А в мозгу существует определенные нейронные связи. Ваше поведение, реакции, эмоции — это очень сложная нейронная структура, в которой задействованы все системы организма. Таким образом, вы начинаете рушить невротическую структуру и выстраивать новую, более здоровую.
— А почему она будет здоровая?
— Потому что мои правила — это и есть поведение здорового человека, в этом их величие. Хотя, это, конечно, идеальная ситуация, к которой нужно двигаться.
— Вы уже на каком уровне просветления находитесь?
— Я специально не считал, но приходится каждый день бороться, хотя это и нелегко. Я, например, всегда делаю то, что я хочу и никогда себе не останавливаю.
— Хорошо. Второе правило: не делать того, что делать не хочется. Это не то же самое, что и первое?
— Нет. Это ровно то, что я сказал: не делать того, что не хочется. Не делать что-то против своей воли или в ущерб себе. Или, другими словами, получать удовольствие, не напрягаясь.
— А вы получаете удовольствие?
— Постоянно. Я вообще ничего не делаю.
— Я вам не верю.
— Ну, Маечка, что я могу вам сказать… Большинство людей, которые кровью и потом зарабатывают деньги, имеют вообще другую философию. Как правило, это очень несчастные люди, деньги им ничего не дают. Они ненавидят свою работу и жизнь. Они пашут беспросветно, от зарплаты до зарплаты.
— А бывает по-другому?
— Легко! Вот я, например.
— Очень интересно! Вот расскажите. Вы вернулись из Израиля в Москву в 94-м году. Разруха, бандитские разборки, полный мрак. И через каких-то десять-пятнадцать лет вы становитесь суперзвездой. Как это произошло?
— Просто повезло. Как в том анекдоте: как ты стала проституткой? Просто повезло. А если серьезно, то я, вообще-то, не баловень судьбы, а очень больной человек. СДВГ — знаете, что такое?
— Это гиперактивность.
— Да. В моем детстве это не лечили. Я вообще еле школу закончил.
— Вы были двоечником?
— Угу. Я и школу бросил. СДВГ — это такое нервное состояние, которое заставляет человека все время двигаться, куда-то бежать. Кстати, у меня это заболевание стало следствием асфиксии.
— Во время родов?
— Да, и это одна из главных причин возникновения этой болезни. Мне мама рассказывала.
— Мама переживала?
— Конечно, переживала.
— И что бы вы сейчас сказали маме такого мальчика, который в школу не ходит, никого не слушает, ничем не занимается?
— Ну что сказал? Лечить надо.
— И как вы школу закончили?
— Никак. Мне просто нарисовали аттестат.
— А в университет вы как-то поступили?
— Да. Но закончил его только в двадцать восемь лет. А потом благодаря своей бывшей жене, которая мне открыла глаза на мои проблемы, и я начал пить таблетки. И когда я вернулся в Москву, то стал спокойно, как все нормальные люди, выдерживать нагрузки, концентрировать внимание, ходить на работу, больше зарабатывать. Меня начали замечать, приглашать, платить.
— Но и после этого вы говорите, что вы не напрягаетесь?
— А я, типа, тяжело работаю?
— Ну, типа да.
— Нет, я вообще мало работаю. Летом, например, вообще на работу не ходил, потому что мне лень было. Не делаю, чего не хочу. Вот недавно подошел ко мне один олигарх и предложил тур по США за триста тысяч долларов. Я сказал: нет, туда лететь далеко. Потому что, согласно второму правилу, я не делаю того, что не хочу.
— Я вам опять не верю.
— Он тоже. Решил, что я над ним издеваюсь.
— А вы это серьезно?
— Абсолютно.
— Хорошо, допустим. Третье правило: сразу говорить о том, что не нравится. Это как?
— Говорить о том, что не нравится, надо сразу и только один раз.
— А вы сами это правило соблюдаете?
— Да, и следуя этому правилу потерял работу на два года. Мне не понравились условия работы, я об этом сказал, и мы распрощались. А дальше оказалось, что не так все просто. И два года я был без работы.
— И вы после этого не изменили свои радикальные взгляды?
— Нет. После этого я стал гораздо больше зарабатывать. Потому что очень многие наши ограничения связаны со страхами. Когда избавляешься от этих страхов, все налаживается само собой.
— А это вообще реально избавиться от страхов?
— Абсолютно. Немотивированные, навязчивые страхи — это свойство психики невротика. Они имеют отношение к психотравмам или к особенностям развития человека. Немотивированный страх убивает человека.
— Вот вы говорите: сразу говорить о том, что не нравится. Но любой конфликт имеет тенденцию развиваться, он не происходит вот в эту секунду. Что значит сразу?
— Если ситуация не меняется, вы должны принимать решение: или мне все нравится, или до свидания.
— А какое время должно пройти, чтобы понять: нравится или до свидания?
— Майя, вы что, шутите, что ли?
— Нет. Вот я живу в браке много лет. Меня что-то не устраивает, и моего супруга тоже что-то не устраивает. В какой момент я должна сказать: давай, до свиданья?
— Ну вы должны сформулировать претензию. Допустим, он мало зарабатывает. Вы должны сделать так, чтобы он больше зарабатывал.
— Как?
— Вы даете ему два месяца на поиски новой работы и новой зарплаты. Вот проходят два месяца, он не начинает хорошо зарабатывать, все, досвидос.
— А как он может заработать? Банки грабить?
— А это уже не ваши проблемы.
— А если он мне скажет «досвидос»?
— Значит, так и надо, не ваш человек. Вы должны запомнить простую вещь: если вы сказали, что вам что-то не нравится, а ситуация не меняется в ближайшее время, то это повод расставаться.
— А если я, послушавшись ваших советов, поставлю ультиматум: дорогой, или ты находишь работу или досвидос? Он же не знает, что через два года он станет таким страшно востребованным, как Михаил Лабковский. Как это понять?
— Никак не понять, и не должна понимать. Жене не надо понимать, она не его мама. Нужно задать другой вопрос: меня устраивает то, что мой муж не работает? Если да, то живем дальше. А если нет, то плевать на него, до свидания.
— А чувства?
— Ну я уже об этом говорил. Нужно сформулировать вопрос к себе: я его люблю и готова с ним жить? Если да, то живем дальше. Если нет, то расстаемся.
— Вы же разведены. Как вы можете давать советы женатым парам?
— У меня есть опыт, я был женат тринадцать лет. Я жил в отношениях, в которых мы были счастливы и не напрягались. А когда это закончилось, то мы разошлись. Но специально отношения строить не нужно, они должны быть естественными. Отношения не бывают абстрактными, это отношения между конкретными людьми. Поэтому если люди привыкли ежедневно решать проблемы на работе, то они и в семье будут жить так же. А вообще семейные пары я крайне редко консультирую. Я не верю в строительство отношений в принципе. Я считаю — любишь, живешь, а не любишь — не живешь.
— Но это очень радикальное мнение.
— Я же сказал, эти правила простые. Но попробуйте их соблюдать.
— А как вы стали таким умным?
— Это само собой произошло.
— А правила как сформировались?
— Как таблица Менделеева.
— Вам они во сне явились?
— Нет, не настолько. Я до этого тридцать лет работал психологом, и рано или поздно это должно было во что-то вылиться. Вот и вылилось.
— Вот психологи часто говорят о том, что нужно полюбить себя. Что это значит?
— Это значит принять в себе полностью, без всяких оговорок: внешность, характер и возраст.
— Но все, что вы перечислили, имеет свойство меняться со временем. Вот возраст, например.
— Принимать каждый раз свой возраст заново.
— А почему сейчас развелось столько людей, которые требуют, чтобы их принимали безусловно? Такие движения, как бодипозитив, например?
— Это правильно. Люди должны принимать людей такими, какие они есть.
— А какие они есть?
— Любые.
— Но для того, чтобы понять, какая я есть, я должна провести сама с собой большую работу. А когда я сама с собой разберусь и приму себя, то мне будет абсолютно наплевать, что обо мне подумают другие.
— Золотые слова, Майя! А вот для того, чтобы понять, какой я есть, надо жить по первому правилу.
— А почему, скажите мне пожалуйста, я должна принимать людей такими, какие они есть, если они мне очень агрессивно об этом сообщают? Почему если женщина с лишним весом тычет мне в нос своим целлюлитом и требует, чтобы я ей подтвердила, что это красиво, я должна это подтверждать? А иначе я целлюлитофоб?
— Потому что она хочет от вас любви, Майя, а вы ей в этом отказываете.
— А я не обязана ее любить и признавать, что это красиво. Если я это признаю, значит, я сделаю то, что я не хочу делать, и нарушу ваше первое правило.
— Правильно. С ее стороны это крик души, она сама себя не считает полноценной, красивой и привлекательной. Но она вам сообщает о том, что она очень хочет, чтобы вы ее полюбили вот такой. Но это — не полноценные люди, потому что полноценные люди не обращаются к народу с просьбой полюбить их.
— Но они принуждают других людей к любви очень агрессивно.
— Ну не читайте эту х-ню.
— Ладно, ну а как принимать свои профессиональные навыки, которые имеют свойство деградировать или, наоборот, расти?
— Возьмем двух людей. Один из них всем доволен и никуда не стремится. А второй все время пытается что-то улучшить. Кто из них здоровее?
— Второй.
— Неа. Первый здоровее.
— Это почему?
— Потому что он не напрягается и не делает того, что делать не хочет.
— А если человек увлечен своим делом и готов трудиться по двадцать часов в сутки?
— Если он увлечен, то он от этого не устает.
— А если то, что ты делаешь с удовольствием без устали, не приносит доход?
— Вот тут интересно. В моей жизни такого не бывало. Хотя, наверное, бывает и такое. Если профессия человека мало оплачивается, то удовольствие дороже денег.
— А как же ваша позиция, согласно которой работа должна хорошо оплачиваться, иначе досвидос?
— Вот у меня как-то так.
— Но не у всех же так.
— Я знаю одно: когда человек занимается своим делом, то денег, как правило, он зарабатывает достаточно. А иногда даже и много.
— Но от человека не всегда зависит его зарплата. Есть же еще и внешние факторы, рынок, например, диктует цены и оплату труда.
— Но если человек занимается тем, что ему нравится, то он получает удовольствие, которое ценнее и важнее любых денег. Тогда человек живет по средствам, довольствуется тем, что есть, и занимается тем, что любит. Есть люди, которые так живут. Им деньги по барабану.
— Как раз часто происходит обратное, когда человек идет на нелюбимую работу, где больше платят, а в свободное время занимается любимым делом.
— Ну невротики, я же говорю. Кстати, Израиль — это не та страна, куда едут за деньгами. Сюда едут за удовольствиями.
— Или ради идеи.
— Да, или ради идеи. Я когда в Израиле жил, то денег вообще не было. И был счастлив.
— А почему же уехали тогда?
— Дурак был, и больной к тому же.
— А сейчас вы умный и здоровый, пора возвращаться.
— Нет, поздно уже. Хотя я не исключаю, что вернусь. Я думаю об этом. Я скучаю по израильской жизни. Израиль мне дал все, я до сих пор жалею, что уехал.
— Хорошо. Правило четвертое: не отвечать, когда не спрашивают.
— Значит, отвечать только когда тебя спрашивают.
— Ясно. Пятое: отвечать только на вопрос.
— Вот если к тебе подойдет старушка в два часа ночи и спросит, как пройти в библиотеку, надо ей подробно объяснить, как пройти в библиотеку. И не надо ей говорить, что в два часа ночи она не работает, потому что старушка об этом не спрашивала.
— Вот это самое сложное.
— Нет, самое сложное это третье и четвёртое. А самое простое — это шестое: выясняя отношения, говорить только о себе.
— Значит, никого ни в чем не обвинять?
— Да, как минимум. Но всем шести правилам могут следовать только глубокие невротики, которые разочаровались в жизни и хотят умереть. Обычный человек не может так жить, это очень тяжело. Потому что правила-то простые, но выполнять их почти невозможно. Но когда человеку плохо, ему деваться некуда, и приходится жить по этим правилам.
— А вы со своими проблемами разобрались?
— Разобрался, конечно. На самом деле, это единственная причина, почему люди начинают заниматься психологией. Они пытаются решить свои проблемы. И когда я начал выздоравливать, мне стало неинтересно работать психологом. Мне гораздо интереснее читать лекции и писать книги.
Учитывая сложные условия, в которых пришлось брать интервью, я не смогла угостить Михаила своим мороженым из фейхоа. Зато с удовольствием поделюсь рецептом с вами.

Мороженое из фейхоа
Впервые мороженое с кусочками этого фрукта я попробовала в Грузии. Вкуснее и ароматнее мороженого я в своей жизни не ела. Вернувшись домой, я решила поэкспериментировать и вот что у меня получилось.
Ингредиенты:
— 2 желтка
— 250 мл. молока
— 70 гр. сахарной пудры
— 250 мл. жирных сливок
— 100 гр. перетертых плодов фейхоа с сахаром
Способ приготовления:
Смешать желтки с сахарной пудрой. Поставить молоко на водяную баню и разогреть. Добавить желтки в молоко, поварить около десяти минут, постоянно помешивая. Молоко должно загустеть до состояния заварного крема. Снять полученную смесь с огня, остудить.
Взбить сливки. Смешать молочную смесь со сливками. Делать это нужно аккуратно, чтобы сливки не потеряли свою пышность. Добавить фейхоа и перемешать. Отправить будущее мороженое в морозилку в мороженицу.
Теперь самое сложное. Если у вас нет мороженицы, то, чтобы мороженое не кристаллизовалось, его нужно периодически вынимать из морозильной камеры и взбивать миксером. Проделать это нужно два-три раза, а потом оставить его в покое и дать заморозиться.
Оксана Яблонская. История о покорении Америки
Газета «Нью Йорк Таймс» называла ее «могущественной пианисткой», ей рукоплескали лучшие концертные залы мира, выдающиеся композиторы посвящали ей музыкальные произведения. У нее не только виртуозная техника, огромный репертуар, великолепное умение чувствовать музыку, но и железный характер, мощная харизма, жажда жизни и стойкое нежелание петь в хоре. Моя сегодняшняя собеседница –легендарная пианистка, профессор Джульярдской школы искусств и новая репатриантка Оксана Яблонская.

— Оксана, в это трудно поверить, но когда-то ваши руки считали маленькими, а пальцы «бесперспективными». Как такое возможно?
— Такое было мнение, что для того, чтобы играть на фортепьяно, нужно иметь большие руки. У меня действительно маленькие руки, но я научилась ими управлять и даже разработала специальные приемы, которые позволяют играть сложные произведения. Я играю абсолютно все, хотя физически могу достать только одну октаву. Но это меня ничуть не смущало никогда.
— Вам повезло учиться в Центральной музыкальной школе в Москве. Это была лучшая школа для музыкально одаренных детей в Советском Союзе.
— Да, мне очень повезло. Я считаю, что годы, проведенные ЦМШ, были лучшими в моей жизни. Я об этом, кстати, написала в своей книге. Это была настоящая творческая мастерская, где мы не только учились технике игры на инструменте, но импровизации, творческому подходу. И что самое важное, мы оставались детьми.
— А фигура педагога — насколько она важна в становлении музыканта?
— Первый педагог — это вообще самое главное. Он может быть не такой великий музыкант, но он должен уметь находить ключ к детям. Вы знаете, у меня была очень смешная история про то, как я поступала в ЦМШ. Там конкурс был двадцать человек на место. Для прослушивания меня учили детским песенкам про маленькую елочку и все такое. А когда я пришла на экзамен, меня попросили: «Девочка, сыграй нам то, что тебе нравится». И я начала шпарить «Шаланды, полные кефали», да еще и подпевала себе. Публика упала, конечно. Так что поступила я достаточно просто, а вот потом было уже не так весело. Потому что периодически там проводили «чистки» и выгоняли учеников за неуспеваемость. Но образование, конечно, там было просто потрясающее.
— А ваши родители вас готовили к музыкальной карьере?
— Я счастливый человек, потому что у меня были изумительные родители, которые дали огромное количество любви мне и моей старшей сестре. От нас никто ничего не требовал, мы просто любили музыку. Моя сестра начала играть на скрипке, и я ей аккомпанировала на рояле. А потом я поступила в школу, и мы вместе учились. После окончания школы мы поступили в консерваторию. Но мой педагог Анаида Сумбатян однажды сказала: «Ксюточка, запомни: ты еврейка и учишься у армянки. И в этой стране ты никогда не будешь номер один». Я была маленькой девочкой, и тогда не поняла, что она имела ввиду. А когда я подросла и пришло время участвовать в конкурсах и играть большие концерты, то стало очевидно, что вместо меня выставляют русских исполнителей.
— Вы не скрывали того, что вы еврейка.
— Нет, конечно. Я никогда не скрывала. И это приводило антисемитов в ярость. Потому что внешность у меня не ярко выраженная семитская, а имя вообще вполне «свое». Но я всегда подчеркивала свое еврейское происхождение и никогда не чувствовала себя «своей». Я даже по морде била некоторых особо активных антисемитов. И несмотря на то, что я всегда шла первой и претендовала на высшие места, я получала второй гран-при или делила первую премию. Ведь министерству всегда было приятнее привезти победителя титульной нации. Там было очень много внутренних взаимоотношений между членами жюри, о которых я не думаю, что нужно рассказывать. Но так было.
— Но ведь победы на конкурсах не всегда имеют отношение к карьере. Ведь бывает, что человек блестяще выступает, а карьера не складывается.
— В Советском Союзе это было просто. Я, например, была солисткой Московской филармонии, и это было навсегда. Кстати, солистами филармонии были в разные времена Рихтер, Гилельс, Давидович, Ростропович, Коган, Ойстрах. А вот на Западе все намного сложнее. Каждый концерт — это новое испытание. Это как шахматная партия: выиграл или проиграл.
— Но в шахматах есть объективные показатели. А в музыке?
— Есть специалисты, которые оценивают. А вообще надо родиться в правильном месте и в правильное время. Карьера — это вещь очень непредсказуемая, она зависит от массы факторов, от совершенно неожиданных комбинаций. Нужно уметь переживать неудачи и идти дальше. И, конечно, нужно то, что называется мазаль.
— А вы родились вовремя?
— Не знаю.
— Но вы довольны своей карьерой?
— Вы знаете, я делала много ошибок. Но в целом я довольна. Может быть, я бы играла больше, если бы не преподавала. А я хотела совмещать и преподавание, и концертную деятельность.
— Но преподавали вы, на секундочку, в Джульярдской школе искусств. В лучшей музыкальной школе мира!
— Ну да, и я очень выделялась на фоне других педагогов. Потому что в Америке принято считать, что педагог умеет учить, а уметь играть для него необязательно. А я не просто учила, я передавала свой опыт, показывала технические приемы, которые я сама разрабатывала. И это, конечно, было необычно. Я считаю, что главная задача педагога — проявить личность и характер ученика. Заставить его быть оригинальным, заявить о своем собственном характере и суметь показать его в музыке.
— А вот на каком этапе просто хороший исполнитель, даже виртуоз, становится великим музыкантом? Что для этого нужно?
— Жизненные переживания идут в музыку, накладывают отпечаток на исполнение. И звук, и фразы, и темп меняется. И появляется свобода, которая не всегда бывает в молодости. А самое главное, появляется глубина и понимание себя как личности. На сцене нет стыда. Там можно показать все то, что в жизни мы обычно скрываем. Но это приходит с возрастом.
— Ваша многолетняя карьера, если смотреть на нее со стороны, выглядит как идеально сыгранная мелодия: учеба в Центральной музыкальной школе, мировое признание, двадцать пять лет преподавания в Джульярде.
— О, это только так кажется. Сколько раз меня не пускали! Сколько раз присуждали вторые места, когда я знала, что играла лучше! Вот, например. После того, как в Париже я получила вторую гран-при и золотую медаль, мне пришло приглашение на двадцать один сольный концерт во Франции! И меня не пустили. Потому что человек, который преподавал историю КПСС, сказал, что я не выполняю общественную работу.
— А вы ее выполняли?
— Конечно. Я и с транспарантами ходила, и с бригадами играла в госпиталях и в военных частях. То есть я отрабатывала. А потом меня позвали в Италию, и опять не пустили. И в Мадейру, и в Рио де Жанейро, и куда только меня не приглашали. Но из Советского Союза за границу меня не выпускали.
— И что вы делали?
— Играла в Советском Союзе и в странах Восточной Европы. Меня спасало то, что у меня был очень большой репертуар. То есть я могла играть все, что угодно. Поэтому я была востребована. Понимаете, у меня всегда была жажда выучить что-то новое. Жажда к новому и желание учиться — это вообще самое главное, на мой взгляд.
— Несмотря на то, что вас не выпускали на Запад, вы сделали блестящую карьеру в Советском Союзе. Вы были абсолютной звездой, ассистенткой профессора Московской консерватории, записывали пластинки, гастролировали по стране. Почему вы все-таки решили уехать и начать все с нуля?
— Я это сделала из-за Димы (Дмитрий Яблонский — выдающийся виолончелист и дирижер). Мне хотелось для него другой судьбы. Чтобы никто не диктовал, куда ему ездить, где ему жить, чем заниматься, что играть. И слава Богу, он человек мира, говорит на семи языках, гастролирует по всему свету и решает сам, где ему лучше.
— Вам с трудом удалось получить разрешение на выезд, да и то, после вмешательства мировых звезд. Но вы выезжали по израильской визе. Почему все-таки вы уехали в Америку?
— Когда мы еле-еле выползли из Советского Союза, все было очень сложно. Моя мама умерла во время отказа, и мы выехали с Димой, моим папой и урной с ее прахом, потому что я не хотела хоронить ее в Москве. Моя сестра к тому времени уже была в Америке. Мы очень хотели уехать в Израиль. Но моя сестра моя убедила в том, чтобы уехать ближе к ней. Потому что сестра — это мой самый близкий человек.
— И через несколько месяцев вы уже выступали в Карнеги- холле и вас назвали «лучшим секретом, который скрывал СССР».
— Да, мне повезло с менеджером. Меня позвали на прослушивание, и я его, конечно, прошла. И потом состоялся первый концерт.
— А как вы стали профессором самой престижной музыкальной школы в мире?
— Это очень просто. Про меня уже все знали. И меня пригласили просто потому, что у меня было имя и звание ассистентки профессора Московской консерватории. И я очень успешно преподавала в Джульярде на протяжении двадцати пяти лет.
— А это правда, что в последние годы в Америке вы столкнулись, по сути, с тем же Советским Союзом? Когда открыть рот нельзя, проявить инакомыслие нельзя, нужно следовать линии партии?
— Когда я только пришла в Джульярд, там были преподаватели старой закалки. Всегда были разговоры о музыке, о творчестве. Мы рассказывали друг другу байки о великих музыкантах. А потом, со временем, изменилась атмосфера. Она стала более политизированной, более нетерпимой, что ли. А так как петь в хоре я не умею, меня начали потихоньку выживать.
— Как?
— Ну, например, не давать учеников. Но это касалось не только меня. Это касалось всех, кто умел играть и обладал собственным мнением. То есть это касалось старой гвардии. Понимаете, это Америка, там нужно было себя продавать. А я к этому не привыкла. Я могла бы работать до сегодняшнего дня, но у меня такой характер, что я не могу что-то делать вопреки собственным принципам. И я ушла.
— По сути, вам пришлось во второй раз уехать по тем же самым причинам?
— Ну, с некоторыми поправками на время, страну и все прочее.
— И после этого вы решили переехать в Израиль.
— Конечно. Правда, сначала я пожила в Италии, а потом в Швейцарии. Но в итоге все-таки решила сделать алию. Я с 79-го года ежегодно ездила в Израиль. Сначала к своей тете, которая жила в кибуце. А потом просто в гости. Я очень любила Израиль. И когда, наконец, мы приехали в Израиль, и я увидела надпись «Добро пожаловать домой», я, конечно, плакала и чувствовала себя абсолютно счастливой.
— Ваша мечта сбылась?
— Да, конечно.
— А как же так вы из Америки решили переехать в наш провинциальный Израиль?
— Вот все спрашивают и страшно удивляются. Скромно говоря, мы состоялись в Америке и вполне могли бы себе позволить жить, где угодно. Но я сделала совершенно сознательный шаг, потому что шла к нему много лет. Я на сто процентов чувствую себя дома. Хотя здесь очень жарко.
— Но Израиль очень суровая среда выживания, особенно для музыкантов. И несмотря на ваши заслуги, начинать все сначала здесь непросто.
— Конечно. Но я хочу, чтобы израильские музыканты развивались в Израиле. Всем кажется, что нужно куда-то бежать, поступать в какие-то модные знаменитые школы. А можно все то же самое делать и здесь. В Израиле есть очень хорошие педагоги, которые получили классическое образование.
— Вы абсолютно уникальный человек. Потому что, приехав в Израиль после огромной мировой карьеры, вы и здесь вскоре стали очень востребованы.
— Да. Мне 6-го декабря будет восемьдесят лет, и я даже сама не могу представить эту цифру. Но я очень много выступаю, причем играю трудные вещи.
— У вас потрясающая энергия! И она ведь проявилась с самого детства.
— Да, в детстве я была совершенно бешеной. Я страшно дралась, вела себя безобразно. Для моих учителей это был просто кошмар. Но я считаю, что нельзя подавлять творческую энергию ребенка. Сегодня мне бы дали таблетки и превратили в растение. А тогда считалось, что у меня просто такой неугомонный характер. Ведь энергия — это признак таланта. А попытка сделать ребенка удобным убивает его энергию, гасит его потенциал. Поэтому я всегда была сама собой. И, кстати, никогда не стеснялась своего возраста. Потому что я считаю, что не зря прожила свою жизнь, и нечего мне кокетничать.
Специально для Оксаны я испекла рассыпчатое печенье с тхиной и какао-бобами.

Печенье с тхиной и какао-бобами
Помните, в интервью с Михаилом Лабковским я обещала рассказать про это печенье? Вот, рассказываю.
Ингредиенты:
— 100 гр. сливочного масла
— 100 гр. самоподнимающейся муки
— 100 гр. тхины
— 100 гр. сахара или 70 гр. сахарной пудры
— 25 гр. какао бобов
— 1 яйцо
Способ приготовления:
Смешать масло, сахар и муку до получения крошек. Добавить какао бобы и тхину и перемешать. Добавить яйцо и замесить тесто. Отправить тесто в холодильник на полчаса-час.
Слепить из охлажденного теста колобки размером с грецкий орех и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на двадцать минут. Рассыпчатое, нежное печенье с привкусом черного шоколада готово!
Макс Жеребчевский (Моше Ариэль). История советского Диснея
Встретив этого немолодого человека в черной кипе на улице столичного квартала Гило, когда он спешит на молитву в синагогу или покупает продукты в ближайшем супермаркете, вы вряд ли обратите на него внимание. Может быть, вас удивят его глаза: добрые, чуть насмешливые, в которых то и дело загорается детский хулиганский огонёк. Но скорее всего, вы подумаете, что это ничем не примечательный пожилой господин. И будете неправы. Потому что он — не просто обычный пенсионер, а легенда советской мультипликации. Раньше его звали Макс Жеребческий, и он подарил миру Трубадура, Трусливого короля, отважного Рикки-Тикки-Тави и даже создал новый мультипликационный жанр. Сегодня его зовут Моше Ариэль, и он мой собеседник.

— Моше, а это правда, что вашим первым художественным произведением был портрет Сталина?
— Правда. Но до этого я начал лепить слоников, и у меня очень неплохо получалось. А к концу войны, когда изо всех сил трубили о приближающейся победе и раздували фигуру Сталина, я тоже его очень полюбил и от большой любви решил его изобразить. На разделочной доске, на которой мама раскатывала тесто для пельменей, я нарисовал масляными красками его портрет. Мне страшно нравился его мундир и ордена, и я их нарисовал с особой тщательностью. А потом пришел участковый милиционер, и мама с гордостью показала ему портрет. Он жутко посуровел и спросил: «А разрешение есть?». «Какое разрешение?» — мама удивилась. «Это же ребенок нарисовал!». «Это нельзя, это надо убрать!» — велел он. Вот с этого все и началось.
— И вы росли в выдающихся, по советским меркам, условиях.
— Отец был строитель. Он построил квартиру, в которой я родился. Квартира эта находилась между Кремлем и синагогой. И я жил между ними. Всю войну мы провели в Москве, потому что уезжать в эвакуацию было еще опаснее, чем оставаться под бомбежками. Во время войны я не ходил в школу, оставался дома, с мамой. А она, в свою очередь, эта гениальная пианистка со вздорным характером, мало приспособленная к быту, стала управдомом.
— А после окончания войны была художественная школа?
— Да, в конце войны, после портрета Сталина, папа отвел меня в художественную школу для одаренных детей, которую чаще называли «школу для одаренных родителей», потому что там учились дети знаменитостей. Мой папа знаменитостью не был, но он был хорошим строителем и предложил директору сделать ремонт в школе. Вот так меня и приняли. Сначала было трудновато, ведь я много лет пропустил. Но потом догнал программу.
— Ваш отец был коммунистом?
— Да, убежденным. Отец был из простой еврейской семьи. Его отца, раввина и столяра-мебельщика по профессии, зарубили топором на пороге собственного дома. Отцу тогда было шестнадцать лет. Это было страшное потрясение, которое он пронес через всю жизнь. Мать осталась без денег, и ему, шестнадцатилетнему пареньку, пришлось зарабатывать. Он нанялся на строительство железной дороги. А там познакомился с евреями-коммунистами. Они ему объяснили суть коммунизма, он загорелся идеями революции и решил ее устроить.
— А вы прослеживаете связь между тем, что ваш отец увлекся идеями коммунизма, и вы, через много лет, обратились к иудаизму?
— Я усматриваю такую связь, что отец хотел претворить в жизнь то, что написано в святых еврейских книгах. Он не хотел ждать машиаха, как правоверные евреи, он хотел создать рай на земле собственными руками. Он считал, что строительство коммунизма — это и есть подготовка к приходу машиаха.
— Итак, вы закончили художественную школу и поступили во ВГИК на отделение мультипликации. Что было потом?
— Я закончил мультипликационное отделение ВГИКа с отличием и начал искать работу. Мне нужно было работать, ведь я должен был кормить стареньких родителей. Они поженились уже очень немолодыми людьми. Когда я родился, отцу было за шестьдесят. Мама была моложе, конечно, но тоже в возрасте. И я был для них единственным сыном, их радостью и гордостью. И кормильцем тоже.
— А как вы на СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ попали? Это ведь была закрытая каста.
— Меня не ждали, естественно, и никакой возможности туда попасть не было. И тут мне в первый раз повезло. В это время как раз снимали первый широкоэкранный полнометражный мультфильм «Дикие лебеди». Режиссером был Михаил Цехановский, когда-то очень известный художник, а на тот момент дряхлый старик. После блокады Ленинграда он совсем сдал. Художником на картине был мой приятель Натан Лернер. И вот они разругались страшно, и Лернер предложил мне занять его место. А времени уже почти не оставалось, и смета была почти вся истрачена. За меня схватились, как за спасителя. И я ввязался в это дело, сам не понимая, куда я вляпался. Мне пришлось влезть в чужие типажи, когда срок сдачи картины висит, а там еще многое не начато, и деньги почти кончились. Но я был молодой, очень хотел работать. И я взялся за эту работу, хотя все на меня смотрели, как на идиота. А я засучил рукава и стал работать. Короче говоря, мы все успели сделать в срок, работа эта была отмечена, мы получили кучу наград и вот еще кое-что…
— Это афиша вашего фильма?
— Да. Это знаменитый Дом на набережной, и на этой афише впервые появилась моя фамилия. Макс Жеребчевский. Кстати, знаете откуда пошла эта фамилия? Во время крепостного права, еще в девятнадцатом веке, были бандиты, которые воровали детей и продавали богатым помещикам. Вот украли как-то еврейского мальчика лет четырех и продали помещику Жеребцову. И все крепостные этого помещика носили фамилию Жеребцовские. А когда отменили крепостное право, то он, этот выросший мальчик, решил сменить фамилию, чтобы ничто не напоминало о его прошлом. Так он стал Жеребчевским.
— Потрясающе!
— Да, много вспомнить можно… Ну да ладно. Так началась моя карьера. И много чего было…
— А потом были «Бременские музыканты»?
— Это было намного позже. Инесса Ковалевская предложила мне нарисовать этот мультик.
— И это был взрыв.
— Да, это был абсолютный взрыв. Да у меня в жизни сплошные взрывы, начиная со Сталина. А «Бременские музыканты» — это был первый мюзикл с прекрасными текстами, музыкой, голосами. Там все совпало. Там собрались талантливые люди, и получилось такое вот событие. И персонажи получились очень удачные. До сих пор их знают, и даже игрушки продают.
— И они вам не дают покоя до сих пор.
— Ну хорошо получилось же!

— А дальше мне стали предлагать работу. Ливанов моложе меня на три года, мы еще вместе учились в художественной школе и были знакомы. Вот ему захотелось сделать мультфильм, и он предложил мне. И так мы создали продолжение, «По следам бременских музыкантов». И это тоже было чудо, там сошлись одни гении. Вообще в моей жизни было много чудес. Ведь никого не арестовали за портрет Сталина, а могли бы. А потом, когда я был в отчаянном положении, без работы и денег, мне предложили закончить «Диких лебедей» — и это тоже было чудо. «Бременские музыканты» — это тоже был успех огромный. Но я все больше приходил к мысли о том, что я должен делать что-то свое. И тут опять судьба меня привела. Я опять попал в то же положение, без денег и работы, только на этот раз родителей уже не было, зато была семья, которую нужно было кормить. Студия опять не выполняла план, а это грозило большими неприятностями. И я предложил сделать мультфильм на музыку Прокофьева. Мне страшно понравилось название «Мимолетности». И музыка, конечно.
— Это ваша мама привила вам любовь к музыке?
— Мама была пианисткой и певицей. Она училась в Киевской консерватории, ее преподавателем был Рахманинов. Она получила блестящее образование, которое, в итоге, осталось не реализованным. Одно время мама целыми днями, по многу часов, играла на фортепьяно. Работала на износ каждый день, разучивала новую программу, репетировала так, как будто завтра у нее концерт. А никакого концерта не было. Она надрывалась, играла как будто перед ней полный зал публики, а из публики был только я. У нее был колоссальный заряд, который никуда не выстрелил. И она очень страдала. И была очень странной, именно потому, что была очень талантливой. Студия выполнила план, и я, фактически, спас ее. Но кроме того, я создал новый жанр, хотя сам этого еще не понял.
— Вы осуществили свою мечту самостоятельно снять фильм?
— Да. «Мимолетности» — это полностью моя картина, от начала до конца. И мне так эта идея понравилась, что я решил продолжать работать в этом направлении. Я задумал сделать фильм по балету Стравинского «Солдат и черт». А для этого нужно было получить разрешение от начальства. В то время председателем Союза композиторов был Тихон Хренников, большой человек. Он приехал на студию, и это было событие само по себе. Все выстроились около входа, встречали Хренникова, который приехал на своей огромной правительственной машине и занял половину улицы. Он приехал специально, чтобы посмотреть мои «Мимолетности» и дать добро на следующий фильм. После просмотра он вышел и сказал: «Это, конечно, талантливо. Но что вы за музыку выбрали?» Я пытался оправдаться: «Это классика». «Нет, нет, надо что-то посовременнее». Я сначала не понял, о чем речь, а потом начал догадываться, в чем дело. Но я не мог поверить своим догадкам и решил перепроверить. Позвонил Хренникову, говорю: «Тихон Николаевич, мне показалось, что вы уехали не очень довольны. Может, вашу музыку можно использовать?». Тот очень обрадовался: «Пожалуйста! Я вам помогу!» И вот Хренникову я обязан тем, что я здесь.
— Вы не хотели ставить фильм под музыку Хренникова?
— Ну нет, конечно. Хотя он человек талантливый, но страшный карьерист. Я был готов выкручиваться и подстраиваться тогда, когда это было необходимо. Но посвятить этому всю жизнь? Нет. А зачем? Тратить жизнь на Хренникова? Нет уж, спасибо.
— А вам не страшно было уезжать?
— Нет, я знал, что все делаю правильно. Я знал, что кончилось то время, когда можно было создавать «Бременских музыкантов». Все, прошло.
— И как вас отпустили?
— Ой, я еще настрадался перед отъездом! Меня вызвали в КГБ, предложили стучать. Они мне угрожали. Предлагали сотрудничество, иначе, говорят, у вас будут неприятности. А тогда как раз началась война в Афганистане.
— Вас собирались отправить в Афганистан?
— Не меня. Сына.
— И что вы ответили?
— Я просто вышел и все. И я помню, что шел дождь, а я двигался по направлению к метро. Я шел под зонтом, а один из гэбэшников бежал за мной и уговаривал униженно, мокнув под дождем, как собачка: «Вы подумайте, вы зря отказывайте, делаете ошибку. Вас могут не выпустить, а вот сын ваш пойдет воевать…» Он бежал, а я ничего не отвечал.
— Как вы это пережили?
— Время было уже такое, что они ничего не могли сделать. Я не мог стать стукачом, хотя я рисковал жизнью сына. Но с этой сволочью я не мог иметь никаких дел. Ужас. Россия-матушка…
— И в итоге между Кремлем и синагогой вы выбрали синагогу?
— Да. Я понял, что это талантливо!
— Что?
— Еврейская традиция. Это талант и есть. Это настоящее, из этого вышло человечество. Это истина.
— И вы уехали в страну, где нет мультипликации. Что вы делали в Израиле?
— Я работал на учебном телевидении, делал какие-то мелочи. Даже снимался, как артист.
— А разочарования у вас не было?
— Наоборот, очарование.
— От чего?
— От всего. Это же все наше! Мое! Это же хорошо! Я приехал к себе домой. Там меня терпели, а здесь я дома.
— Но мультиков тут нет!
— Ну нет, и что? Ну я и без мультиков проживу.
— Почему вы не уехали в Америку, например?
— Америка меня пугает. Я бы там засох и погиб. Эти огромные студии не для таких, как я.
— А какой вы?
— Ну вот такой. Мне дают работать — я работаю. А пробиваться я не умею. Я просто не хочу об этом думать. Американские мультики совсем другие. Мне они не близки. Мне близки российские мультфильмы. У меня были планы сделать какой-то фильм в Америке… Но я очень быстро понял, что это не мое. Не стану я Диснеем. Да и не надо. Я сделал все, что мог.
— А вы смотрите современные фильмы?
— Нет, не хочу расстраиваться. Мне кажется, они мне не понравятся. Не мое это.
— У вас еще был такой мультфильм «Синяя птица». Я его специально пересмотрела перед встречей с вами. У меня было такое ощущение, что это нарисованный Тарковский. Столько там символизма, глубины.
Синяя птица
— «Синюю птицу» не очень приняли. На студии этот фильм прошел как провал. Мы не дотянули эту работу, она не сложилась как-то… Ливанов тогда был занят, я фактически работал один, а этого было недостаточно.
— А что для вас «синяя птица»?
— Это что-то, что нельзя определить, объяснить. Оно не вмещается в наши слова.
— Это Б-г?
— Б-г это всё. Б-г это душа. Это самое главное, это и есть жизнь. И пока мы живы, мы должны жить и в то же время пытаться думать о то, что выше нас.
Так как Моше человек глубоко верующий, я не решилась угостить его свои праздничным десертом. Но с удовольствием поделюсь с вами рецептом шоколадного бисквита брауниз.

Шоколадный брауниз
Ингредиенты:
— 100 гр. масла
— 180 гр. черного шоколада
— 200 гр. сахара
— 3 яйца
— 140 гр. муки
— 35 гр. какао
— 2 гр. соли
Способ приготовления:
Растопить масло и поместить в чашу миксера. Добавить черный шоколад. По одному добавить яйца, перемешивая на низкой скорости.
Отдельно смешать и просеять все сухие ингредиенты, постепенно добавить в чашу миксера. Хорошо перемешать до загустения.
Выложить тесто на пекарскую бумагу и запекать при температуре 150 градусов в течение 35 минут.
Эдуард Кузнецов. История одного побега
«Мы, девять евреев, проживающих в Советском Союзе, предпринимаем попытку покинуть территорию этого государства, не испрашивая на то разрешения властей. Мы из числа тех десятков тысяч евреев, которые на протяжении многих лет заявляют соответствующим органам советской власти о своем желании репатриироваться в Израиль. Но неизменно, с чудовищным лицемерием, извращая общечеловеческие, международные и даже советские законы, власти отказывают нам в праве выезда. Нам нагло заявляют, что мы сгнием здесь, но никогда не увидим своей Отчизны.
…Нами движет желание жить на Родине и разделить ее судьбу.
P.S. Мы обращаемся ко всем вам с просьбой, чтобы в случае неудачи нашей попытки, позаботиться о наших родных и близких и оградить их от расплаты за наш шаг. Следует подчеркнуть, что наши действия не опасны для посторонних лиц; в тот момент, когда мы поднимем самолет в воздух, на его борту будем находиться только мы».
Это письмо написали когда-то люди, доведенные до отчаяния, которые решили угнать самолет для того, чтобы покинуть ненавистный СССР. Эти люди, которые сознательно шли на риск быть убитыми в воздухе или расстрелянными на земле, не побоялись выступить против всемогущего КГБ, заявить о своих убеждениях, пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы чувствовать себя свободными людьми. Мой сегодняшний собеседник — организатор знаменитого «самолетного дела» Эдуард Кузнецов.

— Эдуард Самойлович, вы легендарная личность с уникальной судьбой.
— Что есть, то есть.
— То, что вы пережили, хватит на три, а то и на пять жизней. Благодаря вашему знаменитому «самолетному делу» пал железный занавес, и миллионы людей получили возможность выехать из Советского Союза. Как вы думаете, шестнадцать лет вашей жизни, которые вы провели в лагерях, того стоили?
— Понимаете, когда сидишь, то результат неизвестен. Ведь я не знал, чем это закончится. Мне могли добавить срок, могли вообще убить. Поэтому в период отсидки на такой вопрос ответить было бы невозможно. Но по истечение срока и видя результаты, конечно, я могу сказать, что это того стоило. Например, мой подельник Юра Федоров, который получил пятнадцать лет, а отсидел в общей сложности восемнадцать с половиной, сказал мне: «Я благодарен тебе за то, что ты втянул меня в эту авантюру. Моя жизнь наполнилась смыслом, и я знаю, что не зря ее прожил!».
— То есть эти шестнадцать лет даром не прошли?
— Нет, конечно. Потому что я сидел за дело. Уже в 90-х годах меня хотели включить в список реабилитированных политзаключенных. Я тогда категорически отказался. В отличие от тех, кто служил Советской власти и коммунистической партии и их посадили ни за что, я действительно боролся. Я не хочу, чтобы меня реабилитировали. Я горжусь тем, что я был политзаключенным.
— Вы же были очень успешным молодым человеком. Поступили в МГУ, на философский факультет. Вы могли прекрасно его окончить, потом устроиться на работу и вполне себе процветать. Вместо этого вас уже на втором курсе осудили на семь лет за антисоветскую пропаганду. Что вы там такого антисоветского напропагандировали?
— Я очень быстро разочаровался в философском факультете, потому что там изучали не Канта и Гегеля, а Маркса и Ленина. Я был активным участником знаменитых митингов на Маяковке, я издавал журнал «Феникс», описывал бунты, которые в то время происходили, потом переправлял эти записи на Запад. В общем, я много чего антисоветского сделал.
— Вы настолько ненавидели советскую власть?
— Настолько. Еще со школьных времен.
— Откуда такая ненависть?
— А что вы думаете, ее не за что было ненавидеть?
— Было, конечно. Но многие люди как-то привыкали, устраивались, вступали в партию, строили карьеру.
— Я не знаю, может, пружина в ж-пе у меня была? Еврейские гены? Хрен его знает, ненавидел и все. Я еще в школе подшутил: «Что над нам вверх ногами?»
— И что?
— «Чекисты, повешенные в Венгрии».
— Смешная шутка.
— Естественно, это сразу дошло до руководства, меня вызвали к директору. В кабинете у директора сидел мрачный человек с квадратными плечами, явно из ГБ. Они пытались меня раскрутить, но я не раскололся. Этот эпизод попал в мою характеристику, естественно. А когда я решил бежать из Советского Союза, то у моего дядьки-алкаша был собутыльник, лейтенант из военкомата. Я с ними выпивал и как-то задал такой вопрос, нельзя ли мне пойти служить куда-нибудь в Польшу или Германию. Я, естественно, собирался оттуда бежать. И этот собутыльник мне сказал: «Я тебе дам знать, когда будет набор». И через какое-то время действительно сообщил, и я добровольцем пошел служить в советскую армию. И вдруг, вопреки моим ожиданиям, меня останавливают, отзывают из общего ряда и отправляют домой. Я поймал этого лейтенанта, спрашиваю: «В чем дело?» А он мне отвечает: «Напротив твоей фамилии стоит галочка: заграницу нельзя». И я поехал служить в Приволжский военный округ. Так я вместо свободы оказался в советской армии.
— Эдуард Самойлович, вот я пытаюсь понять. Ведь ваш отец умер, когда вам было два года. Вы его совсем не знали. Мама вас воспитывала одна.
— Ну, если это можно назвать воспитанием… Меня улица воспитывала.
— У вас ведь не было личной истории взаимоотношений с властью. В семье у вас никого не репрессировали, не уничтожили. Тогда отчего такое неприятие?
— Я не мог там жить. Другие хлопали — а я ухмылялся.
— Песню про Родину пели?
— Никогда.
— Когда Сталин умер, плакали?
— Ни в коем случае. Я не понимал тогда, почему я не плакал, просто не мог тогда сформулировать свои мысли. Вот знал, что я плакать не буду.
— Мама не пыталась вас отговорить от этого вольнодумства?
— Нет, мама была абсолютно аполитичным человеком, напуганной жизнью. Я был очень самостоятельным и никого не слушал. Я занимался спортом, рос во дворе, где был в большом авторитете.
— А страха не было?
— Ну как же не было! Только у больных нет страха. Но меня бесило все, что я видел вокруг, я мечтал из этого выбраться. Я знал, что жизни у меня там нет и не будет, я хотел любой ценой вырваться. Меня тошнило. Иногда человек поступает не так, как ему выгодно, а как подсказывает его внутренний голос, жар в груди, который невозможно терпеть. Тогда человек действует вопреки своему благополучию, своему будущему. Вот, почитайте Достоевского, «Записки из подполья». Я как раз сейчас перечитываю. Там описывается психика человека, он объясняет, почему человек поступает вопреки своему благу. Понимаете, своеволие важнее представления о собственном благополучии.
— Что вы имеете в виду?
— То, что идет вопреки логики и соображениям о так называемом благополучии. К черту это благополучие, потому что есть что-то важнее, что-то больше, что-то, что сидит внутри и горит, и требует от тебя немедленных действий. Своеволие — это доказательство себя как личности. Те, у кого оно не проявляется, представляют из себя не людей, а толпу.
— Вы не хотели быть частью толпы.
— Нет, не хотел. Меня с ранней юности толкал какой-то инстинкт.
— Инстинкт идти против толпы?
— Да.
— Даже если это опасно?
— Да.
— То есть вы нарывались, провоцировали власти?
— В известном смысле, да.
— Вы понимали, что вас посадят?
— Конечно. Но тут еще был элемент жертвенности. Я понимал, что если я выбрал этот путь, то арест неизбежен.
— Вы не боялись, что вас там просто убьют?
— Просто убить могли и на воле.
— Ну в лагере больше шансов.
— Это правда. Но не все же можно предусмотреть. Я вступил в это сообщество людей, а дальше жизнь потекла по инерции. Надо журнал издавать — я его стал издавать. Произошел мятеж в Муроме — я поехал его освещать. Надо связаться с иностранными журналистами и передать тексты — я связываюсь. Нам, кстати, приписали еще подготовку покушения на Хрущева. Но этого не было, конечно. Это была подстава КГБ. Но нам повезло, в тот момент велись чистки в рядах КГБ, и на суде нам решили не пришивать это дело.
— В двадцать два года вас посадили. За вами лязгнула железная дверь, вы оказались на зоне. Как вы там выживали?
— Первые семь лет с одной стороны я сидел очень легко, а с другой — очень тяжело. Сначала меня определи в лагерь строгого режима, и это было относительно легко. Я ничего не понимал, я должен был вжиться, обосноваться, утвердиться, это было очень важно. Первые года три-четыре были послабления в лагерях. Мы ходили в цивильной одежде, читали книги, у нас была интересная публика, мы там собирались, стихи читали. Потом вдруг меня вырвали и перевели в лагерь особо строго режима.
— Чем он отличается?
— О, это страшный лагерь. Во-первых, полосатая одежда. Во-вторых, дикий голод. И расстрелы на каждом шагу. За один год у нас расстреляли девятнадцать человек по статье 77 прим. За наколки на лице или на ушах отрезанных, за то, что стукача назвал стукачом, это называлось «преследование заключенных, ставших на путь исправления».
— Это концлагерь?
— Какой концлагерь! Это хуже намного. И голод, дикий голод. Тогда я впервые съел собаку.
— Голод был способом давления?
— Да пойди их пойми! Сидело там очень много интересных людей. Например, кардинал Слипый, его арестовали, как главу униатской церкви на Украине. Его посадили в 45-м, а в 63-м по просьбе Папы освободили.

А потом маманя моя нашла адвоката, заплатила ему последние деньги, и он доказал, что меня перевели незаконно, видимо, из-за записи о покушении на Хрущева. И через год меня вернули обратно.
— А вас били? Пытали?
— Никогда. ГБ не знало, как себя вести. Там шли чистки, бериевские люди сменялись на новых, поэтому они боялись лишний раз вляпаться в какую-то историю. Кроме того, у них есть масса других возможностей давления. Собирают сведения, ищут слабое ребро, за которое можно подвесить. Зачем им бить?
— То, что в фильмах показывают, — неправда?
— Сейчас бьют, а тогда нет. Им это не нужно было. Они пытались по-всякому меня расколоть. Однажды даже подсадили ко мне в камеру уголовника, который пытался меня «соблазнить». Проверяли, может, я пидарас. Но не получилось у них. Эти методы отчасти смешные, потому что топорные. Вообще, КГБ плохо работает, очень грубо. Да и все спецслужбы халтурщики.
— Второй раз было легче?
— Да о чем вы говорите! Даже сравнения никакого быть не может! Надзиратели меня уважали, не трогали. Знали, что со мной можно иметь дело, я не стучу и никогда не попадусь. Иногда ночью надзиратель открывает дверь: «Кузнецов! Мотоцикл разбил, дай сто рублей!» Ну ладно, говорю, только дверь закрой. Это специально, чтобы он не знал, где я деньги храню. Естественно, я знаю, что он не может вернуть, у него просто денег нет. Но зато послабления всякие даст, продукты принесет, кусок сала, например, или сквозь пальцы посмотрит на какие-то нарушения. Вот у нас хлеб был мокрый. В лагере были две пекарни, одна для заключенных, а другая для надзирателей. Мы голодовку объявили, сняли директора пекарни и где-то в течение полугода нам приличный хлеб, пропеченный, давали. Ну что ты, мать, это совсем другое дело было! Меня не трогали, после обеда даже давали поспать.
— Вот вы отсидели свой срок, вышли на свободу. Вы молодой еще человек, вам двадцать девять лет. У вас нет образования, вам запрещено селиться в Москве. Как вы устраивались в жизни?
— Сначала я работал на текстильном комбинате в ста километрах от Москвы грузчиком. А потом я женился, уехал в Ригу и стал там работать в больнице переводчиком с английского языка.
— А когда вы успели выучить английский?
— Как когда? В лагере. Мы получали книги, книг было много. И время было. Поэтому я учил английский. Я переводил медицинскую литературу по теме самоубийства. Тогда впервые в Советском Союзе разрешили исследовать эту тему.
— И вот, жизнь начала устраиваться…
— Ну нет, конечно. Я же добивался выезда в Израиль, а мне четко объяснили, что разрешение не дадут.
— Эдуард Самойлович, объясните мне такую вещь. Ведь вы не росли в еврейской семье, еврейской традиции. Ведь ваше окружение было русским. Откуда такая тяга к сионизму? Откуда любовь к Израилю?
— Вы Шульгина читали?
— Нет.
— Это член Государственной Думы дореволюционной, антисемит, один из тех, кто принимал отставку императора Николая второго. Очень умный человек, который написал книгу «Почему мы их не любим?». Любопытнейшая книга. И он, в частности, говорит, что он против смешанных браков евреев с русскими, потому что в таких браках рождаются не русские, а евреи, кровь евреев намного сильнее. Это люди более талантливые и пассионарные.
— Вы отказались ехать в Америку, Канаду?
— Да. Я всегда делаю то, что говорит моя совесть.
— А ваша совесть говорит, что ваше место здесь?
— Да, абсолютно.
— А вы всерьез рассчитывали угнать самолет?
— А почему нет? Самолет — штука хорошая.
— Но вы же понимали, что вас подстрелят.
— А мы написали, что, если нас попытаются приземлить против нашей воли, мы на это не согласимся. Стреляйте, гады!
— Вы же несли ответственность за всех остальных людей.
— Ну куда деваться, мать, ты странные вопросы задаешь! Ведь все взрослые люди, понимали, что они делали. Мы же со многими это обсуждали. Я им объяснял: ребята, вас все равно посадят. За то, что вы просто обсуждали эту тему, вас посадят. Дадут вам по десять лет ни за что. Вам будет противно сидеть. А мы -то за дело сидели!
— И вам было не противно?
— Конечно. Когда сидишь за дело — это совсем другое дело!
— То есть вы понимали, что в любом случае вас ждет расстрел?
— В каком-то смысле да.
— Это противоестественная ситуация, это противоречит инстинкту самосохранения!
— Да, человеку иногда хочется послать в задницу все соображения о благополучии, о спасении, и сделать так, как он считает нужным.
— Даже несмотря на то, что вы рискуете жизнью.
— Да. Мы накануне видели, что нас пасут, гэбисты даже не скрывались. Я ребятам сказал: еще не поздно, можете отказаться. Но никто не отказался.
— А как на вас вышли сотрудники КГБ? Вас предали?
— Нет. Просто за нами была слежка, наш план было невозможно утаить. КГБ все время следили за активными сионистами, даже периодически выявляли группы злобных сионистов-подпольщиков. Так что это невозможно было утаить.
— Вы понимали, что вам не дадут угнать самолет?
— Мы понимали, что это маловероятно. Хотя мы летели под предлогом сионистского съезда и, зная, как топорно работают спецслужбы, мы могли надеяться на то, что они не поверят в наш замысел и дадут нам улететь. Я рассчитывал на идиотизм ГБ.
— Куда вы собирались лететь?
— В Швецию.
— А там что?
— А там мы бы попросили политического убежища, и дальше разлетелись бы кто куда.
— У вас не было оружия?
— Были дубинки.
— Вы были против кровопролития?
— Да, мы должны были высадить двух пилотов. Специально для этого приготовили спальные мешки, чтобы они ночью, связанные, не замерзли. Это была принципиальная позиция — никакой крови.
— Ваша попытка угона самолета — это был акт отчаяния?
— Нельзя загонять людей в угол. Нельзя этого делать. Мы были вынуждены сделать что-то, чтобы привлечь к себе внимание. Мы были доведены до предела. Мы должны были показать им зубы: не надо загонять нас в угол, вам будет от этого хуже.
— Ну хорошо, вы от природы борец и бунтарь. Но подавляющее большинство евреев Советского Союза решило приспособиться, строить карьеру, идти по партийной линии.
— Я даже не здоровался с теми, кто пошел по партийной линии.
— Вы их презирали?
— Конечно. Это конформисты. Им только презрение полагается. Странный вы человек, а как иначе? Человек только тогда состоится как личность, когда он противостоит окружающей среде. В нацистской Германии человек обязан был быть против нацизма, а в коммунистической России — против коммунизма.
— А если бы вы родились палестинским арабом, вы бы что сделали?
— Во-первых, я бы покончил собой.
— А во-вторых?
— А во-вторых, служил бы Израилю.
— То есть стали бы предателем родины?
— Да. Я и так предатель родины, ну что поделаешь.
— А предатель родины в ваших глазах — это не презренный человек?
— Смотря какая родина. Ответ перед Богом важнее, чем ответ перед земными властями.
— Итак, угон самолета не состоялся и вас приговорили к смертной казни. Что чувствует человек, когда сидит в камере смертников?
— Трудно сказать… Ждет смерти. Я себя утешал тем, что до меня расстреляли миллионы, а теперь пришла моя очередь.
— А как вам объявили о помиловании?
— Это было под новый год. 31-го декабря меня заковали в наручники и ночью повезли куда-то четыре надзирателя. Я был уверен, что меня ведут на расстрел. Единственная мысль была: не показать, что я боюсь.
— А вы боялись?
— Естественно. Но я должен был достойно встретить свою смерть. Ну, а там мне объявили о замене смертной казни на пятнадцать лет заключения.
— Вы испытали облегчение?
— Я не поверил. Потому что никто ведь не знал, как приводят в силу смертный приговор. Одна из легенд гласила, что смертникам специально сообщают о помиловании, чтобы они расслабились и не сопротивлялись. Потом, правда, я получил телеграмму от Сахарова и Боннэр, мол, поздравляем. Но я все равно не верил. И только недели через две, когда меня из камеры смертников перевели в обычную камеру, я поверил.
— Как вы не сошли с ума?
— Наверное, ума мало было.
— Ну а если серьезно. Что вас держало?
— Ненависть.
— А кроме?
— Я писал дневники.
— У вас была бумага, карандаш?
— О, это целая история. Сейчас я вам покажу.
Он уходит и возвращается с конвертом, из которого вываливаются прозрачные длинные отрезы бумаги, исписанные крохотным, миллиметровым почерком.

— Это те самые знаменитые «Дневники», которые вы писали в лагере?
— Да, они самые.
— Обалдеть! А что это за бумага?
— Ха, такой бумаги нет на свете, кроме как в лагерях. В соседнем уголовном лагере делали радиодетали и заворачивали их в эту бумагу. А извозчик был у нас один на два лагеря. Он за пачку чая доставал мне эту бумагу. Я скатывал эти записи в тонкий рулон и ждал иногда месяцами, пока ко мне приедет на свидание кто-нибудь из друзей, кому можно доверять, и можно будет эти дневники передать на Запад.
— Скажите, а после того, как вам объявили о помиловании, вы поверили в Бога?
— Тогда — нет.
— А когда?
— Уже здесь, в Израиле. Здесь слишком много чудес, мать. Надо быть слепым и глухим, чтобы этого не видеть и не слышать. Ведь мы находимся в сердце истории, этого невозможно не заметить. И Бог здесь все время присутствует.
— А когда вы приехали в Израиль, вы не испытали разочарования?
— С какой стати? Никаких особых иллюзий у меня не было. Я знал, что это маленькая, провинциальная, нищая и воюющая страна. И я знал, что мы приехали сюда, чтобы строить ее. Я определил для себя так: Израиль — это нормально плохо.
— В отличие от Советского Союза, в котором было ужасно плохо?
— Да. Здесь было нормально плохо, а там было совсем плохо.
— Приехав в Израиль, вы перестали бороться с режимом?
— Конечно, я же не параноик, чтобы все время бороться. Было уже не до этого. Надо было жизнь устраивать.
— Я читала, что вас приговорили к расстрелу без конфискации имущества за отсутствием оного. То есть у вас ничего не было?
— Абсолютно. Я ехал голый. У меня даже чемодана не было.
— И вот, в Израиле начался новый период вашей жизни. Вы создали газету.
— Да, я создал газету «Вести», тираж которой на пике превышал тираж «Хаарец».
— Но у вас же не было журналистского опыта?
— Никакого. Я даже газеты тогда не читал. Я купил лучшие англоязычные газеты на то время, взял оттуда разные идеи, выработал некий приблизительный образ идеальной газеты, набрал сотрудников, сформулировал принципы и начал трудиться.
— Эдуард Самойлович, интеллигенция исторически всегда выступала против власти. Так было и в Советском союзе, и израильская интеллигенция не исключение…
— Я понял, можете не продолжать. Менахем Бегин сказал: «Арабы — наша беда, левые — наше проклятие».
— И вы согласны с этим?
— Да. Левизна — это разновидность душевной болезни.
— Но ведь они тоже борцы с режимом.
— Ну и что? В дурдоме тоже полно борцов.
— Тогда и про вас можно было сказать то же самое…
— Мы боролись за справедливое дело, а они — нет. В этом разница. Они исходят из ложных посылов, социалистических. А это идиотизм.
— С точки зрения Советского Союза вы были предателем родины. С точки зрения многих граждан современного Израиля левые радикалы предатели родины. Вы не видите сходства?
— Нет. Я же говорю, они исходят из ложных, абстрактных, посылов, поэтому вся эта левая конструкция ложная и нежизнеспособная. Вообще, работать должны оба полушария мозга, и левое, которое отвечает за абстрактное мышление, и правое, которое отвечает за конкретное.
— Но вы же сами говорили, что были времена, когда вы находились на грани срыва, когда вы не думали о своем благе, а исходили только из своих убеждений и верований?
— Да, было. И это было неправильно, но необходимо на тот момент.
— Вы сейчас пришли к гармонии?
— Да, абсолютно.
— А если бы была возможность изменить что-то в вашей судьбе, вы бы ей воспользовались?
— Нет, я вполне доволен. Учитывая конечный результат, выяснилось, что все было правильно. Я ведь не сломался, не предал никого. Я достойно вынес все испытания. А сейчас, наконец, занимаюсь тем, что я люблю.
— Чем?
— Читаю те книги, которые мне по сердцу, думаю, занимаюсь спортом.
— Я хочу завершить это интервью рассказом о вашей дочери, Анат. Она сняла о вас фильм.
— Да, и получила четырнадцать международных премий.
— На нее не давит груз вашей известности?
— Нет, она вполне самостоятельный человек. Очень толковая девушка, все правильно понимает, умеет сформулировать, организовать людей.
— Вы гордитесь ей?
— Да, очень даже. Хотя бы для того, чтобы она родилась здесь, нужно было пережить то, что мы пережили.
Мы встречались с Эдуардом в большом доме под Иерусалимом, где он живет вместе со своей женой, поэтом и певицей Ларисой Герштейн. В саду стоят вековые тутовники, вокруг, в сосновых лесах растут грибы и дикая вишня. Мы сидели на балконе, с которого открывается вид на столицу, пили кофе и ели нежный сливочный десерт с белым шоколадом и ананасом.

Шоколадно-сливочный десерт с ананасом
Ингредиенты:
Для насыпной основы:
— 100 гр. масла
— 200 гр. муки
— 50 гр. сахара
Способ приготовления:
Растереть масло с сахаром и мукой до получения крошки. Запечь крошку в духовке до готовности (10—15 минут).
Для шоколадно-сливочного наполнителя:
— 200 гр. белого шоколада
— 100 мл. сливок
— 10 гр. сливочного масла
Способ приготовления:
Довести до кипения сливки, добавить шоколад и снять с огня. Когда шоколад начнет топиться, добавить сливочное масло разбить его блендером. Отправить в холодильник до застывания.
Способ формирования десерта:
Выкладываем основу в десертный стаканчик, сверху добавляем сливочный наполнитель. Украшаем кусочками свежего ананаса.
Саша Галицкий. История о старости
Под мягким нажимом хорошо заточенной стамески закручивается тонкая кудрявая стружка. Следом появляется запах — запах свежего дерева. Еще несколько движений, и появится контур. За ним — очертание фигуры. Потом, много позже, — готовая работа, вырезанная из дерева. Сделают ее старческие руки, измученные болью и скрюченные артритом, но все еще чувствующие под своими пальцами и нежное податливое дерево, и острое лезвие инструмента. Художник Саша Галицкий — человек удивительный. Пятнадцать лет назад он бросил свою обычную и вполне успешную работу ради того, чтобы учить стариков резьбе по дереву. Сегодня этот человек с широкой улыбкой и печальными глазами — мой собеседник.

— Саша, в последнее время вы стали главным специалистом по старикам. Вы пишете книги, о вас снимают фильмы, вас цитируют. Скажите, а старость — это страшно?
— Мы честно говорим?
— Конечно.
— Тогда, конечно, страшно.
— Страшно — потому, что близка смерть?
— Нет, смерть сама по себе не страшна. Страшно быть старым: когда отключаются органы, когда тело постоянно болит. За длинную жизнь мы платим болью и неудобствами.
— А почему вы считаете, что смерть не страшна?
— Потому что человек уходит и все, перестает существовать. Страшен сам процесс ухода. Все люди, немного пожившие и подумавшие о жизни, ждут перехода легкого и надеются на него. Но это мы говорим о тех людях, которых минули страшные болезни и деменция. Они умирают от старости.
— Какой средний возраст ваших учеников?
— Средний возраст от 75 до 97, а самому старшему в этом году будет 105 лет. Правда, он пару лет назад перестал ходить.
— Такая длинная жизнь — это благословение или проклятие?
— Я думаю, что это благословение. Как сказала одна из моих подопечных, юная девушка: «Тот, кто стыдится своей старости, не достоин ее». И, мне кажется, это очень правильная фраза. Ведь люди, которые так долго живут, готовы к смерти. Они видят ее постоянно. И когда количество тех, кто уже «там» становится больше, чем тех, кто еще «здесь», то понятно, что скоро и твоя очередь наступит.
— А вы привыкли к этому процессу? Ведь вы тоже очень часто сталкиваетесь со смертью.
— И да, и нет. Очень трудно, как это случается неожиданно. Когда ты приходишь на урок, и вдруг говорят, что человек умер. Это очень тяжело. Это как вдруг в душе разверзлась дыра. Ведь вот он, только что был, я с ним беседовал, он вырезал условно своего козлика. И теперь его нет. Я, когда прихожу на уроки, действую как электрический прибор, который выдает энергию. А когда такие вещи происходят, то эту энергию просто неоткуда взять. Создается вакуум. Мне нечего дать, а им нечего получить.
— Тяжелая у вас работа.
— На самом деле, мне повезло. Мне удалось придумать, как сделать из моей работы арт-проекты. Вот один из самых известных проектов «Ван Гоги». Это когда мы вырезали портреты Ван Гога. Получилась целая выставка.
Или проект «Неуспевающие». Я придумал, что это как будто школа, где некоторые ученики «не успевают». Вообще это очень специфическая школа, куда приходят, условно, в десятом классе, а уходят в первом.
— Этот процесс происходит на ваших глазах?
— Ну конечно. Это обратный процесс, когда у человека выпадают первые зубы, потом он начинает ползать, а потом превращается в ничто. Я себя ощущаю рыжим клоуном. Я не могу избавить их от болезни и смерти, но я могу сделать так, что человек встанет через три часа и скажет: «Я не заметил, как пролетело время».
— Где вы берете на это силы?
— Пока вырабатываю сам. Но это правда сложно. Я раньше не верил в эти энергетические вещи. А сейчас понимаю, что такое энергетическое истощение. Мне всегда после работы нужно время, чтобы восстановиться.

— Коучеры и психологи любят рассказывать мотивирующую историю о том, что однажды в доме престарелых проводили опрос. И спрашивали пожилых людей, о чем они жалеют в жизни. И все отвечали: «О том, что не успели сделать». А вы, как человек, который каждый день видит стариков, можете сказать, о чем они жалеют?
— Я не буду спорить с психологами. Но я думаю, что каждый жалеет о своем. Но вот сегодня я спросил одного деда: «Ты хочешь сбросить пятьдесят лет?» И он сказал: «Конечно!». А другие не хотят возвращаться назад. Они считают, что прожили свою жизнь, и этого достаточно. Но старым быть тяжело, я все время возвращаюсь к этой мысли. Ведь старость — это возраст хрупкости. Когда любая поломка может привести к смерти. И это происходит моментально. И я это вижу каждый день. Сегодня он прекрасно выглядит, ходит, работает. В общем, огурец. А завтра… Не хочу пугать.
— Эти люди, с которым вы работаете, прожили страшный двадцатый век. Может быть, самый страшный в истории человечества. Чему вы у них учитесь?
— Я учусь видеть в них себя, мне интересно, что будет со мной. Я вижу, что каждый день — это подарок. А еще я учусь у них свободе. Я учусь не играть в те игры, которые навязываются мне извне. А вообще-то я работаю с разными людьми. И с теми, кто прошел через концлагеря, и с создателями космических проектов, и с бывшими мясниками.
— И вы чувствуете разницу?
— Разница потрясающая. Люди менее успешные в жизни — они более благодарные, нежели те, кто поднялись очень высоко по жизненной лестнице. «Принеси-подай-поди вон!» — это, конечно, больше относится к тем, кто был очень успешен в своей прошлой жизни. Они более целеустремленные, сконцентрированные на своей работе. Они понимают, чего они хотят и приходят на кружок, чтобы я им это дал. А те ребята, попроще, они более теплые. Они могут прижаться ко мне щекой, обнять. Это очень трогательно.
— А вы всех помните? Их имена, истории?
— Я не понимаю вопрос. Ну как я могу их не знать? Ну, конечно, я их помню. Я помню всех людей, которые ушли. Причем иногда люди перестают ко мне ходить, а потом через какое-то время возвращаются. Я в какой-то момент понял, что я для них важнее, чем они для меня. Это люди, у которых есть цель — сделать проект. Мне с ними комфортнее, понятнее, чем с детьми, например. Потому что дети могут поменять решение, им может наскучить. А они люди усидчивые. Они работают до конца.
— А что они пытаются выразить в своих работах? Они вспоминают концлагеря или войны, или потери?
— Люди возвращаются в детство, в родителей своих. В игрушки, в которые они не доиграли, в бантики, которые не довязали. Домашние животные, которые у них были в довоенной Польше, дом, в котором они жили когда-то, старое еврейское местечко. Это и держит людей. Они проигрывают заново свое детство. У них даже Ван Гог похож на давно умершего деда.
— А бывало такое, что вы видели, что у человека настоящий большой талант, и если бы жизнь сложилась по-другому, он мог бы стать скульптором или художником?
— Ну практически все это поколение — люди с нереализованными возможностями. Они всю жизнь занимались чем-то: кто на складе работал, кто водителем был. А сейчас они становятся художниками. Эти люди — это живая история, и вот она, под моими руками. Один товарищ у меня из списка Шиндлера, другие пережили Хрустальную ночь. Это счастье, что они еще не ушли, что можно поймать время за хвост и увидеть их, поговорить, потрогать. Потому что для них это было вчера. Это страшно интересно наблюдать за тем, как история ткет судьбы людей из пустяков. У меня был один человек, которому в Аушвице, когда выбивали номер на руке, одну цифру не добили. И когда его отправляли в печку, то два нациста ошиблись. Они оба написали неправильную цифру, и его отправили обратно в барак, доживать. И так он дожил до конца войны.
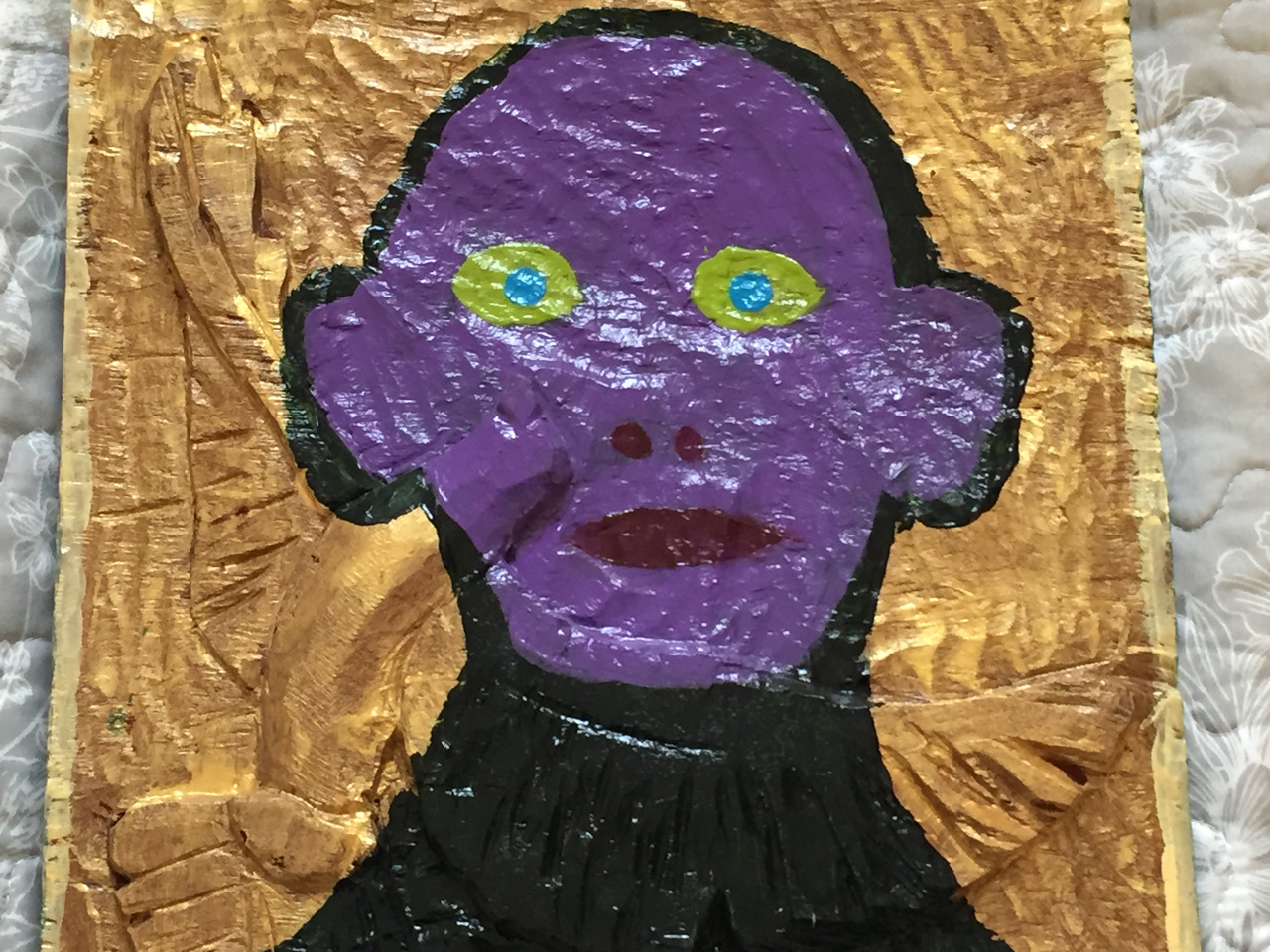
— Я недавно написала роман, где одна из героинь — вот такая «девушка», как вы говорите, которая вспоминает свою жизнь. И в работе я использовала многие материалы, в том числе и вашу книгу. То есть вы делаете большое дело, вы историю не только ощущаете руками, но еще и сохраняете.
— Да. Но мне интересны не те ужасы, которые они пережили. Мне интересны их судьбы. Как они смогли выжить, где брали силы для того, чтобы восстановиться из пепла, как им удалось состояться после все, что они прошли.
— И где они брали на это силы?
— В желании выжить любой ценой. Я чувствую этих людей, я ощущаю их, я свидетель их историй. Эти люди остаются у меня в голове и в душе.
— Я знаю, что у вас с вашими родителями были сложные отношения. Вы даже написали книгу о том, как общаться с пожилыми родителями.
— Мы с мамой были очень похожи. Поэтому была любовь очень большая, но и конфликты тоже. Как только я начал выбиваться из ее колеи, начались проблемы. Я хотел самостоятельности, а маме было нужно заботиться обо мне. Это было очень сложно. Когда начинает зарождаться индивидуальность, и она сильная, яркая, нестандартная, то очень сложно ее принять. За самостоятельность нужно платить, и ценой стало расставание с мамой. Но в конце концов, когда мне удалось перерезать эту пуповину, мы с мамой наладили отношения.
— А на пороге смерти чувства обостряются?
— Чувства не оставляют человека до смерти. Чувства все сохраняются до конца, совсем до самого конца.
— А любовные истории в таком возрасте случаются?
— Да сплошь и рядом. И драмы случаются. Ну вот, например, история, которая произошла на моих глазах. Он — успешный, известный, очень богатый человек. А она — женщина простая, женщина-тепло, и он у нее не первый, она уже похоронила нескольких. Они познакомились на моем кружке. Несколько лет назад у него была операция, и она попросила меня помочь вылепить его бюст. В общем, мы лепили этот бюст и все было очень трогательно. Но в какой-то момент вмешались дети, видимо, испугались за наследство. И тогда он положил ключ на стол и сказал ей: «Больше не приходи». Они поссорились, и оба перестали ко мне ходить. А потом я встретил ее в коридоре и начал уговаривать вернуться. Она отказывалась, говорила: «Я не хочу его видеть». А я ей объяснял, что он уже еле живой, он уже давно ко мне на уроки не ходит. В общем, она пришла. И в тот же день вижу — он ползет. Короче, я их как-то рассадил, только чтобы они не вместе были. А потом, через какое-то время, я вижу, что она опять рядом с ним сидит: «Я не хочу менять место! Я вот здесь сидела и буду сидеть!». А он сидит рядом с ней. Оба молчат, работают, сидят вместе. Друг на друга не смотрят. Он выпиливает голую женщину, а она — женщину одетую.
— Потрясающе! А можно сказать, что то, что они делают на вашем кружке — это последние вещи, которые они оставляют после себя?
— Конечно.
— А что происходит, если они не успевают закончить свою работу?
— Я за них заканчиваю.
С Сашей Галицким мы долго беседовали на самые важные в жизни темы любви и смерти. Пили кофе и ели чизкейк с шоколадной глазурью.

Чизкейк с шоколадной глазурью
Для начинки:
— 100 гр. сахара
— 120 мл. сливок для взбивания
— 150 гр. горького шоколада
— 2 ст. л. какао-порошка
— 200 гр. сливочного сыра (крем-чиз)
— жареная кокосовая стружка для украшения
Способ приготовления:
Шоколад растопить на водяной бане и затем остудить.
Взбить сливки, добавить остывший шоколад, какао-порошок, разведенный небольшим количеством горячей воды. Все перемешать.
Взбить сливочный сыр с сахаром. Соединить с шоколадной массой, все перемешать. Переложить в силиконовую форму и отправить в морозилку.
Для шоколадной глазури:
— 125 мл. воды
— 120 мл. сливок
— 180 гр. сахара
— 60 гр. какао
— 15 гр. желатина
— 60 гр. черного шоколада
— 45 мл. ледяной воды
Способ приготовления:
Воду, сливки и сахар довести до кипения, снять с огня и ввести какао (предварительно просеять). Размешать, ввести шоколад и желатин. Пропустить через сито. Остудить до 50 градусов, добавить ледяную воду.
Достать из морозильной камеры застывший чизкейк, аккуратно вылить на него глазурь. Украсить жареной кокосовой стружкой.
Александр Фридман. История о великой мечте
Сквозь неплотно закрытые ставни пробивается лунный луч. Он скользит по потолку, спускается по стене и добирается до кровати, на которой лежит маленький мальчик. Щекочет его по носу, мешает заснуть. Сквозь дрему мальчик слышит вечернее напевное чтение деда «Барух ата адонай, элохейну мелех ха-олам…». Сон не идет, он открывает глаза, подходит к окну, распахивает ставни. Тусклые лучи освещают ночную тьму. Полная, круглая Луна. Такая маленькая, размером всего лишь с подушечку его большого пальца. И такая близкая, что можно достать до нее рукой. Он еще не знает, что пройдет много лет, и он станет одним из тех, кто будет покорять ее. Мой собеседник — ученый, руководитель миссии израильского лунохода Берешит Александр Фридман.

— Александр, вы когда-нибудь мечтали о космосе?
— Нет, никогда. Если бы мне кто-то сказал, что я буду в Израиле запускать спутники, я бы решил, что он сбежал из сумасшедшего дома. Во-первых, какая может быть связь между такой маленькой страной и спутниками? Во-вторых, какая связь между мной спутниками?
— Особенно в 67-м году, когда вы поступали в Ленинградский университет на математический факультет.
— Да. Как раз в это время открыли кафедру прикладной математики. С одной стороны, меня это очень интересовало, потому что я хотел заниматься не теоретической, а прикладной наукой. С другой стороны, нам объяснили, что это финансируется министерством обороны. А наша семья уже к тому времени три года была в отказе. И связь с министерством обороны — это было последнее, что мне нужно. Поэтому я туда не пошел. Но как только мы приехали в Израиль, я узнал, что в Иерусалимском университете открылась кафедра прикладной математики, и я был в первых рядах студентов.
— А почему прошло пятьдесят лет с момента первого полета на Луну и до запуска первого израильского лунохода?
— Космос всегда был прерогативой мировых держав — СССР, США, Китай. Но был луноход Аполлон 13, который запустили американцы, были советские попытки отправить луноход. Это все стоит бешеных денег. А Израиль — маленькая страна. В 1988-м году мы были восьмой страной в мире, которая запустила спутник в космос. А теперь — мы седьмая страна, которая достигла орбиты Луны.
— Это звучит как научная фантастика. Но скажите, есть какой-то практический интерес в освоении Луны? Или только теоретический?
— Есть предположение, что на Луне хранятся гигантские запасы минералов. Есть даже такие теории, согласно которым существуют астероиды, полностью состоящие из алмазов и золота. Представляете, какие это деньги! Кроме того, в последние десять лет разрабатывается концепция использования Луны в качестве перевалочной базы для заселения других планет.
— А это реально?
— Сейчас это очень популярная идея. Даже проводятся тендеры на разработки спутников для перевозки багажа, построения жилых баз на Луне. Это направление очень развивается в последние годы.
— Это просто уму непостижимо. Крошечный Израиль встал в один ряд с Китаем, США, с их возможностями, бюджетами и амбициями! А начиналось все просто как безумный проект.
— Когда я в первый раз услышал об этой идее — запустить луноход — я решил, что кто-то сошел с ума. Это казалось совершенно нереально.
— С другой стороны, если говорить строго, Израиль тут вообще-то не при чем. Это частная компания, которая нашла деньги, собрала штат сотрудников, занималась разработками, расчётами и всем остальным. При чем тут государство Израиль?
— Ну, во-первых, использование частных денег — это было требование, выставленное организаторами конкурса. Во-вторых, государство вложило несколько миллионов на конечном этапе разработок. В-третьих, группа ученых, которая занималась этой работой, это те ребята, которые выросли в Израиле и получили здесь достаточный уровень образования, чтобы суметь осуществить такой проект. Это соответствует технологическому уровню, количеству талантов, которые есть у Израиля. Я думаю, не в каждой стране, даже намного больше, богаче и мощнее, чем Израиль, можно найти такую группу специалистов, которая в состоянии сделать то, что сделали мы. Это маленькая группа, которая при очень скромном бюджете сумела разработать и построить луноход. В этом сила Израиля. У нас очень много талантливых ребят.
— Тогда у меня такой вопрос. Все, кому ни лень, ругают израильскую систему образования. При это израильские школьники запускают спутники, а израильские инженеры разрабатывают луноход. И я не говорю про медицинские технологии, сельскохозяйственные и прочие. Как вы объясняется такой парадокс?
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
