
Бесплатный фрагмент - Стороны света

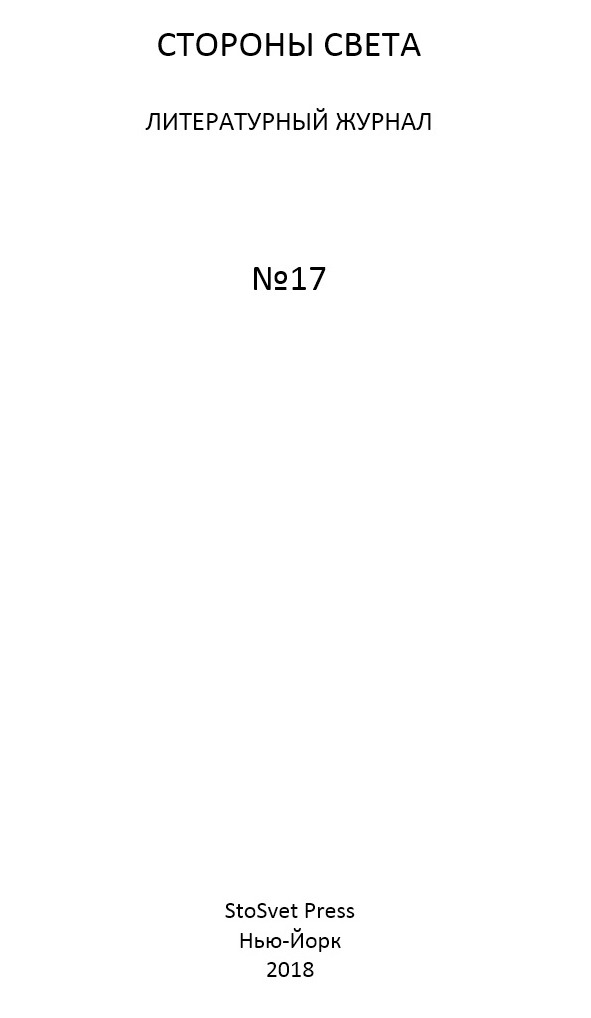
«СТОРОНЫ СВЕТА»
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
№17
ОСНОВАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Олег Вулф (1954 — 2011)
РЕДАКТОР
Ирина Машинская
СОСТАВИТЕЛЬ 17-ГО ВЫПУСКА
Катя Капович
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Лиля Панн
Слава Полищук
Валерий Хазин
Роберт Чандлер
ОФОРМЛЕНИЕ И ОБЛОЖКА
Сергей Самсонов (1954 — 2015)
КОРРЕКТОР
Наталья Сломова
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Хона Гордон
PUBLISHED BY STOSVET PRESS, NEW YORK
cp@StoSvet.net
http://www.StoSvet.net
©2018, All Rights Reserved
Все права принадлежат авторам
Поэзия-I
«ДОМ СНЕСЛИ, А МЫ ЕЩЕ СТОИМ…»
Евгений Никитин
Сначала я три раза постучал
и подождал, но не было ответа.
Курил себе бессовестно, скучал.
Фонарь потух, и я сидел без света.
Еще немного и пора, пора.
Приду еще, когда я постарею.
Надеюсь, эти фраера
откроют старому еврею.
Я в смерти был не первый человек,
не первый, и не скажешь, что последний,
но видел я лишь оброненный чек
и стул без ножки, что стоял в передней.
***
Свечное пламя мается, дрожит.
Сгорая, мотылек его целует.
Мой друг не пишет — он, как тень, танцует
и на ловца, как зверь, бежит.
Сдвигается зима, ее слепые створки.
Домашний газ свой синий язычок
выпрастывает из конфорки.
Дом позабыл, как умер мотылек.
Забывчивостью — что хотел он показать?
Зачем он книги старые расставил
так нарочито, словно неких правил
он вел — разъятую по комнатам — тетрадь?
Прошли года, а он все делал вид,
что — черствому — не до жильцов покойных.
Но я-то видел, как он был укрыт
огромной пленкой крыльев треугольных.
***
В твоих чертах уже проявился
чужой человек. Ты носишь его на себе —
еле заметный контур поверх твоего лица.
В уголках глаз, где было (ты помнишь?) моё место,
обосновался он — вот след его поцелуя.
Только я вижу разницу.
Иногда он просыпается, начинает ворочаться,
смотрит по сторонам и тогда — выпадает
из тебя, как из колоды джокер. Становится рядом.
Идёшь, о двух головах.
А я никогда не мог
стать тобою хотя бы наполовину.
Во мне сохранился голод неразделённого существа.
Я касался тебя, ничего не понимая.
Жил то там, то сям. Ютился
между костяшками пальцев, спал
в уголках глаз. Не оставлял следов.
***
Скоро женщины, которых я любил,
станут старенькими.
Маленькими сморщенными корнеплодами.
Будут расти в земле, пожирать ее соки.
Оттуда говорить, невнятно и глухо:
«Никитин, принеси сигареты.»
Я пойду за куревом,
красивый молодой мужчина без души.
***
Говоришь, бывает, с другим
про зеленый сад,
про закатный дым.
Между тем ты сам виноват.
Между тем ты сам виноват,
что туда тебя не зовут.
И забвения виноград
на уста тебе не кладут.
Даже звать тебя «Виноват».
И зима прядет
много лет подряд
тонкий, как паутина, лед.
***
Дом снесли, а мы еще стоим.
Я смотрю спокойно на отца
и не знаю, что мне делать с ним.
Всё проговорили до конца.
Боли нет, досада — может быть.
Точку бы поставить и уйти.
Выпить разве — я умею пить.
Вот недавний пост — его прочти.
Нет веранды этой, кухни нет,
но отец все думает, не спит,
видит на веранде силуэт,
слышит, как на кухне пол скрипит.
***
С тех пор, как стал я нелитературный,
обычный человек,
с меня сошел налет культурный,
как жидкий снег.
И если скажут: «Вот у Аронзона…»
Я более не помню Аронзона.
«Есть у Айги…» Я позабыл Айги.
Вокруг меня теперь сплошная Зона.
И здесь никто не парит мне мозги.
Хотя, бывает, встретишь человека,
и молвит благородный муж:
«О, как людей ломает ипотека!»
Но это чушь:
На мне облез, как старые обои,
весь этот слой —
без разочарования, без боли,
само собой.
Настя Запоева
…На мраморах богов мы слезы примечали.
Дмитрий Веневитинов
а произносится: твари — твари
Михаил Айзенберг
свет запутался за шторой
хлорка пахнет нашей школой
люди
то есть мы
несносны
за окном то степь то сосны
запах манки — не остыла
это слёзы? — просто сыро
это страшно? — просто поздно
это больно? — это больно
эта рифма не подходит
свет за шторой кто-то ходит
нет ещё такого слова
просыпаемся и снова
повторенье очищает
голубой вагон качает
сын ошибок но не опыт
переходит не на шёпот
произносит твари-твари
это мы не проходили
просто слёзы примечали
и на мрамор нисходили
выходили на последней
просыпались то в передней
то от качки засыпали
это кончится? — едва ли
***
не наступил понедельник
но затянулась весна
брюхом всплывают пельмени
и закрывают глаза
пятница не наступает
как дотянуть до зимы
если пельмень не всплывает
значит слова не нужны
если глаза закрываешь
сразу темнеет внутри
к этому не привыкаешь
не получилось живи
только бы не умирали
эти пельмени со дна
только б глаза закрывали
не навсегда навсегда
…дорожа временем, потому что дни лукавы.
Послание к Ефесянам 5:16
дни лукавы прочен снег
и разъять его не пробуй
лампа бабочкам ночлег
то есть смерть тепло которой
согревает наскоряк
белой ниткой по живому
режет шьёт ли чёрный как
свет к раненью ножевому
этой жизни этой тьмы
как бы санки у сарая
прислонился до зимы
нет ни ада здесь ни рая
только снега слабый свет
только лампочки обманка
ничего здесь больше нет
а последнего не жалко
видишь санки у стены
слышишь тиканье ночное
ты не дёргайся поспи
нет ни счастья ни покоя
крови глупая возня
да какая к чёрту воля
дни лукавы жизнь одна
освещeние ночное
***
мне тётя Люда по площадке
напоминала рок-звезду
когда у матери десятку
просила мы почти в аду
конфорочным огнём согрелись
кто герычем кто киселём
мы как-то временно живём
а умирать не научились
она пропала навсегда
наверное вернулась к мужу
о жизнь на улице Труда
где Окуджава пел про стужу
***
негромкий голос Аронзона
мне тихо-тихо нашептал
что и промзона и вокзал
отбились в детстве от вагона
а прицепились к виду вниз
из моего окна на кухне
и в общем это парадиз
затерянный среди обувки
сандаликов за два рубля
с копейками малы соседу
и тихо крутится земля
и время движется к обеду
но нас Апостол научил
что хлеб жевать нам рановато
и продаётся в парке вата
из сахара для новичков
Данила Давыдов
я тут перечитал кассирера
и вижу что-то тут не так
опять метафизически пытаются
понять предметный знак
вот айзенберг поспорив с бродским
сказал примерно это же
но пренебрегши чувством плотским
он некий смысл разворошил
***
мизантропу доказательства
лишние не нужны
но они начнут как вваливаться
прям с нежданной стороны
замечательно что мнение
есть практически у всех
у меня вот нету мнения
понимаю, грех
нежный, умный, понимающий
друг из ленты новостей
так такой всезнающий
мир без тебя куда пустей
***
когда придут к нам механизмы
вот так чтоб просто предъявить
мы будем радоваться жизни
мы будем рады просто быть
я вот чего не понимаю
зачем стремиться к пустоте
но лучше это, я не знаю
но и не знают все вот те
***
Даше Серенко
знаешь от чего это происходит?
я: от биологии, этологических
распределений функций
Лоренц писал, Докинз, читал ведь?
он: да, правда твоя, и только твоя.
ты хочешь, чтоб вся правда была твоя
вся, вся, без исключений?
я: нет, я не бог, не хочу
он: значит, не вся твоя правда
может быть, мы заставим себя
пренебречь наследием и уйти, уйти —
ты понимаешь? туда, где
нет категорий меж мыслящими существами
я: это ведь невозможно, брат
он: да, невозможно
значит, пойдём
***
вот сопоставим мы берёзоньку
с к примеру там сказать уж тем
что получается так скользенько
но каждый соучастник нем
хотелось перечесть бы лессинга
его чудной лаокоон
но вот уж близко, близко лесенка
и песня, ждущая знамён
***
поутру просыпаются дюссельдорф и малый сырт
просыпаются вышний волочок и бета кассиопеи
но ты снова пришел всё такой же хотела бы я понять
с кем провёл ты время это, всё это время
и заснут к вечеру и олимп и марсианский олимп
и даже гримпенская, запятнавшая свою репутацию трясина
но ты вновь поутру придёшь и опять без трусов
и я вновь пойду к магазину
***
ах бы эту вот свистулечку
взять бы в руки да свистеть
ну а ты чувак в пизду пошёл
нечего вот тут пиздеть
— это я к тому что лирою
нежной трепетной живой
всех вас плавно аннулирую
странно, если кто живой
Геннадий Каневский
он был последним человеком в джазе.
ни голоса, ни ритма. но зато
он вставил батарейку энерджайзер
в своих фантазий злое шапито.
мы поняли его, когда в подвале,
среди руин, на тягостной войне
посмертные его публиковали
записки об обратной стороне.
радист хрипел «самара, я саратов».
гектограф тихо плавился в пыли.
разносчики г@шиша и снарядов
к нам третий день пробиться не могли.
а ничего. мы победим, конечно.
кромешный день сойдёт в привычный ад,
покуда неудачники неспешно
словами по бумаге говорят.
[козьма прутков revisited]
ты поэт и славный малый,
но по будням — скучный клерк.
разве это завещали
рубинштейн и айзенберг?
если водки не хватает —
наливай скорей портвейн!
вон на лавке разливают
айзенберг и рубинштейн!
дух везде, скотина, дышит.
даже в чистый, блин, четверг:
почитай, как славно пишут
рубинштейн и айзенберг!
если в ухо ветер дует,
если свет в глазу померк —
посмотри, как маршируют
айзенштейн и рубинберг!
***
для двух пальто крючки навесил.
для шляпы — в притолоку — гвоздь.
в кино показывают ветер,
мир, продуваемый насквозь.
а здесь, в квартире, вечный сумрак
меж магаданом и невой.
бушлатами воняет кубрик,
а камбуз — жареной плотвой.
в живом и в судовом журнале,
где примечанья и петит,
что мы запретное узнали?
чем сердце колет и щемит? —
что, отведя рукою ветку,
уже набухшую весной
мы лишь набрасываем сетку
координат на шар земной.
***
рассыпанные кем-то по равнине,
засвеченные солнцем по краям,
живущие, как жизнь жива доныне
в одной из многих придорожных ям,
пьют, будто не в себя, бранят погоду,
считают сном отсроченную смерть
и запевают, как вступают в воду,
как не умея плавать, а не петь.
закрывая дверь, восстанавливать по кускам,
подключать планшет и камеру бетакам,
составлять мозаику, день прибирать к рукам.
***
я не человек, а существо.
пьяненький пловец от ничего.
молочу руками неспроста:
сзади, чую — камень пустота
пущен по поверхности воды
пустотой — для ветра пустоты.
дуй нам в спину, смех воздушных масс.
утопи навек бездушных нас.
***
все ложится в тонкий, видимый глазу слой,
во второй и третий, а у иных — в шестой,
потому — не злись, что тыкаюсь, как слепой.
там бельё взлетает и в небе висит, плеща.
пахнут тьмою складки бабкиного плаща.
к керосинной лавке очередь за квартал.
керогазы? — нет, коммунальное не застал.
протыкай иглою этот нелепый текст,
вспоминая буквы — что на каком листе,
представляя, что ты ослеп, и что ты — везде.
и что смерть — велосипедное колесо.
и что на ордынке свет оставляет след.
и что на фонтанке бог сохраняет всё.
Игорь Божко
Земляные работы
ты — Иван и я — Иван
вот и вырыт котлован
ты товарищ — «москвошея»
я — неправильная шея
вот и вырыта траншея
генералу ты — до жопы
жизнь моя ему до жопы
вот и вырыты окопы
Даль
Два философа голодных
мертвых и уже холодных
шли по мостовой
«боже ж мой!»
закричал один прохожий
на ученого похожий
а другой пустился в пляс
возле театральных касс
ну и что ж — скажите мне
здесь мудренного такого —
муха плавает в вине
в кужке белого сухого
надо б пальцев подцепить
да и вытащить пловчиху
воет жучка на цепи
к салу кот крадется тихо
в женских шляпах старомодных
с исковерканной душой
два философа голодных
вдаль идут по мостовой
***
давай нажарим картошки
заварим покрепче чай
кастрируем наконец-то кошку
и переждем печаль
печальную эту зиму
печальный из окна вид
потом все станет красиво
запрыгает инвалид
за стенкою выпив водки
почуяв весенний зуд
прочистят вороны глотку
и ждущие заплюют
трамвайную остановку
плевками промозглых дней
и спляшет у ног «воровку»
взъерошенный воробей
и этот народный танец
разгонит чуму-печаль
и сделает иностранец
фотку из-за плеча
Поэту В. И.
женщина с базарною коляской
пьет его разжиженную кровь
ласково заглядывает в глазки
а он пишет тексты про любовь
и хотя все рифмы там простые
«кровь-любовь» но половодье чувств
никогда в тех текстах не остынет
и ладонь сама ползет на бюст
ничего в том пошлого не вижу
что ладонь его — творит добро
вечер мартовский восторгом душу лижет
и луна как новое ведро
Конец лета
жары уже не будет
и ничего не будет
а что же тогда будет?
а пиво с водкой будет
и все на свете будет
и в перьях и в холе
и Бог нас не осудит
живущих на земле
Андрей Синявин
мне говорят куда ты катишься
сочувствуют уймись чудак
жалеют ой ещё спохватишься
качают головой так-так
а я такой каким вы видите
иль ненавидите кляня
вы может думали обидите
вы лишь расстроили меня
иду по свету не обиженный
но ваши колются слова
забавно видно я не каменный
моя седеет голова
***
я сегодня говорил с поэтом
и поэт со мною говорил
на мосту меж тем и этим светом
что рисуют глобусом одним
как всегда был разговор неровен
даже иногда он нервным был
только странно между недомолвок
ручейком сокрытый смысл сквозил
в смысле этом никакого смысла
нет как и в протянутой руке
но вдруг одиночество зависло
паузой и смехом вдалеке
смех далекий добрый вестник дружбы
приближенья тихий перезвон
кажется что глобус перепутан
кажется лишились мы сторон
***
раз заявился к Моцарту чёрный человек
подкинул работёночки выполнить не грех
Моцарт он вообще-то всё легко писал
а тут совсем замаялся попросту устал
и чего тут маяться все говорят друзья
Моцарт усмехается пишу как для себя
оперы заброшены стал смешон успех
вот работёнку задал чёрный человек
что напрасно спрашивать как идут дела
сердце эта Музыка в плен давно взяла
с высоты такой назад невозможен спуск
Моцарт торопился да помешал недуг
хотя одет он в чёрное чёрный человек
Моцарт музыки светлей не писал вовек
он понял что-то главное потому спешил
реквием исполнили на помин души
***
я — римлянин и поздний и последний
капитолийский холм ко мне суров
садов слышнее ропот предосенний
но форум мёртв и не двоит шагов
желанного тепла не держит тога
изорванной империи штандарт
и вылинял сенатский пурпур строгий
так лучше мне — не сразу углядят
не распознают в старом оборванце
влачащем архаичное тряпьё
того кого пугались самозванцы
забыв величье подлое своё
я — консул войска и толпы любимец
теперь плетусь как жалкий идиот
живущих прошлым улиц проходимец
и мимо времени бредущий пешеход
меня отныне вовсе не тревожат
покинутые призраки других
они развалин камни преумножат
и выстроят другую жизнь из них
величье наше собственным заменят
но вдруг вернут на место имя рим
и прежнего в себе стыдясь отменят
то что сейчас гордясь зовут своим
а я не раб былого я последний
мне цезарь не отец и не господь
так опытом печальных поражений
бодрится дух да стала робкой плоть
пусть примут перемену за измену
не избиравшего пути избрал он сам
теперь я знаю подлинную цену
орлам и пурпуру квадригам и венцам
Алексей Баклан
В этом самом парке мы и будем
коротать оставшееся время.
Водка в одноразовой посуде,
в термосе вчерашние пельмени.
Обновлённый профиль инстаграма —
фото на заснеженной аллее.
За подкладкой — томик Мандельштама
(тот, который младше и наглее).
Мы не выбирали это время,
не писали вычурные стансы,
нас не слышит нынешнее племя,
победили нас американцы.
Да и хер бы с ним, на самом деле —
нам теперь не сладко и не горько.
Всё как в детстве: старые качели,
полуразвалившаяся горка.
***
с чего начинается родина
с чего начинается смерть
с попарных прогулок на холоде
с умения ждать и терпеть
а может и не начинается
ни смерти ни родины нет
летит журавлиная стаица
на поиски лучших планет
***
речка твоя черна
снежный струится свет
выйди купи пшена
высыпь за парапет
сфотографируй как
птицы клюют пшено
речка твоя во льдах
дело твоё говно
хватит приобрести
суп пирожок и чай
а о другом пути
лучше и не мечтай
что унесёшь в руках
это и береги
будет твоя строка
дольше твоей реки
***
несть ни ленина ни петра
только заморозки с утра
из отверзтых небесных ран
поливает дождём финбан
то скрипучий и нервный сон
выйдешь затемно на перрон
кофе пластиковый пакет
всё проёбано счастья нет
***
незнакома мне улица эта
словно и не ходил никогда
здесь дождливое позднее лето
обвисающие провода
как в насмешку над необратимым
чтобы всё объяснить без трудов
имена городов-побратимов
недоступных чужих городов
покосившиеся воротца
два окна на втором этаже
ничего ничего не вернётся
ничего не осталось уже
***
белый верх и чёрный-чёрный низ
то во что и из чего мы из
горизонт и маленькая даль
еле различимая деталь
еле узнаваемый сюжет
ничего не значащий уже
человек и город лёд и лёд
кто есть кто никто не разберёт
жизни обязательная треть
перезимовать-переболеть
ангел крест созвездие и серп
белый низ и чёрный-чёрный верх
***
Война роднит, разъединяет мир.
Когда стеной становится пунктир,
единоверец выдаёт и ест,
увидишь крест — не верь, что это крест.
Когда своя страна идёт войной,
к иному обращается иной
из всех обид, из боли и утрат.
Но скажут: брат — не верь, что рядом брат.
Для всех убогих, странных и больных —
с чего начнётся родина для них?
Кто неустроен, одинок и сир.
Напишут: мир. Но не наступит мир.
***
Середина возможного пройдена
с мимолётным ребяческим «вжжжик».
Только это ещё полу-родина,
половину осталось изжить,
растоптать эти цветики-ягоды,
эту сорную сонную мглу,
все экзистенциальные тяготы,
расставания в Летнем саду.
***
Был я как маленький,
так и остался, застыл.
Прятался в спаленке
от пустоты-темноты.
Город мой серенький,
в чёрной воде облака.
Нам до Америки
не дотянуться пока.
Ангел в кораблике
солнце сажает на шпиль.
Был бы я маленький,
спать бы его уложил.
***
болей за россию но рядом не стой
любой избегай стороны
все будут едины и с этой и с той
пусть проигрыши не равны
закончит отсчитывать наш Судия
отстукивать точки-тире
а мяч выбивают из небытия
в такое же небытие
Искусство перевода
Владимир Гандельсман
Уистен Хью Оден: Эссе и переводы
У. Х. Оден родился в Англии, в Йорке, в 1907 году. Учился в Оксфорде. Начинал писать под влиянием Томаса Харди и Роберта Фроста, равно как и Блэйка, Дикинсон и Хопкинса, но уже в Оксфорде стал зрелым самостоятельным поэтом. Там же на всю жизнь подружился с писателями Стефаном Спендером и Кристофером Ишервудом. Первый сборник «Стихи» вышел в 1928-м году, а в 1930-м, с выходом второго сборника, Оден был признан лидером нового поэтического поколения.
С первых шагов его работа поражала виртуозной техникой, использованием всех возможных размеров и ритмов, извлечениями из поп-культуры, текущих событий и жаргона в сочетании с высоким интеллектуализмом, разнообразными литературными реминисценциями и знанием всех актуальных социально-политических и научно-технических теорий. Великолепно и умно Оден умел стилизовать поэтическую речь, используя тексты других авторов, будь то Йейтс, Элиот или Генри Джеймс. Зачастую произведения Одена описывают — буквально или метафорически — какие-то путешествия или поиски, всегда разнообразившие и обогащавшие его жизнь. Он бывал в Германии, Ирландии и Китае, участвовал в Гражданской войне в Испании, а в 1939 году переехал в Америку, где встретил любимого человека, Честера Каллмана, и получил американское гражданство. Его мировоззрение радикально изменилось: от юношеской пылкой веры в социализм, от поклонения Фрейду и психоанализу — к христианству и теологии современного протестантизма.
Оден писал много, и не только стихи, — он также выступал как драматург, либреттист и эссеист. Общепризнанно, что Уистен Хью Оден — крупнейший английский поэт 20-го века, оказавший огромное влияние на всю последующую поэзию по обе стороны Атлантики. Он воглавлял Академию американских поэтов с 1954 по 1973 годы и жил то в Америке, то в Австрии. Умер в 1973 году в Вене.
Эмили Дикинсон говорила, что узнает подлинность стихов по чувству, которое на сегодняшнем жаргоне называли бы «сносит крышу». По сути это буквальный перевод английского и не жаргонного выражения.
При чтении Одена, особенно позднего Одена, такого чувства не возникает. Скорее вы присутствуете на академическом семинаре. Оден был великий систематизатор и аналитик. Есть замечательный документ — одна страничка с его набросками для лекции, где перечислены все возможные источники и взаимосвязи западно-европейской мысли и литературы. Это Оден — в его самозванной роли Учителя, который в Гарварде 1946-го года наставляет вернувшихся с войны солдат: «Читайте „Нью-Йоркер“, веруйте в Бога и не заглядывайте в будущее». И это Оден — в роли горделивого поэта, который перебрал в своих стихах все существующие поэтические формы. Один из виднейших критиков даже упрекал его в том, что он превратился в риторическую мельницу, перемалывающую все на пути в Ад (Оден немедленно диагностировал: «Джеррел просто в меня влюблен»).
Одна из черт, огорчавшая читателей Одена, — его прозаичность, «тьма низких истин». Дело не в циничности или банальности мышления, — таков сознательный выбор. В конце концов, нам известны его несравненные высоты, вроде «Осени Рима» или «Песни», в которой птица-поэт, видящая свое отражение на поверхности озера, хочет «песней вернуть белизне первоначальность…» И можно предложить по крайне мере два взгляда на то, почему песня у Одена себя обрывает и отказывается от полета (ср. финал «Песни»).
Во-первых — его отношение к языку, напоминающее отношение Данта, — и это не может быть случайным совпадением, поскольку Дант был одним из трех поэтов, упомянутых в начале «Новогоднего письма», большой вещи Одена, написанной в 1940-м году (двое других — Блейк и Рембо, — два символа великих «отречений»). Одна из самых завораживающих картин у Данта — его борьба с искушением быть велеречивым, с суетным тщеславием прелестно-блуждающего (а лучше: блудящего) и фальшивого языка. («Поэт издалека заводит речь, поэта далеко заводит речь»). Дант понимает, что напыщенная речь ведет в тот же Ад, в котором мучаются грешники его Комедии. Кажется, что иногда он потворствует своему искушению, по крайней мере, в первой части Комедии, но борьба длится, и нечто похожее происходит с Оденом: аскетизм противоборствует распущенности.
Он слишком хорошо знал, что такое лживо-убедительные речи, он был современником Нюрнберга 1934-го года и всех кошмарных последствий фашизма и сталинизма. Язык –сложная и опасная вещь. Оден работет с ним словно бы в асбестовых перчатках, оберегая себя и читателя от ожогов.
Другая причина «отказа от полета» — в том, что Оден определял как «слезы вещей, наша смертность, поражающая в самое сердце», и это более субъективная, что ли, причина. Когда читаешь Одена, и даже его поздние риторические стихи, все равно невозможно не расслышать голос любви из его раннего стихотворения «Когда я вышел вечером пройтись по Бристол-стрит…», голос, возвещающий, что любовь будет длится до тех пор, пока Китай не встретится с Африкой, река не перепрыгнет гору, а семга не запоет, — то есть бесконечно. На что следует мрачное замечание городских часов: «Время тебе неподвластно».
И в ранней, и в поздней лирике Оден по сути вечный идеалист любви, знающий, что она смертна, как смертны все вещи в мире (его собственная любовь была невероятно трагична), что любовь — есть жесточайшая из экзистенциальных шуток. Джеймс Меррилл как-то сказал, что стихи Одена написаны на бумаге, сию секунду просохшей от слез. Как говорила опять же Эмили Дикинсон, «боль проходит и обретает спокойную форму».
Первое сентября 1939 года
В каком-нибудь шалмане
вечернею порой
на Пятьдесят Второй…
Исчезли миражи.
Что, умник, перед нами?
Десятилетье лжи.
И виснет над землёю —
дневной, ночной ли час —
смрад смерти. Как на плахе,
сентябрьской ночи страхи
изничтожают нас.
Учёный, глядя в линзу,
исследуй-ка людей
от Лютеровых дней
до наших — въевшись в лица,
их исказило зло.
Всмотрись — увидишь: в Линце
оно собой вскормило
бредового кумира.
Куда нас занесло?
Вспоённый злобой мира
сам порождает зло.
Что ж, Фукидид-изгнанник
всё рассказал давно
о равноправье, о
гнилых речах тирана
на форуме могил
(молчанье — их удел),
о варварских стараньях
гнать просвещенье прочь.
Европа, это ночь.
В котомках наших скарб
всё тот же: боль и скорбь.
В нейтралитет небесный
взлетевший небоскрёб
слепою мощью славит
всечеловечий лоб.
Вой языков — в напрасной
попытке оправдать
себя. Но лишь стихает
их вавилон, — в стекле
зеркальном видят массы
имперские гримасы
в междоусобном зле.
У повседневной стойки,
где сгрудился народ,
звучи, мотивчик бойкий,
пусть высшие чины,
взопрев, обставят крепость
для прений как шалман,
чтоб мы не знали, где мы,
безрадостные дети,
бредущие сквозь ночь.
В непроходимых дебрях
и страшно, и невмочь.
Запальчивый и глупый
визг Мировых Начальств
не так уж груб. Мы в наших
желаньях не нежней.
Что написал Нижинский
о Дягилеве? Был
безумец прав: любое
земное существо
влекомо не любовью
ко всем, но всех — к себе.
Вот твари естество.
Из мглы ненарушимой
на благонравный свет
выходит обыватель —
вновь верности обет
дать жёнушке, вновь в поте
лица хлеб добывать.
Беспомощный правитель
встаёт, чтобы начать
свою игру по новой.
Как больше не играть?
Кто скажет за немого?
Мне голос дан, чтоб сирых,
вот этих, — уличить
во лжи, и тех, кто в силе,
чьи небоскрёбы ввысь,
как вызов небу, взмыли!
Что Государство? Гиль.
Но человек, кто б ни был,
он сам себя согреть
не может, нас родили
любить друг друга или
бесславно умереть.
Не знающий, где правда,
в оцепененье мир…
Смеясь над нами, что ли,
сверкают огоньки,
перекликаясь и
резвясь себе на воле.
Да будет мне дано,
мне, порожденью праха,
спастись, восстав из страха
отчаянья, и в нём
путь высветить огнём.
Осень Рима
Дождит. Волна о пристань бьёт.
На пустыре, отстав
от пассажиров, спит состав.
В пещерах — всякий сброд.
Вечерних одеяний сонм.
По сточным трубам вниз
бежит фискал, пугая крыс,
за злостным должником.
Магический обряд — и храм
продажных жриц уснул,
а в храме муз поэт к стихам
возвышенным прильнул.
Катон моралью послужить
готовится стране.
Но мускулистой матросне
охота жрать и пить.
Покуда цезарь пьян в любви,
на блёклом бланке клерк
выводит: «Службу не-на-ви…»
Жуть. Ум его померк.
У краснолапых птичек, в их
заботах о птенцах, —
ни страсти, ни гроша, — в зрачках
знобь улиц городских.
А где-то там — оленей дых.
Огромных полчищ бег
по золотому мху вдоль рек
стремителен и тих.
1947
Щит Ахиллеса
Взглянула: ветвь оливы
и мрамор городов?
морей упрямых гривы
и караван судов?
Нет: гибельно и пусто
под небом из свинца, —
хоть и была искусна
работа кузнеца.
Равнина выжженная, голая, все соки
из почвы выжаты, — ни острия осоки,
ни признаков жилья, ни крошки пищи,
как серые, без содержанья, строки,
толпятся тыщи,
нет, миллионы портупей, сапог и глаз, —
и ждут в недвижности, когда пробьет их час.
Безликий голос в воздухе висит
и гарантирует без выраженья
успех похода; лица, что гранит:
ни радости, ни возраженья;
колонна за колонной, пыль движенья,
под верой изнурясь, туда, где вскоре
лик смысла исказит гримаса горя.
Взглянула: ритуальный
плач? белые цветы
на агнце для закланья?
священные труды?
Нет: там, где свет алтарный
сиять бы мог, мерцал
палящий день кустарный,
закованный в металл.
Колючей проволокой обнесен пустырь,
сквозь дрёму гоготнут над анекдотом
старшины, караульный-нетопырь
исходит потом
и несколько зевак глазеют — кто там
ведет троих? куда? не к тем ли трем столбам?
привязывает, вишь, и тычет по зубам…
Величие и низость, эта вся
жизнь, весящая столько, сколько весит, —
в чужих руках. Надеяться нельзя
на помощь. Да никто ведь и не грезит.
Враг будет издеваться сколько влезет.
Приняв всё худшее: бесчестье и позор, —
они до смерти превратятся в сор.
Взглянула: мощь атлетов,
изящество ли жен,
когда пыльцой букетов
их танец опушён?
Играй, танцуй на воле!..
Нет: ни души кругом,
ни звуков флейты. Поле
убито сорняком.
Оборванный какой-то бродит отрок
с рогаткой, экзекутор местных птах.
На каждую юницу — хищный окрик
и страшная работа впопыхах.
Сей отрок и не слышал о мирах,
где не насилуют или где плачут над
отчаявшимся, потому что — брат.
Умелец тонкогубый,
уковылял Гефест,
и, чуя, что безлюбый,
крушивший все окрест,
Ахилл жестоковыйный
пойдет опять крушить,
рыдает мать о сыне,
которому не жить.
1952
Песня
Так велико это утро, так пролито на
зелень округи, так плавно легла
ранняя на холмы тишина,
что не смущает её и строптивость крыла,
в озере подгоняющая двойника, —
и, зародившись у самой воды,
ветер возносит под облака
стаю непререкаемой красоты.
Песней, вернув белизне
первоначальность, бессмертие обрести…
Если бы! Свет над долиной горит
неодолимо, и слово на ветер летит,
и обрывается вовсе, и не
хочет, едва вознесенное, расцвести.
1956
Алёша Прокопьев
Георг Тракль: Переводы и комментарии
Из книги «Стихотворения» (1913)
Вернувшись к стихам Георга Тракля после более чем двадцатилетнего перерыва (в 1993 г. в издательстве Carte Blanche в Москве вышла его маленькая книжка), пересматриваю переводы в сторону большей, насколько это возможно, точности в передаче образов и живописных пятен, которые, выполняют функцию не столько цветовых эпитетов, сколько маркеров трансгрессии. Вот, наконец, дописал первое стихотворение его прижизненного сборника.
Вороны
В полдень шныряют над чёрной глушью
Вороны — крик их гортанный в аду.
Тенью скользя над косулей — в виду
Сядут, галдя, и близко к удушью.
О как они борются с бурым молчаньем,
Которым нива упоена,
Как дурными предчувствиями жена,
И слышно, как ссорятся, вечным ворчаньем
Над падалью, сладким кусочком счастья,
И вдруг на север ложится их путь
Похоронной процессией, тая как жуть
В ветре, дрожащем от сладострастья.
С четвёртого стихотворения сборника 1913 г. начинается «настоящий» Тракль, где «монтаж» (резкая смена планов) сочетается с «серафическим тоном» (против которого в 50-е будет высказываться Готфрид Бенн), цветовыми эпитетами в роли абсолютных метафор (что опять-таки раздражало Бенна, для 50-х это был уже дикий анахронизм, ну и, как Тракль, этого никто делать не умел) и с неаппетитными подробностями, написанными однако с такой метафизической глубиной («зелёные ямы гниенья»), что она затмевает предмет высказывания. Важно, что появляется сестра-возлюбленная («малышка»), теперь её присутствие будет ощущаться постоянно. Звук, запах, цвет, мелодический рисунок, просодия, — горючая смесь, по которой авторство распознаётся немедленно…
Где красная литва, взметая…
Где красная листва, взметая
Девичью прядь, в гитарных волнах
Плывёт и тонет, — жёлт подсолнух.
За тучкой — тачка золотая.
В покойной бурой тени глухи
Старухи, их объятья кротки.
Взывают к Весперу сиротки.
Жужжат в исчадье жёлтом мухи.
У прачек в стирке передышка.
Как вздулась простыня, крылата!
Сквозь страшные лучи заката
Опять прошла моя малышка.
А воробьи свалились с неба
В зелёные — гниенья — ямы.
Голодный в грёзах видит прямо,
Как пряно пахнет корка хлеба.
В пятом стихотворении сборника 1913 г. появляется der Fremdling (Пришлец, или Странник), причём не сразу, а только во второй редакции — в первой заключительная строфа звучала иначе. В стихотворении «Молодая служанка» отражение уже глядело из зеркала на героиню fremd (странно, отчуждённо). И теперь Странник будет проходить по страницам книги, изредка превращаясь в абстрактное существительное ein Fremdes, как в стихотворении «Весна души», которое разбирает Хайдеггер в одном из двух своих эссе о Тракле («Душа на земле — Постороннее»). Я, видимо, остановлюсь на словах Странник — странно — Постороннее, как уже решил более двадцати лет назад, иначе не получится провести сквозной корне-слово-образ.
Музыка в Мирабеле
Родник взял ноту. Облака
В лазури ясной — белоснежны.
Безмолвные, в руке — рука,
В саду гуляют пары нежно.
Седой кладбищенский гранит
И птичий клин хитросплетений.
И фавн мертво туда глядит,
Где в тьму переползают тени,
И — красно — с дерева, падуч,
Летуч, в окно вдруг лист влетает.
И огненный в пространствах луч,
Рисуя призрак страха, тает.
И белый Странник входит в дом.
Собака бросилась с лежанки.
Ночной сонаты метроном.
Лицо задувшей свет служанки.
В шестом стихотворении единственной прижизненной книги Тракля (1913 г.) происходит интенсивная игра звука — с цветом и светом (мраком), живого (животного, природного) с неживым (мёртвым человеческим; кладбище). В третьем четверостишии масштабная смена плана — сначала вид сверху, затем — сразу же снизу. Чтобы в последней качался камыш. Как в кино. (Без шуток, по этому стихотворению можно сделать неплохой артхаузный фильм).
Меланхолия вечера
— Лес умер, где его границы? —
И тени вкруг, как загородки.
Ручей чуть слышно бьётся, кроткий,
И птица из укрытья мчится,
Где папортник, надгробный камень,
Венки, — плеск серебра и блески.
И скоро — в чёрных безднах всплески.
— Там звезд, наверно, бьётся пламень? —
Равнина сверху — безразмерна,
Болото, луг, деревни, кочки.
Блуждающие огонёчки.
Холодный блеск — скупой, неверный.
Всё небо в заревах проплешин,
Взмывают птичьи караваны
В другие, царственные, страны.
Камыш, как пьяный, безутешен.
В седьмом стихотворении интенсивность звучания стиха добирается до инфернальных высот (или глубин, кому как). Достигает этого Тракль сочетанием 4-стопного хорея с опоясывающей рифмовкой, монотонно повторяющейся из строфы в строфу. В переводе удалось сохранить только опоясывающий монорим.
Однако сохранять все красоты техники в задачу и не входило. Тем более что несовпадающая схема рифмовки заменяется ассонанасами в этих же местах на «а» и усиливается огласовками «ал — ол» по принципу дополнительности (можно ещё проследить за слогом «пал-пол»), а также вниманием к цвету — у меня чёрный и алый (именно алый, чтобы в абсолютной метафоре участвовал и звук), — и тогда необходимый эффект, как мне кажется, всё-таки производится. Стоит отметить также третье уже появление «простыни» в сборнике (в «Молодой служанке» просле простыни облаков — чёрными простынями был укрыт лес, в другом стихотворении простыня тревожно «вздувается» у прачек на пруду; теперь «запачканные кровью простыни вздуваются»).
Ничего не изменил. Как было переведено больше 20 лет назад, так и осталось.
Зимние сумерки
Максу фон Эстерле
Неба чёрного металл.
Алый шквал прошёл над парком
И ворон с их диким карком
По аллеям разметал.
Луч застыл — и вдруг пропал.
Сделав круг, упали рядом,
Сатаной гонимы, адом,
Семь голодных прилипал.
Рылись в мусоре, взлетал
Клюв над тихой перепалкой.
Жутко, сладостно и жалко
Блещет, зол, театра зал!
Церковь, мост, больница. Пал
Полумрак на дно канавы.
Вздулись простыни, кровавы:
Парус. Алый шквал. Канал.
9-е стихотворение сборника 1913 г.
Поработал над цветовыми эпитетами — абсолютными метафорами, проводниками и указателями сложных чувств. Главные изменения произошли в трёх последних строчках, не «красные листья», а ближе к оригиналу — листья «красно» струятся вниз, например.
Женское счастье
Шествуешь среди подруг,
Улыбаясь, как на плахе:
Дни с собой приносят страхи.
Выцвел мак — и бел от мук.
Плоть твоя, твоя краса,
Виноград налился соком.
Пруд косит зеркальным оком.
Принялась косить коса.
Но роса сбивает жар.
Листья вниз струятся красно.
Мавр к тебе льнёт — грубо, страстно,
Бурый траурный муар.
В одиннадцатом стихотворении (название которого можно было бы, отталкиваясь от смысла слова «покинуть», перевести как «В комнате, где никого нет»), видение изменённого сознания характеризуется внутренним ощущением «перехода», растекания, отсутствия границ, не-соразмерности, которое уже было нащупано в «Меланхолии вечера», золотой лес «течёт», и у него снова нет границ. Звук, активно «работавший» в первой и второй строфах (орган, комариная туча, косы, древний источник), на третьей словно обрывается, чтобы уже больше не появляться. Риторический вопрос «чьё дыханье пришло ласкать меня?») звучит (не звучит! не раздаётся! приходит, является) в полной тишине. Ласточки чертят знаки, начертание знаков — вот выражение немоты! И тени на обоях, начавшие плясать вместе со звуками органа, теперь пляшут беззвучно. И кто-то стоит в дверях и смотрит. И совершенно непонятно в концовке, чей это горячий лоб клонится к белым звёздам. Такое ощущение, что субъект стихотворения смотрит сам на себя. И крутится плёнка.
В покинутой комнате
Цветники живых видений
Льёт и льёт орган в окно.
На обоях пляшут тени,
Сумасшедшее рядно.
Куст, охваченный пожаром.
Комариных стаи туч.
Звон косы — в сверканье яром,
И поёт старинный ключ.
Кто в лицо мне дышит нежно?
Нечет ласточек и чёт.
Золотой страной безбрежно
И бесшумно лес течёт.
В цветниках — огонь видений,
Сумасшедшее рядно —
На обоях жёлтых тени.
Кто там в дверь глядит, в окно?
Ладан пахнет грушей вялой,
Ночь на стёклах — тёмный гроб.
К белым звёздам запоздало
Клонится горячий лоб.
Двенадцатое стихотворение сборника 1913 г. — первое, написанное без рифм и нерегулярным метром. Это позволяет Траклю добиться множества новых эффектов; к примеру, сочетания длинных и коротких строчек ведёт к возникновению пустот (пауз), не менее важных, чем звучание стиха. (Одним из первых обратил внимание на этот приём у Тракля — Рильке).
Элис — помимо всего множества гипотез, опубликованных во множестве — для меня просто синкретический образ (один из многих у Тракля), вбирающий в себя (как и Helian в дальнейшем — от Helianthus, подсолнечник) — солнце (пора закатиться), «солнечного отрока»= сестру (так он называет её в другом стихотворении), подсолнечник (из того же Ван-Гога), странствующую душу, и объект перверсии, который он рассматривает «по ту сторону», в траклевском зазеркалье — там, где жизнь продолжается после смерти.
Самое мощное воздействие оказывает здесь на меня грандиозная картина, когда антропоморфизированное (закатившееся, умершее) солнце «тихими шагами» входит в ночь, а всё, что следует за этим, — невероятная живопись словами.
Мальчику Элису
Элис, в чёрном лесу тебя уже кличет дрозд —
Это значит, пора закатиться.
Синий холод ключа, бьющего из скалы, пьют твои губы.
Бог с ним, пусть бы чело твоё кровоточило
Соком древних легенд,
Тёмным смыслом в полете птиц.
Но так мягко ты входишь в ночь,
Что она распустилась багровыми гроздьями.
А движения рук твоих даже прекраснее в синеве.
И терновник шумит —
Ветер занёс туда лунные очи.
Как давно уже умер ты, Элис!
Плоть твоя — гиацинт, и в него
Погружает монах восковые пальцы.
Наше молчанье похоже на чёрный зев,
Из которого изредка нежный выходит зверь,
Опускающий медленно сонные веки.
На виски твои падают капли чёрной росы —
Звёзд подгнивших лежалое золото.
Проза
Виктор Коваль
Не тот Валерий
Стружки небесные
Купил десять сирийских карандашей 3В. По нашему — 3М. Золотом по синему фону латинские буквы: «Syria». Десять копеек каждый. Мне нужны или очень мягкие, или очень твердые. Я не максималист, специфика такая. Очень мягких у нас нет, 6В не достать. Только, если кто куда поедет. Но никто, как говорится, не обязан. У каждого свои недостатки. А тут — 3В, не ахти какая мягкость, но, если «Сирия», то значит не «Сакко и Ванцетти», должны быть получше, помягче.
Так думаю и чиню.
Чиню.
Древесина розовая, пахнет приятно, должна как по маслу. Нет, крошится. Крошится, как хлеб, а потом вдруг каменеет. Наконец, вроде, очинил — кривой такой, неотесанный конус получился, и из него кусок грифеля выпал, как мышкин кал. Чиню дальше, думаю, дальше будет лучше, нет, и там выпал. Чиню еще дальше, думаю, что этот сирийский карандаш был ощупан при таможенном досмотре на турецко-советской границе и от этого у него в двух местах грифель преломился, нет, черт подери, теперь в трех, оказывается. Думаю, Сирия, деревяшка поганая. А какая еще там может быть деревяшка в пустыне-то? Только саксаул. Зачем же я его тут, в умеренной полосе, строгаю?
Думаю, нет, это ливанский кедр, там президент христианин. Чиню его дальше, а он уже до надписи «Сирия» укоротился, едва в руке помещается, думаю, не может быть, чтобы он весь состоял из кусочков на выброс, президент не позволит, Дамаск не допустит. Нет, сволочь, опять допустил. Ну и катись он к черту, швырнул карандаш.
Думаю, так нельзя. Это ведь проверка на вшивость, очинка такая. Мне чинятся обыкновенные житейские препятствия в виде этих басурманских карандашей, и я должен их очинить, то есть преодолеть своим трудом, терпением и остро наточенным скальпелем. А? Острым ли? Пробую скальпель. Туп.
Значит, вот брусочек, плюнь и круговыми движениями вжиг-вжиг — так думаю и скальпель правлю. Главное, нервы при себе держать. Тьфу. Вжиг-вжиг. Тьфу, вжиг-вжиг. Беру другой карандаш, чиню и думаю.
Думаю.
Вот он уже другой, а такой же, как первый. Трудно строгаемый. Вот и грифель выпал, здрасьте. Спокойно. Выпал, туда ему и дорога. Кому он нужен, такой дискретный? Чиню дальше, думаю, вот сейчас появится новый грифелек и выпадет. Вот он уже появился и не выпадает. Что это с ним? Что это он себе думает? А сам думаю: держись, браток, не шатайся, еще немного осталось, крепись. Нет. Выпал. Ну что ж, не беда, чиню дальше, думаю: тяжелые испытания для того и существуют, чтобы не замечать легких и относиться к тяжелейшим, как к легким. Тяжело в бою, зато учения воспринимаются как отдых. Опять выпал. Думаю, стоп! — не надо думать. В том-то вся и беда, что я слишком крепко думаю и держу карандаш также крепко — вон пальцы даже побелели и ногти в ладонь вонзились, и лицо, чувствую, окаменело — со сведенными бровями и прикушенной губой. Надо расслабиться, снять окаменелость и не думать, что вот я чиню уже третий карандаш и должен сохранять при этом неискреннее спокойствие. Отсюда и судорожная хватка, и давление на карандаш, и грифелёчки эти выпадающие, и синие стружки по всему столу. Сгребаю стружки со стола в одно место. Так, правильно. Ссыпаю их в большую пепельницу. Теперь только туда, и не думать. Беру четвертый карандаш — с третьим явно новую жизнь уже не начнешь –продолжаю чинить, но иначе — механически, как бы между делом, не думая.
Не думаю.
Не думаю.
Не думаю.
Индия обвинила Пакистан. Ничего, так можно. Пакистан разрабатывает ядерное оружие. Вот, вот, очень хорошо. Плюс доля взаимной подозрительности. Понятно, а сикхи? Сидят в золотом храме — до зубов. Беру пятый, первые монастыри появились в Египте. Не нравится мне этот район. Без малых радостей жизни легко любить бога. Любить бога тяжело. Меняют одни тяготы на другие. Предвзятые представления. Бенедиктинцы и кармелиты. Веселые женщины. Монастыри не благотворительная организация. Они должны сами себя. Тракторы. Выпечка хлеба. Продажа свечей. Несложная работа, чтобы во время молитвы голова была свободна. Монахи молятся за весь мир. А вот Афон. Седьмой пошел. Десять веков не ступала нога дамы, кошки, курицы. Захотел увидеть чуждый мир — две мухи в фасолевом супе. Гигиенический и физиологический уровень ужасный. Кожа воспалилась, лоб пошел волдырями. Мне они не нужны, они не мои друзья. Иногда следует делать то, что тебе не нравится. Надо уметь ходить с другими. Восьмой готов. У него нет выбора, если бог хочет, чтобы он пошел в монастырь. Если бог захочет, то и веник выстрелит. Закурил — запахло воском. Нет, неврастеники им не нужны. Хотят, чтобы туда шли лучшие. Восьмой дошел до половины. Период послушания 5—10 лет. По выбору, а не по слабости. Предполагает крайнюю концентрацию эго. Эго в монастыре должно быть размагничено. Ты молишься не за себя, за весь мир. А вот и десятый. Не унижайся до ненависти к ним. Поддержать бастующих мусорщиков. Зарезали белого аспиранта и задавили негра велосипедом. 99 лет тюрьмы. Бросают крошки голодным в Эфиопии и птицам повсюду. Едва достал до полицейского на красивой лошади в яблоках и нажал. Думать можно, выдумывать грешно. Сибирь — источник корейского шаманизма. Красноярска тогда не было. Церемония бракосочетания между духами умерших, сбитых в южно-корейском боинге. Ну, готово. Все десять.
Слава богу, все десять сирийских карандашей преодолены, и оструганы до упора — до золотой по синему надписи «Sirius». Как? Была же «Syria». Нет, «Сириус». Все десять — «Сириусов». Выходит, что я обманулся, предположив лучшее. «Сириус» — это никакая не Сирия, а родная «Сакко и Ванцетти». Думаю, экспортный вариант, может быть, для той же Сирии, или Никарагуа, партия только явно бракованная. Для внутреннего пользования. А я-то всю дорогу на Сирию грешил. Тьфу!
От громко выдохнутого «Тьфу!» стружки десяти «Сириусов» вылетели из пепельницы и, повиснув в воздухе неизвестно на какую долю секунды, остались там висеть в неведении до сих пор.
Взгляд на очки
Что такое очки? На мой субъективный взгляд — некое подобие намордника. Так я подумал об очках, сразу после того, как окулист приговорил меня к их пожизненному ношению.
Позже я заметил, что очки не в последнюю очередь нужны
а) чтобы поправлять их на носу всякий раз, когда мысль носителя очков вдруг куда-то от него улетучивается, а он желает вернуть ее на место. Тут можно обойтись и без рук: достаточно легкого кивка снизу вверх;
б) чтобы сосредоточенно вдавливать их перемычку (седелку) пальцем в переносицу, не дозволяя таким образом фонтанирующей мысли растекаться по древу. Кстати, сначала я думал, что это стихотворение перевел Маршак;
в) чтобы тщательно протирать их линзы, даже тогда, когда они абсолютно чисты. Это занятие отвлекает носителя очков от иных действий, многие из которых, возможно, окажутся для него нежелательными. Какие именно? Об этом стоит задуматься, вдавливая седелку очков в переносицу.
Очки разделяют человечество на близоруких и дальнозорких. И тем, и другим очки нужны также для того, чтобы ковырять их дужками в ухе, — привычка, может быть дурная и не массовая, но не будь ее, Маяковский никогда бы не сказал устами Керенского в своей знаменитой поэме «Хорошо»: «Не слышу без очков».
Я и раньше, глядя со стороны, воспринимал очки (так же как и часы) в качестве некоего актерского атрибута, постоянно требующего от его обладателя совместного с ним игрового общения. Классический случай такого общения — игра в прятки между «бедной старушкой» и ее очками, затаившимися у нее на лбу, из стихотворения Ю. Тувима (в переводе С. Михалкова, а не С. Маршака).
Об очках часто говорят иносказательно: они и «велосипед», и «блюдечки», а их носитель — «четырехглазый». Сделавшись недавно четырехглазым, я, конечно, воспринимаю очки уже иначе, по-свойски, но все равно не могу смириться с тем, что на моей физиономии закрепился какой-то оптический прибор — пусть даже для моего же блага.
Некоторые очки (солнцезащитные в первую очередь) используются очкариками в качестве маски, скрывающей от посторонних глаз фингалы под их глазами или хмельное помутнение в глазах.
Увы, об очках надо постоянно думать, вовремя их надевать и снимать, укладывая их сначала в футляр, а не сразу в карман, где они могут поцарапаться о расческу или авторучку. Напоминаю, что в обязательном порядке снимать очки надо перед дракой, а перед поцелуем, даже самым страстным, как показывает телевизор, их можно оставлять надетыми. Мыться под душем в них нельзя, но лежать в них в ванной допускается. Не рекомендуется лежать в них на массажной тахте. Никогда не забуду, как одного такого умника застрелили в «Крестном отце» — прямо в левую линзу его очков.
Используют очки и фотографы — для оживления позирующего лица. Лицу предлагается надеть очки на кончик носа и глядеть поверх очков с «нестандартным выражением глаз». Такие фотопортреты (авторов) предваряют многие их журнальные и газетные публикации. Пробовали в таком виде фотографировать и меня. Взгляд получался затравленным — из-за очков, конечно.
Когда я вынимаю из кармана носовой платок, очки вываливаются на пол. И даже если я случайно раздавлю их ботинком, то вместо них вскоре неизбежно появятся такие же. Ясно, что очки — это очередная, но уже на всю жизнь обуза (не скажу — угроза) моему существованию.
Согласен, что без очков мировая историко-культурная портретная галерея выглядела бы иначе, может быть, хуже. Представьте: Грибоедов, Анжела Дэвис, Гарри Трумэн, Гарри Поттер, моя бабушка Анна Петровна (она видела генерала Брусилова), Джон Леннон — и без очков?! Известно, что и Пушкин лорнировал, и Онегин лорнировал. А как вам без пенсне Чехов, Берия и Коровьев — без треснувшего?
Справедливо и обратное: Гомера в очках вы представляете? Или меня — до недавнего времени?
— Все дело привычки, — убеждали меня мои «четырехглазые со стажем» друзья, не разделяя моих переживаний насчет очков: — Отнесись к ним как к украшению. В очках ты симпатичнее!
Я решил проверить — действительно ли? Встал перед зеркалом, в некотором от него удалении, и что я увидел? Расплывчатую фигуру со смазанным лицом и с едва заметными очками. «Для чтения! — вспомнил я слова окулиста, — а не для глядения вдаль!»
Да. Для дали должны быть другие очки. А для телевизора — третьи. Знаю, что этимологически «телевизор» — это и есть «дальнозоркий».
Тут (заметьте, что я сосредоточенно вдавливаю седелку в переносицу) мне вспоминается эпизод из недавнего прошлого. Пришел я на «автопилоте» с какой-то вечеринки домой, включил свет, а вокруг — мрак! — только не абсолютный, потому что лампа все-таки кое-как светила, но — каким-то тусклым, потусторонним светом, и силуэты все-таки какие-то проглядывались, но — чуждой мне обстановки.
Хорошо, что я, шаря по столу, наткнулся на недоеденный мной арбуз с ложкой внутри. Это был знак моего бесспорного тут проживания.
Добрел я на ощупь к дивану, рухнул лицом вниз на подушку и сразу же понял причину своей слепоты: черные очки!
Когда я их надел — не помню. Наверное, поэтому и забыл их снять. Снял — боже мой! — подумал я, оглядываясь вокруг, — какая красота! Конечно, ничего нового рядом с собой я не обнаружил. Лампа, диван… Просто раньше эту красоту я не воспринимал в силу ее очевидной обыденности. А тут вдруг — воспринял и прочувствовал! Подчеркиваю — благодаря очкам!
Вот такой у меня взгляд на очки, в целом — объективный.
Экзотика общения
Разговор был такой: один собеседник утверждал, что в нашем повседневном общении на улице, дома и на работе есть своеобразная экзотика, а другой ему возражал, что никакой экзотики нет, но есть неустроенность и глупость и что он в гробу видал такую экзотику. «Значит, таковая все-таки существует!» — поймал его на слове первый, а я задумался о некоторых частностях обыденной жизни.
Вот еду я в электричке, читаю книгу. Рядом сидит старичок, заглядывает мне через плечо. «Читаете, да?» — спрашивает он так, будто не видит, чем я занят, и не знает, как это называется. — «Читаю». Едем дальше. Старичок снова обращается ко мне: «А чего читаете — сами-то хоть понимаете?»
Ну, хочется человеку выговориться, и не всегда ему известно, как это сделать правильно. Сужу по себе. Как-то по пути в Восточный еще Берлин вышел я в польском городе Познань на перрон. Погода пасмурная, вокруг ни одного поляка. А ведь мне так хотелось поговорить по-польски. Вижу, идет железнодорожник с белым орлом на фуражке. Я у него спрашиваю как можно более приветливо и радушно: «Цо так хмарно в Познаню?» — «К сожалению, я по-русски не разговариваю», — ответил он мне без улыбки.
Печально, что иной раз общение, желаемое для одних, оказывается нежелательным для других. Расцвет нежелательного, но вынужденного для всех общения относится к периоду антиалкогольной компании.
Помню, отстоял я в «Новоарбатском» за бутылкой два часа. И вот, радостный, сбегаю с Нового Арбата на Старый — по лестничке с железными перилами и — о, ужас! — задеваю об эти перила пакетом с бутылкой. Неужели треснула? Вынул я бутылку, а она своей нижней частью обрушилась мне на пальто. Сразу же собрался народ. Нет, не с сочувствием, но с матерной укоризной. Ведь я, допустив преступную небрежность, фактически надругался над продуктом, из-за которого люди до смерти давятся в очередях! Таким я, наверное, выглядел жалким и униженным, что один мужик, самый возмущенный, вдруг сказал: «Ладно! Ты особенно-то не убивайся. Хочешь, я свою долбану?» Достал свою бутылку, замахнулся. Было видно, что такой — сейчас долбанет. Об те же вредоносные перила. Странно: подарить мне бутылку взамен разбитой — слабо, а вот разбить свою, чтобы мне не было так обидно, — пожалуйста. Какая-то не та гуманность — ритуальная.
Сожалею, что тогда мы его удержали, отговорили. Долбанул бы — хорошая к рассказу получилась концовка.
Зелёные горы, белая панамка
Вспоминаю лето, проведенное мной на Зелёных горах, у двоюродной тетки Елизаветы. Может быть, она ничего такого и не говорила про лес, просто сказала: — Зелёные горы, — а мы подумали: — поросшие лесом.
— У нас, на Варшавском шоссе, — говорила Елизавета моим родителям, — такая же дача, как и где-нибудь в Загорянке — простор, природа, птицы поют. Пусть Виктор поживет у меня месяц-другой, а я уж за ним присмотрю — будьте уверены.
Неважно, что хвалёный лес оказался редкой берёзовой рощей, дом 10 по улице Зелёные горы — бараком, а пели тут в основном электрички подольского направления. Главное — рядом с домом располагалась большая поляна с самодельными футбольными воротами (на одних воротах даже была натянута сетка — рыболовная, за неимением настоящей).
К поляне примыкала гуталинная фабрика, куда местные пацаны лазили тырить гуталин, уже расфасованный в круглых железных баночках, похожих на хоккейные шайбы и годных для игры в хоккей. Но тема моего рассказа — футбол.
В футболе, как и во всякой другой игре, многое делать запрещается — согласно условиям игры. Мне, например, запрещалось (тёткой Елизаветой) играть в футбол без постылой панамки — во избежание солнечного удара.
Целое лето я играл в панамке, но однажды мне пришлось её снять и спрятать. Случилось это, когда взрослые ребята вдруг пригласили меня сыграть за их команду. Неловко мне было в такой «девчачьей» панамке позориться перед взрослыми.
У них тогда не хватило одного игрока до комплекта, да и в воротах стоять никому из них не хотелось. Вот и поставили они меня вратарём — всё лучше, чем пустое место.
А в нападении у противника играл Гусь — дылда в настоящих футбольных гетрах со щитками, хотя в таких щитках нуждался, конечно, не он, а все те, против кого он играл.
Вспоминаю, прорвавшись сквозь нашу защиту, прокинул Гусь себе на ход и понесётся вперёд, как лось. Вот я и бросился ему не в мяч, а в ноги, резко всем корпусом — прямо под удар, чтоб он рухнул. И дальше не двигался.
Чувствую, Гусь действительно рухнул, слышу, крикнул он, что у него что-то вывихнулось, думаю: «Вот и щитки тебе не помогли…»
Потом меня, также как и Гуся, унесли с поля. Нет, не на носилках, а просто оттащили к стене гуталинной фабрики. Правильно говорила Елизавета: «Снимешь панамку — удар получишь!»
Рёбра у меня оказались всего лишь крепко ушибленными, а большой палец на ноге только треснул. И всё остальное — слава Богу, особенно не поломалось. Стыдно мне было потом возвращаться на эту поляну. Мало того, что я от неумения сыграл непозволительно грязно, но ещё — каким-то для себя бездарно жертвенным образом!
Через год я снова пришёл на поляну на Зелёных горах. Думал, всё позабылось.
— Нет, — сказали пацаны с уважением, — мы о тебе помним, — если это действительно был ты, кто тогда в белой панамке Гуся завалил!
Далась им эта панамка!
Странное сочетание
Этот рыжий кот кормился при столовке школы №1411 с английским уклоном. По пути к метро «Отрадное» я замечал его спящим возле дверей школы или крадущимся вдоль ее железной ограды. Однажды я увидел его висящим на дереве.
Помню, тогда я торопился на встречу с незнакомым мне Валерием Валентиновичем. Валерий Валентинович (по описанию — немолодой человек среднего роста в велюровой шляпе и кожаном пальто) ожидал меня на станции «Домодедовская» для передачи ему некой посылочки.
Вокруг дерева с котом стояла толпа. Рядом с котом на ветках сидели вороны. Нет, кота никто не повесил. Наверное, он так разжирел от школьных котлет, что сам застрял в развилке между ветвей. Отчаявшись выбраться оттуда, кот, живой и невредимый, но плененный, спокойно дремал, поглядывая вокруг одним полуприкрытым глазом, как будто бы он по-прежнему лежал у дверей своей школы.
Вороны же были явно возбуждены. Их карканье публика комментировала по-разному:
— Это они так приглашают к столу. Мол, друзья, кушать подано!
— Нет, это они так насмехаются над котом: дескать, гонял ты нас почем зря, а теперь висишь, как мешок с говном.
— Нет, это они кричат: «Люди, помогите животному, оно же страдает!»
Я решил, что мне пора сделать сегодня доброе дело. Положил я посылочку туда, где почище, да и полез на дерево.
Мое появление кот встретил враждебно. Он зашипел, ощерился. Когда я попытался вытащить его из развилки, он чуть было не полоснул мне по щеке своей веснушчатой лапой. Я увернулся. Его задние конечности работали, как у львицы из «Мира животных», когда та, по телевизору, раздирала ими живот у зебры.
Хуже — вороны. Они взлетели и затем дружно спикировли на меня, целя в глаз. От таких не увернешься — сидя-то на дереве. При этом вороны издавали истошные «карки», но уже другой тональности. Публика их понимала так:
— Уйди! Это наша закуска!
— Уйди! Здесь хозяева — мы!
— Уйди! Не мучай животное!
«Вот твари, — думал я, торопливо слезая с дерева, — не ведают, что творят!». Наверное, доброе дело сегодня само не захотело сделаться.
Конечно, на встречу с Валерием Валентиновичем в метро «Домодедовская» я опоздал. Да и нашел я его не сразу, потому что велюровым оказалось пальто, а не шляпа. Нам обоим было жутко обидно, что из-за сумбурности происходящего посылочка так и осталась лежать у дерева с котом. Мою оправдательную историю с подробностями насчет ворон Валерий Валентинович слушать не стал — заканчивалась регистрация на его самолет в Волгоград. Больше с ним я не встречался. А кота я увидел в тот же вечер — крадущимся вдоль школьной ограды.
Мораль такая: когда делаешь одно доброе дело, не отвлекайся на иные, как тебе кажется, добрые дела — не заставляй Валерия Валентиновича напрасно ждать. Странное, однако, сочетание– кожаная шляпа и велюровое пальто. Должно быть наоборот.
Да и Валерий Валентинович — звучит как-то не так. Хотя наоборот — еще хуже.
Собеседники у «Льдинки»
Есть люди, которые любят разговаривать сами с собой, например — мастер Юра, этим летом неспешно ремонтировавший мою ванную.
Бывало, из-за приоткрытой двери до меня доносился его уверенный голос: «Отлично! Мы сделали это!» Но ему возражал другой его голос, сомневающийся: «Сделать-то сделали, а как заделывать будем?»
Насчет своих разговоров с самим собой Юра спросил у меня: «Думаете, это какое-нибудь отклонение?» Я его успокоил: — Всё в порядке, со мной тоже иной раз происходит что-то в этом духе, особенно, когда я занимаюсь сочинительством. Увы, литературные занятия неизбежно связаны с внутренним разговором, который, естественно, иногда прорывается наружу.
Однажды я сочинил сложное по ритму стихотворение — с репликами на разные голоса и притоптыванием — для того, чтобы не выбиться из ритма. Нужные интонации и слова сочинялись в процессе репетиций, когда, разумеется, у меня дома никого, кроме меня, не было. Но была тетя Тоня, соседка снизу. Сначала она раздраженно стучала ложкой по трубе парового отопления, а потом вызвала милицию. «У вас тут что? — все перепились и передрались? — спросили менты за дверью.
«Это значит, — сказал я в заключение мастеру Юре, — что наши с вами разговоры с самим собой вызваны профессиональной деятельностью, а не отклонением!»
Другое дело — «наш Вова», человек хороший, но с очевидным психическим изъяном. Не занятый какой-либо профессиональной деятельностью, он целыми днями разговаривал сам с собой, стоя на улице Бестужевых возле магазина «Льдинка» — вполголоса и подолгу задумываясь над сказанным.
Сюда специально для общения с Вовой приезжал Игорь, подобно Вове также обреченный на говорение с самим собой. В отличие от нашего Вовы залетный Игорь был говоруном истерического типа. Любые слова в его исполнении звучали как ругань; замолкнув, он продолжал угрожающе жестикулировать.
Не знаю, можно ли их общение назвать разговором, если и тот, и другой были самодостаточными собеседниками. В случае плохой погоды они заходили внутрь «Льдинки» и продолжали беседовать там.
Конечно, Вова мог разговаривать и с нормальными людьми, например, со мной. «Как дела?» — спрашивал Вова. Я всегда отвечал ему коротко: «Все в порядке!», но однажды ответил распространенно: «Все в порядке, Ворошилов на лошадке!» Вове очень понравилось сказанное. Он пообещал запомнить эту поговорку и отвечать всем именно так.
Через несколько дней на мой проверочный вопрос: «Как дела?» Вова ответил: «Все в порядке!» «А Ворошилов? Где Ворошилов?!» — спросил я. Боже мой, какая мука изобразилась на его бесстрастном лице! Как трудно он вспоминал и, наконец, с какой радостью вспомнил: «Ворошилов — на коне!»
Правильная с точки зрения рифмы, но инфантильная лошадка, уступила место ошибочному, но монументальному коню — для пущего пафоса и оптимизма. Эту поправку я принял к сведению и теперь на вопрос моих друзей и знакомых «как дела?» отвечаю именно так, как научил меня Вова: — Всё в порядке! Ворошилов — на коне!
И затем рассказываю всем про Вову, который любит говорить сам с собой возле «Льдинки» и про его товарища Игоря, и про первоначальную лошадку, фольклорную. Вне этого контекста «Ворошилов на коне» выглядит не вполне убедительно. Вместо него может быть и Македонский, как персонаж наиболее подходящий для самоободрения.
Забавно, что некоторые мои собеседники воспринимали Ворошилова исключительно как ведущего телевизионной программы «Что, где, когда?» — потому что там тоже какая-то лошадь ржет, когда рулетка начинает крутиться.
О травматической погоде
Васька да Венька пришли — с приобретением. Новости: ногу на днях Вениамин поломал, поскользнувшись на нашей дорожке к универсаму «Седьмой континент» (Декабристов, 15). Все мы на этой дорожке скользили и падали, но без увечий. Мне не повезло, потому что я разучился правильно ходить.
— Передвигался — только на автомобиле, — сказал Вениамин. Вот он, в своём автомобиле, по травматической погоде и разбился — на пересечении Севастопольского проспекта с Волгоградским. «Жигули» — всмятку, а у Вениамина — ни царапины. Повезло.
— А не повезло, повторяю, — сказал Вениамин, — позже, когда, собираясь идти к нашему «Седьмому континенту», я забыл перчатки в прихожей, а потом, уже идя по дорожке, засунул замерзшие руки в карманы — накладные, глубокие. Тут-то я и грохнулся. Подумал — руку или затылок. Нет — ногу.
— Уж лучше бы ты эту ногу в автомобиле сломал, — сказала Василиса, — понятное дело — катастрофа. А тут — как-то обидно — на дорожке, как будто ты — новичок в этой жизни. Да. Это — цинизм. Но — напускной! Непонятно, почему эта простая история в твоем пересказе вдруг оказалась такой занудной и запутанной?
— Потому что в ней много такого нужного, которое нам кажется лишним, — сказал я, умник. -Хорошо! — согласился Вениамин (анаграмма слова «внимание»), — выделяю главное: «Как-то в машине разбился я где-то у МКАД. И — не поранился. А по нашей дорожке пошел — в гипсе нога! Всё!
— Ибо руки в карманах держал неразумно, как идиот, — Василиса сказала, царица по-гречески.
— Холодно было рукам, а перчатки дома оставил — ну как не добавить по правде? — Толя сказал, баянист. Толя когда-то в Звёздном служил городке — мастером при испытательных стендах и центрифуге ЦФ-18.
— Эх, помню, как в Звёздном.., — скажет Толя, бывало, да и рванёт на баяне «Брызги шампанского». Или «В парке Чаир», как сейчас попросила Васятка.
— Северный ветер поёт надо мной, — подпеваем. В общем, сидим, обмываем костыль. Смеёмся: — Ну, как не добавить по правде?! А кто побежит?..
Мафиози в Лондоне
В Лондоне меня поселили к сотрудницам Ай-Си-Эй (Института Современного Искусства) — двум девушкам левых убеждений: Маргарет Тэтчер они называли змеёй, а про плохих людей говорили: «эти капиталистические свиньи». Мне они строго сказали: — Оставь это себе! — когда я как благодарный гость (в Москве научили) подарил им баночку с красной икрой, — это же — рыбьи яйца! Как мне показалось — с брезгливостью сказали, в смысле «змеиные». Потом сообразил — вегетарианки. Воинствующие.
Так что, в отличие от некоторых моих коллег, спавших на аристократических перинах, мне пришлось спать на «демократической» раскладушке. И — в районе, имевшем, по словам местных англичан, мафиозную репутацию. Не с простыми бандитами, а с настоящими мафиози — сицилийскими. Их я мог видеть в сицилийском — судя по названию — ресторанчике прямо у дверей моего английского дома. Обыкновенные люди, сидят, тихо разговаривают. Я подумал: ты их не тронешь — и они тебя не тронут.
В день отъезда пришлось мне крепко понервничать. Как обычно: времени в обрез, но молнии на чемодане лопаются именно в это время. Хозяек нет, ушли в Ай-Си-Эй. Прощаясь, сказали: — Запрёшь обе двери, а ключи повесишь в потайное место (показали). Так, а где эти ключи сейчас? И носки! Надо не забыть носки под раскладушкой. Некрасиво получится, если останутся. В общем, обычная предотъездная лихорадка.
Вдруг звонок в дверь — баптисты! Точнее — иеговисты. Пришли с религиозной литературой и с разговорами о Боге. Всё — некстати и не вовремя! — Эти книги пусть останутся у вас, — сказали баптисты, — это наш подарок! Вот обрадовали! Ну, а как к такому подарку отнесутся мои хозяйки — атеистки? Воинствующие! Это же ведь хуже носков. Я им, баптистам, объясняю, что я человек тут случайный, мол, не при ваших делах, живу не здесь, а там — далеко, за многие тысячи километров отсюда! — А какое это имеет значение? — возразили мне баптисты, вполне разумно и доброжелательно. Думаю, что же им такое сказать, чтобы они убрались со своей литературой? Что Бога нет? Нельзя — начнутся разговоры, агитация. Вот я и сказал им, что я — ортодокс, не терпящий никакого сектантства! Что тут началось!.. Конечно, некрасиво получилось, но — результативно.
Хорошо, первая дверь заперлась без труда, но вторая — решетчатая, с двумя запорами — с верхним и нижним — ни в какую. Ну, никак не запирается — ни тут, ни там. И главное — как же я потом эти ключи в потайное место повешу — если меня из своего ресторана мафиози просекают — сидят, развалясь, покуривают, краем глаза наблюдают, как я у двери карячусь.
Наконец, один из них подошёл ко мне: — Дай-ка сюда (give me the kies), — взял у меня ключи, ловко запер ими дверь на оба запора и повесил ключи в потайное место.
Ну, что ты тут скажешь? Не было у меня времени на разговоры — как это всё понимать. -Чао! — сказал — и побежал.
Риск
Угораздило меня как-то оказаться в центре уличных беспорядков в Гетеборге. Сначала эти беспорядки имели характер национальной розни — между шведской молодежью и турецкой, а потом они переросли во всеобщий вандализм: битье витрин, сокрушение торговых точек и т. д.
Мое положение усугублялось тем, что в этой буче я потерял своих соотечественников, точно знающих, как добраться до места нашего проживания (базы). Меня особенно беспокоила судьба осетина Тимура. А вдруг шведские погромщики заподозрят в нем турка? Подозрение — абсурдное и оскорбительное для осетина, но с точки зрения непросвещенного шведа — естественное.
Итак, добираться как-то надо. Но как? Расспрашивать об этом бесноватую толпу и выдавать в себе иностранца равносильно самоубийству. На турка я не похож, но неизвестно, может быть, русский для шведов — хуже турка — по причине всплытия нашей подводной лодки у шведских берегов. Наши говорили, что она — не русская, и вообще — нет такой подлодки. Но вся Швеция на ушах стояла — русские приплыли! Конечно, меня мог выручить полицейский. Так ведь ни одного!
Ну что ж, если нет другого выхода, тогда надо рисковать — обращаться к прохожим. Глядишь, за голландца какого-нибудь и сойду! — у шведов с голландцами вроде бы нет никаких серьезных проблем, таких, как, например, с датчанами и поляками. Датчане — соседи, с ними всегда бывают какие-то свары, а поляки незаконно заселяют Швецию, пересекая на моторках Балтийское море.
Выбрал я мужика вне толпы (он отстал от своей кодлы, ботинок завязывал), спрашиваю, как добраться туда-то и туда-то. А он, оказывается, не ботинок завязывал, а выворачивал из мостовой булыжник, оружие пролетариата. Поднял — швырнул в витрину. Та только треснула, выстояла. Наверное, делают их тут с учетом булыжника.
«А почему ты со мной по-английски говоришь?» — недовольно спросил мужик. «Голландец? Поляк?»
Скажу голландец, а он вдруг со мной по-голландски? Как я ему отвечу? Получается так, что и истина, и обман одинаково чреваты для меня нежелательными последствиями. Но обман к тому же еще и унизителен. Надо сознаваться. «Русский, — говорю я, — рашен». — «Рашен? — крикнул мужик. И еще громче, в сторону своей кодлы: Риск, риск! — так я воспринял сказанное им по-шведски слово «русский».
Подвалила кодла, все — разномастные, в том числе и белокурые бестии, поддатые и свирепые. «Тут мне и крышка», — подумал я ошибочно.
Шведы дружески хлопали меня по плечу, пожимали руку, девушки — обнимали: «Риск, риск!», радуясь моей русскости, как своей собственной. Так оно в действительности и было: «Мы — русские!» — говорили они и затем, перебивая друг друга, попытались растолковать мне некоторые темные для меня места из шведской истории. История сводилась к тому, что они — первоначально русские, а мы — уже потом, но — тоже русские!
Мимо проезжал трамвай. Мы его остановили, встав поперек рельсов. Иных, кроме нас, желающих садиться в такой трамвай не было. Поэтому ехали мы без остановок, точно до нужного мне места, наблюдая из окон городскую панораму. За окнами что-то горело, по-моему, не автомобили. (Это с ними случится потом, в том же Гетеборге, во время выступлений антиглобалистов в знаменитой серии Гетеборг — Прага — Генуя.)
Мои любезные провожатые, «русские шведы», пели песни народов мира, пили пиво из баночек. Разумеется, от угощения я не отказывался. Когда спели «Yellow submarine», мы заговорили о нашей подводной лодке. «Вся эта возня — всего лишь игры милитаристов между собой. Нас с тобой эти игры не колышат», — примерно так сказали мои попутчики. Другие говорили иначе: это — неопозннный летающий, то есть плавающий (swimming) объект! USO! В результате я в таком дружеском сопровождении добрался до нашей базы целым и невредимым.
Тимур сказал, что никаких беспорядков в городе они не заметили. Возможно, из-за того, что ехали в такси с затемненными окнами, дремали. И на мое отсутствие они также не обратили внимания: «Свободный человек — решил погулять в одиночестве».
Переплетённые линии
Приснилось мне, что я оказался в районе сербскохорватских боевых действий, на стороне сербов. Возмущенный идиотизмом братоубийственной войны, я предложил сербам миротворческие услуги. Особая радость сна: чтобы быть понятым, мне не надо говорить по-английски.
— Эскалация боевых действий привела к тому, — говорю я сербам, — что ни одна из воюющих сторон не желает первой идти на мировую. Тупик. Дайте мне депешу, я отнесу её хорватам. В ответ хорваты дадут мне свою депешу — так завяжутся переговоры, а это — первый шаг на пути к миру!
Сербы отнеслись к моим словам с суровым непониманием: какую такую депешу? И что такое есть депеша вообще?
С точки зрения моего сна, депеша — это то, что не требует никаких объяснений.
— Ладно, — сказали сербы, — вот тебе депеша, иди!
Размахивая депешей над головой как белым флагом парламентёра, вышел я из сербских окопов и пошел через поле боя к окопам хорватским.
Не дойдя до них, я был сбит пластунами и отволочен куда-то в таком же пластунском виде. — Это делается для вашей же безопасности, — сказали мне хорваты по-английски. Я вручил им депешу, и они, посовещавшись, решили отправить меня домой через Австрию.
— При чем тут Австрия? Мне нужна ваша депеша для передачи сербам!
— Мы сожалеем (It is a pity), но вы, наверное, не знаете, что содержится в депеше.
— Разумеется, сэр!
Они показали мне депешу. Там было написано: «Подателя сего — расстрелять!»
В этой истории переплелись две кровавые линии: гамлетовская — казнить подателей двух грамот и корлеоневская: — Кто первый предложит мириться с врагом — тот и предатель. Так говорил Крёстный отец в одноимённом фильме. Проснулся в муках: как сказать по-английски «При чем тут Австрия?»
Слова запоздалые
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.