
Бесплатный фрагмент - Старые и новые медиа: формы, подходы, тенденции XXI века
Посвящение
Памяти Анри Суреновича Вартанова,
доктора филологических наук, профессора,
многолетнего заведующего сектором
художественных проблем массмедиа Государственного
института искусствознания
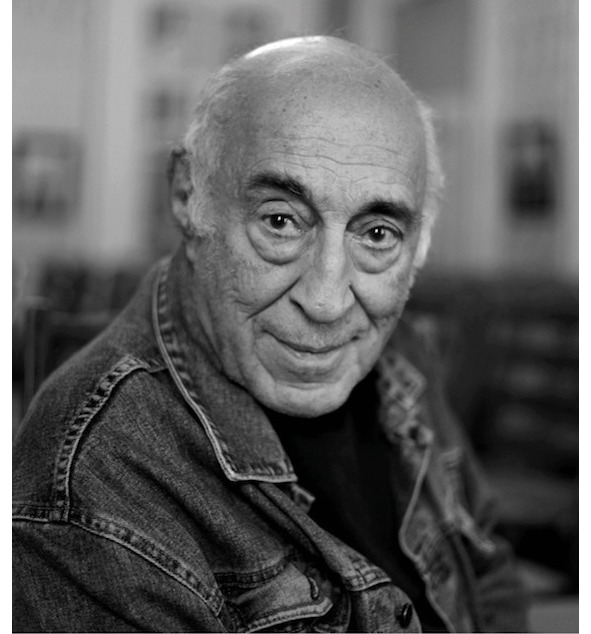
Екатерина Сальникова, Евгений Дуков
Предисловие. Изучение старых и новых медиа к началу ХХI века
Формально поводом к созданию данного сборника научных и критических статей стал юбилей Государственного института искусствознания. А неформальным — ощущение радикальных перемен в нашем культурном и научном пространстве, которые нуждаются в фиксации и осмыслении. Не все сферы культуры и искусства претерпели столь радикальные трансформации, как наша — сфера массмедиа. Ее состояние во многом и диктует перемены научных стратегий, хотя часто кажется, что на эти стратегии оказывают решающее влияние внешние социальные или административные факторы. О них недавно А. С. Вартанов написал главу в нашу коллективную монографию «Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности» [1].
Решив подготовить избранную библиографию работ по темам медиа, мы открыли шкафы библиотеки ГИИ. Перед нами гордо стояли десятки книг. В самых ранних работах, относящихся к середине ХХ века, была отражена вся история советского кино. Во всех возможных научных и критических жанрах. Коллективные многотомники, сборники научных статей, публикации документов с комментариями, теоретические работы, авторские монографии, книги-портреты отдельных режиссеров. Мемуары и научные труды великих кинематографистов вроде Эйзенштейна и Довженко.
Вторая когорта книг относится к тому времени, когда из сектора кино ВНИИ искусствознания (как тогда назывался ГИИ) был сформирован целый институт кино, а сектор переименован в сектор художественных проблем средств массовых коммуникаций. Этому сектору на долгие годы было не рекомендовано писать про кино как таковое [2]. Про телевидение, фотографию, вообще СМК, радио, любые взаимодействия разных медиа — пожалуйста. Но для изучения кино есть отдельный институт… К счастью, это искусственное ограничение не смогло разрушить сектор. Во многом потому, что ко времени выделения киноведов в отдельный институт подоспело формирование телевидения как медийного ресурса и эстетического феномена. Его теория и история были снова написаны во многом именно здесь, в секторе, только недавно создавшем подробную историю советского кино. Параллельно шла работа над историей и теорией фотографии. Главным энтузиастом этого направления выступал В. Т. Стигнеев. Будучи маститым историком фотоискусства (и незаурядным фотохудожником), он долгое время жил без ученой степени, поскольку было не вполне ясно, по какой специальности может защищаться кандидатская диссертация на тему фотографии. Наконец в 1994 году Стигнеев был удостоен звания кандидата философских наук. Фотографией также занимались В. И. Михалкович и А. С. Вартанов, включая теорию и историю фотоискусства в общий анализ различных технических медиа.
Книги, посвященные искусству кинематографа, продолжали выходить, но в них кино осмыслялось и подавалось как одна из форм огромной сферы массмедиа. О других же медиа сектор писал, писал и писал. А. Я. Шерель создал историю аудиокультуры ХХ века. Е. М. Петрушанская развивала темы взаимодействия музыки с литературой и широким социокультурным пространством. Игры чиновников и стечение обстоятельств привели в том числе к хорошему — сектор ни на секунду не замыкался в какой-либо узкой, локальной сфере экранных, доэкранных или звуковых искусств. И в этом он шел в ногу с культурной эпохой, постепенно наращивавшей плотность «медийного присутствия», интенсивность взаимодействия разных медиа, приведшую к буму трансмедийности в начале XXI века (о чем мы недавно писали в трехтомнике [1]).
Параллельно в другом научном подразделении шла работа над отечественной историей легких жанров и осмыслением современного периода их развития (см. раздел библиографии «Популярная культура и урбанистика»).
Но что же произошло с наукой после того, как история отечественного кино и фотографии, теория телевидения, история аудиокультуры, история эстрады и многое прочее были написаны? Грянула перестройка, на некоторое время общество забыло про науку, ученые оказались в ситуации полного безденежья, но зато и полнейшей свободы. Все запреты и ограничения сами собой отмирали, забывались, развеивались временем перемен. Трендом эпохи становилось открытие новых научных подразделений.
В 1986 году был образован отдел массовых жанров сценического искусства (ранее — отдел эстрады и цирка). В него вошли сотрудники группы эстрады сектора театра и сектора социологии искусства. Сейчас трудно сказать, кто был инициатором образования отдела, возможно даже, что еще не прекративший существовать ЦК КПСС. Но в проблематику научных исследований никакие идеологические структуры ни разу не вмешивались. Отдел интенсивно работал, завязывал связи с другими институтами министерства культуры и Академией наук. С самого начала исследования велись по трем направлениям: история эстрадного и циркового искусства, их современное состояние, теория эстрадно-цирковых жанров. В 90-е годы научная проблематика расширилась. По инициативе отдела в институте была создана межинститутская группа по теории и истории развлекательной культуры, в которую входили не только сотрудники разных отделов ГИИ, но и Института природного и культурного наследия, ИМЛИ, Института философии и социологии РАН. Небольшой по составу отдел постепенно заштриховывал карту проблематики массовых жанров. Свою жизнь посвятили развитию этой отрасли искусствознания О. А. Градова, Е. А. Дорохова, Л. И. Левин (замечательный специалист по бардовской песне), Е. Д. Уварова, В. С. Сергунин. В разные годы над вопросами популярной культуры работали С. М. Макаров, Ю. С. Дружкин, Л. И. Тихвинская, Г. М. Пятигорская, Н. Н. Мороз, Е. П. Чернов, А. А. Шелыгин, В. А. Кузьмина. Фундаментальным исследованием стала энциклопедия «Эстрада России. ХХ век» (отв. ред. Е. Д. Уварова), первая среди отечественных энциклопедических изданий по данной тематике.
В ходе этой деятельности, шедшей параллельно с историко-культурным сломом во всей стране, стало очевидно, что многое уже состоялось и «по второму кругу» невозможно. Другие настроения, предпочтения, нравы. В какой-то момент все поняли, что устали от коллективного написания летописей. И о глобальных коллективных монографиях и энциклопедиях было на несколько десятилетий забыто.
Зато начали выходить сборники статей «Ракурсы», в которых теоретические и исторические темы статей сочетались с критическими статьями и эссе. После научных конференций, организуемых Е. В. Дуковым неизменно два раза в год, по разной тематике — «Развлечение и искусство», «Ночь в культуре», «Экранные искусства…» (совместно с ГИТРом), выходили сборники статей по материалам докладов и научный альманах «Наука телевидения» (см. библиографию). Также было положено начало конференциям, посвященным рок-культуре. На всех этих конференциях и за время работы над сборниками и альманахом сложилась среда ученых, заинтересованных в разностороннем исследовании популярной культуры и искусства. Причем исследовании не кабинетном, не сугубо теоретическом, но основанном на погружении в исторические и современные реалии существования кино, телевидения, видеоарта, интернета, фотографии, популярной эстрадной музыки, рока, цирка, мультимедийных проектов, повседневных культурных форм, городской культуры и многого другого.
Очень важным стало уметь быстро реагировать на новую актуальную тенденцию, появление новых закономерностей в медиасреде. Описывать и анализировать то, у чего еще нет традиции изучения, не может быть прямой библиографии. Многие сотрудники сектора параллельно с академической работой регулярно занимались критикой. Богомолов и Михалкович часто писали в «Искусство кино» и другие издания. Александра Василькова писала в газету «Экран и сцена». Сальникова работала в «Независимой газете», сотрудничала с театральными журналами. Вартанов долго работал в газете «Труд», являлся постоянным автором журнала «Журналист», вплоть до прекращения жизни этого издания.
Все чувствовали, что жизнь у каждого одна и надо писать только о том, о чем душа велит. И только так, как лично ты, самостоятельный исследователь, считаешь нужным и правильным. И началось пиршество индивидуальных тем, идущих поперек общепринятых градаций, академических формулировок и устоявшихся жанров научного творчества. Названия говорят сами за себя: «От фото до видео», «Избранные российские киносны», «Иосиф Бродский и музыка», «Хроника пикирующего телевидения», «Психоделическое искусство…»
Вместо мерного стиля летописи возникла стилистика подробного и эмоционального авторского погружения в те или иные аспекты медиа. Л. И. Сараскина начала не просто писать об экранизациях, но с удивительной въедливостью и самоотверженностью отсматривать и описывать огромное количество фильмов, снятых по классике. Отменилась фокусировка на шедеврах. Ценным было признано знание и понимание всякого отдельного медиапроизведения как части глобальных культурных процессов. Стало возможным писать об открытых формах, не являющихся искусством в полном смысле слова, однако несущих в себе художественное начало, — например, о рекламе, о компьютерных играх, о функционировании классической музыки в современной культуре (см. «Эстетика рекламы. Культурные корни и лейтмотивы», «Ящик пандоры: феномен компьютерных игр в мире и в России», «Видеоигры: общая проблематика, страницы истории, опыт интерпретации»). Прологом к подобной тематике можно считать книгу А. И. Липкова «Проблемы художественного воздействия: принцип аттракциона».
А. А. Новикова, поначалу писавшая в традиции сектора о художественных формах телевидения, стала писать о телевидении как таковом, в том числе новостном, развлекательном, самом разном. В. В. Мукусев написал авторскую историю перестроечного телевидения и значительную часть жизни отдал журналистскому расследованию гибели российских тележурналистов на территории военных действий в бывшей Югославии, а также рассмотрению медийного аспекта войны [3].
Новая ситуация в сфере массмедиа начала ХХI столетия определяется небывалой открытостью информационных ресурсов и неуклонно возрастающей плотностью присутствия различных медиа в повседневном пространстве. Если раньше у исследователя сохранялась хотя бы иллюзия способности охватить целиком картину развития медийных искусств и связно описать ее через анализ ряда ключевых произведений, то теперь эта иллюзия стремительно тает.
Показательно, кстати, что история традиционных искусств тоже модернизируется, не без влияния современных культурных обстоятельств. Коллективы ученых начинают и в исторических периодах видеть бескрайнее море не замечаемых ранее подробностей, художественных произведений второго ряда, которым прежде не уделялось внимания, или же сосредоточиваются на пограничных понятиях, тесно связанных с повседневными процессами жизни человека и культурного пространства [4].
Картина жизни медийного пространства эпохи глобализации разомкнута, бесконечна и полному анализу физически не поддается — или же для такого анализа потребовалась бы одновременная работа многих тысяч ученых. Так что на смену планомерности научного повествования в жанрах энциклопедических и обобщающих трудов закономерно приходят другие методы и научные жанры. Прежде всего актуален жанр «точечного попадания» — фокусировки исследователя на анализе единичного произведения, художественного приема, жанра и прочего, в чем-то особенно показательного и типичного для современности или же для обновления взгляда на историю культуры и искусства. Другой эффективный подход — анализ художественных процессов, обозначение их специфики через осмысление типологически сходных, неуклонно повторяющихся черт в выборочном ряде произведений; фиксация эстетических тенденций без стремления к всестороннему количественному охвату тех произведений, в которых они проявляются. Индивидуальная решимость в селекции материала для пристального рассмотрения и умение выйти на тему, обладающую высокой актуальностью, готовность оперативно решать не о чем хорошо бы написать, а о чем нельзя не написать — становятся не менее важными качествами профессионала, нежели его способность анализировать художественную материю.
Нынешний медийный бум совпал с расширением сектора, объединении его с сектором массовых жанров сценического искусства, а также с учеными, погруженными в общие теоретические аспекты культурного процесса (Н. А. Хренов, И. В. Кондаков). Что объединяет тех, кто занимается телевидением или мультимедийными конструкциями, и тех, кто пишет предысторию эстрады, тех, кто изучает жизнь оперы, и тех, кто анализирует развитие рок-музыки или популярной эстрадной песни? Их может объединять осознание того, что каждый из видов художественной материи принадлежит либо к «старым», либо к «новым» медиа. Формулировка «старые и новые медиа» вполне принята в зарубежной науке [5]. Сущность «старых» и «новых» трактуется по-разному, поскольку деление на старые и новые можно производить по разным критериям. Сегодня одним из таких критериев нередко выступает отсутствие или наличие интерактивности или элементов открытой формы, степени ориентированности произведения на непосредственное сообщение с окружающей медиасредой. Однако наряду с этими градациями не утрачивает значимости деление на живые зрелища, живое исполнение, одновременное с восприятием, с одной стороны, — и «технические искусства», консервирующие аудиовидеоматерию, запечатлевающие и распространяющие ее на искусственных носителях, с другой стороны.
Современная эпоха проходит под знаком интенсивного взаимообмена старых и новых медиа формальными приемами и содержательными мотивами. Также каждое медийное искусство находится в процессе внутренней рефлексии и пересмотра собственных выразительных средств. Поэтому в нынешней социокультурной ситуации чрезвычайно важно фиксировать наиболее существенные явления подобного взаимодействия и трансформаций, а также видеть их предысторию, к чему и стремятся авторы данного сборника.
Примечания:
[1] Вартанов А. С. Непрочитанная книга, или Грустная сага о том, что Чиновник и Зритель оказываются сильнее Художника // Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. В трех частях. Сост. Ю. А. Богомолов, Е. В. Сальникова. Часть 1. М.: Издательские решения на платформе Ридеро, 2018. С. 223—278.
[2] Там же. С. 240—241.
[3] Мукусев В. В. Телевидение перестройки: воспоминания о будущем. М.: Государственный институт искусствознания, 2015. С. 144—179; Мукусев В. В. Две полки общего вагона // Кино в меняющемся мире. В двух частях. Сб. ст. Часть 1. М.: Издательские решения на платформе Ридеро. 2016. С. 131- 207.
[4] К таким трудам можно отнести следующие: История искусства и отвергнутое знание: от герметической традиции к XXI веку. Сост. Е. А. Бобринская, А. С. Корндорф. М.: Государственный институт искусствознания, 2018; Позднесоветское искусство России. Проблемы художественного творчества. Сост. А. Н. Иньшаков. М.: БуксМАрт, 2019; Художественная аура. Истоки, восприятие, мифология. Отв. ред. О. А. Кривцун. М.: Индрик, 2011.
[5] Jenkins H. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press. 2006.
Игорь Кондаков
Русский медиаповорот: старые и новые медиа в архитектонике российской культуры
Сегодня, спустя три десятилетия после конца Советского Союза, становится очевидно, что «понимание медиа» (если воспользоваться выражением М. Маклюэна) включает в себя не только представление о том месте, которое занимают старые и новые медиа в культуре последнего столетия (в том числе в русской культуре), но и осознание той роли, которую сыграли медиа в истории культуры (в частности — отечественной культуры). Иначе говоря, различные медиа в истории культуры выступают не только как объекты поступательного развития (в общем потоке культурно-исторических изменений), но и как субъекты этого развития, как средоточие источников и причин культурно-исторических изменений (в смежных явлениях общественной и духовной жизни и в общем направлении социокультурной динамики). Несомненно, каждая культурно-историческая эпоха несет с собой свои параметры «внешнего расширения человека». Впрочем, периодическое чередование фрагментации и интеграции, централизации и децентрализации культуры зависит не только от свойств и содержания различных медиа [1], но и от того внекультурного контекста, который диктуется ходом цивилизационных процессов, в том числе вмешательством экономических, политических и коммуникативных факторов, принимающих созидательные (конструктивные) или разрушительные (деструктивные) формы. В этом сочетании эксклюзивных и инклюзивных факторов интермедиальности [2] происходит становление и воспроизводство социокультурных функций старых и новых медиа в ХХ и XXI веке.
«Ремедиация» в архитектонике «советского»
История культуры вообще, а история культуры России в ХХ веке особенно, строится не как линейная последовательность состояний («цепочка» или «эстафета»), но как нелинейная конструкция, воплощающая не только историческое движение форм, но и их ценностно-смысловой «рост» (то есть получение «прибавочной ценности» — на каждом этапе исторического развития). Иными словами, история российской культуры представляет собой архитектонику (то есть не только горизонтальную динамику, но и динамику вертикальную). Архитектоника культуры — это последовательное, поэтапное строительство многоэтажного здания культурно-цивилизационного целого, — одновременно и перманентный процесс строения, и его каждый раз незавершенный результат [3].
Архитектоника разных культур различается своей «высотой». «Малоступенчатые» архитектоники (например, бесписьменных или младописьменных народов) являются обобщением немногих этапов исторического развития и в незначительной степени несут в себе драматизм смены культурных парадигм, борьбы различных цивилизационных принципов, сталкивающихся между собой. Такие архитектоники можно считать «низкими», поскольку они не демонстрируют собой какой бы то ни было ценностно-смысловой «рост» или предполагающий его потенциал будущего культурно-цивилизационного развития.
«Высокими» являются такие архитектоники культуры, в которых сменяющие друг друга ступени развития не только воплощают в себе вектор целеустремленного «самовозвышения» данной культуры/цивилизации и ее ценностно-смыслового «роста». Архитектоника культуры своим строением демонстрирует последовательное преодоление каждый раз исторически достигнутого уровня, а также ограничивающих культурно-историческое развитие социальных и природных обстоятельств и показывает своей многосоставной, разветвленной «вертикалью» неоднозначность и противоречивость конечного результата — интегративной «суммы» содержания предшествующих ступеней развития, синтезированных в последнем звене конструкции, венчающей ее на настоящий момент.
Различение «высоких» и «низких» архитектоник касается не только сравнительно-исторического сопоставления культур и цивилизаций в целом, но и их отдельных периодов, завершенных и незавершенных в своем развитии. Для культур с длительным и многосоставным развитием (каковой является и русская культура) показатель относительной «высоты» распространяется и на ее конкретно-исторические этапы. Сложной архитектоникой обладает период истории древнерусской культуры; не менее сложна и архитектоника русской культуры Нового времени, включающей в себя и Петровские реформы (вместе с их драматическим «кануном»), и эпоху русского Просвещения, и эпоху русской классики (охватывающую большую часть XIX века), а также захватывающей, хотя бы частично, Серебряный век, являющийся завершением русской культуры Нового времени и началом Новейшего времени в истории отечественной культуры.
Характерным, по-своему, является и период истории русской культуры Новейшего времени, охватывающий ХХ и начало XXI века. Архитектоника этого периода включает в себя резко контрастные и крайне противоречивые составные части: Серебряный век русской культуры; культуру русского зарубежья; советскую культуру (в ее различных версиях и этапах); несоветскую культуру (внутри советской) и, наконец, постсоветскую культуру. При этом именно постсоветская культура занимает в архитектонике российской культуры XX — XXI века «самое высокое» положение, завершая собой все «здание» культуры России ХХ века и аккумулируя в себе в «свернутом» виде содержание всех предшествующих эпох — как «ступеней» ее культурно-исторического становления и развития.
Важным отличием периода новейшей русской культуры от предшествовавших является совершенно исключительная роль различных медиа в формировании и функционировании культуры России XX — XXI века как целого, в становлении и строении ее архитектоники, в развитии и разрешении социокультурных противоречий и конфликтов, порождавших в ХХ и XXI веках общую атмосферу «конструктивной напряженности», а затем и «высокую степень дезорганизации» цивилизационного порядка и социокультурных процессов в России последней трети ХХ — начале XXI века. [4]. Возможно, нарастание деструктивных тенденций в развитии российской цивилизации и русской культуры Новейшего времени в какой-то мере связано с противоречивым взаимодействием социально- и культурно-исторических процессов с различными формами их медиализации и интермедиализации, носящим нередко неожиданный и непредсказуемый характер.
«Высокая» архитектоника русско-советской культуры определяется контрастным чередованием следующих друг за другом этапов/ступеней ее истории. Бурный революционный этап советской культуры после 1917 года и до «великого перелома» 1929 года, характеризующийся острой борьбой «всех со всеми», сменился сталинской эпохой — монументальной и помпезной, с одной стороны, и жестокой, нетерпимой — с другой. Период (и ступень) советской культуры, получивший имя оттепели, в основных своих чертах отрицал и пересматривал сталинскую эпоху, был ее антиподом, демонстрируя подъем и оживление во всех сферах культуры и социума. Позднесоветская культура (брежневского времени) почти столь же последовательно отрицала и пересматривала оттепель, во многом ориентируясь на критерии сталинской эпохи, но только более размыто и смягченно. Наконец, перестройка, во многом продолжившая интенции оттепели и апеллировавшая к ее идеалам, в свою очередь, радикально пересматривала и отрицала позднесоветскую эпоху (как время застоя), но еще более жестко и последовательно выступала с критикой сталинской эпохи, нежели следовавшая за ней оттепель, а затем — и советской культуры и политической системы в целом.
В основании этого «маятникового» процесса, в ходе которого советская цивилизация (как модификация общероссийской цивилизации) эпохально колеблется: между тоталитаризмом и демократией; между массовидными, поточными процессами социокультурного бытия и творческим, личностно окрашенным индивидуализмом; между имперскими амбициями поликультурного целого и этноцентристскими, национально-автономическими тенденциями; между идейно-стилевой монолитностью и ценностно-смысловым плюрализмом, между интегративными и дифференцирующими векторами, — в основании этого цивилизационно-культурного «маятника» лежит фундаментальное событие — революционный раскол России на советскую метрополию и русско-зарубежную периферию.
Отсюда берет начало не только драматическое сосуществование «двух русских культур в одной» (советской и эмигрантской), но и возникающее время от времени противостояние глубинных механизмов русской культуры — медиации и инверсии, конвергенции и дивергенции, центростремительности и центробежности, созидания и разрушения и тому подобных.
Однако последовательность этапов/ступеней определяется не только отрицанием и переоценкой предыдущего последующим. Каждый последующий этап — по сравнению с предыдущим — оказывается обобщением и своеобразным синтезом предшествующего, включая критику и переосмысление его содержания в новом культурно-историческом контексте. Потому этапы исторического движения культуры по горизонтали одновременно выступают ступенями культурно-исторического развития по вертикали. Ступени эти отличаются друг от друга не только контрастным историческим и идейно-концептуальным содержанием, но и различной трансмедиальностью и интермедиальностью, то есть различным участием медиа в формировании каждой социокультурной парадигмы.
Для первой ступени советской архитектоники («революционной») характерен экспериментальный характер поиска адекватных медиа. Здесь и броское заявление Ленина о предпочтении большевиками среди всех искусств — кино (по некоторым сведениям, Ленин упомянул в качестве «важнейших искусств» — наряду с кино — еще и цирк, что, учитывая устный характер высказывания и мемуарный — передачи, вполне вероятно). Здесь и пресловутый «ленинский план монументальной пропаганды» — с опорой на скульптуру и плакат. Здесь и театрализованные агитбригады — опыт перформативной пропаганды юной советской идеологии. Но все же главенствовала в полуграмотной Советской России в качестве интегрального медиа — газетно-журнальная публицистика и критика, то есть печатные медиа, используемые в целях политической агитации и пропаганды (тот самый «Агитпроп», про который Маяковский в предсмертной поэме «Во весь голос» говорил, что он к 1930 году «на зубах навяз», и не одному поэту).
Впрочем, вербальная медиализация культуры была для русской читающей аудитории привычной: уже к середине XIX века борьба между литературой (и другими видами искусства) — с одной стороны, и критикой (вкупе с публицистикой), распространяемой через журналы и газеты, — с другой, составляла основной «нерв» культуры и общественной жизни [5]. В той или иной степени эти процессы продолжались и в культуре Серебряного века. В начале ХХ века Ленин в работах «С чего начать?» и «Что делать?» обосновал принцип, согласно которому периодическая печать является тем медиумом, который выполняет в области политики не только агитационные и пропагандистские функции, но и функции организационные [6]. Эти социокультурные функции периодики были особенно эффективны в социально-политическом ключе по сравнению с художественно-эстетическими и коммуникативными функциями искусства (в том числе словесного искусства — поэзии, драматургии и художественной прозы). В 1920-е годы этот принцип стал доминирующим в организации, управлении и политическом регулировании социокультурных процессов.
Власть вербальных медиа во многом сохранялась и в 1930-е, и в 1940-е годы, накладывая свой волевой отпечаток на большинство смежных явлений культуры — литературу, театр, кино, изобразительное и музыкальное искусство (достаточно вспомнить воздействие многократно переиздаваемых и повсеместно насаждаемых «Краткого курса истории ВКП (б)» и сталинских «Вопросов ленинизма»). Эта и подобная ей партийная публицистика составляла, несомненно, целенаправленный и основополагающий «мейнстрим» всей сталинской эпохи.
Однако на него последовательно наслаивались и другие медиа, обретавшие все большую влиятельность и распространенность в Советском Союзе этого времени — Всесоюзное радио и советское кино, создававшие для «пропагандистского слова» емкий аудиальный и визуальный контекст. Слово стало не только читаемым, но и звучащим на радио; кино же (а вместе с ним и фотография) сделало наглядными образы людей, произносящих важные слова, распространяющих словесно ключевые идеи эпохи и своим поведением, и речью демонстрирующих общественно необходимую деятельность. В результате «управляющие» культурой медиа, собранные в виде «пучка», приобрели синтетический и объемный, многомерный характер. Правда, и новые, технизированные «расширения» слова: радио, фотография и кино — по сравнению с вербализованной политикой в публицистической форме — имели второстепенный, подчиненный слову характер.
Неслучайно Сталин, придававший кино как средству пропаганды исключительное значение, полагал, что автор сценария фильма более значим, нежели кинорежиссер (которого представлял скорее как монтажера киноленты и организатора киносъемок). Отсюда его пристальное внимание к словесному тексту будущего и уже снятого кинофильма [7]. В то же время альянс вербального текста, его радиотрансляции и экранизации в кино представлял качественно новую фазу медиализации культуры, имевшую неожиданно сильный творческий эффект. Так, рождение «сталинского фольклора» (так называемых новин) в творчестве профессиональных носителей традиционного устного народного творчества произошло под влиянием на их исполнительство газетной периодики и политических радиопередач. Былинный эпос, зародившийся еще в Киевской Руси, легко был приспособлен для нужд тоталитарной культуры.
Прокофьевская кантата «Здравица», приуроченная к 60-летнему юбилею Сталина (включая гротескный псевдонародный текст, сочиненный самим композитором), также родилась на пересечении различных медиа (включая вымышленные «новины», музыкальную радиопропаганду и кинохронику, пропущенные через призму авторской иронии). Последний пример (не единственный в своем роде) наглядно свидетельствует о том, что каждая эпоха, даже такая замкнутая в себе, как сталинская, изнутри себя подготавливает себе на смену следующую, не только отличную от предыдущей, но подчас и прямо противоположную ей. В своем саморазвитии каждая архитектоническая ступень не только передает свое культурное наследие сменяющей ее системе, но и подспудно преодолевает свою ограниченность. Немалую роль в подобной двойственной трансформации играет феномен «ремедиации» [8], который удобнее рассмотреть на примере оттепели.
Короткая эпоха оттепели, обращенная фактически к тому же набору совмещенных медиа (печатная и визуальная публицистика, документальное и игровое кино, разнообразные радиотрансляции, к которым добавились начальные телепередачи), радикально пересмотрела содержание тех же медиа. Демократизация и десталинизация, гуманизация и психологизм, индивидуализация и жанрово-стилевой плюрализм — все эти черты, характеризующие обновление контента культуры после смерти вождя, актуализировались благодаря именно ремедиации, то есть более или менее радикальной трансформации системы медиа.
Вербальные, и особенно печатные, медиа ушли на второй план; напротив, визуальные и аудиальные медиа выдвинулись на первые места. Так, поэтический «бум» во многом был связан не столько с распространением сборников стихов, сколько с «эстрадизацией» поэзии, вышедшей на подмостки сцены и арены стадионов [9]. Поэзия стала звучащей, и в этом своем «иномедиальном» качестве она обрела новый смысл и новую популярность. Р. Щедрин в соавторстве и с участием А. Вознесенского создал «Поэторию», представлявшую собой музыкальное действо вокруг фигуры поэта — чтеца своих произведений. Поэтическое чтение было перенесено не только на концертную сцену и на радио, но и в кино («Застава Ильича» М. Хуциева), а затем и на телевидение. Многие литературные тексты обрели активную, публичную жизнь в результате театрализации и экранизации. Любимовский Театр на Таганке инициировал поэтический театр (по мотивам поэзии В. Маяковского, С. Есенина, А. Вознесенского, В. Высоцкого и других). Поэзия обрела свою визуальность и перформативность.
Тенденция экранизации литературных произведений немного заявила о себе уже в конце сталинской эпохи («Молодая гвардия» С. Герасимова, «Повесть о настоящем человеке» А. Столпера), но по-настоящему масштабно она развернулась только в 1950 — 1960-е годы («Овод» А. Файнциммера, «Чужая родня» и «Тугой узел» М. Швейцера, «Земля и люди» и «Дело было в Пенькове» С. Ростоцкого, «Сорок первый» Г. Чухрая, «Тихий Дон» С. Герасимова и другие). Вербальная медиализация культуры сама по себе постепенно теряла значение; на повестку дня выходила разнообразная интермедиализация контекста литературы, театра, изобразительного искусства, музыки, кино. Такого расширения медийного контента сталинская эпоха не знала и в принципе не могла породить.
В культуре оттепели особенно наглядно заявила о себе ремедиация, проявляющаяся в том, что «новое» (в том числе в области медиа) всегда поначалу приходит под видом «старого», подражая ему — внешне или внутренне. Однако ремедиация — двойственный процесс: внутри нее действуют противоположные и взаимодополняющие тенденции — транспарентность и гипермедиальность; первая направлена на сокрытие своеобразия «нового», а вторая — на нарочитое педалирование медиа своей новизны и специфики. Ремедиация демонстрирует вариативность изменений в сфере медиа и неоднозначность вызывающих это причин. В то же время ремедиация расширяет возможности медиа в плане вариантов соединения и комбинирования одних медиа с другими [10], что в идеале придает сумме медиа вид цельного медийного ансамбля.
Однако ремедиация в проблемном поле культуры оттепели, — если учитывать конфронтационные отношения этой эпохи в архитектонике советской культуры, с одной стороны, с предшествующей сталинской эпохой (отрицанием которой по большей части оттепель является), а, с другой стороны, с последующей — позднесоветской — эпохой, с характерными для нее чертами кризиса, застоя, консерватизма, — играла дестабилизирующую роль. Ценности и смыслы, рожденные послесталинским временем, то утверждались как высшие гуманистические ценности общечеловеческого порядка, утраченные и попранные во время диктатуры Сталина, то подверстывались под общесоветскую идеологию и тем самым как бы незначительно отличались от ценностей революционного времени и сталинской эпохи. Культура оттепели (в лице разных своих представителей) то ратовала за «открытость» мировой культуре, за расширение контактов и культурных обменов с Западом; то выступала с требованиями продолжать идеологическую борьбу, отстаивать «кровное и завоеванное» советской властью и всеми силами отвергать чуждые социалистическим идеалам идеи и образы. Разные медийные инструменты оттепельного времени были включены в острую борьбу «за» и «против» тоталитаризма и моделировали сеть противоречивых установок и оценок.
Более глубокое и разностороннее рассмотрение эпохи оттепели [11] показывает, что этот этап в истории советской культуры не только мог быть, но и был в реальности переломным. С одной стороны, оттепель надломила советскую цивилизацию, и советская культура впредь последовательно эволюционировала в сторону от сталинизма и его социокультурных принципов. С другой же стороны, та же оттепель упорно примиряла новые установки — на создание «социализма с человеческим лицом» — со старыми, базировавшимися на сталинском «Кратком курсе истории ВКП (б)» и ленинском понимании революции и социализма, то есть стремилась сохранить верность изначальным принципам социалистической идеологии и культуры, социалистического строительства советского общества и государства и тем самым утвердить их незыблемость на вечные времена. Оттепельная ремедиация — в своем колебании между селекцией культуры и конвергенцией — только усугубляла возникший социокультурный хаос, почти неотличимый от порядка и постепенно трансформировавшийся в русский постмодерн [12].
От оттепели как центральной ступени в пятичленной архитектонике российско-советской культуры тянутся нити, связывающие эту эпоху с предшествовавшими этапами советской истории, подготовившими оттепель как средоточие противоречий российского социализма. Но от оттепели берут начало и все разрушительные тенденции последующих этапов советской истории, ведшие советскую цивилизацию — через разочарования, сомнения и отрицания — к ее неотвратимому концу: к позднесоветской ступени развития, к перестройке как катастрофическому финалу русского коммунизма, советизма и государства СССР и, наконец, за пределы советской истории, к постсоветскому периоду России. Собственно, эти «нити», исходящие из оттепели и тянущиеся к ней, ретроспективные и перспективные, являются своего рода медийным «продуктом» ремедиации. Погружение в мир позднесоветской эпохи [13; 14] показывает, что все культурные артефакты этого времени в конечном счете коренятся в той «трещине», которой являлась оттепель в отношении к советской культуре и советскому политическому строю.
Но еще более противоречивое впечатление от культурных достижений советской цивилизации складывается у вненаходимого исследователя «советики» (или даже просто непредубежденного наблюдателя советской культурной истории), когда он представляет итог архитектонического развития советской культуры как своеобразную «сумму» пяти ступеней советского наследия. Многое из того, что считалось культурным достижением на одной ступени развития, на следующей нередко выглядит (с точки зрения, например, текущей культурной политики) как упущение, ошибка и даже преступление, а в дальнейшем может быть не только оправдано, но и поставлено в заслугу прошедшей эпохе. В конечном счете все определяется конкретной динамикой ремедиации на каждом уровне советской архитектоники культуры.
От первой ступени архитектоники к последней нарастает концентрация противоречивого смысла архитектонического целого. Достигая своего предела, этот смысл целого, будучи «парализован» противоречиями взаимоисключающих составляющих (представляющих содержание разных этапов/ступеней архитектоники), перестает расти и развиваться, исчерпав свой изначальный потенциал развития. Дальнейшее развитие культуры становится возможным при условии более или менее радикальной смены парадигмы. Так, советская культура, прошедшая в своем развитии пять противоречивых этапов, не смогла возродиться на собственной основе и продолжила свое развитие — уже в качестве культуры постсоветской — за пределами «советского» [15, 16].
Суммируя пять этапов/ступеней советской культуры в целом, мы не можем не получить крайне противоречивой картины «советскости», в которой все пять «срезов» советской истории взаимно противоречат друг другу, но связаны в тугой узел. Тот же противоречивый итог ожидает нас, если мы рассмотрим — с позиций архитектоники — историю русско-советской художественной культуры и отдельных ее составляющих: советской литературы, советского изобразительного искусства, советского театра, музыки, кино, а также советской эстетики, советского литературоведения и искусствознания.
Суммарное видение всех пяти ступеней архитектоники «советского», надстраивающихся друг над другом и накладывающихся друг на друга; представление о советской культуре как о многомерной и многослойной (как минимум пятиуровневой) структуре, все элементы которой взаимосвязаны тем или иным образом между собой, — оказываются возможными и неизбежными лишь при условии размещения метаисторической точки зрения на «советское» — вне «советского», за рамками советской культуры как целого, за пределами советской истории, то есть во внесоветском ценностно-смысловом пространстве, в контексте принципиальной вненаходимости по отношению к истории русско-советской культуры [17], в том числе вненаходимости медиальной.
Позднесоветская культура: от старых медиа — к новым
Все особенности культурно-цивилизационного развития России в ХХ веке отразились и в истории русско-российской культуры ХХ века. Принципы архитектоники культуры применимы и к истории русской (а также в целом российской) культуры прошлого столетия. Русская культура ХХ века включает в себя: советскую культуру (это ее культурно-цивилизационное «ядро», во многом определяющее — позитивно и негативно — ее специфику), а также, по принципу дополнительности, различные версии русской внесоветской культуры — культуру досоветскую, несоветскую, антисоветскую, околосоветскую (в том числе советский андеграунд) и, собственно, постсоветскую [18].
Досоветская культура — это русская классика XIX и начала ХХ века и культура Серебряного века, то есть дореволюционная культура (также ставшая сегодня классической). Несоветская и антисоветская культура — это культура русского зарубежья, то есть, прежде всего, эмигрантская русская литература, внутри которой зрели разные настроения, построенные либо на симпатиях и интересе к Советской России (и ее культуре), либо на антипатии ко всему советскому (включая советскую культуру). Но обе эти разновидности несоветской культуры могли существовать (только в более скрытой форме) и внутри Советской России (в качестве «внутренней эмиграции»). Например, творчество А. Ахматовой и М. Булгакова 1920-х и 1930-х годов было явно не советским, а поэзия и проза Д. Хармса (и других обэриутов) во многих случаях (завуалированно) и антисоветским. Сюда нужно отнести и диссидентскую литературу (например, запрещенные для печати произведения А. Солженицына, Ю. Домбровского, М. Булгакова, В. Войновича и других, распространявшиеся в самиздате и тамиздате).
В более позднее время (оттепельное и послеоттепельное) можно было — с известной долей условности — считать стихи и песни Б. Окуджавы несоветскими, а поэтические тексты А. Галича и многие — Ю. Кима — антисоветскими. В то же время многие тексты авторской песни 1960-х и 1970-х годов были «околосоветскими»: с одной стороны, они отражали советские реалии и настроения, с другой — отражали их с неофициальной и критической точки зрения (песни Ю. Визбора и особенно В. Высоцкого). В 1920-е годы таких текстов было тоже много: рассказы М. Зощенко и И. Бабеля; произведения А. Платонова и П. Романова были, по большей части, именно «околосоветскими», что позволяло их, в случае необходимости, интерпретировать с официальной точки зрения как несоветские и даже как антисоветские. Сюда же примыкают и поэтические тексты позднесоветского андеграунда (например, русского рока). Впрочем, некоторые из позднесоветских текстов русской литературы, входившие в размытую категорию «околосоветских», вскоре плавно перетекли в русло постсоветской культуры 1990-х.
Все эти составляющие русской литературы и культуры ХХ века могут быть представлены не только как линейно и нелинейно (например, разветвленно) построенный литературный (и любой иной культурно-исторический) процесс [19], но и как архитектоника, в составе которой исторические этапы надстраиваются друг над другом в виде ступенчатой пирамиды и вступают друг с другом в различные отношения. При таком («вертикальном») видении истории русской культуры как архитектоники становится очевидно, что различные историко-культурные этапы (ступени) литературного, художественного и идеологического развития врастают друг в друга, то предвосхищая и высвечивая ближайшее будущее, то отбрасывая тень на недавнее прошлое. С этой точки зрения, несомненными представляются не только дискретность советского литературного и в целом культурного процесса, выраженная в этапах/ступенях культурно-исторического развития литературы, искусства, общественной мысли и тому подобного, но и его непрерывность, проявляющаяся в росте культурной рефлексии, накапливаемой и обобщаемой от одной ступени смыслового развития к другой, от второй — к третьей и так далее [20].
В этом смысле, при всей противоречивости и взаимоотталкивании этапов/ступеней советского, переход: от революционного этапа 1920-х годов к сталинской эпохе, от нее — к оттепели, от оттепели — к брежневскому застою и всему позднесоветскому этапу, а от него — к перестройке — характеризуется каждый раз ростом и укреплением культурной рефлексии, в том числе критическим пониманием сущности советского (в единстве положительного и отрицательного значений), от одного этапа к другому постоянно корректируемым и подсознательно обобщаемым. При этом рефлексия советского не только протягивает далекие связи между этапами / ступенями советской архитектоники, тем самым как бы сшивая противоречивые фрагменты советской культуры в единое целое, но и постоянно трансформируется и деконструируется, приобретая формы то монтажа, то игры, то постутопии, то насилия, то гротеска, то платоновской «хоры», то видеоклипа, то диджитал-сторителлинга [21].
Эта дискретная культурная рефлексия советского аккумулировалась, в основном, в различных медиа — печатных и электронных, вербальных, визуальных и аудиальных. Причем критическая рефлексивность, по мере ее концентрации и роста, все в большей степени находила свое выражение в невербальных (то есть визуальных и аудиальных) формах, более многозначных в интерпретации и менее подвластных политическому цензурированию. Связывают воедино эту фрагментированную картину мира в конечном счете именно медиа, в том числе особенно эффективно — новые медиа, способные объединять разнородные тексты и контексты, идеи и образы, ассоциации и иллюзии. Современная полиэкранная медийная среда неслучайно характеризуется в терминах: «повседневное многомирие», «культурно-регламентационная коммуникация», «цифровой иллюзионизм», «культура неотрецензированного большинства», «гибридные видеоформы» и тому подобное [22].
К концу советской истории противоречивое обобщение медийных представлений о советском достигло наибольшей зрелости, что и подготовило постсоветский период, для которого характерно переживание советского как прошлого и внеположного, уже отделенного от современности и воспринимающегося представителями текущей русской культуры извне, в той или иной мере отчужденно. Опосредованность восприятия советского различными медиа подчеркивает сегодня его отдаленность и невозвратимость.
Поворот позднесоветской и постсоветской культуры к медиальности претерпел несколько характерных этапов. Исторический контекст культуры быстро менялся и находил свое отражение в каждом тексте культуры. При этом вместе с выдвижением на первый ряд общественных интересов той или иной разновидности массмедиа трансформировался сам характер медиальности. Соглашаясь с тем, что каждое произведение культуры является, по У. Эко, открытым своему контексту [23], мы видим, как массмедийный (точнее — мультимедийный) контекст по-своему вторгается в каждое произведение культуры и накладывает свою специфику на содержание и форму этого произведения (относится ли оно к политике или философии, публицистике или литературе, театру, кино, музыке и тому подобному) [24]. В результате новости оборачиваются манипуляцией, научное открытие — сенсацией, произведения искусства — развлечением, информация — рекламой. Все феномены культуры, пропущенные через призму массмедиа, приобретают превращенный характер и меняют свой смысл и значение.
В конце 1980-х годов, на волне общественного подъема и гражданской активности периода перестройки в СССР, господствующим медийным контекстом была газетная и отчасти журнальная периодика [25]. Структурную доминанту тогдашней системе массовых коммуникаций задавали газеты (лидер — «Московские новости», редактировавшиеся Е. Яковлевым) и многотиражные журналы общего типа (лидер — «Огонек», который редактировал В. Коротич). Однако и литературно-общественные журналы того времени, публиковавшие прежде запрещенные, а ныне возвращенные литературные произведения писателей-диссидентов, эмигрантов или жертв сталинского террора, достигали тоже невиданных по массовости тиражей. Так, главный интеллигентский журнал оттепельного и застойного времени «Новый мир» (под редакцией С. Залыгина) в год первой публикации «Архипелага ГУЛАГ» А. Солженицына (1990) достигал 4 миллионов экземпляров (непревзойденный рекорд! — для сравнения: сегодня тираж «Нового мира» не превышает 2 тысяч экземпляров).
В перестроечный период газетно-журнального «бума» все разновидности художественной, познавательной, популярной культуры подстраивались под тональность политически заостренной публицистики. Например, Т. Толстая регулярно писала высокохудожественные эссе в «Московские новости», С. Залыгин публиковал экологические статьи о «повороте рек», Ю. Карякин — эссе на темы «культа личности» и уроков Достоевского для ХХ века, В. Ерофеев отмечал «поминки по советской литературе», заводившие апологетов соцреализма и тому подобное. Даже Солженицын оторвался от трудов по созданию титанического «Красного колеса», чтобы поделиться с советским читателем своими соображениями о том, «как нам обустроить Россию» [26].
Театр времен перестройки был «заточен» на публицистику. Зрителям не надоедали бесконечные реинтерпретации «революционных этюдов» М. Шатрова и «производственных» пьес А. Гельмана. Именно эти произведения «публицистического театра» задавали общую планку театральным и кинематографическим исканиям конца 80-х — начала 90-х годов. Словесная публицистичность перекинулась и прямо в кино; особенно показательны здесь фильмы Э. Климова («Прощание с Матерой», «Иди и смотри») и Г. Панфилова («Прошу слова»). Разговорный публицистический жанр («ток-шоу») в это время доминировал и на телевидении (программы «Взгляд», «Пятое колесо», «До и после полуночи», «Тема», «Про это», первые телемосты).
Активизировалось в это время и радио, было совсем отошедшее на задний план общественных интересов: в это время радиокоммуникации возродились в онлайн-режиме, и подготовленные радиоведущие оживленно общались на разные, в том числе и политические темы с наиболее активными слушателями, дозванивавшимися до радиостудий. Среди стремительно умножившихся в это время радиостудий, радиоканалов, тематических радиопередач уверенно лидировало оппозиционное и свободолюбивое «Эхо Москвы», во многом ассоциировавшееся, по уровню дискуссионности и проблемности, а также по качеству журналистского материала с радио «Свобода» и другими — еще совсем недавно «вражьими голосами»: BBC, «Голос Америки», «Немецкая волна» и другими зарубежными радиостанциями. «Эхо Москвы» отличали смелость постановки социальных и политических проблем, актуальность и злободневность содержания передач, плюрализм мнений, открытость и оживленность дискуссий, профессионализм ведущих.
Все свидетельствовало о том, что уже ярко выраженный медиацентризм агонизирующей советской эпохи еще не до конца расстался с привычным литературоцентризмом культуры советского и досоветского времени. Поэтому поначалу медиацентризм принимал по преимуществу вербальные — журналистские и газетно-публицистические формы (очерки и эссе, репортажи, интервью, диалоги и круглые столы, массовые дискуссии). Впрочем, эта установка СМИ не расходилась с ожиданиями и потребностями аудитории, рассчитывавшей на продолжение «разговоров», «споров», «дискуссий», политической риторики, преобладавшей в обществе. Именно речевые практики более всего были востребованы советским обществом на переломном этапе истории, когда, по существу, остро стоял вопрос: «Быть или не быть?» — социализму «с человеческим лицом», социализму как таковому, перестройке с ее атрибутами «ускорения», «гласности», «открытости», «разрядки», «нового мышления», наконец, самой советской власти, КПСС, СССР и так далее. На повестке дня стояла именно дискуссия, и газетно-журнальная публицистика, с ее «ответвлениями», на экране и в радиостудии, в зрительном зале и на улице, вполне отвечала запросам массовой аудитории.
Начало постсоветской эпохи (1990-е годы) было ознаменовано резким падением значения печатной периодики. Потребление газет и журналов значительно сократилось, заметно упали тиражи, сократилось число названий периодических изданий. В современной России фактически отсутствует общенациональная газета; число ежедневных газет, выпускаемых в России на тысячу человек населения, в несколько раз меньше, чем в других развитых странах Европы, Америки и Азии. Тридцать процентов взрослых россиян вообще не читает газет. По данным ВЦИОМа, широкий читатель в последнее время обращается не к центральным («кремлевским» или «прокремлевским») изданиям, а к «местной» — городской и региональной — периодике. Дольше всего удалось поддерживать интерес у читательской аудитории (и соответственно — тираж издания) газетам «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец», но прежде всего за счет поддержания скандально-сенсационной направленности содержания прессы (типа желтой прессы), рассчитанной на вкусы любопытствующих, граждански пассивных обывателей.
Основной акцент читающей аудитории в 1990-е пал на еженедельную местную прессу общего типа и на развлекательные и рекламные газеты, сообщающие оперативную информацию о рынках труда и потребительских товарах, о новых изделиях и услугах. Характерно, что в начале 90-х (советское время) три четверти подписки составляли центральные издания, а в конце 90-х примерно столько же — на издания местные. Данные по розничной покупке прессы — соответствующие. При этом важно отметить, что аудитория центральной и местной печати в советское время совпадала не менее, чем на четыре пятых, а в постсоветской время — меньше, чем наполовину.
В то же время аудитория центральных и местных изданий качественно различается: в читательской аудитории центральных изданий значительно выше доля людей более образованных, социально активных и профессионально квалифицированных (среди них — предприниматели, руководители, специалисты, студенты и учащиеся), а в читательском слое местных изданий преобладают рабочие и пенсионеры. Первая группа читателей (центральных изданий) наиболее критически настроена по отношению к массмедиа и реже им безоговорочно доверяет; вторые, как правило, доверяют современным СМИ «целиком и полностью» [27].
В течение 1990-х годов произошла резкая переориентация основной массы населения России с печатной периодики на экранную культуру — в лице телевидения. Налицо явный перевес ориентации на визуальное, зрительское восприятие по сравнению с читательским, вербальным восприятием информации. Соотношение установок литературоцентризма и медиацентризма явно поменялись местами; и литературоцентризм занял подчиненное, второстепенное место среди медиапредпочтений аудитории [28; 29]. При этом доминирует относительно скептическое понимание роли массмедиа в современной жизни.
Доминирующая установка потребителей информации характеризуется россиянами двойственно: СМИ заслуживают доверия, но «не вполне». Группы доверяющих и не доверяющих массмедиа контингенты, оценивающие СМИ как важный или неважный информационный источник, — примерно равны. Тем более смутными являются представления аудитории СМИ о прогрессе или регрессе средств массовой коммуникации в плане содержания или выражения, в плане позитивного или негативного влияния на аудиторию (повышения нравственности или эстетических вкусов, стимуляции интересов людей, их сплоченности или разобщенности, повышения или снижения уровня культуры, социальной и гражданской активности).
Несомненно одно: после спада печатного «бума» освободившуюся социально-коммуникативную нишу занял телевизор. Большая часть населения России (особенно в провинции) ежедневно смотрит телевизор (и не единожды в день), предпочитая телевидение и радио и газетам, и журналам, и интернету. И это притом, что телевидение в целом телезрителям во многом «не нравится» и их «раздражает». Согласно данным международного сравнительного исследования, проведенного в 1997 году (оно проходило в США, Польше, Чехии, Венгрии и Казахстане), Россия лидировала в доле взрослых людей, которые относили себя к тем, кто смотрит телевизор «часто и очень часто» (58%), и была на последнем месте по доле «часто и очень часто» читающих (31%). Что касается того, что российские телезрители смотрят чаще всего, то это — эстрадные концерты, юмористические шоу, зарубежные мелодраматические сериалы и советские художественные фильмы прошлых лет.
Показательно, что больше половины работающих горожан смотрят телевизор по утрам, до ухода на работу, и вечером, после возвращения с работы домой; более половины опрошенных смотрят телевизор за ужином в будни и по выходным. Почти у трети опрошенных «Левада-центром» телевизор работает весь будний день и не выключается никогда. В выходные присутствие телевизора в жизни семьи в роли «постоянного члена семьи» еще больше (37%), а 46% опрошенных смотрят телевизор одновременно с другими домашними делами. Это означает, с одной стороны, плотную встроенность телевизора в бытовой обиход, а с другой, свидетельствует о несконцентрированности, «рассеянности» внимания зрителей [30]. По точной характеристике В. Беньямина, подобное восприятие информации происходит «не столько через внимание, сколько через привычку». «Публика оказывается экзаменатором, но рассеянным» [31].
Для большинства россиян «домашнее, семейное время» и «досуг» — это и есть телевизор, «телесмотрение». По характеристике Б. Дубина, общество в современной России — это по преимуществу общество смотрящих телевизор и символически обменивающихся репликами о просмотренном. Решающим в выборе, что смотреть, у большинства телезрителей оказываются не советы друзей или близких, не программы телепередач, а анонсы будущих передач самого телеканала по ходу показа. Это создает в России репутацию телевидения как «зомбоящика», гипнотизирующего и зомбирующего, программирующего телеаудиторию — от имени телеканала, а в современных условиях — и от имени самой власти.
По данным «Левада-центра», выдвижение на первый план в современной российской культуре телевидения и телесмотрения, выполняющей ведущую, безальтернативную и монопольную роль, связано с отсутствием в постсоветской России политических, экономических и культурных элит и, далее, с продолжающимся разложением и деградацией творческой, в том числе гуманитарной, интеллигенцией, фактически вытесненной чиновниками средней руки. За картиной монопольного положения российского телевидения на самом деле стоит скрытая от стороннего наблюдателя борьба различных социальных сил и уровней власти за контроль над телеэкраном и влияние на телеаудиторию.
Оборотной стороной этой телевизионной монополии является фактическая отчужденность телеаудитории от происходящего в реальности, выражение исключительно зрительского, то есть созерцательного и пассивного участия в социальной действительности. Телевидение создало свой собственный, «параллельный», симулятивный мир, в котором дублируются зачаточные, слабо развитые формы организации социальной жизни либо компенсируется отсутствие институтов гражданского общества.
В этом смысле российское телевидение выполняет во многом компенсаторную и отвлекающую функцию, порождая иллюзию причастности событиям окружающей жизни у массового телезрителя. Другой функцией российского телевидения является апелляция к прошлому, ностальгия по невозвратимому и недостижимому, направленная на формирование у зрителя консервативных и рутинных стереотипов восприятия и поведения. Наконец, еще одна функция российского телевидения — препарировать информацию о реальности в расчете на «человека как все» и его интерес ко всему сенсационному, скандальному, выбивающемуся из любых нормативов и правил, что определяет соответствующий выбор тележанров (боевик, фантастика, историко-патриотический фильм). В результате в России было создано «общество зрителей», целиком подвластное государственному телевидению [32; 33].
Постсоветская культура: поворот к медиацентризму и трансмедиальности
Постсоветская культура — в силу своего исторического положения — представляет собой определенный итог предшествующего развития русской и российской культуры ХХ века, в котором содержится, с одной стороны, продолжение, обобщение и синтез недавнего и отдаленного прошлого русской и российской культуры, а с другой стороны, «снятие», преодоление и отрицание прежнего культурно-исторического опыта. В некотором смысле постсоветская культура выступает как своего рода вершина в культурно-историческом развитии России ХХ века, венчающая собой целый ряд этапов (а точнее — ступеней) культуры, не только следующих один за другим, но и надстраивающихся друг над другом, наподобие пирамиды — значений и смыслов.
В то же время постсоветская культура, завершая собой развитие предшествующей культуры и, прежде всего, культуры советской, являет собой начало нового, во всех отношениях после-советского и сверх-советского периода культурно-исторического развития. Этот период, как это явствует из самого его названия, довольно двусмысленного, а потому неопределенного, противоречиво соединяет в себе еще-советское и уже-несоветское, то есть воплощает в себе само становление новой российской культуры, находящейся фактически по ту сторону советского и осуществляющей всеми своими практиками — художественными и нехудожественными (философскими, научными, политическими, повседневными и тому подобными) — идейно-творческий и утилитарно-практический расчет с советизмом во всех его разнообразных социокультурных проявлениях.
Однако постсоветская культура не отделена пропастью от культуры советской [34]. Как и в случае, например, со ступенями советской литературной архитектоники, в отношениях между советской литературой и постсоветской можно усмотреть и дискретность (советская и постсоветская литературы принадлежат разным культурно-историческим парадигмам), и своего рода непрерывность (постсоветское вырастает из советского и ощущается как его продолжение и развитие, а не только как явление, пришедшее после советского или вместо советского) [35]. Продолжая и развивая советскую культуру, постсоветская культура деидеологизирует последнюю и тем самым осваивает ее не только как свою идейную и содержательную противоположность, но и как свою составную часть, и как свой материал для дальнейшего развития и рефлексии (в том числе для переосмысления и переоценки, для стилизации, пародии, деконструкции и тому подобного).
То же происходит и с культурой русского зарубежья, с которой «снимается» ее идеологическое звучание — как культуры несоветской или антисоветской: например, эмигрантская литература осваивается как постсоветская и действительно становится одной из составных частей постсоветской литературы и культуры в целом. Музыка или изобразительное искусство русского зарубежья еще легче (по сравнению с литературой, более идеологизированной) включаются в постсоветское смысловое пространство. В результате разные ступени архитектоники русской культуры ХХ века оказываются не иерархизированными, а рядоположенными: досоветское, советское, русско-зарубежное, постсоветское встроены в единый смысловой контекст как взаимодополнительные (а не противоборствующие) части целого. То же происходит и со ступенями советской архитектоники, которые рассматриваются (извне этой конструкции) не только как очевидная последовательность этапов исторического развития, но и как условная одновременность составных частей русской культуры ХХ века.
Как новая (очередная) ступень культурно-исторической архитектоники постсоветская культура непосредственно опирается прежде всего на предшествующую ей советскую культуру в единстве трех ее модусов — оттепельно-перестроечного (1953 — 1991), монументально-сталинского (1932 — 1953) и переходно-революционного (1917 — 1932); а также на параллельную им русско-зарубежную (эмигрантскую) культуру, в которой можно различить пласты антисоветской, несоветской и просоветской культуры. Кроме того, постсоветская культура опосредованно, так сказать, «через голову» советской культуры, обращается к развивающейся подспудно, в лоне советской культуры, околосоветской культуре и к литературе досоветской, включая русскую литературную классику XIX века и литературу Серебряного века, предшествующие не только советской культуре, но и культуре русского зарубежья. Таким образом, постсоветская культура интегрирует и синтезирует в себе советскую культуру и всю внесоветскую культуру, «снимая» в себе их политико-идеологические разногласия и смысловые расхождения и объединяя их этически и эстетически как разные стороны (и составные части) русско-российской культуры ХХ века, понимаемой как единый гипертекст современности [36].
«Гипертекст» — этот термин объясняет, как действует в постсоветской культуре культурный механизм интеграции столь разнородных, а нередко и взаимоисключающих проблемных полей русско-российской культуры ХХ века. В советское время такая интеграция несоединимого была невозможна с любой точки зрения — как советской, так и несоветской, и антисоветской. Как можно соединить в одно целое, например, М. Шолохова и А. Солженицына, И. Бунина и В. Маяковского, А. Вознесенского и А. Софронова, В. Набокова и автора «Вечного зова» А. Иванова? Или, например, И. Стравинского и С. Туликова, С. Рахманинова и И. Дунаевского, С. Прокофьева и автора гимна СССР А. Александрова, А. Шнитке и Т. Хренникова? «Лед и пламень»!
Однако если представить все эти разные тексты, их авторов, контексты их функционирования, языки их распространения и тому подобное как равнодоступные потребителю ресурсы информации, находимые в интернете; как общий контент сайта, формальные различия составных компонентов которого несущественны для пользователя, как гиперссылки к общей презентации, — мы поймем, на какой почве возникает деидеологизация и десемантизация культурных текстов советского времени в постсоветской культуре. Эта почва — виртуальная реальность, моделируемая новыми медиа. При переходе от советской культуры к постсоветской происходит окончательный поворот от литературоцентризма — модели культуры, сложившейся в России, начиная со второй трети XVIII века и просуществовавшей, с теми или иными препятствиями и помехами, вплоть до 70-х годов XX века, — к медиацентризму.
Именно в это время литературоцентризм в русской культуре стал постепенно вытесняться медиацентризмом — за счет широкого распространения телевидения. Конец советской эпохи был ознаменован появлением на горизонте русской культуры ХХ века интернета. К концу второго десятилетия XXI века медиацентризм культуры окончательно определился как интернет-пространство. В рамках такого виртуального пространства и произошло взаимное определение советской и постсоветской культуры относительно друг друга и того целого, частями которого они являются (русская культура новейшего времени) [37].
Постсоветская культура в этом отношении (с постсоветской точки зрения) — это одновременно и продолжение советской культуры, и ее отрицание, «снятие», и полемическое сопровождение, «спор» с ней, и карнавализация, и деконструкция советского проекта. Однако к этому самоощущению литературных текстов в медийном пространстве добавляется сознание того, что те произведения, которые поначалу слыли «литературными», в дальнейшем стали восприниматься как медийные и трансмедийные, то есть уже как бы необратимо погруженными в медийный контекст.
Ядром всей архитектонической модели советской культуры являлась советская литература, представлявшая собой уникальный и неповторимый литературно-культурологический проект ХХ века, вокруг которого формировались различные версии интермедийного сопровождения и противостояния ему (в том числе и задним числом, как, например, литература Серебряного века). Все остальные разновидности советской (как, впрочем, и несоветской) культуры: те или иные виды искусства, публицистика, различные гуманитарные науки, философия и так далее — первоначально самоопределялись, отталкиваясь от литературы. Однако уже в советское время стал очевиден явный кризис литературоцентризма, наметившийся с разных «концов» культуры. На самом деле этот процесс начался задолго до начала советской эпохи, а в советское время лишь усугубился [38].
С кризисом и концом литературоцентризма ориентация постсоветской культуры на литературу — как советскую, так и несоветскую — оказалась размытой, ослабленной. На первый план вышли отношения интермедиальности, связанные, например, с инсценировкой или экранизацией литературного авантекста, а также с обсуждением в сетях соответствующих медийных метаморфоз первоисточника — литературного, публицистического, философского, религиозного и других.
Предпосылки и первые «ростки» постсоветской культуры начали складываться еще в недрах советской литературы — как внесоветский, несоветский и антисоветский литературно-идеологические проекты, постепенно сблизившиеся между собой и слившиеся воедино. Таковы произведения позднего В. Катаева, Д. Гранина, Вен. Ерофеева. В. Астафьева, В. Быкова, А. Битова, В. Аксенова, А. Солженицына, В. Шаламова, А. и Б. Стругацких, В. Гроссмана, Б. Ахмадулиной, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А Галича, И. Бродского, М. Жванецкого, Л. Улицкой и других, воспринимавшихся уже в советское время как разрушители соцреалистического канона отечественной культуры [39].
В то же время постсоветская литература вбирала и вобрала в себя все феномены литературного «возвращения», не укладывавшиеся в советские каноны и ставшие доступными читателю во многом лишь в процессе перестройки и первых послесоветских лет. В этом ряду находятся произведения Е. Замятина, И. Бабеля, Б. Пильняка, М. Булгакова, А. Платонова, М. Зощенко, О. Мандельштама, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Д. Хармса, Н. Заболоцкого, Н. Олейникова, А. Введенского, В. Гроссмана, В. Шаламова и других, в свое время отринутые советской культурой и постепенно вписавшиеся в оттепельный, перестроечный и постсоветский контекст.
Своеобразие феноменов литературного и иного культурного «возвращения» заключается в том, что эти тексты живут и функционируют одновременно в двух культурно-исторических контекстах — контексте своего создания авторами и в контексте их фактического восприятия, после позднейшей публикации. Смысл таких произведений двоякий — восстановленный из контекста создания и модернизируемый, исходя из современного прочтения. Между этими двумя контекстами неизбежен конфликт, вызванный смысловой несовместимостью исторически дистанцированных создания и восприятия искусства — любыми реципиентами, в том числе и исследователями. Неизбежно и сопоставление обеих версий прочтения возвращенных авторов и их произведений.
Гораздо медленнее (надо думать, в силу инерции литературоцентризма) происходит подобное же возвращение музыкальных произведений, произведений изобразительного и театрального искусства, философских и гуманитарно-научных сочинений ХХ века. Но логика культурно-исторического «возвращения» наследства — такая же.
Еще один важный ряд постсоветской культуры составили произведения русских писателей-эмигрантов — первой, второй и особенно третьей волн. Из первой волны — прежде всего И. Бунин, Д. Мережковский, З. Гиппиус, М. Цветаева, Г. Иванов, Г. Адамович, А. Аверченко, В. Набоков, Г. Газданов; из третьей волны — В. Аксенов, В. Войнович, В. Максимов, А. Синявский, В. Некрасов, А. Галич, А. Солженицын, Г. Владимов, А. Кузнецов, А. Гладилин, С. Довлатов, И. Бродский, Э. Лимонов и другие. Их присутствие в постсоветской литературе воспринималось как своего рода «возвращение» русского зарубежья на родину. И в этом качестве («литературы возвращения») мы наблюдаем включенность этих текстов в два смысловых контекста — контекст создания (зарубежный, эмигрантский) и в контекст «возвращения» (позднесоветский или постсоветский). Соответственно и смысл этих произведений оказывается двойственным — реконструируемый в прошлом и «вчитываемый» сегодня.
Наконец, особая роль в постсоветской культуре принадлежит поколению писателей, которые сознательно формировали себя в позднесоветский период именно как представители пост-советской литературы и постмодернизма: Д. Пригов, Г. Сапгир, В. Сорокин, В. Пелевин, Вик. Ерофеев, Т. Толстая, Л. Улицкая, Б. Акунин, В. Шаров, А. Королев, Л. Юзефович, Д. Быков, Т. Кибиров, С. Гандлевский, С. Алексиевич, Л. Рубинштейн и другие. В их творчестве советская литература выступает как предмет отталкивания, переосмысления, травестирования, пародирования, деконструкции, а само их творчество утверждает себя — как конец советского и начало нового.
Таким образом, постсоветская культура формируется из разных пластов советской и внесоветской культур, вольно или невольно характеризуется пестротой и мозаичностью, бессистемностью, что позволяет нейтрализовать за счет медиапространства политико-идеологическую напряженность межтекстовых связей и культурно-исторически унифицировать различные по происхождению, идейно-эстетической направленности, методу и стилю литературные произведения в общем постсоветском (медиальном) контексте. В то же время постсоветская литература, будучи во многом медиализированной, в том числе за счет медиаинтерпретаций, то есть в значительной степени уже вышедшей за границы чистой литературности в медиапространство, осуществляет функции синтеза и обобщения всей предшествующей русской литературы ХХ века — от Серебряного века до наших дней — средствами не чисто литературными, но, скорее, мультимедийными.
В последние годы мы наблюдаем происходящий в мировой культуре медиаповорот. Смысл его не исчерпывается тем, что существовавшая в исторически развитых культурах на протяжении многих веков система словесной самоорганизации культуры — литературоцентризм — сменилась принципиально иной системой смысловой самоорганизации культуры — медиацентризмом. Однако наследование одной системой достижений другой было не линейным, а архитектоническим: медиацентризм «надстраивался» над литературоцентризмом как вторая, более сложная ступень самоорганизации культуры, над первой, более простой, и опирался на нее как на свой «фундамент».
Появление в качестве медиума универсальной знаковой поверхности — экрана — размыло границы между вербальными текстами, генетически связанными с книжной культурой, и визуальными текстами, органически свойственными экранной культуре. Культурные тексты того и другого формата отныне одинаково репрезентируются на плоскости одним и тем же экраном. В связи с этой новацией изменяется и формат реципиента медиакультуры: былое различение субъекта словесности (читателя) и субъекта визуальности (зрителя) перестает быть значимым. Новый синкретический субъект медиакультуры — это зритель и читатель в одном лице; точнее у него, как у двуликого Януса, два лица — читателя и зрителя.
Эта связка — читателя и зрителя — внутренне диалогична и неразрывна. Но функционирование этой связки вариативно. Складывается двухуровневая конструкция: в одном случае ведущим элементом в ней является зритель (тогда читатель выполняет подчиненную роль); в другом — ведущим элементом становится читатель (а зритель подчинен читателю). Фактически действуют две версии медиасинтеза: «читатель как зритель» и «зритель как читатель», выражающие две различные текстовые стратегии нового порядка.
Функция стратегии «читатель как зритель» реализуется в медиакультуре специфическим образом: чтение осуществляется как бы «глазами зрителя». Вербальный текст «схватывается» зрителем быстро, единым взглядом, сразу в целом, без углубления в смысл, без детализации и, таким образом, усваивается поверхностно, на уровне самой общей (а потому не самой содержательной) информации. Для того чтобы углубиться в текст, его нужно пере-читать, то есть обратиться к его чтению повторно, а это возможно сделать, лишь «опустившись» на уровень читателя. Впрочем, в условиях быстрого «пробегания» глазами того или иного медиатекста, возвращение к нему ради повторного чтения мало реально и вообще возможно лишь в случае его непóнятости «с первого взгляда». Тогда к «зрительскому типу чтения» подключается «читательский тип», а зритель дополняется читателем.
«Зрительское чтение» (ближайший аналог — клиповое мышление) отличается от «читательского чтения» целым рядом особенностей. Во-первых, это «скорочтение», схватывание сути написанного с «первого взгляда», а значит, поверхностное, свернутое, ограничивающееся минимумом содержащейся в тексте информации. Литературное произведение начинает восприниматься на уровне фабулы (то есть потока следующих один за другим внешних событий), но не на уровне сюжета (развития художественной идеи). В этом отношении чтение романа становится неотличимым от бездумного поглощения телесериала. Позиции автора текста и его персонажей перестают различаться. Социальные, бытовые и психологические детали повествования лишаются символического и концептуального значения и остаются лишь предметно-вещным фоном событийного нарратива.
Во-вторых, это однократное действие, в принципе не предполагающее возвращения назад, «перечитывания» одного и того же, аналитического подхода к прочитанному (поэтому философские, религиозные, политические смыслы текста, всевозможные подтексты, интертекстуальные связи от читающего зрителя неизбежно ускользают). Глубинные пласты содержания (различные аллюзии, скрытые цитаты, символика, мифологические и религиозные ассоциации, жанровые и стилевые каноны и прочее) вообще не воспринимаются и остаются «невидимыми».
В-третьих, с исчезновением глубины, метафоричности и многомерности/многозначности текста утрачивается отличие текстов художественных от нехудожественных, то есть теряется эстетическое измерение текста, а вместе с тем и нравственное, и интеллектуальное его наполнение.
В-четвертых, усиливаются визуальные ассоциации, исходящие из вербального текста, независимо от иносказательных, идеологических, философских или символических смыслов, как правило, вкладывавшихся в них. Что же касается собственно интеллектуально-философских текстов, то их понимание, с точки «зрительского чтения», вообще невозможно, поскольку их проблематика предметно не вообразима и не имеет визуальных коннотаций и эквивалентов в окружающей повседневности.
Зритель вербального текста, дающий его вольную трактовку, поданную через призму своего визуального опыта, на самом деле подменяет авторский текст — собственным, притом принципиально отличным от исходного своей визуальностью (а это ви́дение вряд ли можно считать чтением, скорее это — визуальная реинтерпретация «просмотренного»). В этом случае читательская коррекция «зрительского» опыта прочтения необходима и неизбежна.
Не менее своеобразно реализуется стратегия «зрителя как читателя». В зрительское восприятие субъекта современной культуры имплицитно вложен экфрасис (вербальная репрезентация визуального), который реализуется как функция читателя, заключенного в подтексте зрителя. Ви́дение некоего визуального ряда не только может, но и, в идеале, должно быть дополнено чтением как бы стоящего «за ним» (в глубине), подразумеваемого вербального текста. «Прочтение» визуального текста предполагает не только и не столько его «просмотр», но и осмысление. И в этом признании заключена не только метафора, но и констатация возможной или необходимой вербализации визуального содержания как способа более глубокого проникновения в его смысл. Подобная вербализация содержания произведений изобразительного искусства почти всегда сопровождает процесс чисто визуального созерцания живописи (часто начиная со словесного названия картины), хотя не всегда акцентируется зрителем. Исключение составляют произведения беспредметного искусства, принципиально рассчитанные на «прочтение» на ином, невербальном языке [40; 41].
Двухуровневое восприятие визуального текста имеет особое значение в кино. Массовые жанры (детективы, боевики, мелодрама, фильмы ужасов и тому подобное) могут вполне обойтись чисто «зрительским» подходом, отслеживающим событийную фабулу, развитие и разрешение конфликтов, борьбу характеров и обстоятельств, разгадывание какой-то тайны и тому подобное. Никакой «глубины» визуального текста за подобным «событийным потоком» не стоит. Подобные массовые жанры словесной беллетристики также не знают глубины текста и отлично схватываются «зрительским» чтением. Однако как только мы сталкиваемся с интеллектуальным или поэтическим кинематографом, нам уже не избежать «читательского взгляда». Подобные фильмы должны быть не только увидены (зрителем), но и прочитаны (читателем). И только в результате такого внимательного «прочтения» вербального подтекста становятся очевидными философские, исторические, религиозные, нравственные и другие прозрения художников-мыслителей в кино.
Таким образом, диалогически соединенные в одном субъекте культуры зритель и читатель — совместными и нередко одновременными усилиями — организуют проникновение в глубину кинотекста (на поверхности — визуального, а в глубине — вербального). Аналогично работает и сам субъект медиакультуры: на поверхности быстрого восприятия он по преимуществу — зритель; в глубине, отягощенной неторопливым анализом и размышлением, он в основном — читатель; но в данном случае читатель и зритель — «сообщающиеся сосуды», взаимно корректирующие свои наблюдения и обобщения, тяготеющие к синтезу (а если это искусство — к синестезии).
Реципиент медиакультуры, как в первую очередь зритель, одним зрительским восприятием не может пробиться за поверхность экрана, в «непроницаемые глубины» так называемого субмедиального пространства (Б. Гройс), представляющего собой скрытый, невидимый зрителю анклав знаковых носителей. Здесь ему может помочь лишь читательский субъективный опыт, наполняющий это пространство, по его воле, различными догадками, подозрениями, опасениями, прозрениями и открытиями, выраженными словесно и, в той или иной мере, литературно [42]. В этом отношении «начитанность» зрителя/читателя, его литературная эрудиция, развитое читательское воображение являются незаменимым источником интерпретативных «подсказок», позволяющих «освоить» субмедиальное пространство, заполнив его гипотетическими версиями, мотивами, символическими значениями, некоторые из которых имеют шанс в дальнейшем подтвердиться на практике, уже за пределами медиатекста. Таким образом, «читательское зрение» выступает как мысленное продолжение «зрительского ви́дения» и становится своеобразным средством творческого расширения медиареальности.
Еще одним важным резервом медийного расширения человека является двухслойная соотнесенность визуального и звукового (музыкального) ряда. Эти отношения Эйзенштейн называл «звукозрительным феноменом» и «звукозрительным монтажом», природу которых он связывал с умением сочетать «культуру слуха» с «культурой глаза», с «нахождением средств соизмеримости изображения и звука» [43]. Таким образом в «заэкранном пространстве была обнаружена еще одна двусоставная характеристика субъекта медиакультуры — «звукозритель», сопоставимая со «зричителем». Этот феномен получил недавно и другое, тоже правомерное название — «зритеслушатель» [44]. В этой структурной единице медиакультуры «зрительский слух» взаимодействует со «слушательским зрением», которые являются такими же взаимодополнительными компонентами интермедиального восприятия кино, театра, телевидения, видеоарта, сетевого искусства, как и «читательское зрение» и «зрительское чтение».
Все это означает, что виртуальная реальность, скрытая от нас под медиальной поверхностью экрана и нередко ассоциирующаяся с «темным субмедиальным» пространством, обладает сложной феноменальной структурой, требующей более глубокого изучения — как в отношении старых, так и новых медиа [45; 46]. На смену медиализации культуры грядет ее виртуализация, а виртуальная реальность тесно смыкается с воображаемым [47], что значительно усложняет наши недавние представления о реальности, культуре, искусстве и человеке, об интенциональности, ментальности и познаваемости мира.
Примечания:
[1] Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. — М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. — С. 9.
[2] См.: Ханзен-Леве, Оге А. Интермедиальность в русской культуре. От символизма к авангарду. — М.: РГГУ, 2016.
[3] Кондаков И. В. Архитектоника российской цивилизации // Культурология: История культуры России. — М.: Высшая школа; Омега-Л, 2003. — С. 542 — 558. См. также: Он же. Архитектоника русской культуры // Кондаков И. В. Культура России. 4 изд. М., 2008.
[4] Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. З-е изд. — М.: Московский хронограф, 2008. — С. 782, 853 — 855, 863 — 864.
[5] См. подробнее: Кондаков И. Покушение на литературу (О борьбе литературной критики с литературой в русской культуре) // Вопросы литературы. 1992. №2. С. 75 — 127.
[6] См., например: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 9 — 11 и 13; т. 6, С. 171.
[7] Громов Е. С. Сталин: Искусство и власть. — М.: Эксмо, 2003. — С. 229 — 230, 233, 237 — 239, 243 и др.
[8] Эльзессер Т., Хагенер М. Теория кино. Глаз, эмоции, тело. — СПб.: Сеанс, 2018. — С. 357 — 363.
[9] Кондаков И. В. Феномен «эстрадности» в культуре «оттепели» // Художественная культура. 2018. №4. — С. 162 — 195.
[10] Эльзессер Т., Хагенер М. Цит. изд. — С. 357 — 358. Термин «ремедиация» предложили Дж. Д. Болтер и Р. Грусин. См.: Bolter J.D., Grusin R. Remediation: Understending New Media. Cambridge (MA), London: MIT Press, 1999. Позднее к этой концепции присоединился и внес в нее свои коррективы Л. Манович (Image Future, 2006).
[11] От искусства оттепели к искусству распада империи. Сборник статей / Отв. ред. Н. А. Хренов. — М.: ГИИ; Канон + РООИ «Реабилитация», 2013.
[12] Кондаков И. В., Соколов К. Б., Хренов Н. А. Цивилизационная идентичность в переходную эпоху: культурологический, социологический и искусствоведческий аспекты. — М.: Прогресс-Традиция, 2011. — С. 460 — 462.
[13] Эти странные семидесятые, или Потеря невинности: Эссе, интервью, воспоминания / Сост. Г. Кизевальтер. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.
[14] Переломные восьмидесятые в неофициальном искусстве СССР / Сборник материалов; редактор-составитель Г. Кизевальтер. — М.: Новое литературное обозрение, 2014.
[15] Многогранность человеческого капитала: культурные и социальные основания. Коллективная монография (общ. ред. и сост. О. Н. Астафьевой и О. В. Шлыковой). — М.: Согласие, 2019. — С. 62 — 94 и др.
[16] Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: 1950 — 1990-е годы: В 2 т. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. Т.2. — С. 668- 669.
[17] Дубин Б. В. Очерки по социологии культуры: Избранное. С.625 — 627.
[18] См. подробнее: Кукулин И., Липовецкий М. Постсоветская критика и новый статус литературы в России // История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи / Под ред. Е. Добренко и Г. Тиханова. — М. Новое литературное обозрение, 2011. С. 635 — 722.
[19] См., например: Тимина С. И., Левченко М. А., Смирнова М. В. Русская литература ХХ — начала XXI века: Практикум. — М.: ИЦ «Академия», 2011.
[20] Кондаков И. В. Архитектоника культуры как метод исторической культурологии (на примере России) // Мир культуры и культурология. Альманах Научно-образовательного культурологического общества России. Вып. II. — СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2012. С. 156 — 157.
[21] Кукулин И. В. Машины зашумевшего времени: как советский монтаж стал методом неофициальной культуры. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — С. 453 — 492.
[22] Сальникова Е. В. Визуальная культура в медиасреде. Современные тенденции и исторические экскурсы. — М.: Прогресс-Традиция, 2017. — С. 61, 77 — 78, 146, 150 — 157, 477 — 478, 509 — 513 и др.
[23] Эко У. Открытое произведение: Форма и неопределенность в современной поэтике. — СПб.: Академический проект, 2004. — C. 10 — 66 и далее.
[24] Луман Н. Реальность массмедиа. — М.: Праксис, 2005. — С. 60 — 69, 83 — 100, 148 — 159 и т. п.
[25] См. подробнее: Дубин Б. В. Динамика печати и трансформация общества; Журнальная культура постсоветской эпохи // Он же. Очерки по социологии культуры. — С. 41 — 48; 49 — 57 и далее.
[26] Солженицын А. И. Публицистика: В 3-х т. Т. 1. — Ярославль: Верхне-волжское кн. изд-во, 1995. — С. 538 — 598.
[27] См.: Дубин Б. В. Печать 90-х годов: общие данные // Он же. Очерки по социологии культуры. — С. 750 — 754.
[28] См. подробнее: Кондаков И. В. От литературоцентризма — к медиацентризму (Вектор образовательных технологий или веер открывающихся возможностей?) // Высшее образование для XXI века. V Международная конференция: Москва 13 — 15 ноября 2008 г.: Доклады и материалы. Секция 9. Высшее культурологическое образование. М.: Изд-во МосГУ, 2008. — С. 73 — 86.
[29] Кондаков И. В. От Логоса — к «Глобусу» (Еще о русском литературоцентризме) // Гуманитарное знание и вызовы времени / Отв. ред. и сост. С. Я. Левит. — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. — С. 377 — 392.
[30] См.: Дубин Б. В. Телевизионная эпоха: жизнь после // Он же. Очерки по социологии культуры. — С. 750 — 763.
[31] Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / Он же. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. — М.: РГГУ, 2012 (Серия: «Современные гуманитарные исследования», Кн. I). — С. 228.
[32] См.: Дубин Б. В. Телевизионная эпоха: жизнь после // Он же. Очерки по социологии культуры. — С. 761 — 785.
[33] См. также: Дубин Б. В. Массмедиа и коммуникативный мир жителей России: пластическая хирургия социальной реальности // Он же. Россия нулевых: политическая культура — историческая память — повседневная жизнь. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. — С. 197 — 220.
[34] См., например: Современная русская литература (1990-е гг. — начало XXI в.). / Под ред. С. И. Тиминой. 3-е изд. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: ИЦ «Академия», 2013.
[35] Кондаков И. В. К архитектонике «советского» // Социокультурная динамика глобальных процессов. Научные труды кафедры глобалистики и геополитики (К 25-летию). — СПб.: Стратегия будущего, 2014. — С. 95 — 97
[36] Кондаков И. В. Архитектоника современности как культурной эпохи // Современное состояние культуры и общества: Особенности и перспективы развития России / Отв. Ред. А. В. Костина. — М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2013. — С. 155 — 161.
[37] Кондаков И. В. По ту сторону слова: Кризис литературоцентризма в России ХХ — XXI вв. // Вопросы литературы. 2008. №5. С. 5 — 44.
[38] Кондаков И. В. Кризис литературоцентризма в России (ХХ — начало XXI вв.) // Теория художественной культуры. Вып. 12 / Под ред. Н. А. Хренова. М.: ГИИ, 2009.
[39] Соцреалистический канон. Сборник статей / Под ред. Х. Гюнтера и Е. Добренко. — СПб.: Академический проект, 2000.
[40] См. более подробно: Кондаков И. В. «Зричитель»: новый субъект современной культуры // Обсерватория культуры. 2016. №5. — С. 516 — 525. Неологизмом «зричитель» я условно назвал синтез зрителя и читателя в современной медиакультуре.
[41] См. также: Кондаков И. В. Культурная семантика «заэкранного» пространства // Художественная культура. 2018. №1 (23). — С. 32 — 45.
[42] Гройс Б. Под подозрением: Феноменология медиа. — М.: Художественный журнал, 2006. — С. 16 и далее.
[43] Эйзенштейн С. М. За кадром // Он же. За кадром: Ключевые работы по теории кино. М.: Гаудеамус; Академический проект, 2016. — С. 412, 411, 418 и др.
[44] Дуков Е. В. Сеть: публика и искусство. — М.: ГИИ, 2016. — С. 149 и далее.
[45] См., например: Таратута Е. Е. Философия виртуальной реальности. — СПб.: СПбГУ, 2007 (Серия «Апории», вып. 2).
[46] Василькова А. Н. Феномен виртуальности: О переходе между мирами… — М.: ГИИ, 2016.
[47] См. подробнее: Суворов Н. Н. Воображаемое как феномен культуры. — СПб.: СПбГИК, 2018.
В направлении XXI века
Юрий Богомолов
Об эссеистике в экранных искусствах
«Журден. Скажите на милость! Сорок слишком лет говорю прозой — и невдомек!»
Мольер
Собственно, мастера экранных медиа часто не догадываются, что они сочиняют в жанре «эссе». Не догадываются, потому что не думают в эту сторону. И мне это было как-то без разницы и не интересно, но до поры до времени.
До того времени, когда вызрела теоретическая коллизия.
Припоминая будущее задним числом
В силу разных обстоятельств и не в последнюю очередь по причине технологической отсталости отечественной телеиндустрии ТВ в нашей стране не сразу было осознано как средство массовой коммуникации. Но и на сей раз не случилось худа без добра. Отставание оказалось к лучшему, к выгоде того, что представлялось, на первый взгляд, чем-то факультативным — в пользу искусства.
Ограниченность телеаудитории явилась благоприятной предпосылкой для разведки по части эстетических возможностей нового визуального аттракциона. И почти сразу теоретики и критики ТВ обратили внимание на его художественные потенции. Первым делом они вспомнили запись Сергея Эйзенштейна, датированную 1946-м: «Там (в кинематографе) монтаж, например, был лишь более или менее совершенным следом реального хода восприятия событий в творческом преломлении сквозь сознание и чувства художника. А здесь он станет самым непосредственным ходом в момент свершения этого процесса» [1].
Великий режиссер и теоретик кино прежде прочего оценил эстетическую новизну ТВ-технологии, имея в виду сиюминутность монтажа и не имея перед собой ни одного ее продукта. А Михаил Ромм в начале 60-х годов уже не сомневался в художественной природе голубого экрана и категорично заявил: «Я полагаю телевидение самостоятельным искусством» [2].
Большинство его коллег согласились с ним наполовину: ТВ — да, искусство, но не самостоятельное, а скорее — прикладное. В смысле — репродуктивное.
Конечно, тут же ставится вопрос: насколько специфичен язык телевидения как формы художественного творчества? И в чем его специфика?
Ответ: прежде всего, в сиюминутности. На первых порах телевизионная сиюминутность воспринималась как чудо. Так же как достоверность киноизображения — на заре кинематографа. Хотя бы потому, что сиюминутность ощущалась новым качеством достоверности.
И новым уровнем искренности.
И новым свойством непосредственности.
И, наконец, «рентгеном характера». То есть своего рода — телевизионным полиграфом.
На это, собственно, и обратил внимание первый исследователь «чуда голубого экрана» Владимир Саппак в своей книге «Телевидение и мы» [3].
У сторонников исключительно репродуктивной компетенции ТВ не находилось убедительных контраргументов до той поры, пока достоянием повседневной телевизионной практики не стала видеозапись, которая вроде бы и отменила языковой барьер между двумя экранными музами — кино-зрения и дально-видения.
Патриоты художественного кинематографа поспешили указать новой технической Музе на ее место. Место тени. То есть место изначально ущербной копии [4].
Была еще надежда на такую специфическую данность, как сериальность экранного сочинения. Именно в этой дисциплине кинематограф не мог не уступить ТВ. В шахматах такой ход называется «жертвой качества».
В количественном отношении киносерии и телесериалы действительно — не ровня.
Именно качеством «картинки» сериалы в массе своей не могли похвастаться. Хвастались и продолжают козырять количеством серий и сезонов. И потому работа над ними не высоко ценилась мастерами кино. И даже презиралась. Считалась «отхожим промыслом».
…Но главным препятствием реализации креативного начала ТВ стала его коммуникативная функция. На Западе она мгновенно возобладала над художнической претензией новоявленной технической Музы. У нас это произошло не сразу, с некоторой задержкой. Но, в конечном итоге, и мы пришли к выводу, что из всех коммуникаций наиважнейшей для КПСС является Телевидение. (Кажется, до меня кто-то нечто подобное сказал по другому поводу.) По этой причине им больше стала заниматься социология вкупе с культурологией. Теоретический интерес к практике ТВ со стороны искусствоведов и художественной критики заметно упал.
Между тем, как показало будущее, которое сегодня, в ХХI веке, предстало настоящим, хоронить телевидение как «самостоятельное искусство» в середине ХХ века было рано.
Стоило телезрителю с помощью интернета сорваться с поводка эфирного вещателя, как и сериал отлепился от него. Отношения между сериалом и зрителем стали более избирательными и, стало быть, более вкусовыми и более свободными в эстетическом отношении, что позволило первому вернуть себе изобразительное качество большого кинематографа и открыть в себе способности к художественным откровениям и открытиям.
Сериал, порвавший отношения с программным вещанием, способен воспроизвести в рамке повествования не суррогатную поэтику романа, подобную той, что давно является рутинной практикой на общедоступных бесплатных телеканалах, а ту сложную, многоуровневую конструкцию, что свойственна литературной классике.
Но не единым сериалом сегодня живо самоценное телевизионное искусство. Есть и такая форма телевизионного творчества, которая пока еще недооценена и которой все еще не дано имя. Она живет под чужой крышей.
То под крышей лирического репортажа. Это даже не дом; это — легкий навес.
То под вывеской «Документальный фильм». Это более солидное укрытие. Но все равно — съемная квартира.
Своя крыша над головой, скажем, для Леонида Парфенова с его многочисленными работами — «видеоэссеистика».
Ее появление теоретически предрек и предвосхитил опять же Михаил Ромм.
Сначала предрек.
Снова вместе с Михаилом Ильичом «Поглядим на дорогу»: «Есть одно свойство телевидения, которое специфично для него и представляет еще не вполне осознанное, не освоенное, но сильное и новое оружие, пришедшее как бы в подкрепление к привычному кинематографическому методу передачи явлений жизни. Это свойство заключается в том, что когда с экрана телевизора диктор или приглашенный в студию общественный деятель разговаривает со зрителем, то зритель ощущает непосредственное общение с ним. Именно этим объясняется необычайно широкая популярность телевизионных дикторов» [5].
Выделим и назовем еще раз это специфическое «телевизионное свойство»: «Когда с экрана телевизора диктор или приглашенный в студию общественный деятель разговаривает со зрителем, то зритель ощущает непосредственное общение с ним».
И тогда же, глядя на дорогу, Ромм выразил уверенность, что «постепенно разовьются новые формы телефильма или телеспектакля с широким использованием эффекта общения, с развитым авторским комментарием, с введением непосредственного, прямого наблюдения жизни» [6].
Это ли не определение сущности того экранного произведения, которое мы вправе назвать эссеистическим и которое его автор сам вскоре претворил на практике сугубо кинематографическими средствами. Его «Обыкновенный фашизм» в кинопрокате смотрелся как белая ворона и остался на долгие годы исключением. Хотя сам автор почти сразу же попытался повторить собственный опыт эссеистичного размышления в рамках кинопроизведения. Оборвавшаяся жизнь не позволила Ромму закончить картину, которая называлась «И все-таки я верю». Картина дает возможность судить скорее о замысле автора, нежели о его реализации.
Если кто попытал свои силы на поприще кинематографа в эссеистике, так это Александр Сокуров с фильмами «Русский ковчег» и «Франкофония». Оба остались незамеченными в нашем прокате. И самим прокатом, к слову. Не в последнюю очередь по причине неорганичности бытования в рамках кинопроката экранной эссеистики. Тем примечательнее феноменальный успех «Обыкновенного фашизма».
Опыт «мыслепреступления»
Фильм «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма вышел на экраны страны в 1966 году и собрал аудиторию в 20 миллионов зрителей. Фильм смотрелся как откровение. И был он таковым не только для советских людей. Есть много свидетельств, что так же он воспринимался на Западе, в том числе и в самой Германии.
Откровение состояло в банальности того, что называлось «фашизмом». А шок заключался в том, что фильм о фашизме оказался зеркалом, в котором советские граждане опознали некоторые сущностные черты политического режима собственной страны и ее истории.
Зеркало было, конечно же, несколько гротескным, но не более, чем в известном парковом аттракционе. Там, вглядываясь в отражение, мы веселимся именно потому, что узнаем себя, сколь бы карикатурно не выглядели. Здесь, узнавая себя, либо убеждались в сходстве, либо не могли позволить себе признаться в нем.

Много позже Майя Туровская, один из соавторов фильма, чистосердечно засвидетельствовала: «Он был о них, и он был, конечно, и о нас тоже. И это они поняли, так же как понимали мы, когда начинали его делать. Мы для этого его делали. Просто это не произносилось вслух» [7].
В прокат «Обыкновенный фашизм» просочился окольной стороной. Фильм сначала отвезли в ГДР, руководство которой посмотрело и одобрило, после чего советское киноначальство уже не решилось воспрепятствовать показу широкой публике. Правда, вскоре картина была изъята из обращения по высочайшему велению главного идеологического вертухая того времени Михаила Андреевича Суслова.
Тогда же создателями фильма была предпринята безумная попытка на волне зрительского успеха картины сопроводить ее медиапродуктом — богато иллюстрированным альбомом. Уже много позже Майя Туровская, общаясь с журналистами радиостанции «Свобода», рассказала, что когда все было согласованно, а издательство изготовило макет книги, неожиданно последовал строжайший приказ: забыть о ее издании. Михаил Ильич Ромм посетил высокого начальника и выразил в его кабинете глубокое недоумение: «Миллионы посмотрели фильм, в чем дело, почему вы закрываете книгу?» И услышал в ответ: «Миллионы посмотрели и забыли, а книгу откроют, начнут думать, хотя их будут только тысячи» [8].
«Начальник» со своей стороны был прав: неконтролируемая мысль индивида — серьезная угроза режиму. Может быть, даже большая угроза, нежели единовременный массовый успех картины.
У Оруэлла в романе «1984», тоже оказавшегося зеркалом для Страны Советов, ответ на него прозвучал чеканно: «Мыслепреступление не влечет за собой смерть: мыслепреступление ЕСТЬ смерть» [9].
В самом деле, тоталитарный режим иначе и не мог квалифицировать склонность человека к размышлению. А тут появляется кино, которое делает течение мысли не просто наглядным, но и почти физически осязаемым.
Создатели картины воспроизвели на экране процесс «думания». То есть движение мысли, ее развитие, повороты, скачки и развороты.
Тогда же стало понятно, что «Обыкновенный фашизм» не просто документальный фильм. Но он и не вполне — художественный. Гибрид типа «документально-художественный» подразумевает сумму разнородных приемов, а не их произведение.
Четвертый род литературы
В литературе эссе как форма издревле и широко распространена. Родоначальником ее значится Мишель Монтень с его «Опытами». За французским литератором последовал со своими «Опытами» британец Френсис Бэкон. Далее Джон Мильтон с «Ареопагитикой».
Если в ХVI — XVII веках эссеистический формат литературного сочинения адресовался очень ограниченной аудитории, именовавшейся салонной, то в XVIII — XIХ веках с распространением периодики резко расширилась и читательская аудитория. Журнальные и газетные колонки все чаще размещают эссеистические рефлексии таких известных беллетристов, как Свифт, Филдинг и Джонсон. Расширяются темы: история, политика, образование, экология, быт, искусство и так далее. И уже редкий сколько-нибудь значительный прозаик или поэт упускает возможность непосредственно вступить в контакт с ограниченно широким кругом читателей на интересующую его тему. Назовем самые звездные имена: Уайльд, Честертон, Шоу, Манн, Моруа, Камю, Сартр, Хикмет, Хаксли.
Русская словесность тоже богата классикой этого рода — Радищев, Пушкин, Белинский, Тургенев, Достоевский, Набоков, Мандельштам, Шкловский, Шаламов, Пришвин, Катаев, Довлатов, Вайль, Генис и — сколь не покажется странным мое утверждение — Жванецкий.
Потому, собственно, и не кажется преувеличением мнение тех литературоведов, кто предлагает рассматривать эссе как четвертый род литературы наряду с эпосом, лирикой и драмой.
У эссеистического сочинения нет границ ни ментальных, ни социальных, ни исторических, ни географических; оно распахнуто на все стороны. Оно подвижно в любом направлении. Здесь нет рампы. И здесь противоестественна «четвертая стена». И этим эссеистика кардинально отличается от беллетристики.
И тем еще отличается, что автор здесь — реальный персонаж повествования, не желающий прятаться за кем-либо из вымышленных героев и не нуждающийся в сюжетной конструкции. Монтень в своем эссе «О книгах» замечает, что «нет другого связующего звена при изложении мыслей, кроме случайности» [10]. В силу этого мысль не может быть иной, как прихотливой в отношении к чему бы то ни было. Более-менее объективно — его «я».
«Это искренняя книга, читатель, — сказано в предисловии к „Опытам“. — Она с самого начала предуведомляет тебя, что я не ставил себе никаких иных целей, кроме семейных и частных. Я нисколько не помышлял ни о твоей пользе, ни о своей славе. Силы мои недостаточны для подобной задачи. Назначение этой книги — доставить своеобразное удовольствие моей родне и друзьям: потеряв меня (а это произойдет в близком будущем), они смогут разыскать в ней кое-какие следы моего характера и моих мыслей и, благодаря этому, восполнить и оживить то представление, которое у них создалось обо мне» [11].
Автор делает себя объектом познания и с целью исследования своего «я» различает в себе нескольких персонажей — Ум, Душа, Характер, что живут то в ладу, то в спорах о тех или иных аспектах текущей реальности. Аспекты надобны, как химические реактивы, проявляющие ту или иную сторону его «я», которое в свою очередь подсвечивает и даже просвечивает явления природы, принятые нормы, отношения друзей, научные знания, этические затруднения, поэтические откровения и так далее.
Что же касается самого текста, его сочинения и воспроизведения, то все делается, по свидетельству Монтеня, как нельзя просто: «Я излагаю свои мысли по мере того, как они у меня появляются; иногда они теснятся гурьбой, иногда возникают по очереди, одна за другой. Я хочу, чтобы виден был естественный и обычный ход их, во всех зигзагах. Я излагаю их так, как они возникли…» [12]
Вроде и просто, но почему-то у читателя предельно субъективных «Опытов» возникает вполне достоверная и целостная картина того, как в далекие времена люди жили, чем жили, по каким правилам жили.
Потому возникает такая картина, объясняет филолог Людмила Кайда, что «спонтанность процесса осмысления своего „я“ создает атмосферу сиюминутной естественности, располагает к доверительности, стимулирует ответные реакции» [13].
Об эффекте стилистической манеры эссеиста Монтеня сказано примерно в тех же словах, в каких и Эйзенштейн, и Ромм говорили о специфической природе телевизионного творчества. Первый обратил внимание на предоставленную ТВ-технологией возможность «сиюминутного монтажа». Второй указал на предрасположенную общительность человека в рамке телеэкрана. Повторим за Роммом: «Когда с экрана телевизора диктор или приглашенный в студию общественный деятель разговаривает со зрителем, то зритель ощущает непосредственное общение с ним».
Возвращаясь к Монтеню, фиксируем сущностное в его методе: сиюминутность «думания» (то есть монтажа мыслей, сказал бы Эйзенштейн) и непосредственность контакта с читателем (что применительно к природе общения с телезрителем имел в виду Ромм).
Вот, собственно, самые сущностные черты того вида художественной деятельности, которую принято называть четвертым родом словесности и в рамках которой возможна эссеистика экранных медиа. В первую очередь телевизионных медиа.
На пути к экрану
Надо принять во внимание, что устная словесность в истоке носила синкретический характер: это когда поэт, он же исполнитель, и слушатель-зритель — на расстоянии голоса. То есть сюжетное время совпадает с исполнительским и с временем восприятия. В древнегреческой трагедии время восприятия на сцене олицетворялось Хором.
Художественная словесность прошла длинный и тернистый путь своей десинкретизации. В древней поэзии заметно преобладание музыкально-ритмического начала над текстом. Очевиден безличный характер творчества. Значим элемент состязательности, что обостряет впечатление безусловности условно-настоящего времени. Эффект усиливается, как правило, импровизационностью творческого акта.
Сиюминутное творчество древних сказителей и певцов опиралось на сиюмоментное восприятие и в значительной степени было им обусловлено. Тому напоминание — поговорка, бытовавшая среди американских поэтов: «Песня не спета, если она не подхвачена».
Такова данность синкретической поэзии: произведение неотделимо от воспроизведения, и, следовательно, авторское, исполнительское и зрительское время есть единое целое.
Вычленение, скажем, реального авторского времени создает предпосылки для исполнительского ремесла. Тут же возникает зона отчуждения зрителя. А с ней является потребность ее преодоления если не физического, то иллюзорного.
Вся история литературного развития рассматривалась филологом А. Веселовским как история разложения и отрицания синкретического начала, признаки которого слабеют под давлением исторических условий.
Но тот же Веселовский говорит и о «грядущем синкретизме». Более того, он распространяет хоровое начало сотрудничества певцов и слушателей на всю поэзию и литературу.
Вот его заключительный вывод, что поэзия слова «вечно творится в очередном сочетании <…> форм <…>; все мы участвуем в этом процессе, и есть между нами люди, умеющие задержать его моменты в образах, которые мы называем поэтическими» [14].
Стало быть, это следует понимать так, что синкретизм является не просто исходной точкой движения искусства, но и неизбежной закономерностью его развития. А также своего рода ферментом этого развития.
К сему надо добавить, что «сочетание форм» может быть разным и что одними из серьезных факторов, влияющих на темпы и способы становления художественных структур, служат те или иные технологии фиксации и тиражирования самих произведений.
Некогда в десинкретизации важную роль сыграл формат книги — кодекс, вызванный к жизни потребностью документализировать имущественные отношения. Но сначала — письменность. В деле фиксации письменных текстов был побежден свиток. Книга имеет то преимущество перед устной речью, что более аналитична.
Гуттенбергово изобретение расширило границы восприятия по горизонтали и по вертикали, чем предопределило более свободные отношения сочинителя с реципиентом.
И чем реальнее разрыв, тем насущнее стремление условно его преодолеть. И немалое искушение его реально отменить. Следует самоопределение художественного вымысла и отделение его от автора. То, что в театре называется «четвертой стеной», очевидная данность и в беллетристическом произведении.
Впрочем, технически побежденный реальный синкретизм продолжил иллюзорную жизнь.
И в литературе, и в театре все четыре стены не непреложны. За века существования художественной словесности ее мастера придумали бесконечное множество способов их условного разрушения и столь же условного воссоздания.
То, что в литературе было длительным и постепенным процессом, в кинематографе предстает как неожиданный эксцесс. Уже где-то в конце первого десятилетия существования кино такое простое средство, как монтаж, перестает быть исключительно технической заботой. Способ «запоминания» реальности с господством монтажных концепций кинематографа утверждается как средство ее истолкования.
За монтажным столом фотография картины заново переосмысливается. Режиссер с помощью ножниц и клея воздействует на фотографический материал. Другими словами, он делает видимой фактуру кинопленки, ее вещественность и материальность. Он заставляет зрителя поверить в сделанность изображения на экране, то есть в его искусственность. Мы же не говорим: смотреть в экран. Мы говорим: смотреть на экран. Экран — не окно. Экран — полотно. Язык не обманешь.
Язык не обманул и в случае с телеэкраном. Хотя здесь обмануться было много проще и, можно утверждать, естественнее. Хотя бы потому, что он много прозрачнее киноэкрана в силу свойств телекоммуникации, о которых говорилось выше.
Я опускаю историю самоопределения «телекартинки». Она в основном связана с эволюцией художественного времени как приема на ТВ и прослежена мною в монографии «Проблемы времени в художественном телевидении» [15].
Телевидение (как и киновидение) довольно быстро беллетризировалось и поставило на конвейер производство художественных телефильмов и художественных телесериалов — произведений с окукленными структурами, если так можно выразиться.
Вертов
Трудности такого сугубо литературного жанра, как эссе, в беллетристическом кинематографе кажутся непреодолимыми, на первый взгляд. В первую очередь потому, что в структуре экранного сочинения нет места для «я» как реального, невымышленного персонажа.
«Я» в литературном эссе — не селфи на фоне эпохи. Это — инструмент двойного назначения. И модель мира, и призма. Условность изображения на экране может переварить только условного автора. Вот, наверное, почему именно в документальном формате непреодолимые трудности оказались вполне себе одолимыми.
Вспомним Дзигу Вертова с его «Человеком с киноаппаратом».
В кадр входит тот, кто снимает кино, — оператор, не вымышленный герой. В титрах режиссер себя называет руководителем эксперимента и предупреждает, что в фильме нет ни надписей, ни сюжета, ни актеров, а есть язык изображений. Есть еще музыка. Она организует ритм, темп и движение зрительских эмоций, то аккомпанируя им, то диссонируя с ними. Фильм своим строем разрывает дистанцию как с фиксируемой реальностью, так и с присутствующей во время этого просмотра публикой. В структуру фильма, вроде бы вполне себе замкнутую, включен автор, уподобленный киноаппарату. На экране своего рода кентавр — человекоаппарат («хомо снимающий»). Предметом его интереса становится окружающая действительность в разнообразных ракурсах и в контрастных соотношениях. Но вместе с тем как бы нечаянным предметом внимания автора оказывается сама киносъемка, подобно тому, как во времена торжества синкретизма народные певцы предпочитали петь песни о том, как они складываются.
В этом и суть эксперимента Вертова. Ему удается опыт создания в чистом, незамутненном виде эссеистического киносочинения. Создает его почти по лекалам Мишеля Монтеня, скорее всего, не подозревая о том.
Эссе как способ постижения мира, обобщения его свойств и глобальных изменений не прижилось в документальном кино. Оно требовало той степени внутренней и внешней свободы, которой поманил Октябрь, но которой не мог дать идеократический режим советского государства. Первой обязанностью была пропаганда. А эссе по природе космополитично и не терпит, когда перед ним ставят задачу. Притом — любую. Потому и Вертов, нащупав важную для себя (и, разумеется, не только для себя) дорогу, вынужден был сойти на обочину.
Вернуться на нее смог помимо автора «Обыкновенного фашизма» Александр Сокуров.
Сокуров
Он снимал много и интересно до крушения режима. Он продолжает это делать и после его падения. И не потому, что скорее и успешнее других смог приспособиться к новым реалиям жизни, к новым условиям кинопроизводства. В этом отношении, думаю, процесс адаптации Александру Сокурову дался не менее мучительно и болезненно, чем его собратьям по цеху.
Ему, пожалуй, было легче других вот в чем. Он не слишком прочными узами оказался связанным с ценностными началами советской реальности — с надеждой на социализм с человеческим лицом, с упованиями на душеспасительный коллективизм, с лирическими манифестациями оттепельного кино. Бог знает, как его Бог уберег от всего этого.
Потом, много позже, он признался: «Ответственность перед отдельно взятым человеком для меня больше, чем ответственность перед отечеством моим».
Собственно советский режим, который доставил ему, как и многим его коллегам, множество мучительных неприятностей, он не отвергал ни прямо, ни косвенно. Просто коммунистическую идеологию он в упор не видел. Потому по ее поводу даже не рефлексировал, чем занималась с разной степенью успеха большая часть талантливых мастеров нашего кино.
Какому бы то ни было мировоззрению он предпочитал и предпочитает миросозерцание. Как правило, в хорошей компании. То с Андреем Платоновым («Одинокий голос человека»). То с Бернардом Шоу («Скорбное бесчувствие») и с Гюставом Флобером («Спаси и сохрани»). То, наконец, с великим Гете («Фауст»).

Первые три фильма были сняты еще при советской власти. Они казались современникам надмирными. Идеологическим функционерам — оторванными от действительности. Хотя бы потому, что он игнорировал человека социализированного и интересовался человеком отдельным. Отдельным как остров в океане.
И вот так получилось, что он, «оторвавшись от земли и от народа», с высоты своего надмирного положения поставил нашему обществу жесткий диагноз — «Скорбное бесчувствие», который несколько позже был подтвержден Кирой Муратовой в «Астеническом синдроме». И уже только много позже, на «вскрытии», благодаря фильмам Алексея Балабанова, мы воочию увидели, как далеко зашла болезнь общества. Задним числом стало понятно, что организм уже не подавался амбулаторному лечению.
И сегодня до нас не очень доходит, что философы-художники видят дальше и глубже популярных беллетристов. У Сокурова свои взаимоотношения со зрителями. Вот как он их для себя сформулировал.
Излагаю по памяти.
Когда-то его очень беспокоило, что у его фильмов мало зрителей.
…Сегодня — нет. Настоящее искусство предполагает избирательность и узкий круг. Это обязательные условия его, искусства, существования. (Это установка художника-эссеиста.)
…Массовый спрос на какое-нибудь произведение означает для него только одно: в этом произведении есть серьезные художественные проблемы, изъяны.
…Опыт показывает, что люди, которые по-настоящему встретились с его, Сокурова, фильмами, с фильмами других режиссеров, которые выбирают индивидуальный путь, — эти люди уже кресел не покидают. Остаются. Этих людей никогда не будет ни слишком много, ни слишком мало. И для него честь делать для них картины.
Это суждение выдает в мастере художника-эссеиста, что в полной мере нашло подтверждение в его фильме «Русский ковчег».
Это очень неожиданное кино. Это не урок истории России. Скорее — философствование по поводу истории и культуры России, по поводу ее мифологии.
Любопытен в обоих случаях отразившийся на экране драматический дрейф русской культуры на протяжении нескольких веков.
***
С основанием Санкт-Петербурга произошло удвоение лика страны. Москва осталась столицей тысячелетней Руси. Юный град Петров олицетворил российскую империю. Страна стала двуглавой.
В границах одной державы соединились и перемешались культурные и бытовые уклады двух материков.
Общественное сознание удвоилось и вместе с тем раскололось, что отозвалось впоследствии спорами славян меж собой, окрашенными в разнообразные цвета — эстетические, идеологические, политические и даже в геополитические.
В ХХ веке как набат прозвучали строки Блока:
«Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!»
В них отчетливо слышится нечто горделиво-раздраженное. И нечто вызывающее. И еще — нечто угрожающее. И весь стих проникнут ощущением глубинного противостояния «двух враждебных рас монголов и Европы».
Стих датирован 1918-м. Панмонголизм, хоть и дико это слово, стал подсознательным вожделением народных толп. В подтексте Гражданской войны доминировал именно этот цивилизационный конфликт: панмонголизм против паневропеизма. Блок глубоко прочувствовал взаимотяготение «российских монголов» и Европы:
Россия — Сфинкс! Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя
И с ненавистью, и с любовью!..
До сих пор, хоть на дворе уже ХХI век, «глядит» с теми же чувствами.
И до сих пор до конца непонятно: живем ли мы в Евразии или в Азиопе?
Бронзовый конь Этьена Фальконе под Петром поднялся на дыбы, то ли готовясь к прыжку на Запад, то ли противясь ему. И конь завис на века, и Россия не определилась по сию пору.
Азиат Петр I силой поволок древнюю Русь на Запад, самым наглядным последствием чего стал вознесшийся из топи блат полнощных стран краса и диво Санкт-Петербург. Вдоль Невы по струнке вытянулся Зимний, к коему пристроился Эрмитаж, который со своими сокровищами и стал героем сокуровского киноповествования.
«Русский ковчег» — не пересказывание истории России и не пересматривание музейной коллекции, это философствование по поводу истории и культуры.
Драматургическая конструкция «Ковчега» незатейлива: европейский гражданин путешествует по европеизированной Руси, средоточием которой и является Эрмитаж.
Сокуровский европеец — такой «ревизор», прибывший из цивилизованной Европы инкогнито в Санкт-Петербург. Все ему странно. Он узнает и не узнает матушку-Европу. Он дивится роскошеству и великолепию убранств залов, изумляется способности русских к подражанию, их замечательному таланту копировать и делать списки с оригинала не хуже оригинала. Несколькими этажами ниже — выставка пыточных орудий. «Ревизор» успевает время от времени приговаривать то в ужасе, то с восхищением «ой-ой-ой», причмокивая языком.
Собственно, все изумление иностранца в том, как это азиатчина Руси смогла соединиться с цивилизованной Европой, как Европа покорила Россию и как она при этом уцелела в России. Он-то знает, что Запад есть Запад, Восток есть Восток. И вместе им вроде бы невозможно сойтись. Но он видит, что они сошлись.
Мы до сих пор ищем особый путь для своей страны, а она уж который век следует им. Эта тяжкая дорога, по которой идти нас понуждают кнутом и пряником, тиранией и рынком.
У сокуровского героя, закружившегося в мазурке, почти вырвалось: «Боже, как весела и празднична Россия!» Заключительная мазурка — кульминация фильма, самая впечатляющая его сцена и самая экспрессивная. И в такой момент до конца понимаешь, зачем Сокурову нужно было снимать эту картину одним планом — без монтажных стыков, скачков, бросков. Это создает эффект настоящего, сиюмоментного времени.
Вот она — жизнь на одном дыхании! И вот она — многовековая история и тоже на одном дыхании.
Откровение сокуровского фильма в том и состоит: «Боже, как коротка, почти мгновенна история и сколь спасительна Культура!»
Культура — сердце человеческой цивилизации. Об этом — «Франкофония» Сокурова. Это пространное киноэссе отвечает в полной мере требованиям и приметам четвертого рода искусства.
В роли невымышленного героя — режиссер собственной персоной. Он, находясь в монтажной, волнуется за судьбу того катера, что транспортирует через Атлантику контейнеры с музейными ценностями. Корабль попал в шторм. Угроза гибели ценных предметов искусства велика. И нет у Стихии и у Истории ни совести, ни смысла.
Действие происходит здесь и сейчас. Режиссер в монтажной за работой над новой картиной о том, как в 1940 году два искусствоведа с французской и нацистской стороны сделали все, чтобы спасти бесценные коллекции Лувра. Работа режиссера время от времени прерывается телефонными переговорами, включениями видеосвязи с капитаном катера, размышлениями о надвигавшейся на человечество катастрофе начала ХХ века. С надеждой всматривается в портрет Толстого. Он не внемлет. И Чехов отвечает молчанием.
История, современность, война, шторм… Франция сдалась и распалась, как государство, но Лувр затаился, затаились шедевры живописи и скульптуры.
Сокуров высказывает нечто сокровенное: «Зачем мне этот океан? Пусть живет рядом, своей жизнью. У народа океан вокруг. У человека океан внутри».
У человечества, по мысли автора, внутри Лувр. «А может, Лувр дороже всей Франции? Кому нужна Франция без Лувра? Или Россия без Эрмитажа?» — вслух размышляет Сокуров.
В том же направлении размышлял в конце прошлого века символист Жозеф Пеладан: «Вы можете однажды закрыть церковь, но что насчет музея? Если Нотр-Дам будет осквернен, богослужение состоится в Лувре…»
Сокуров тоже символист.
В какой-то степени символист и философ исконный телевизионщик Леонид Парфенов.
Телеэссеистика его призвание
Ближе к началу века были сомнения: сможет ли журналистика остаться таковой, перестав быть пропагандой в ту или иную сторону, против той или иной стороны?
Политическая аналитика «Намедни» Парфенова стояла особняком. Ведущий оглядывал действительность с высоты птичьего полета. В немалой степени на это впечатление работала отстраненная позиция самого ведущего, сдобренная чувством иронии.
Его «Намедни» — это своего рода эстрадное ревю, это такой концерт с выигрышными номерами и впечатляющими аттракционами, где ведущий не гуру-политолог, а маг-волшебник, достающий из эфирной хроники событий явления, обстоятельства, перемешивающий их на свой вкус, манипулирующий ими на свое усмотрение.
То была проба пера журналиста в эссеистическом формате.
В 2005 году Леонид Парфенов снял к 150-летию Крымской войны четырехчастевый видеосериал «Война в Крыму. Все в дыму». Получился исторический «туннель» из далекого прошлого в… недалекое будущее, как выяснилось в сегодня.
…Тогда фильм воспринимался как археологическая раскопка. Почти как рассказ о Троянской войне. И для автора вроде бы такая Крымская война была чем-то далеким, туманным и ненастоящим. Скорее — игрушечным. И потому — потешным. Фрагменты из старых художественных фильмов про адмиралов Нахимова, Корнилова и матроса Кошкина ничуть не приближали к нам события и судьбы полуторавековой давности.
Десять лет назад казалось, что мы эту страницу истории перевернули навсегда и ничего в ней поучительного для нас нет. И смотрим на войну как в перевернутый бинокль.
Как говорится: проехали. Как выяснилось, это не так. И не потому, что Крым в десятые годы нынешнего века на какое-то время вновь оказался в центре внимания мировых медиа. Понятно, что канва межгосударственных конфликтов сегодня иная, нежели в ХIХ веке. Но предпосылки их практически те же.
Николай I у власти в России уже более четверти века. Оттого слепо самоуверен и тупо самонадеян. Он чувствует себя самодержцем не только матушки-России, он претендует на руководящую роль батюшки-Мира. Его, напоминает автор фильма, главы других стран считают «мрачным человеком Европы». «Больным человеком Европы» именует Николай I сильно ослабленную предыдущими войнами Турцию. В наше время роль «больного человека Европы» могла по праву взять на себя Украина. Тогда был «удобный момент» урвать у соседа кусок территории. И в 2014-м он образовался.
Русский царь предложил Англии передел сфер влияния: она пусть забирает себе Египет и Крит, а наше — то, что восточнее. Не обязательно аншлюс, можно и протекторат. Западные союзники были несколько шокированы такой откровенностью. И особенно их возмутило категорическое требование царя: право на покровительство над христианами Османской империи. Это означало бы, что половина граждан Турции могла бы жаловаться на своего тирана иноземному тирану. Требование встретило резкое возражение.
…А как милы, дружелюбны были лидеры стран в переписке, прежде чем сошлись в бескомпромиссной схватке их подданные. Князь, а также генерал Александр Меншиков был, правда, не слишком дипломатичен. Он по поручению императора прибыл в Стамбул, где сказал ту фразу, которую повторил наш лидер: «Не хотите по-хорошему, будет по-плохому». Так оно и вышло в обоих случаях. Причем России пришлось особенно худо. И похоже, в обоих случаях.
Из чего, собственно, случился тот кровавый сыр-бор в ХIХ веке? Из-за борьбы за влияния ведущих европейских держав. Начальники в ту пору в очередной раз решили разыграть геополитическую пульку. Сами остались во дворцах, обмениваясь вежливыми эпистолами, а холопы в солдатских шинелях и в матросских бушлатах полегли костьми и обильно оросили кровью южные окраины империи.
Хотя начало вышло на славу. Наша деревянная эскадра заперла в Синопской бухте турецкую деревянную армаду и потопила ее в воде и огне. Патриотическое ликование на Руси было всеобщим: и Бессарабия, и еще какие-то территории стали нашими.
Ликовали до тех пор, пока в Черное море не вошли стальные эскадры Франции и Британии и не вынудили наши деревянные суда к самозатоплению на рейде Севастопольского порта. Тут выяснилось, что у России нет союзников. Она со всеми соседями в ссоре. Против нее ЕС, то есть Европейский Союз. Россия на это отвечает первым со времен Петра I «самоизоляционизмом», то есть контрсанкциями.
Парфенов повествует холодно, в фирменной для него манере. Единственно, чем можно и поныне гордиться, считает он, так это доблестью и самоотверженностью защитников осажденного Севастополя. Только однажды прорывается у автора ярость, когда он оценивает мужество солдат: «Героизм людей, порожденный идиотизмом их руководителей». Впоследствии это станет традицией для нашей страны.
Николай I до последнего надеялся на двух победоносных русских генералов — генерала Января и генерала Февраля. Последний его предательски и погубил: в феврале царь простудился и умер. Через год был заключен мир. Все завоеванное пришлось отдать. Самое обидное, что России было запрещено иметь флот на Черном море, а на побережье — военные арсеналы.
Самым тяжким для населения страны оказалось то, что вся финансовая система страны оказалась расстроенной, что привело к более чем двукратному обесцениванию рубля и, соответственно, к еще большему обнищанию населения и без того нищей страны.
Так закончилась та игра в геополитическую пульку.
Нынешняя все еще продолжается.
Продолжает и Парфенов. Его телесериал «Русские евреи» — образцово-показательный пример видеоэссеистики.
Чтобы убедиться в том, что Леонид Парфенов не один в обозначенном поле воин, готов предложить еще два достойных примера.
Ориентация — Север
По мысли Юрия Дудя: «Колыма — родина нашего страха». По разумению Елизаветы Листовой, автора четырехсерийного документального фильма «Северный морской путь» (НТВ), Заполярье — родина советской романтики, покоящейся на фундаменте вечной мерзлоты. Получается, что у гибельного страха и у благородной героики родина — одна. Видимо, неслучайно.
Выпуск видеоблога «вДудь», посвященный Колыме, исторической и отчасти современной, с попыткой заглянуть за горизонт завтрашнего дня, шокировал сетевую публику. Как же так… От Дудя всегда ждут и, возможно, жаждут либо дуэльных распрей (типа того, что мы увидели, когда к нему заявился Дмитрий Киселев), либо дуэтной гармонии (как в диалоге с Леонидом Парфеновым). А тут нечто потустороннее. Что-то вроде экскурсии по местам былых ужасов, некогда описанных Солженицыным («Архипелаг ГУЛАГ») и Шаламовым («Колымские рассказы»).
Собеседник и, можно сказать, исповедник артистов, журналистов, юмористов, музыкантов и рэперов, властитель если не дум, то, по крайней мере, эмоций молодой России упаковался в меховой пуховик ярко-красного цвета и десантировался на Колымской трассе, где на всю бескрайнюю белоснежную скатерть при морозе за 50 градусов объявил, зачем он здесь.
По двум причинам он там: по одной он решил рассказать молодым соотечественникам о неведомых им сталинских репрессиях, по другой — добраться до первоисточника страха своих (и не только своих) родителей.
Большая часть телезрителей оценили экспедицию Дудя исключительно как «просветительский проект». И оценили высоко. Хотя смысл его много шире и глубже.
Мы сталинизм неплохо знаем извне. А как он смотрится изнутри? Как он ощущался теми, кто сидел за колючей проволокой — как реальной, так и символической? Теми, кто спозаранку в лютую стужу выходил на работу под прицелами вертухаев и под песню из громкоговорителя: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». И теми, кто в Москве стройными колоннами под ту же музыку с теми же словами маршировали по Красной площади мимо Мавзолея с двумя вождями — с бессмертным и с покойным, но тоже вечно живым.
Нам сегодня может показаться, что эти «картинки» несовместны, как гений и злодейство. Но тут же Дудь обнаруживает пример совместности того и другого.
Что может быть парадоксальнее судьбы Королева, человека, порабощенного сталинизмом, искалеченного им, затем откупорившего ракетами Космос, словно консервную банку, превозмогшего Гравитацию и покинувшего сей мир убежденным сталинистом со словами: «Сталин для меня святой»?
Нынешний режим пытается повторить траекторию судьбы Королева?
Гранитная стела в Магадане скульптора Эрнста Неизвестного, воздвигнутая в память о жертвах сталинских репрессий, была несколько лет назад подвергнута надругательству. Вандалы, напомнил Дудь, осквернили памятник надписью: «Сталин жив!!!» Три восклицательных знака выдавали в авторах выстраданную убежденность.
А может, эти вандалы и не вандалы, а ясновидцы-провидцы? Может, и вправду он жив, если судить по последним соцопросам: 70% граждан РФ веруют в путеводную звезду товарища Сталина?
Предпринятое Лизой Листовой путешествие по следам первооткрывателей Северного морского пути — это не совсем экскурс в историю его прокладывания. Скорее, это погружение в его мифологию с идеей добраться до реальной истории того, как он прокладывался.

Мифология здесь как мощный ледяной покров, сковавший волны заполярного океана. Ее хребет — саги о спасении итальянца Нобиле и его товарищей, о героических экспедициях советских полярников под руководством Отто Шмидта, о счастливом избавлении из ледового плена челюскинцев, о дрейфе папанинцев, о триумфальных встречах в Москве покорителей Севера.
Автор не просто следует торным морским путем, но и исследует обстоятельства возникновения мифологической надстройки над правдой о том, как осваивался и покорялся Север, отличая реальных героев от героев номинальных. Не альпинист Шмидт и чекист Папанин оказались, как объяснила Лиза Листова, подвижниками исследования Севера; им оказался ученый Рудольф Самойлович. А пионером в этом деле стал в самом начале ХХ века лейтенант Колчак, о чем не забыла поведать зрителям Лиза Листова.
Лиза Листова, об этом надо отдельно сказать, больше, чем автор. Она — персонаж своего повествования. В какой-то мере преемник Сани Григорьева, героя книги Каверина «Два капитана». Еще один капитан.
Саня разбирался с найденными бумагами капитана Татаринова и свидетельствами о скверной организации его братом Николаем экспедиции. Ассоциации и аллюзии — это хлеб эссеистического высказывания.
Лиза пересматривает документацию, связанную с оснащением датского сухогруза «Челюскин», брезгливо ворошит доносы одних полярников на других полярников.
Челюскин выходил в триумфальную навигацию обреченным на гибель.
Большевики на протяжении десятилетий вынуждены были брать те крепости, которые сами создавали. Не всегда это удавалось. «Челюскин» был раздавлен льдами. Но челюскинцев спасли с риском и чудом советские асы Ляпидевский и другие.
Автор в конце концов докапывается до подлинной истории романтического мифа о сотворении Северного морского пути. Она исследует романтичную легенду под девизом, ею сформулированным: «В Арктике легко сгинуть, но в ней ничто не пропадает».
Юное советское государство поначалу держалось в стороне от первых попыток ученых удовлетворить свое любопытство к такой загадочной реальности, как Арктика. «Северомания» казалась вещью в себе и бесполезной для построения коммунизма. Но вскоре власть переменила свое мнение.
Прежде всего государство обратило внимание на ее романтический фасад. Романтика для тоталитарных режимов — важный пропагандистский ресурс. Да и для граждан перед лицом Большого террора она представлялась едва ли не спасительным убежищем. В него бежали, как в монастырь, надеясь спастись от репрессивной чумы.
Как сама Лиза Листова из команды Леонида Парфенова после разгрома уникального коллектива НТВ из инстинкта самосохранения в профессии и в СМИ сбежала в свой документальный сериал о Северном морском пути.
В 30-е годы это не всем удавалось. Это не удалось гуру арктической саги Рудольфу Самойловичу. Его судьба трагична и несправедлива. Его постепенно оттеснили от дела его жизни, затем арестовали и в 1939-м расстреляли.
Вскорости государством была осознана и более практическая польза морской коммуникации с Дальним Востоком — в недрах Якутии были обнаружены большие запасы золота и прочих драгоценных металлов.
Так романтичный северный морской путь сомкнулся с магаданской магистралью.
Елизавета Листова, рассказывая о крайнем Севере, обращает внимание на то, что происходит в стране — от Москвы до самых до окраин, где так вольно дышит подневольный человек.
Полуобутые рабочие строят канал и Днепрогэс. Ничего своего. Проекты заграничные, оборудование заграничное. Платим хлебом, отнятым у крестьян, и живописью, позаимствованной из Эрмитажа. И разумеется, жизнями миллионов людей, погубленных в лагерях ГУЛАГа.
Кинопутешествия Лизы Листовой и Юрия Дудя в прошлое рассказали о людях, отмороженных сталинизмом не только на архипелаге ГУЛАГ, но и на материке. И оба высказывания оказались необычайно актуальными сегодня, поскольку вдруг выяснилось, что далеко не все «отмороженные» сталинизмом разморозились. И, что еще печальнее, растет число тех, кто не против снова отморозиться.
Это потому, что сталинизм теперь не только снаружи, но по большей части в головах. И даже вместо голов.
У кого-то — вместо сердца.
***
И в заключение то, как определил основные черты четвертого рода искусства такой авторитетный филолог, как Михаил Эпштейн: «Эссе держится как целое именно энергией взаимных переходов, мгновенных переключений из образного ряда в понятийный, из отвлеченного — в бытовой. Если какой-то из способов миропостижения (образный или понятийный, сюжетный или аналитический) возьмет верх, эссе разрушится как жанр, превратится в одну из своих составляющих — беллетристическое повествование или философское рассуждение, интимный дневник или исторический очерк» [16].
А нам судить, насколько то или иное экранное произведение вмещается в те границы, что обозначены ученым.
Но при этом очевидно одно: телевизионная технология с обретением интернет-платформ вновь, как в середине 60-х годов, обнаружила серьезный эстетический потенциал художественного творчества. Возможно, самый перспективный его формат — сериальное видеоэссе.
Примечания:
[1] Эйзенштейн С. М. Избранные произведения в 6 томах. Т. 2. С. 29—30.
[2] Михаил Ромм. Беседы о кино. М.: «Искусство». 1964. С. 217.
[3] Саппак В., Телевидение и мы. М.: «Искусство», 1988.
[4] Богомолов Ю. А. Курьеры муз. М.: «Искусство», 1986.
[5] Михаил Ромм. Беседы о кино. М.: «Искусство», 1964. С. 242.
[6] Там же. С. 245.
[7] URL: https://www.svoboda.org/a/265668.html
[8] Там же.
[9] Оруэлл Дж. 1984 и эссе разных лет. М.: «Прогресс», 1989. С. 38.
[10] Монтень М. Опыты: В 3 кн. Кн. 1. М.: Голос, 1992. С. 5.
[11] Там же.
[12] Там же.
[13] Кайда Л. Г. Эссе: стилистический портрет. — М.: Наука, ООО Флинта, 2008. С. 21.
[14] Веселовский А. Историческая поэтика. Л., 1940. С. 317.
[16] Богомолов Ю. А. Проблемы времени в художественном телевидении. М.: «Искусство», 1977.
[17] Эпштейн М. Н. Законы свободного жанра. Все эссе. В 2 кн. — Екатеринбург: У-Фактория, 2005. С. 490—492.
Анри Вартанов, Екатерина Сальникова
Роль изменяющейся дистанции в авторском кино. От середины ХХ к началу XXI века
Из предыстории личного интереса к истории кино:
А. С. Вартанов:
Оказавшись вместо ВГИКа, о котором мечталось, на журфаке МГУ, я случайно, во время «Недели итальянского кино», которая проходила в «Ударнике», увидел новый фильм «Дорога» неизвестного у нас тогда Феллини. Потрясли не только актеры и история, ими разыгранная, но и мощно проведенная в ленте фаталистическая идея веры, построенной на христианском приятии сущего. Для моего комсомольско-атеистического сознания это стало форменным шоком. Выйдя после сеанса на улицу, я долго бродил под порывами мокрого снега и никак не мог пойти домой. Хотя «Ударник» находился в нашем доме и мой подъезд соседствовал с его кассами [1].
Е. В. Сальникова:
Вся повседневная жизнь в детстве и юности была связана с просмотром фильмов везде, где только можно. Это были и кинотеатры. И фильмы в программе телепередач (к телевизору надо было тоже ехать, у нас дома его не было, только у бабушки). И походы с мамой на закрытые показы в Центральном доме работников искусства и даже министерстве культуры. В перестроечные годы мы с друзьями постоянно проникали на закрытые и полузакрытые просмотры, пролезали на труднодоступные ретроспективы зарубежного кино. Так что кино всегда ассоциировалось с движением во внешнем мире, с приключениями. Важность расположения предметов искусства в пространстве и связь этого с работой сознания впервые открылась мне при прочтении книги Эллы Львовны Лаевской «Мир мегалитов и мир керамики. Две художественные традиции в искусстве доантичной Европы». С тех пор всегда со мной тема пространственных соотношений в некоей огромной мизансцене бытия — и в кадре, и в окружающей медиасреде [2].
Эту статью мы с Анри Суреновичем Вартановым (08.03.1931 — 30.05.2019) написали летом 2018 года, пока параллельно шла работа по завершению его рукописи авторской монографии «Очерки эстетики фотографии доцифрового периода» [3]. В этот период Анри Суренович снова увлекся вопросами поэтики «технических искусств», которые особенно активно и развернуто исследовались сотрудниками сектора кино, затем сектора художественных проблем СМК в середине ХХ века. Тогда М. И. Андрониковой, С. Гинзбургом, В. И. Михалковичем, В. Деминым, Ю. А. Богомоловым [4] были написаны ключевые работы, исследующие язык экранных искусств и в известной мере его эволюцию. В работах середины ХХ века остро ощутима связь с предшествующей научной традицией, отталкивающейся от проблемы становления кино как самостоятельного эстетического явления [5]. Как постепенно «изобретались» новые и новые приемы, как складывались все более сложные их комбинации, как кино постепенно осваивало нарративность, поэтическую образность, информатизацию, как развивались коммуникативные функции экранных искусств, — вот что интересовало и оказывалось в центре дискуссий.
Когда сегодня берешь в руки те книги, становится очевидно, какой сложный и парадоксальный путь проделал кинематограф к началу XXI века. Многие аспекты поэтики стали общим местом, не нуждающимся в комментариях. К тому же они столь активно изучались многие десятилетия, что сказать нечто хоть сколько-нибудь новое не представляется вероятным. Но также вдруг мы обнаружили, что некоторые элементы киноязыка обретают сегодня новую и совершенно неожиданную актуальность. В 1960—70-х годах ничего подобного невозможно было спрогнозировать. Один из «сюрпризов» в жизни кино оказался связан с феноменом меняющейся дистанции между камерой и объектом съемки, поэтому мы и решили написать статью именно об этом элементе кинопоэтики. Это одна из последних работ Анри Суреновича Вартанова, до последних своих дней живо интересовавшегося современным художественным процессом и всегда призывавшего нас писать о современности.
Е. С.
Меняющаяся дистанция, то есть способность камеры фиксировать действительность с разных расстояний и в разном масштабе, рассматривалась теоретиками кино как один из основных формальных принципов киноискусства [6]. Вместе с монтажом и ракурсом он входил в знаменитую триаду Белы Балаша, который на первых порах основное внимание уделял крупному плану [7]. Во многих киноведческих работах ХХ века шли споры по поводу того, кто и в каком фильме впервые использовал крупный план (деталь). Для эстетики немого кино крупный план действительно обретал громадное значение. Возможность приблизить съемочную камеру к лицу актера, показать переживаемые эмоциональные состояния оказала решающее влияние на формирование кинематографа как драматического искусства.
Не менее существенны возможности общих планов, именно ввиду их соотношения, монтажа, перетекания в другие планы, в том числе крупные и сверхкрупные. Уже в первой программе братьев Люмьер, показанной в «Гранд-кафе», это качество активно обыгрывалось. «Прибытие поезда» снято одним планом, однако не однообразным, но изменчивым. Движение поезда на стоящую неподвижно камеру, превращение точки на горизонте в громаду паровоза — все это придавало изображению специфическую кинематографическую динамику. Происходила смена планов от самого дальнего, общего до крупного.
Однако не следует забывать о фотографии, предшественнице кино. Еще в XIX веке фотоискусство обнаружило острую потребность в разнообразии позиции съемочной камеры по отношению к натуре. Фактически многое, если не почти все, из творческих возможностей меняющейся дистанции можно найти уже в ранней фотографии. Именно в ней отчетливо видно, как новое техническое искусство постепенно обнаруживает свои неповторимые возможности, смело варьируя дистанции до снимаемого объекта. Особенно активно работали с этим выразительным средством такие широко распространенные жанры, как фотоочерк и фотосерия [8]. Эти жанры еще до рождения экранного искусства решали задачи, во многом сходные с задачами кино и телевидения.
Кино и телевидение — временны́е искусства — пошли значительно дальше фотографии. Движется жизнь, которую фиксирует кино- и телекамера. Но также движется на тележке, кране или в руках оператора съемочная камера. Наконец, создается иллюзия движения от плавного изменения фокусного расстояния снимающего объектива (трансфокатор). Благодаря всем этим формам движения изменяется дистанция между объектом и его изображением на экране.
В данной статье, руководствуясь методами искусствоведческого анализа, авторы ставят цель обозначить наиболее существенные особенности использования меняющейся дистанции в авторском кинематографе ХХ века и ответить на вопрос о том, что нового появляется в меняющихся дистанциях современного кино, то есть кино конца ХХ — начала XXI века. Актуальность данной темы связана с тем, что эстетика кинематографа претерпевает существенные трансформации на рубеже столетий, что отражено в отечественных и зарубежных исследованиях [9]. Однако феномен изменения дистанции представляется недостаточно освещенным и нуждающимся в более пристальном изучении.
Меняющаяся дистанция в авторском кино ХХ века
Как писал классик теории визуальной культуры Р. Арнхейм, «в театре… зритель сидит все время на одинаковом расстоянии от сцены. В кино же он словно скачет с места на место, смотря то издали, то в упор, то сверху, то через окно, то справа, то слева» [10]. В этой структуре крупный план лишь одно из средств, однако именно в силу контраста с театральной поэтикой ранняя история кино выделяет это выразительное средство как наиболее кинематографическое, являющее собой специфику нового «технического» искусства. Противоречивость крупного плана как повествовательного элемента состоит в том, что, с одной стороны, он увеличивает объем визуальной информации, которую зритель считывает единомоментно. А с другой — уменьшает потенциальный объем экранного повествования, развивающегося в каждом кадре. Так что одной, самой простой и очевидной функцией крупных планов было предоставление зрителю максимально доступной визуальной информации о том, что трактовалось как важнейшее, — то есть о жизни человеческой души, отображаемой в мимике, выражении глаз, жестах рук. Но тогда, руководствуясь логикой выдающегося режиссера и теоретика кино Дэвида Уарка Гриффита, необходимость в крупных планах постепенно отпадет в связи с увеличением экрана кинотеатра, когда мимику лиц актеров можно будет хорошо рассмотреть и на средних планах [11]. Однако неуклонное увеличение киноэкранов происходило параллельно с рождением и развитием нового «малого экрана» — телевизионного, который вновь актуализировал крупный план, а вместе с ним возможность глубинного постижения человеческой натуры, «рентгена личности», по выражению В. Саппака [12]. В то же время для телевидения оказался характерен почти эстрадный способ существования актера или ведущего, напрямую обращающегося к аудитории [13].
Никакой гигантизм современных киноэкранов не может упразднить другие эффекты крупных планов, в том числе их символические смыслы, рождающиеся ввиду тотальной сосредоточенности камеры на одном объекте наблюдения. Крупный план как бы сигнализирует зрителю о необыденном содержании образа, его выпадении из непрерывного повествования.
Кроме того, крупный план нередко предлагает загадку, затрудняя распознавание того, что, собственно, показано в кадре. В крупнопланном кадре содержится меньшее количество «жизненного материала», поэтому зритель даже иногда теряет ориентацию и не может сразу понять, каков фрагмент и какова целостная картина мира (или хотя бы конкретная драматическая ситуация, место действия, расположение тел в пространстве). Переход от этого непонимания к пониманию (с помощью средних и общих планов), к обнаружению целого и восстановлению системы координат является для кинематографа ХХ века не только важным формальным приемом.
В этом заключена своего рода философия авторского кино, утверждающего наличие изначальной затемненности соотношений части и целого, иерархии составляющих картины мира, постижение которой не может быть гладким, не может сразу даровать реципиенту объективное знание. Это знание должно открываться постепенно, после заблуждений, после иллюзий и их отмены.
Так, дом, стоящий посреди живописного зеленого ландшафта в «Жертвоприношении» (1986) Андрея Тарковского, в одной из сцен появляется на дальнем плане, размытый, как бы не вполне реальный. Герой бродит неподалеку и вдруг замечает на влажной болотистой земле маленькую модель дома. Камера опускается ниже вслед за взглядом героя, и на какие-то мгновения зрителю может показаться, что перед ним настоящий большой дом. Камера как будто вот-вот осуществит наезд и даст рассмотреть дом вблизи. Но вместо этого камера поднимается выше, чтобы зафиксировать озадаченность героя, рассматривающего игрушечный дом, сделанный его сыном. Этот эпизод одновременно передает благоговение перед родным жилищем, но и намекает на его хрупкость и опасность утраты. Что и происходит в финале фильма, когда герой самолично устраивает пожар, пообещав Богу отдать все самое дорогое, если тот отменит ужас человеческого уничтожения.
Путь узнавания бывает мучителен, нередко связан с разочарованиями и иронией, но также с необходимостью пересмотра своего отношения к искусству, его неизбежной условности. В финале фильма «И корабль плывет…» (1983) Федерико Феллини камера перемещается левее, и в кадр с палубой корабля попадает сначала микрофон, а потом операторы, камеры, сложная осветительная аппаратура. И зритель видит, что и корабль, терпевший бедствие в эпицентре морских сражений Первой мировой войны, и волнующаяся морская пучина — лишь декорации на съемочной площадке. Но означает ли это отмену того трагедийного настроения, которым были проникнуты сцены на корабле? Скорее всего, нет, режиссер выявляет парадокс искусства, которое необходимо содержит в себе условность, — чтобы с ее помощью утверждать нерушимые духовные ценности.

Итак, можно сделать промежуточные выводы о том, что главным в авторском кино ХХ века была драматургия переходов от крупных к средним и общим планам. Меняющаяся дистанция работала на напряженность процесса осмысления мира, подчеркивала разницу между иллюзиями и реальностью, между разными ракурсами неоднозначного авторского взгляда. Художественной целью режиссера можно назвать процессуальное открытие подлинной реальности, сложной и неоднозначной в своих этико-эстетических характеристиках. В продвижении к этому открытию режиссер ощущает себя абсолютно свободным творцом смыслов, к рождению которых оказываются подключенными и зрители. Меняющаяся дистанция несет в себе признаки индивидуальной творческой воли, властно моделирующей взгляд на реальность.
Трансформации принципа меняющейся дистанции в артхаусном кино XXI века
Эпоха компьютеризации многих творческих процессов, изощренность современных приемов создания экранных образов оказывают мощное воздействие на ту разновидность серьезного авторского кино, которую теперь все чаще называют артхаусом. Электронные технологии позволяют с необычной прежде легкостью трансформировать различные фото- и кинокадры. Многократная запись, обратное движение видеопленки, спецэффекты, придающие изображению «рваный» характер, выборочно окрашивающие кадр, и прочее — все это дает в руки режиссеру ни с чем не сравнимые возможности для игры с пространством, для произвольной, сопоставимой разве что с воображением или со сном, сменой планов и дистанций. Однако эти и многие другие приемы активно берет на вооружение массовое, сугубо развлекательное кино. И сегодня интенсивное использование новых технологий, игра меняющейся дистанции, усложненный монтаж ассоциируются прежде всего с массовой кинопродукцией.
Серьезное же кино начала нового столетия в большинстве случаев избирает аскетичность выразительных средств, в том числе весьма осторожное использование меняющейся дистанции. Чувствуя себя в окружении ярко зрелищного развлекательного кино, артхаусный фильм принципиально отказывается от повышенной зрелищности. Кроме того, слишком свободное и частое использование приема меняющейся дистанции ассоциируется со свободой творческого самовыражения в авторском кино второй половины ХХ века [14]. Однако на сегодняшний день эта свобода кажется несвоевременной, так как современные думающие люди — к числу каковых принадлежат и режиссеры артхаусного кино — ощущают себя мучительно несвободными, зависимыми от усложнившегося мира тотальной медийности, глобализации, стремительно ускоряющегося технического прогресса. Перед лицом всего этого отдельная личность остро переживает свою малость, ограниченность возможностей, права голоса в необъятном мире, да и сомневается в том, что этот голос может быть услышан.
Но главное, что уходит, — это абсолютная вера в высокую ценность авторского, подчеркнуто личностного ви́дения. Оно отчасти ассоциируется с некоторой зацикленностью на себе, что было свойственно творческой личности середины и второй половины ХХ века. В последнее десятилетие ХХ века и позже все внимание режиссуры в кино направлено на бурно меняющийся огромный мир. Рудольф Арнхейм видит в нем множественность «контрастных тенденций», «безостановочность взаимодействия объектов, всего того, что образует нашу жизненную среду и наши собственные способы активности», в которой тенденции разделения, фрагментации заметны больше, чем структура, системность [15]. Этот мир явно интересует сегодня режиссера больше, нежели состояние собственной души.
Современному авторскому кино далеко не всегда важна визуальная оригинальность. В качестве крайнего решения Ларс фон Триер и Томас Винтерберг в своем знаменитом манифесте «Догма 95», в «обете целомудрия» даже призывали не указывать в титрах имени режиссера. Отказ от авторства не следует понимать слишком буквально, как показывает анализ фильмов самого Триера [16]. Речь идет о символическом самоотречении, о декларации недостаточности сугубо субъективного взгляда. Тогда чему в понимании современной кинорежиссуры должна служить символическая «смерть» режиссера? Думается, утверждению за художественным фильмом статуса объективного высказывания, своего рода документа эпохи, а не авторской произвольной игры образами и смыслами. Кинорежиссуре начала XXI века словно кажется, что автор должен войти в роль надындивидуальной, «равнодушной» техники, наподобие камеры слежения. Это взгляд стороннего наблюдателя, который не прибавляет ничего от себя, не моделирует активно экранную реальность, а передает такой, какой ее видит непосредственно. В нынешнем артхаусном кино отношения «камера — режиссер» как бы уходят в тень, становятся менее ощутимыми, явными, нежели отношения «экран — зритель», о чем пишут издатели коллективного труда об авторском кино [17].
Весьма закономерно, что применение принципа изменяющейся дистанции теперь нередко состоит в отказе от него. Разворачивается поэтика «минус-приемов». Современные режиссеры активно обращаются к принципу неподвижной камеры, но мыслят это уже не как возвращение к театральному искусству, а как нейтрализацию авторской активности. Так, в фильме «Голод» (2008) Стива Маккуина есть сцена, когда камера остается практически неподвижной около двенадцати минут, показывая неподвижных героев. Узник тюрьмы, добивающийся свободы Ирландии, сидит за столом в комнате для свиданий и доказывает знакомому священнику необходимость начала своей голодовки со смертельным исходом. Камера замирает на месте и перестает напоминать о себе. Все внимание переносится на действующих лиц, их состояние и обстоятельства их общения. Таким образом, эта сцена могла быть снята втайне от героев случайным подсматривающим или же — камерой наблюдения. То есть нейтральным сторонним «глазом», который фиксирует ровно то, что попадает в поле его обзора, и не указывает зрителю ничем на свое отношение к происходящему, не ориентирует его никак в развитии ситуации. Тем самым зритель почти не чувствует режиссуры-посредничества, от чего усиливается иллюзия погружения в реальную катастрофическую ситуацию.

В недавнем фильме «Кислота» (2018) Александра Горчилина есть сцена, снятая абсолютно неподвижной камерой. Сначала мы видим одного из героев на обыкновенном балконе, смежном с другими, на одном из этажей высотного дома. Камера находится примерно на уровне лица курящего персонажа. На смежный балкон выходит его приятель, пребывающий в наркотическом опьянении. Перелезает на внешнюю сторону балкона, смотрит в сторону первого. Тот, уже уставший его спасать, отрешенно приглашает прыгать, если хочется. В ответ молодой человек шагает в пустоту и падает вниз. Камера не шелохнется. Никакой суеты киноглаза [18], никаких перемен ракурса, никакого стремления отобразить эмоциональные состояния действующих лиц через визуальную динамику. Перед нами мир «неадеквата», прострации, атрофированных чувств. И камера словно заражена этими состояниями — или же, напротив, беспомощно технична, отражает то, что может, как немой предмет, единственный свидетель происходящего. Камера будет еще несколько секунд зависать перед видом пустых балконов, когда один из участников сцены уже разбился, а второй, далеко не мгновенно осознав случившееся, все-таки побежал вниз.
Но и «Голод», и «Кислота» претендуют на достоверное отображение реальных жизненных ситуаций. Однако возможна аналогичная работа с неизменной дистанцией, с малоподвижной камерой и в фантастических киносюжетах. Например, в картине «Лобстер» (2015) Йоргоса Лантимоса ряд сцен разворачивается в отеле, где живут люди, лишившиеся супругов и обязанные за 40 дней выбрать себе нового партнера — в противном случае они будут превращены в то или иное животное. Главный герой пытается наладить отношения с женщиной, отличающейся жестокостью. Но после того, как она убивает брата героя, уже превращенного в собаку, несчастный одинокий человек не может не отомстить. Начинается погоня по пустым коридорам, застеленным мягкими коврами. Камера то и дело остается неподвижной, фиксируя, как по очередному коридору пробегает мужчина или женщина-убийца. Иногда камера показывает мелькающие на нижних этажах фигуры, будучи установленной где-то над перилами верхних. Так случайный, ничего не понимающий свидетель мог бы свешиваться вниз, пытаясь понять, что происходит там, внизу. Следует серия кадров со статичной камерой, от которой удаляется или к которой приближается кто-либо из действующих лиц. Напряжение при этом резко возрастает, поскольку зрителю не дают удобных ракурсов обзора, как бы вообще не интересуются его комфортом. Так могли бы показывать события камеры наблюдения, расположенные в разных коридорах отеля на стенах. Эмоциональное неучастие киноглаза в происходящем оттеняет драматизм ситуации, которая отказывается от развлечения зрителя, от приглашения нас неотступно сопровождать перемещения героев — они то и дело покидают границы кадра. И не потому, что бегают слишком стремительно, а потому, что киноглаз принципиально медлителен, неповоротлив, «несмышлен»… Но именно за счет этого фантастические обстоятельства получают иллюзию большей реалистичности, поскольку скупое дозирование динамики взгляда ассоциируется отнюдь не с жанрово-постановочной эстетикой, но со стилистикой документализма, деликатно-скорбного невмешательства в демонстрируемые кошмары бытия.
Еще одним показателем трансформации принципа изменяющейся дистанции становится осторожность в использовании крупных планов. Многие кульминационные сцены таких значимых современных фильмов, как «Пианистка», «Любовь» и «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке, «Она» Пола Верховена, «Елена» и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Аритмия» Бориса Хлебникова и других, сняты на общих и средних планах. Наблюдающий киноглаз словно опасается быть замеченным, а потому не приближается слишком сильно к происходящему, остается на дистанции. Опять же, в результате отменяется традиционное свойство киноглаза быть вездесущим, невидимым и неуязвимым в том пространстве, где он свободно парит и движется. Такое поведение киноглаза придавало ему сверхчеловеческий статус. Экранное целое организовывалось как «мелькание» обрывочных фрагментов реальности, гипнотизировавшее и мешавшее зрителю думать, как считает британский режиссер-экспериментатор Питер Уоткинс [19].
В начале XXI века сверхчеловеческие способности киноглаза уже воспринимаются как слишком очевидная условность, своего рода клише поэтики, нарушающее иллюзию жизнеподобия. Современный операторский почерк в артхаусном кино закономерно стремится к уподоблению киноглаза не сверхчеловеческому взору, но человеческому наблюдению. Отсюда и приверженность работе с ручной камерой, и строгое дозирование «крупности», и поиск ракурсов, доступных смотрящему человеку, который не может зависать в пустоте, летать по воздуху, мгновенно изменять свое местоположение, приближаться вплотную к опасности — и при этом невозмутимо, ровно отображать события.
Итак, принцип изменяющейся дистанции претерпевает существенные трансформации в процессе развития серьезного кино. Он используется по-разному, акцентируя наиболее существенные смысловые звенья эстетики кино, присущие эпохе. В авторском кино середины ХХ века изменяющаяся дистанция выражает прежде всего специфику авторского мировидения, дает это мировидение в развитии, ведет зрителя от знания к незнанию, от заблуждений и иллюзий к обнаружению истин или корректировке картины мира в целом. При этом принцип изменяющейся дистанции подчеркивает высокую ценность личностного исследования реальности. Безграничная свобода в изменениях дистанции способствует созданию мифа сверхчеловеческих способностей киноглаза.
В начале XXI века под влиянием большого комплекса социокультурных и цивилизационных перемен, а также чрезмерной традиционализации киноэстетики принцип изменяющейся дистанции начинает служить другим целям. Он нередко применяется как минус-прием, свобода многократных изменений дистанции резко ограничивается, вплоть до обращения к принципу неподвижной камеры. Этот прием срабатывает потому, что аудиторию современного артхаусного кино, во-первых, составляют поколения людей, выросших на эстетике авторского кинематографа предшествующего столетия, а во-вторых, потому что эстетика артхауса существует в тесном соседстве с эстетикой массового развлекательного кино, в котором сохраняется принцип сверхчеловеческого ви́дения (Впрочем, и там случаются отказы от него, что могло бы стать темой для отдельной статьи.)
На таком фоне особенно выразительными оказываются: ограничение количества крупных планов, смысловой акцент на средних и общих планах, отказ от избыточной свободы динамики киноглаза. Тем не менее артхаусное кино высоко ценит иллюзию сугубо человеческого ви́дения, далекого от сверхчеловеческих свойств. Кроме того, новая стилистика применения принципа изменяющейся дистанции стремится сблизить позицию наблюдающего и отображающего мир человека с функционированием технического аппарата, «равнодушной» камеры наблюдения или другого оптического устройства, не нагружающего визуальный ряд подчеркнуто субъективным художественным своеобразием. Данные тенденции не стоит абсолютизировать, однако очевидно, что на смену авторской изменяющейся дистанции приходит поиск иллюзии объективированного технического взгляда или человеческого взгляда, неотделимого от физического присутствия смотрящего, расположенного не «везде», не в самой гуще событий и не стремящегося постоянно перемещаться, — что привлекло бы к нему внимание основных участников происходящего и, скорее всего, стало бы поводом к прямому взаимодействию с ними. Киноглаз все чаще остается неподвижным и в реальных точках пространства, которые могут быть доступны реальному наблюдателю без сверхчеловеческих свойств бестелесности и невидимости. Во всех этих приемах чувствуется полемика с более ранней кинотрадицией.
Примечания:
[1] Вартанов А. С. Власть, художник, фильм // Кино в меняющемся мире. Сб. ст. В двух частях. Часть 1. М.: Издательские решения на платформе Ридеро. 2016. С. 10.
[2] Лаевская Э. Л. Мир мегалитов и мир керамики. Две художественные традиции в искусстве доантичной Европы. М.: Библейско-богословский институт Св. Апостола Андрея. 1997. Эта книга очень помогла в прояснении эстетических различий в рекламе и, шире, художественных формах Запада и России. См.: Сальникова Е. В. Эстетика рекламы. Культурные корни и лейтмотивы. М.: Алетейя. 2001. Также подходы Лаевской навеяли тему дистанций в современной медийной «междуэкранной» среде: Сальникова Е. В. Визуальная культура в медиасреде. Современные тенденции и исторические экскурсы. М.: Прогресс-Традиция, 2017.
[3] Вартанов А. С. Очерки эстетики фотографии доцифрового периода. М.: ГИИ, 2018.
[4]. Андроникова М. И. Сколько лет кино? М.: Искусство, 1968; Гинзбург С. Очерки теории кино. М.: Искусство, 1974; Михалкович В. И. Изобразительный язык средств массовой коммуникации. М.: Наука, 1986; Демин В. Первое лицо: художник и экранные искусства. М.: Искусство, 1977; Богомолов Ю. А. Проблемы художественного времени на телевидении. М.: Наука, 1977.
[5] Садуль Ж. Всеобщая история кино. В шести томах. М.: Искусство. 1958.
[6] Базен А. Что такое кино? М.: Искусство, 1972. С. 2; Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М.: Искусство, 1974. С. 16.
[7] Балаш Б. Искусство кино. М.: Госкиноиздат, 1945. С. 23.
[8] Стигнеев В. Т. Формирование жанра фоторепортажа в советской фотографии 1920-х гг. // Художественная культура. М.: Государственный институт искусствознания. 2018, №2. С. 168—193. URL:http://artculturestudies.sias.ru/upload/iblock/834/hk_2018_02_168_193_stigneev.pdf (дата обращения: 07.05.2019)
[9] На рубеже веков. Современное европейское кино. Творчество, производство, прокат. Сост. Виноградов В. М.: ВГИК, 2015; The Global Auteur: The Politics of Authorship in 21st Century Cinema. Eds. Jeong S., Szaniawski J. New York, London: Bloomsbury, 2016; Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. В трех частях. Сост. Ю. А. Богомолов, Е. В. Сальникова. Часть 3. М.: Издательские решения на платформе Ридеро, 2018.
[10] Арнхейм Р. Кино как искусство. М.: Издательство иностранной литературы, 1960. С. 32.
[11] Гриффит Д.-У. Сборник материалов. Сост. Аташева П., Ахушков Ш. М.: Госкиноиздат, 1944. С. 71.
[12] Саппак В., Шитова В. Семь лет в театре. Телевидение и мы. М.: Искусство, 1968. С. 247.
[13] Вартанов А. С. Эстетические проблемы взаимоотношений эстрады и телевидения // Телевизионная эстрада. Сборник статей. Отв. ред. Богомолов Ю. А., Вартанов А. С. М.: Наука, 1981. С. 15—18.
[14] Сальникова Е. В. Жизнь кинокамеры: эволюция мифа // Кино в меняющемся мире. Ред. Журкова Д., Осипов И. В двух частях. Часть вторая. М.: Издательские решения на платформе Ридеро, 2016. С. 19.
[15] Arnheim R. The Split and the Structure // The Split and the Structure: Twenty-Eight Essays. Berkeley — Los Angeles — London: University of California Press, 1996. Pp. 3—11.
[16] Sinnerbrink R. Provocation and perversity: Lars von Trier’s cinematic anti-philosophy // The Global Auteur: The Politics of Authorship in 21st Century Cinema. Eds. Jeong S., Szaniawski J. New York, London: Bloomsbury, 2016. Pp. 96—99.
[17] The Global Auteur: The Politics of Authorship in 21st Century Cinema. Eds. Jeong S., Szaniawski J. New York, London: Bloomsbury, 2016. P. 4.
[18] Термин «киноглаз» («Кино-Глаз») был введен советским режиссером Дзигой Вертовым. См.: Вертов Д. Киноки. Переворот // Дзига Вертов. Из наследия. Статьи и выступления. В двух томах. Т. 2. М.: Эйзенштейн-центр, 2008. С. 40—41.
[19] Watkins P. Notes on the Media Crisis. URL: http://www.macba.cat/uploads/20100526/QP_23_Watkins.pdf (дата обращения: 08.05.2019)
Елена Петрушанская
Опера + экран =?
Пролегомены о сосуществовании оперных постановок с экранными пространствами
Обзор проблематики
Опера уже родилась, более 400 лет назад, как волевое артистическое создание синтетического жанра, — медиа, обнимающее «сопредельные пространства» музыки, литературы, поэзии, драмы, мифа, театрального и изобразительного искусства, также — архитектуры, сценографии и костюма.
По ходу ее истории и на ее пути к зрителю нарастали новые посредники. Это привлекающие внимание к опусам «приманки»: исполнители — примадонны и звезды-кастраты; художник-сценограф, автор эскизов сценического образа, создатели дизайна. Из маэстро ди капелла, доминирующего в оркестре, выросла фигура Дирижера, музыкального руководителя целого. Важны были инженеры оперно-сценической машинерии, авторы пронизывавших спектакли трюков-аттракционов, воплощавших новейшие технические открытия своего времени. В XIX веке стала определяться профессия и роль оперного режиссера.
Потому не должен удивлять новый уровень естественного прирастания к театральной жизни оперы сопредельного визуального пространства, одного из самых интересных зрителям и слушателям, — тоже связанного с актуальными инженерными достижениями, технологиями. А именно — с экранной культурой, мультимедиальностью.
По определению К. Разлогова, «экранная культура — система культуры, формируемая и распространяемая техническими средствами, в рамках которых основным носителем информации является экран» [1]. Затронем аспекты встреч традиционной оперы, в ее сценическом бытовании, с мультимедийностью.
Сразу отделим аспект, ранее и ныне изучаемый: специфику оперного спектакля, заснятого и преображенного кинематографическими средствами. Опера, репрезентированная на экране, трансформированная в киножанр, еще предстает в статьях, как, например, у Е. Шипинской [2], хотя эта тема разведана и исчерпана, ибо сам жанр почти умер; но более тридцати лет назад и автор данной статьи писал о модификациях «оперы на малом экране» [3]. Теперь же нас интересует иная, актуальная и важная тенденция: разнообразная практика и поэтика видеоинсталляций, проецируемых на всевозможных экранах сценических оперных постановок, что затрагивает, возмущает, поражает и заставляет серьезно обратиться к этому распространенному явлению. Однако, помимо наблюдений театральных и оперных критиков, нам не встретились основательные работы на данную тему.
Конечно, технологические, инженерные, креативные компьютерные, исследовательские и практические аспекты работы в этом направлении очень активно и широко обсуждаются. К тому постоянно обращаются в специальных и в имеющих большой тираж журналах: с позиций построения программ, совершенствования компьютерных технологий, математических схем, архитектурно-визуальных цифровых исследований, обсуждения эстетики и этики конструирования, актуальных наработок в сфере технологий; и в интервью с музыкантами, композиторами, как с очень известным ныне финским автором нескольких многократно ставящихся опер — Кайей Саариахо [4]. Высказываются интересные суждения об антропологических и антропоцентрических перспективах интерактивного компьютерного дизайна [5]. Изучаются — с позиций моделирования, математических схем и погружения в черты инженерного, визуального, акустического конструирования — пространственное восприятие и креативные практики цифровых звучаний, особенно в театральных залах.
Важные эти аспекты дают основание судить о значимости явления, но их изучение и продолжение — не наш ракурс. Как и другие широко обсуждаемые проблемы: сфера «чистого» театроведения и современная театральная оперная режиссура; такой огромной библиографии здесь не место. Укажу лишь один ее аспект, относящийся к нашей теме и заслуживший внимание исследователей.
Это тема световой драматургии в театральных оперных постановках; ей посвящены специальные монографии, и она затрагивается в работах общего плана. Так, среди новых явлений в театральной режиссуре ХХ века называют особые техники работы со светом Роберта Уилсона (много работающего в жанре оперных постановок) [6]. В его творчестве отмечают не только новую эстетику, но новую этику и то, что называют «лингвистической революцией» в театре. Чрезвычайно важную тему освещения и особого «излучения» экранного содержания на оперной сцене затронем далее.
Среди отечественных работ приведем лишь наблюдения К. Разлогова. Обозревая историю связей экранной и театральной эстетик, он выделил значимый пример «симбиоза» работы Константина Богомолова — как «процесс непрекращающегося расширения рамок… Подтверждая свою тотальность, театр стремится адаптировать достижения и приемы смежных видов искусств к условиям сцены. Заимствование и преломление опыта и приемов экранной культуры на подмостках имеет своей целью прежде всего воздействие на зрительскую аудиторию. <…> Режиссер активно использует и переосмысливает достижения кинематографа и телевидения на театральной сцене. Экраны, титры, видеокамеры, микрофоны, трейлеры и тизеры и другое — неотъемлемые элементы его спектаклей. Экран в спектаклях режиссера становится не только носителем информации, но средством художественной выразительности. Звук, цвет, размер экрана, электронные спецэффекты, эффект „трансляционности“ и съемки „скрытой камерой“ — эти элементы индивидуальной манеры художника способствуют особой манере коммуникации со зрительным залом» [1, с. 162, 169—170].
Вероятно, со временем акценты на «экране как средстве художественной выразительности в спектаклях» [7] будут множиться. Пока же активнее в этом направлении критики и слушатели-блогеры; пример — фрагмент хлесткой характеристики Максимом Бысько передачи, когда на суд «Золотой маски» предстала опера Александра Маноцкова «Чаадский», в «Речи о музыкальной трансляции» [8, апрель 2018 года]. Интересные, пусть часто сомнительные высказывания на затронутую тему есть в книге Виктора Вилисова, в основном об эстетике и философии современного драматического театра [9]. Наблюдения слушателей, зрителей, музыкальных журналистов, нередко тенденциозные, фиксируют, описывают факты (к которым обратимся далее), но не охватывают явление в его грандиозности, богатстве смыслов, разнообразии и целостности.
Наш же срез — не фиксация оперы на экране, не кино- и телеопера, не трансляция, а анализ существенных черт вторжения экранной культуры в традиционное пространство оперного театра, что вызывает отклик активный и неоднозначный, — сообразно театральной практике и способностям аудитории.
Полифония в театре; экран как пространство художественного воздействия
Функции экрана в постановках оперы уже давно и стремительно перерастают собственно «информационные», иллюстративные, возмещающие экономические проблемы оформления сцены. Соединение оперы с «экраном», в широком смысле этого понятия, видится нам естественным этапом, продолжением традиций внедрения современных технологий в плоть театрального зрелища; новыми возможностями на пути усложнения содержательной плотности художественного сообщения.
Издавна вокально-инструментальная музыка не только предполагала, а являла, самим условием жанра, полифонию смыслов. Это отметил великий Николаус Арнонкур об единовременном контрасте (термин Т. Ливановой) в баховском творчестве, сравнивая его с вербальным посланием: «…но в обычной словесной проповеди невозможна… одновременность словесного высказывания и его музыкально-риторического толкования — многослойность, в которой содержится даже нечто от жеста…» [10]
От визуально-звукового оформления балагана, аттракциона с его условностью, сменяемой все большей верностью мимесису, иллюзорному воссозданию «реальности», — с начала ХХ века изобразительное решение спектакля шло к символизации пространства оперного действия. Далее путь вел к бòльшей символической автономности и значительности визуальных контрапунктов с традиционным оперным содержанием. Здесь, как в иных контактах «старого» и «нового», происходит расширение смыслового поля.
Сочетание нового и ставшего классическим медиа создает новое качество, даже — многие качества. И каковы они в наблюдаем здесь соединении?
Стоит рассмотреть, верен ли, что, по словам Н. А. Хренова, интересный «парадокс, смысл которого в том, что каждая новая техническая новинка возвращает к своему дохудожественному, архаическому прецеденту» [11].
Возврат к балагану? «Примитивному» зрелищу? А можно ль вернуться к синкретичности? Или к ней есть сильное стремление в современном выстраивании постановок, в особом качестве синтетичности, но нового типа?
Новы, но уже стали не только привычны, но несомненны явления в музыкальном театре последнего столетия: эксперты считают их революцией в названной сфере. Если в XVIII веке на сцене царили солисты, а затем — дирижер (иногда он же — создатель музыки), с последней четверти ХХ века ведущую роль играет режиссер-постановщик. Само слово «режиссер» в лексикон итальянской оперной сцены вошло, по утверждению Л. Бьянкони, в 1932 году [12, р. 248—249]. В России это определение встречается на век ранее, в рецензиях и документах об оперной труппе Луиджи Дзамбони (конец 1820-х годов): там руководитель приехавшего на три года в Россию коллектива, он же солист, певец в амплуа баса-буффо, сочинитель некоторых речитативов в операх Россини, назван режиссером поставленных им многочисленных опер [13].
Не только в истории драматического театра, но и как первое известное нам упоминание о введении нового «окна» в театральном пространстве является проект «тотального театра» Эрвина Пискатора и Вальтера Гропиуса 1927 года (он не был реализован): «Сцена-трансформер, которая могла бы крутиться, подниматься вверх и вниз, а на задник можно было бы повесить экран и синхронизировать действия актеров с тем, что на нем показывалось. В это время Пискатор искал способы расширения возможностей сцены, поэтому он первым в истории театра начал использовать экраны и видео» [14; 14а].
Мишель Фуко впервые вводит (в книге «Слова и вещи») концепцию «гетеротопии» — локуса, содержащего множество локационных возможностей. По мнению Фуко, театр — идеальное пространство гетеротопии. Оно воплощает не только самого себя, но еще массу времен, эпох, стилей, пространств… Для Фуко гетеротопиями являются городские кладбища, санатории, тюрьмы, больницы и музеи. Таковы и социально-культурные центры, совмещающие удовлетворение материальных и духовных потребностей, и театры, вместилище различных способов модификаций, с возможностями пространства переходного типа.
Помимо того, «мобильность» выросла и в буквальном значении: артисты разных стран и школ все свободнее странствуют по свету, имея доступ к национальным и культурным традициям; оперный спектакль активно движется к публике и вне оперного театра, — и с точки зрения его «подачи», презентации.
В. Вилисов указал на новый тип зрелища: «В 60-е годы XX века в США и почти сразу следом в Европе появляется новый тип искусства, который собрал в себе все искусства сразу, апроприировав их свободы и отбросив их ограничения. Перформанс не описывается одной только мультидисциплинарностью — он действительно объединяет в себе широкий спектр выразительных средств из абсолютно разных типов искусств. Performance art — это еще и новые конвенции существования искусства и его восприятия. Они сформулированы не без влияния политической ситуации того времени. Весь смысл перформанса — в действии, которое направлено не на фиксацию или описание уже сложившегося положения, а на изменение реальности» [9, гл. 10]. Об истории этой эстетики — исследования теории перформативности Эрики Фишер-Лихте [15] и «Искусство перформанса: от футуризма до наших дней» Роузли Голдберг [16]. Несомненно, воздействие перформанса на оперный театр отобразилось в избранном нами аспекте.
Развитие информационных технологий дает все новые возможности бытования и функционирования. Таково, например, распространение проекта «Опера в трех измерениях». Будучи одним из первых на этом пути, нью-йоркский Метрополитен осуществляет синхронные, одновременно со сценическим ходом театрального действа, его повсеместные трансляции в формате 3D. Многие спектакли театра в прямом эфире демонстрируются в кинозалах более полусотни стран, от Австралии и Марокко до Бермудских островов и России. И Россия присоединилась к такой инициативе; симультанная «живая» трансляция балетного спектакля Большого театра в Интернете дала более 250 тысяч подключений к этому зрелищу по всему миру.
Открываются и возможности, которые могут стать семантическими, художественными. Таким считают видеомэппинг (3D-проекция на физический объект окружающей среды с учетом его геометрии и местоположения в пространстве). Изначально он склонен был соединяться с электронными звучаниями; так, произвел сильный эффект в инсталляциях художника Майкла Наймарка и стал дополнять звучания электронной музыки, танцевальные шоу и прочее. Пространственный видеомэппинг коренится в аттракционе «Призрачное поместье» («Дисней», 1960-е), с пространственной дополненной реальностью или затеняющими лампами (свидетельство о первом публичном показе –1969).
Мы лишь упомянули ряд предшественников явления, о котором ныне говорим уже не как о коммерческой, популистской, технологической новинке-приманке, аттракционе для скучающего зрителя, а как о складывающейся «экранной поэтике оперного постановочного театра».
Но что такое «экран»?
Энциклопедические определения удивляют ограниченностью: «Плоскость, поверхность, защищающая от излучения каких-нибудь видов энергии (света, тепла и тому подобного) или служащая для использования этой энергии (для отражения, преобразования и тому подобного)»; «Натянутая белая ткань, на которой показываются изображения с диапозитивов, фильмы». А с точки зрения компьютерных технологий экран определен как «графически отображенное определенное место (локация) в компьютерной игре»; а межсетевой экран, с той же точки зрения, — «комплекс аппаратных и/или программных средств, осуществляющий контроль и фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов».
В обыденном понимании под экраном подразумевается чаще прямоугольное, подчас квадратное пространство для экспонирования любой видеоинформации и словесного текста.
Но каково же представление об экране сегодня?
Исследователь-философ отмечает: «Это уже не поверхность, на которой реальность предстает с обновленной силой и ясностью… не место своего рода эпифании (Богоявления) … Современный экран скорее функционирует как дисплей, как место, где образы текут свободно… с ними позволительно манипулировать… не случайно прежние аллегории экрана — окно, зеркало, картина — ныне заменяют иными: bacheca (витрина, стенд, щит), стена…» [17]
В нашей статье трактуем это понятие, представляется, очень широко, шире общепринятого, следуя реальной театральной практике и ее техническим возможностям. Экраном в сценическом пространстве, то есть плоскостью для экспонирования, в современных сценических постановках способны становиться стены просцениума, пол или потолок, кулисы сцены, тела и лица исполнителей и зрителей, плоскости «дверей», зеркал и окон декорации, ее внутренние прозрачные, блестящие и шатровые поверхности, и прочее (далее постараемся разделить и терминологически определить в анализе названные различные пространственные сферы).
Заметно главное, как представляется, объединяющее их, важнейшее качество. Это не представимое ранее и немыслимое прежде углубление презентативного и семантического пространства — углубление и в плане реальной геометрии сцены, и, как метафора, по отношению к смысловому содержанию происходящего.
Лишь обозначим, как пролегомены, горизонты тех содержательных пластов, которые способно вместить экранное пространство с его меняющимся изобразительным комментарием:
— индивидуальные ассоциации художника, режиссера;
— контрастирующий оттеняющий показ, нередко не только информативный, но соотносящийся со сценическим действием, артефактами эпохи, соответствующих времени сюжета или создания оперы;
— съемки или синхронная трансляция поведения (тел и лиц) актеров на сцене или за сценой, включая их крупные планы, экспликацию с помощью хромокея в воображаемое пространство и другое.
А также — подключение иных техник изобразительных рядов:
— монтаж документальных и любых иных кадров;
— мультипликация «в чистом виде»;
— словесный текст, содержащийся в оригинале опуса, то есть в либретто или в ремарках партитуры, в том числе принадлежащих автору музыки, автору литературного источника; возможны и режиссерские ремарки, и в предыдущих значительных постановочных интерпретациях, так и вербальные сигналы режиссера данной реализации оперы;
— сочетания двух и более вышеназванных слоев содержательного комплекса-послания постановщиков, не только и не столько в качестве информации, «разъясняющих» элементов, титров на разных языках, некоего исторического комментария, — а как дополнительный и существенный для концепции смысловой ряд.
Таким образом, перед нами революционное для интерпретации источника «приобретение». В нем — изменение качественных параметров, появление нового посредника на пути оригинала к воспринимающим. Ибо оперный жанр не потому меняется, что введены экраны, чем опера, как подчас пишут, сближается с кино (хотя появляется лишь кинематографическому повествованию присущая «меняющаяся дистанция», нередко имитируемый в режиссуре «монтаж»).
Существенно, что введение нового смыслового компонента, находящегося в динамике, и несущего его пространственного признака, привлекающего внимание зрителей, раздвигает и без того широкие рамки одного из самых сложных составных синтетических жанров.
Открываются возможности «нового измерения» в послании материала к зрителям-слушателям.
Панорама использования экранов в сценической жизни оперы
Этот раздел отдан очень краткому суммарному анализу ряда примеров, где нам важны симультанные союзы «живого», традиционного театра и экрана. Не повторим явного, уже не раз обсужденного опасения об использовании экрана как стремления скрыть и скромные достижения режиссуры, и убожество «бедного театра», и не только его, и хоть как-то «разнообразить визуальный мир оперного спектакля», активнее воздействовать на аудиторию, помочь певцам более сосредоточиться на пении, менее двигаться по сцене и прочее. В этом правда и — неправда. Ограничим поле наблюдения только теми сценическими созданиями–постановками, режиссерскими концепциями, в которых средства традиционной сценической интерпретации оперы соединяются с новыми технологиями (достижениями разных поколений), но наряду с этим решительно соблюдены параметры «старого театра». И главное, музыка всегда присутствует в виде живого исполнения оркестром, певцами и хором (если же с добавлением электронных звучаний, то как элементов чрезвычайно второстепенных, более звукошумовых эффектов: звучаний ветра, шелеста листьев, дождя и прочем; речь не идет о сочинениях с «живой» и «тотальной» электронной партитурой).
Нас интересует сочетание музыки для оперного театра, написанной и бытовавшей без сопровождения экранных средств, с таковыми — соединение «старого» и «нового» медиа.
Кратко, выборочно, следуя отбору не по критерию «художественности» или одиозности явлений, но по их важности для развертывания темы, представим панораму использования экранных пространств и видеопроекций в сценическом пространстве оперных постановок в 2000-2010-х годах.
Это описание необходимо для некоторого представления, знакомства или активизации воспоминаний читателей о специфике, о контексте использования, широте и разнообразии функций экранных элементов… Без явных вкусовых приоритетов и ценностных суждений дадим информацию в хронологическом порядке. Описания будут то более пространны, то кратки, но — с акцентами на роли экранов и экранозамещающих пространств.
1980-е
Не исследуя скрупулезно эту тему, укажу яркий пример из фильма, где заснята неизвестная нам давняя оперная постановка. В тетралогии документально-исследовательских лент Питера Гринуэя «Четыре композитора» (1983) последний фильм посвящен опере Роберта Эшли PerfectLives, значительные фрагменты которой видим и о которой в кадре рассказывает автор-композитор. Подчеркнем лишь одну особенность виденного: в предстающих сценах оперы фронтальное положение актеров, будто они обращаются к телезрителю, сопровождается изображением на нескольких экранах, находящихся в нижней четверти кадра, словно на некоем постаменте, на котором происходит действие. «Картинки» на экранах несколько схожи с суммой мониторов в давней, 1980-х годов, телевизионной монтажной аппаратной при отборе нужного кадра. Экранов в нижней части оперного спектакля, отображаемого в фильме Гринуэя, то три, то четыре, но на один или два центральных из них передается синхронная трансляция клавиатуры и рук тут же, на сцене, играющего пианиста. В глубине сцены тоже есть монитор, на который, как кажется (визуальная сторона трансляции того периода ныне предстает как плохо различимая), передается общий план с иной, несколько сбоку размещенной камеры. Таким образом, в кадре фильма об опере, предстающей на сцене, возникают по крайней мере три экранных рамки, то есть три варианта опосредования непосредственно наблюдаемой реальности.
1990-е
Одним из первых был опыт, описанный В. Вилисовым: «Режиссер Роберт Уилсон в коллаборации с композитором Филипом Глассом в конце 90-х задумали очередную совместную оперу, она получила название Monsters of Grace. <…> Перед постановкой Уилсон обычно рисовал визуальную книгу спектакля — его идеи к этой постановке были мегаломанические: гигантская рука должна была вытягивать меч из океана, вертолет должен был пролетать над Великой Китайской стеной. Уперевшись в нереализуемость проекта в реальном пространстве, Уилсон обратился к 3D-моделированию… <…> У креативной группы ушел целый год, чтобы в черновом варианте нарисовать видео по эскизам и сценарию Уилсона» [9, глава 9].
Немало есть и иных воззрений на метафизические причины рождения явления «уилсоновского стиля» [5, 6].
Так стал зарождаться знаменитый ныне «фирменный» уилсонский прием: обжигающе-холодное свечение вечности на световом фоне-экране и сияние освещения его персонажей, завязнувших между жизнью и смертью, — например, в его постановке начала 2010-х годов оперы «Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси.
Начало 2000-х
Революционной, влиятельной, подлинно художественной стала экранная поэтика каталонского постановочного коллектива La Fura Dels Baus (см. [18]). Помимо «Дон Кихота» Хосе Луиса Тюрина (Барселона, 2000), в постановке для зальцбургского фестиваля оперы-оратории Берлиоза «Осуждение Фауста» визуальные образы проектировались на миманс в белом и на огромный центральный короб с прозрачными стенами, с невероятной фантазией расцвечиваемый постановщиками в соответствии с трактовкой музыки [19]. В реализации оперы «Троянцы» (2001) Ла Фурой мощно задействованы видеопроекции на динамических отражающих конструкциях на сцене, включая линию щитов воинов. Среди их первых постановок сочинений в премьере оперы Джорджио Баттистелли Aufden Marmorklippen в Мангейме (2002) впервые был использован прием видеоконференции в качестве важного элемента режиссерской поэтики.
Позже, в интерпретации «Кольца нибелунга» (2002—2008, режиссер Карлуш Падрисса, видео — Франк Алье) «Ла фура дельс Баус» создала и стала активно реализовывать концепцию новой сценической динамики: при отсутствии декораций истинная динамика в их решении — создается подвижностью изображений на заднике и боковых экранных пространствах сцены. Двигаются не персонажи, а зримое пространство вокруг них, создавая иллюзию стремительных перемещений. Плавное перетекание тотального окружающего пространства сцены, в быстро меняющемся, метафорически-ярком электронном изображении.

В финале оперы «Валькирия» персонажи-боги существуют в некоем космическом пространстве на фоне темного звездного неба. Начиная готовить дочь к наказанию временным анабиозом и потерей божественной неприкосновенности, Вотан должен поместить ее на скалу, окруженную препятствиями, в том числе огненным кольцом. Это метафорически и происходит на сцене. Но залитый электронным свечением задник, стены и часть пола сцены постепенно, по мере трагически-усыпляющего последнего слова Отца, перемещают действие из космоса ближе к теплому сиянию Земли, в ее влажно-туманную атмосферу, все время создавая эффект нисхождения с небес на Землю, в густую тень зеленого месива листвы. Визуальный эффект чрезвычайно созвучен с музыкой, рождая верное и в то же время непривычное, эмоционально сильное прочтение.
Для подобных художественных средств воздействия в постановке «Фуры» оперы Вагнера «Золото Рейна» задействованы в гигантском увеличении на масштабных плоскостях сценической коробки электронные средства компьютерного поиска, монтажа и преображения зрительной информации. Особенно впечатляюще в третьей картине оперы, разворачиваясь на монументальном пространстве в поразительном единстве с музыкой, они служат художественным целям, перенося действие из внеземного пространства, где беседуют и спорят с великанами боги, в глубины подземной лаборатории нибелунгов, где куется золото — человеческий генный материал [20]. Действие на театральной сцене соединено с форматом виртуального поиска Google Earth: от общего плана земного шара с высоты стратосферы, с движением в сторону искомого локуса. Этот функциональный режим электронного наблюдения в опере развернут на гигантском зеркале экранов: так зритель наблюдает перелет из надмирного пространства на Землю, погружение в недра и возвращение обратно, — и хотя персонажи-певцы статичны на платформе, поднятой высоко к колосникам, они кажутся стремительно летящими к цели.
Иной прием «Фуры»: при упоминании о хранимом доверчивыми русалками Рейна сокровище на экран словно вытягивается из небытия изображение причудливого золотого слитка. Изображение укрупняется, разворачивается… — открывается, что это человеческий эмбрион, золотистое дитя; оно мирно свернулось в чреве (в словесном тексте оперы русалки здесь поют о «колыбели» золота [21], но лишь у «Фуры» родилась такая всеохватная аналогия). Когда же нибелунг Альберих дает клятву, отказываясь от любви (условие овладения золотом и властью над миром), зритель видит на гигантском мониторе резко помертвевшее, поражаемое тлением лицо младенца. Без иллюстративности — тут аллегорическое совпадение с семиотикой музыкальных лейтмотивов (темами-предвестниками конца мира): происходящее в тетралогии придет к гибели, падению богов.
2006—2007
Поразила тогда аттракционная эстетика постановки оперы Россини Pietra del paragone («Пробный камень») совместно с Театром Реджо Пармы и ThéÂtre Chatelet Парижа, с режиссурой и оформлением Джорджо Барберио Корсетти и Пьерика Сорена (его же — видеотехника [22]). Пробным камнем стала рефлексия на стороннюю, казалось, тему: «Явленные удовольствия и причуды старого телезеркала» [22, с. 29—30]. На одной из наших ссылок дан чертеж с указанием размещения шести видеокамер с операторами, нескрываемо размещенными на сцене. Воссоздавая антураж, костюмы и стиль начального периода расцвета художественного телевидения в Европе 1950–1960-х годов, постановщики заново увидели выразительные возможности крупных планов на экране и неожиданность сочетания поведения реальных певцов-актеров с настольным картонным антуражем, на больших мониторах данным в увеличении.
Зритель мог считывать условное сценическое действие и извлеченные и укрупненные его фрагменты в причудливом соединении с трансформациями реальности, дарованными хромокеем: сценические игры, диалоги с происходящим на мониторе, экранными «фокусами», благодаря которым происходили смешные чудеса перемещений. Действие развертывалось в двух слоях. За первым, на просцениуме и передней части сцены размещались синий фон и статисты-ассистенты, тоже одетые в синее, для реализации эффектов хромокея. Передний план — традиционный, но он приобретал иное измерение в экранном сочетании с виртуальным контрапунктом. Так, «перестрелку» стремительных или медлительно-томных вокальных диалогов комично комментировали стильные спортивные игры статичных в сценической реальности партнеров, которых операторы с помощью данного эффекта на большом мониторе превращали в игроков в виртуальный бадминтон. И судя по реакции, публика, уже в течение десятилетий являющаяся так же и аудиторией ТВ, знакомая к тому же с компьютерным пространством, легко настраивалась на обозначенную эстетику и на приемы рапида в качествах, свойственных ситкомам: во время вокального квартета, поставленного как совместное сдержанное вкушение пищи в духе 1960-х, юмористические гэги с кадрами сквозного немого персонажа, слуги-идиота, в его сложных манипуляциях с блинами, с «древним» шейкером для коктейлей — подчеркивали выразительную кипучесть россиниевской мелодики. Режиссер счел «пробным камнем» тему денег, с их мнимостью, парением в воздухе, исчезновением, что с помощью экранных трансформаций происходило в ключевой сцене…

2008
В постановке на Байрейтском фестивале на экране царил отталкивающий реальный образ, ставший метафорой процесса, происходившего с героями опусов композитора: с Эльзой в «Лоэнгрине», Зигфридом в театралогии, Тангейзером в одноименной опере. Идеи последовательной деструкции воплотились в визуальном лейтмотиве режиссерского решения: на большом экране на заднике сцены царило фото разлагающегося кролика. В зависимости от ракурса внимания тут можно прочитать несколько смыслов: кролик в мифопоэтических преданиях — символ чистоты, спутник богини молодости и плодородия Фреи, и символ похотливости; разложение предстает как очищение и жертва и знак бесславной гибели; согласно мифологическим глубинным ассоциациям фильма «Зед и два нуля» Питера Гринуэя.
2009
«Золото Рейна», а за ним и вся тетралогия Вагнера, о чем подробнее сказано выше. Тогда, под управлением Зубина Меты (почти восемь лет спустя он привез эту постановку в Театр Комунале Флоренции), поставлены были группой La Fura Dels Baus в 2008 году в Валенсии, во Дворце искусств королевы Софии — королевы, активно покровительствующей музыке и музыкантам. Через год экранная поэтика группы, благодаря большим тиражам вышедших DVD-дисков с записью спектаклей, активно воздействовала на людей во многих странах; с этими революционными интерпретациями на дисках, в отечественных копиях, тогда можно было свободно ознакомиться в России.
В том же 2009 году иная экранная идея была воплощена режиссером Дамиано Микелетто на фестивале в Пезаро в постановке оперы «Шелковая лестница» Россини (дирижер К. Руссе), в 2013 году повторенной и развитой на сцене Ла Скала. Режиссер «нарисовал на сцене план дома, чтобы зритель мог его хорошо представлять визуально и контролировать происходящее в каждом участке помещения. Ведь все перегородки были прозрачны, существовали лишь для персонажей-певцов. Введен ранее не существовавший персонаж, нечто вроде архитектора-созидателя… Он во время увертюры на изначально совершенно пустой сцене и создает всю видимую среду, включая персонажей. В конце „шелковая лестница“ опутывает всех, заняв всю сцену» [23, p.16]. Весьма существенно, что все зримое наблюдателем, кроме артистов на сцене, — мнимо, это виртуальная реальность, отображаемая на прозрачных плоскостях сцены.
2010
Сценическая интерпретация монооперы всегда представляет особую сложность. Интересным примером стала постановка в оперном театре Лиона современного опуса Кайи Саариахо об одной из первых и выдающихся известных женщин: ученом, музе и вдохновительнице Вольтера Эмили Габриэль ле Тоннелье дю Шатле. Действие монооперы «Эмили» (режиссер Франсуа Жирар, художник Франсуа Сеген) «складывается из воспоминаний, переживаний героини в одну из ее последних ночей, когда она в состоянии исступления заканчивает главный научный труд своей жизни — перевод с комментариями „Математических принципов“ И. Ньютона» [24, с. 364]. Героиня монооперы все время находится в центре сцены и — словно под огромными блестящими лопастями некоего прибора-телескопа, символа ее исследований, как и некоей отъединенности от обычного мира. Лопасти, их плоскости способны складываться в причудливые «позы», на них воспроизводятся и отражаются зримые образы, преследующие героиню, а также облики невидимых реально зрителями персонажей, предстающих как «голоса», воображаемые Эмили. Визуальные «впечатления» на лопастях, становящихся «экранами», сложно сочетаются, предстают под необычными углами, конфликтуют между собой или дополняют друг друга. Динамика экранных мелькающих, часто неясных образов, лишь создающих некое ощущение «изображений», словно выворачивающих наружу ангелов и демонов сложной женской души в ее связях с ключевыми фигурами и событиями жизни, по-своему соотносится с музыкой, создавая видимость богатого многоголосия внутреннего мира интереснейшего персонажа.
2011
1. Постановка оперы Р. Щедрина «Мертвые души» интересна нам из-за движущейся черно-белой картинки на восьми экранах за спинами певцов. Экраны расположены на платформе, соединяющей огромные колеса по бокам сценической коробки, словно части выросшей в метафору брички, о которой неизвестно, доедет она до Москвы или Казани (художник З. Марголин [25]). На экранах — старинная карта империи сменяется разворачивающейся тоскливой панорамой снежной России с тем же пейзажем, как во времена Гоголя. Эта равномерно плывущая, пусть иногда прерываемая панорама, как унылая нота, пронизывает спектакль, двигаясь в одном направлении и фиксируя то же, но со скоростью поезда, являя воочию то, что мог видеть Чичиков на пути из Москвы до Херсона (видеографика Марии Небесной, Олега Михайлова, Георгия Маматова). Горизонтальное расположение ведущих линий и почти постоянный контрапункт неизменяемого ландшафта — идея режиссера Василия Бархатова, представлявшего Россию той эпохи сословным вертепным ящиком.
2. Оперу «Золушка» режиссер спектакля и главный художник «Новой оперы» Виктор Герасименко оформил с помощью компьютерной графики и анимации. Его соавторы — графический дизайн Е. Волковой, компьютерная графика и анимация Э. Громиловой; проекция и электронная партитура декораций (новый термин для визуального решения постановки). Декорации заменял трехстворчатый экран вдоль коробки сцены, на который проецировалась зрительная панорама объемной анимации от трех проекторов: волшебный сад, павильоны, королевский дворец, куда проекторы «перемещают» поющих артистов на сцене. Цельность изображения, «бесшовную стыковку его частей обеспечивает установленный INTmedia.ru программно-аппаратный комплекс с Dataton WATCHOUT» [26]. Конечно, отечественные приборы вторили мировым разработкам. Сама условность сказки естественно предполагает соучастие с виртуальной реальностью, также по мнению оперного критика: «Внешняя концепция происходящего на сцене и на анимационных экранах хорошо соответствует стилистике и исторической эстетике опуса Россини… лишена безумных идей актуализации, режиссерско-сценографических „уродств“ и отсебятины. Постановка красива своей „барочностью“, эффектна… <…> Визуальный ряд (и сценография, и мизансценирование) пластичен и ритмически сочетается с музыкальным. <…> Правы авторы идеи — для сказочного сюжета все эти мгновенные превращения, визуальные метаморфозы, переходы из виртуального мира в реальность, череда символов очень подходят» [27].

3. Интереснейшая неоцененная интерпретация Дмитрием Черняковым оперы Глинки «Руслан и Людмила» в Большом театре, где издавна этот опус затаскан банальными иллюстрациями, была воистину революционна, неожиданна; но упомянем в ней лишь только ценное для нашей темы. Главная новация спектакля, перенос его интриги на спор между Финном и Наиной о существовании любви, проходит именно в экранном пространстве, соотносимом по величине с задником сцены. Конечно, зритель может его игнорировать, на сцене и так происходит масса всего непривычного, но только на экране проясняется чистая мысль постановки. Там идет немое параллельное действо — пантомимический диалог этих волшебников, двух сил, сравнимых с Добром и Злом, управляющих судьбами испытываемых ими героев, в духе препятствий, создаваемых Зарастро в моцартовской «Волшебной флейте».
2013
1. О важном аспекте экранности в постановке Джорджо Барберио Корсетти оперы «Дон Карлос» (Мариинский театр) сказал сам режиссер: «…очень сильная и мрачная опера, где перекрещиваются три темы — любви, отношений с отцом, которая одновременно становится темой отношений с властью, с политикой, тема свободы… <…> Сценография — очень стилизованная, это фасад дворца, который оборачивается огромным могильным камнем. Темный элемент сценографии напоминает о драпировках на портретах той эпохи. С другой стороны, этот фасад — разновидность экрана, на который можно проецировать образы» [28]. Образы, довольно унылые и малокреативные, в мнимо готическом духе призваны усилить волнение зрителей при ощущении атмосферы ужасных событий…
2. Реализация на сцене театра Скала режиссером Дамиано Микелетто оперы Верди Ballo in maschera («Бал-маскарад») открывает ныне уже ставшую неким штампом «актуализацию»: банальную, назойливую параллель старого и недавнего, волнующего. Сюжет был перечитан в «политическом ключе». Буквально иллюстрируя это, в глубине сцены на экране представал подбор кадров кампании американских выборов, с прозрачной аналогией древних интриг и современных безжалостных политических «ходов».
3. О трактовке сложной оперы Моцарта «Милосердие Тита» в брюссельском театре Ла Монне с режиссурой знаменитого Иво ван Хове писали много, подчеркивая кинематографичность постановки «Милосердия» и уверяя, что «над всем доминировал большой экран, на котором режиссер увеличил чувства, сокращенные в либретто и в партитуре, „зуммируя“ частности, отдельных персонажей или все сценическое содержание, превращая их в гигантов или, напротив, отдаляя от зрителя, с действенной жизненностью и подчеркиванием сложности драмы, проживаемой протагонистами, разрываемыми борьбой между личным и публичным, желаниями, мыслями и — противоречащими им реакциями» [29].
Существенно, что на экране изображения происходящего на сцене представали для зрителей совсем в иной плоскости: и буквально (укрупненный план лежащей на сцене героини; графика «вида сверху» транспозиции на сценической плоскости), и аллегорически — зримые акценты на внутреннем самовысказывании, при звучании сольной арии; понимание полифонического контраста-слияния вокальных партий в ансамблях.
4. Феноменальное перечитывание Дмитрием Черняковым заболтанной отечественными более-менее добротными иллюстрациями оперы Н. Римского-Корсакова «Царская невеста» (то была яркая и новая трактовка под управлением Д. Баренбойма, Берлинская опера) явило: экранная этика и поэтика пронизывала этот новаторский спектакль. Просцениум открывал два контрастных пространства — с позиции оперного слушателя-зрителя. Правое — пространство действия оперы, семья Собакиных, отношения Марфы с женихом, подругой и другими. Левое — аппаратная манипуляторов (опричники). В ней идущая на экране работа на сайте, с помощью воссозданного эффекта компьютерного поиска, предстает как искусственное формирование образа и облика «настоящего русского царя» на загляденье (сложение идеализированных черт внешности Николая II, Петра I, Бориса Ельцина, актера С. Столярова в фильме «Цирк» и прочее). И на протяжении спектакля экранные «наброски» фиксируют стремление и результаты манипуляций анонимных burattinaio, «кукольников». Именно они анонимно и беззвучно ведут процессы отбора, шлифовки, сопоставления нужных им «публичных фигур» в экранном пространстве и, таким образом, открывают заданные режиссером причины сюжетных поворотов, казавшихся прежде слепой силой судьбы.
2014
1. Давно известно, что для оперных постановок стали использоваться не только традиционные театральные пространства, а многие иные, в том числе исторически значимые, позволяющие вместить массу зрителей (Арена ди Верона, площадь перед Дворцом в Вене, у московского Собора Василия Блаженного), или современные, недавно осваиваемые. Среди них и в Италии, в парке города Мачерата на огромном Sferisterio, спортивной арене для игр в тамбуретто и кальчетто, старинных предков футбола, — предстала опера «Аида».
В то время, как в Москве шла расхваленная, но рафинированно-скучная постановка великим П. Штайном этой оперы Верди, другая «Аида» металась на холмах Марке между створками РС. Ведь в Sferisterio сценическое пространство постановки оперы размещалось под прямым углом плоскостей двух огромных экранов. То есть нависшим потолком и настоящим полом ей служили светящиеся в темноте поверхности, под ногами персонажей и за их спиной. Но связана ли была эта форма с содержанием спектакля? Главные герои и основные ситуации были представлены на нижней плоскости и сопровождались визуальными рефлексиями на чуть наклоненном заднике. Фоном певцам были, после экранной заставки (пирамид и северно-африканской архитектуры), в основном скупые орнаменты в античном духе и надписи. А за гигантской «спиной ноутбука» было другое гигантское экранное пространство, чаще темное, по которому бегали разрозненные аскетичные изображения, стилизованные под рисунки и шрифты древнего Египта, что выглядело весьма примитивно. Самое впечатляющее, но ожидаемое произошло в финальной сцене заточения героев в подземелье: угроза «схлопывания» двух экранных плоскостей, когда «компьютер» пространства существования стал неумолимо «закрываться», пока герои в воображаемом подземелье красиво прощались с землей и жизнью…
2. Экономнее и содержательнее использовал пространство экрана Дмитрий Черняков в постановке оперы «Князь Игорь» в театре Метрополитен. Как и иные постановки этого театра, спектакль транслировался на экраны кинотеатров многих стран мира, потому удалось увидеть эту трансляцию на огромном киноэкране. Режиссер объяснял свою идею: «Я не намеревался показать русскую эпичность… Действие плавно перетекает из исторического прошлого в ХХ век и обратно. Некоторые сцены из реальности перенесены в сны. Например, самая известная музыкальная сцена этой оперы — „Половецкие пляски“ — это почти психоделический сон князя, изможденного и побежденного в бою» [30]. И возвращению сюжетного трагизма одному из самых известных и казавшихся однозначным музыкальному сочинению, с его всемирным шлягером разнузданных восточных танцев, способствовал удивительный контрапункт режиссерской визуальной организации. Особенно тот, который демонстрировался на экране задника сцены: благодаря неожиданным и оправданным зрительным ассоциациям-метафорам, музыка стала еще более глубокой и прекрасной, когда зрителю были видны не псевдоэротические позы, пышность двора хана, не героические статичные порывы и прочие штампы, а измученные бессильной борьбой реальные люди вне конкретного времени и места действия, скорее бредившие героикой, нежели победившие…
2015
1. Уже и в таком консервативном, по сути, театре, как Ла Скала, предстала современная опера Джорджо Баттистелли СО2 с режиссурой Роберта Карсена и видео Финна Росса. Архангелы, ученые, Адам и Ева и даже «русский делегат» — персонажи этой оперы. Ранее она была показана на Эдинбургском фестивале, когда об ее жестком изобразительном решении писали так: «Видеопроекция все чаще становится стандартной для многих оперных режиссеров, но здесь по-другому: видео полностью интегральное. Большая часть действия будет происходить на экране или за ним, используя теневые проекции. Визуальный и музыкальный стили сильно напоминают film noir. <…> Весь набор технических средств будет портативным — шоу может быть поставлено практически в любом месте» [31]. Ценная информация! Практично создать такой концентрат «наукообразных» и пугающих видеоинтерьеров, наряду с символами райского сада, помогающих театральному зрителю воспринять непростой музыкальный язык опуса, можно было только на разнообразных экранах.
2. Модный режиссер Д. Ливерморе при постановке оперы Беллини «Норма» не экономил электричества: экраны работали и до начала спектакля (грозовые облака, атмосфера тревоги), и в перерыве (на сценической заставке переливается ажурными бронзовеющими переплетениями щит языческого бога Ирминзула, за ним — угрожающе трансформируются «небесные странники», мрачно-роскошные облака). Видеопроекции не оставляют зрителя в покое на протяжении всего спектакля, как плохой саундтрек, указывая, что, когда и в какой степени надо чувствовать.
Для подобных изобразительных сигналов, призванных синхронизировать реакции публики, надо было использовать огромный задник в глубине сцены, полупрозрачную занавесь на авансцене, суровые черные экраны, выдвигаемые из кулис и почти закрывающие действие на сцене, мелодраматическую развевающуюся штору из тонких белых нитей. На них почти беспрерывно «выкладывалось» видео. Эти красоты «типичного» для действия «Нормы» ландшафта выявили «главную мысль» режиссуры и, по глубокомысленному замечанию восторженного рецензента, «могли бы составить многочасовой фильм, чарующий красотой, романтизмом и поэзией: залитые предрассветным туманом сосновые и березовые рощи с мерцанием и движением стволов, быстро плывущие облака и бушующие языки пламени. <…> Видео проецируются в полном соответствии с характером и ритмом музыки и составляют широкую, динамично меняющуюся панораму видеопейзажей» [32].
2016
1. Несравненно реже звучащая опера-сериа «Розамунда, королева Англии», поставленная на фестивале Доницетти в Бергамо, заинтересовала корректной трактовкой дальней стены сцены как места для единичного выразительного показа медленно двигающихся фигур — теневых образов. Неожиданным стал этот контрапункт в английском духе в первом акте, когда на задник был проецирован неправильный овал, в котором словно зависли в белесом тумане стволы и ветви мрачных деревьев. Графика темных линий словно очень медленно «дышала», то чуть ярче проступая в изображении, то терялась в «тумане», в важные моменты сценического действия давая тихие сигналы. Тем был создан некий особый медленный ритм и тонкий, философский обертон утомительной живости запутанного сюжета (режиссер — Паола Рота, дирижер — Себастьяно Ролли).
2. О возможности жанровой модуляции: тот же Ливерморе осуществил спектакль оперы Верди «Симон Бокканегра» на сцене Большого театра Москвы, ответив на «высокие вкусы» превращением сурового шедевра в horror, в духе пародии не столько на истинный стиль Хичкока, сколько на его домашние словесные опасливые описания. Чтобы зритель не скучал, в окнах-видеоэкранах мелькают страшные ужасы, по экранному небу — потолку сцены — навязчиво «летают», далеко от опуса Верди, изображения громадных птиц-монстров, пугающе ширококрылых, мрачно-романтических…
2017
Пора хоть мельком взглянуть на продукцию московского Электротеатра «Станиславский» с точки зрения нашей темы. В целом многие проекты на этой столичной площадке пронизаны принципиальной мультимедийностью. Укажем лишь на спектакль по опусу композитора (здесь — также режиссера постановки) Владимира Раннева «Проза», по сочинениям Ю. Мамлеева и А. Чехова. Этот спектакль заслуживает подробного анализа, но полной записи его не существует.
Признанное оригинальным и трогательным, это зрелище получило ряд престижных премий, таких как Casta Diva — 2018 и две «Золотые маски» в 2019 за признание лучшими работ композитора и художника в музыкальном театре. Главное в этом примере, для нашей статьи, — представление обо всем, находящемся на сцене, как о материале, месте, площади, пространстве, на котором можно разместить движущиеся видеопроекции.
Так и происходит. Мультипликация, фрагменты хроники, фото- и кинокадры, тексты, статичные и движущиеся, танцующие, раздувающиеся пузырями титров, поданных с сильной визуальной акцентуацией и забавными иллюстрациями, или ливнем падающие визуализированные словесные реплики — все это льется непрерывным потоком. Обрушиваются изображения, набранные из прошлого и настоящего, на стены сцены, декорации, вагонетки, мешки, персонажей-певцов, словно материализуя главные идеи и принципы постмодернизма. Да, ныне в искусстве, в культуре каждый звук, воспоминание, видение можно ощутить как пронизанные ассоциациями, интертекстуальностью, перекличками с «цикадами» в прежних текстах, вербальных, изобразительных, сонорных. И тут, в свежей «Прозе», это воплощено с буквальностью, создающей чувство горечи. Звучит ли музыка, какова она, даже не успеваешь осознать, но она как-то тонко созвучна этому безумному и печальному потоку…
2018
1. Яркой работой, в том числе для избранного нами ракурса, является постановка на сцене, в форме оперы, Константином Богомоловым оратории Генделя «Триумф Времени и Бесчувствия» в МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко. Не присутствуя на спектакле, не могу высказать суждение в аспекте нашей темы «от себя» и лишь приведу любопытные отклики об элементах экранной поэтики, отмеченных рецензентами.
Они были поражены тем дразнящим контрапунктом, когда торжественную музыку Генделя «с подчеркнутой хамоватостью перебивают пионерскими „Крылатыми качелями“ на экране», торжественно-замогильным текстом Владимира Сорокина, идущим под видом титров, но на самом деле представляющим собой авторское переосмысление итальянского либретто кардинала Бенедетто Памфили… с бойкими режиссерскими комментариями на полях, точнее — на двух экранах по краям сцены, без стеснения помещающими четырех барочных аллегорических персонажей и выяснение отношений между ними то в позднесоветский Ростов-на-Дону, то на «Евровидение», то к террористам ИГИЛ (организация запрещена в РФ. — Ред.).
По мнению чуткого рецензента, «это тоже барокко, только образца XX — XXI века… дань русскому концептуализму конца тысячелетия, с замечательной неоднозначностью и контрапунктом, подчеркнутыми тем, что «в конце следует реприза аттракционов, но поражают не они, а двоякий финал: на видео Красота покоится в гробу, на сцене тот же гроб стоит пустым — возможно, кого-то ожидая» [33]. Здесь стоит внимательнее изучить разнообразные, судя по описаниям, «роли», функции и метаморфозы экранных пространств.
2. Парижская реализация оперы Мусоргского «Борис Годунов» (дирижер Владимир Юровский, художественный руководитель Йан Версвейвельд, режиссер — Иво ван Хове) любопытна постоянным применением особого, очень медленного темпа движения видеопроекции на гигантском экране за спиной главного символа спектакля: пунцово обагренной, кровавой лестницей к власти. На экране — словно непрерывное, оцепеняющее погружение в галлюцинации царя Бориса: почти неотличимы от фотографий долгие планы лиц исполнителей, хористов, но главное, детей, облаченных в красное. Их давящее присутствие подобно сеансу длительного, завораживающего массового гипноза. Нуждается ли музыкальный шедевр в таком форсированном давлении на глаза зрителя нагнетанием экранных, наваливающихся на зрителя «кровавых мальчиков»?..
2019
Процесс мнимо эмоциональной вульгаризации «материальным» воплощением навязанных режиссером ассоциаций оформляется все роскошнее. В феврале этого года в театре Астаны, весьма привлекающем известных постановщиков, Д. Ливерморе представил оперу Чайковского «Евгений Онегин» как ретроспективу воспоминаний уже давно зрелой героини о прошлых любовных коллизиях. Тому помогала масса видеопроекций на «окнах» сценической конструкции, являющихся LED-экранами, где предстают умильные воплощения и «конкретные иллюстрации» того, как Татьяна прожила жизнь до этого спектакля. Режиссер поведал о своей высокой идее, научном открытии материализации интимных переживаний: «В этой постановке мы увидим внутренний мир Татьяны, узнаем, как молодая женщина приходит к зрелости, осознавая, что она потеряла и приобрела в жизни» [34]. Воспитательная роль трактовки, где в зеркалах экранов учащиеся четко увидят, какие ошибки не должна делать россиянка, неоценима при изучении опуса Пушкина в школе.
О семантике геометрии сцены с экранами. К теме «Этика и поэтика экранных пространств на сцене»
Обзор выявил некий круг художественных, ситуативно-содержательных, драматургических вариантов, горизонтов расширения возможностей «перформативного переворота», о котором говорят критики.
Попробуем обобщить, на основании длительного опыта наблюдений над спектаклями в русле нашей темы, одну важную черту: осознать роль поверхностей, предназначенных для видеопроекций; уловить в расположении «коробки сцены» оперных постановок их функции как семантически значимых пространств. Такой опыт классификации, естественно, «огрубляет» реальную вариативность и совмещение функций в театрально-оперной практике. Но он кажется полезным с точки зрения осознания содержательного наполнения, символического прочтения геометрии размещения плоскостей-экранов для видеопроекций, вне смыслового наполнения и контекста изображений.
Экранное пространство на задней стене сцены дает, прежде всего, возможность эффекта углубления сценического пространства. Со времен открытия глубинной перспективы в живописи это — радикальный «прорыв» для прежде невозможного расширения собственно визуального обзора. На заднике, «уходящем вдаль» или дающем иную «точку зрения» на сценическое действие, нередки экранное укрупнение происходящего, лиц движений артистов-персонажей. Чаще — с «меняющейся дистанцией» по отношению к ним, но созвучно, как в постановке «Милосердие Тита» (2013); подчас же резко контрастно традиционному течению сюжета, действию на сцене. Именно на экране просцениума чаще можно найти смысловой ключ к идее постановщиков.
Экран на авансцене — прямой, открытый коммуникативный прием, «громко» декларирующий режиссерскую особенность прочтения знакомого опуса, обычно радикально отличающуюся от привычной.
Изображения на заднике, переходящие в плоскость пола сцены чаще призваны соединить смысловые акценты на заднике и сцене в неразделимое, непротивопоставляемое целое.
В боковых плоскостях сцены экраны закономерно ближе визуализации «реплик a parte». Они чаще содержат дополнительную, предлагаемую для попутных размышлений «иную реальность», иную информацию, нежели данную на заднике. Нередко это бывает комментарий от автора, параллелизм в культуре; так, в постановке оперы «Богема» Пуччини в Париже левая створка сценической коробки наполнялась репродукциями полотен французских импрессионистов, перекликавшимися с духом музыки и либретто, оттенявшего их стилем и художественным мышлением той же эпохи, но это не радикально влияло на восприятие сюжета оперы и режиссерского сценария.
Также в боковых плоскостях может проецироваться некое «зеркало воспринимающих»: символическая ситуация возникает, когда в развернутых боковых кулисах сцены отображаются зрители — реально, с симультанной реакцией, или заранее снятые, то есть с имитацией непосредственного отражения.
Слияние визуальной информации на заднике, стенах (и подчас — полу) сценического пространства, полная замена декораций и антуража экранными образами обычно дают не сумму, а умножение: создание иллюзии объемной среды происходящего — до тотального выстраивания виртуальной реальности. Последнее способно влиять на восприятие действия на сцене; так, благодаря изображениям движущейся экранной арки вокруг певцов, в третьей картине «Золота Рейна» рождался эффект динамичного смещения персонажей по вертикали (погружения, подъема) и/или горизонтали. Слепящие огневыми вспышками поверхности сцен в постановке «Валькирии», отражающиеся и на «металлических» подвесках, на одежде, щитах, оружии, лицах смятенных валькирий, создают реально воплощенную ауру семиосферы раскаленного, разгорающегося гнева Вотана; словно повышалась температура на сцене и там, где это смотрим…
Заполнение «окон» или «картин-экранов» на сцене способствует эффекту прямолинейному, схожему с «клеймами» иконы: тогда подвергается расширению не видимое пространство, а то, которое отсылает к предлагаемому зримому созерцанию времени (ретро-иллюстрации спектакля «Евгений Онегин» в 2019, или, напротив, аналогии в «окнах» экранов с предстающими там документальными съемками событий, происходящих позднее, нежели действие оперы). Они переносят зрителя в иное время, параллельные ситуации. А могут предлагать варианты прочтения, «актуализации» смыслов. По диспозиции они подобны открытию новых порталов, получению потоков информации на компьютере.
Если «отражением-экраном» в постановке оперы служит потолок сцены, то и в случае, когда зрители не могут полно рассмотреть изображение на нем, возникает значительное ощущение «ока сверху»; тем обозначается новая точка наблюдения. Там, подчас трансформируя реальное отображение и открывая графику размещения на сцене, зрителю предстает иной ракурс режиссерской «игры»: виден «рисунок» сопоставления изображений с движениями солистов, подчас — созвучный полифонии ансамблей («Шелковая лестница», 2009).
Когда видеопроекции касаются, затрагивают все или часть плоскостей предметов на сцене, в том числе подвешенных и иных, особенно прозрачных поверхностей, стеклянных, зеркальных, металлических или прозрачных, просвечиваемых насквозь, — воображаемыми образами пронизывается вся среда. Она становится тотально scermonezzata, «обэкраенна». Тогда персонажи действуют в атмосфере «живых картин», становясь героями композиций по сюжетам известных живописных полотен. Или подобны человеческим фигурам в среде анимации («Эмили», 2010). Или в ауре дополненной реальности (спектакль «Путешествие в Реймс», 2015), когда изначально не видимые в зале или не бывшие значимыми поверхности на сцене заполняются видеоизображениями, которые в сочетании с позирующими артистами-певцами буквально наслаивают желаемые постановщиками смыслы.
Пространство для строк и «пузырей» для письменного словесного текста привычно ныне в оперных театрах. Оно способно размещаться не только на верхнем титровом экранчике, но и на задниках, внутренних экранах сцены. Словесные высказывания в этих пространствах нередко полярно, парадоксально имитируют объективность «документального» свидетельства или вскрывают иное прочтение вплоть до контрастных смыслов. В таких вторжениях помимо фрагментов либретто встречаются, вне вербального текста спектакля, добавления авторского «комментария» постановщика, становясь подобными «визуальной поэзии». Письменное слово становится элементом зримого воздействия, влияющим на восприятие музыкального ряда и в целом содержания спектакля.
Подчеркнем, более яркая, светящаяся эманация таких «вторжений» (нетрадиционных приемов, эффектов новых технологий) способна выделять, акцентировать, усиливать их содержание и воздействие: свет мощно «несет» и умножает несомое.
Не только «плоскости для видеоинсталляций» значимы в оперных постановках. Встречаем проникновение самой формы изучаемого явления в сценическое, режиссерское мышление, в графику, черты мизансценирования. Это не только имитация диспозиции экрана в постановочной геометрии пространства сцены, в основе сценографической архитектоники; таково разделение фронтальной плоскости сцены на два или более пространства — изолированных, разное означающих: в «Игроке» Прокофьева (2008), «Царской невесте» Римского-Корсакова (2013), «Троянцах» (2019) — все — режиссура Чернякова; «Розамунде» Генделя (2015), в «Аиде» Верди (2014). Каждая символическая «сфера», «выгородка» на сцене тогда обретает свои смысловые функции. Они чаще контрастны, как два независимо существующих пространства и потока времени. Тогда переходы персонажей из одной в другую реально визуализированные семиотические сферы рождают богатые возможности для трактовки…
Комплексное применение ряда или многих из названных факторов нередко включает использование не только разных плоскостей на сцене, но и одежды, лиц и тел исполнителей-персонажей в качестве поверхностей для видеопроекции; прямую трансляцию сменяемых изображений, в том числе кинематографических и анимационных. Так встречаемся с трактовкой среды постановки как тотальным пространством экранности.
Попытка обобщения
Пришло время попытаться осознать функции экранных изображений в оперных постановках, не просто упоминая о них как о дополненной реальности, преображающей традиционную сценическую.
Очертим некую панораму смысловых обертонов происходящего на экранах в сценических оперных постановках, понимая, что господствует множественность функций выразительных приемов и целей интерпретаторов.
Видим вновь, «экраном» в широком смысле, на сцене музыкального театра, способно становиться все, на ней находящееся: плоскости границ сцены, подвешенные предметы, элементы декорации, ткани, а также сами персонажи. Но как это обобщить, что и зачем появляется и проявляется на этих «экранах», что воплощается в этой экранности?
Очевидный существенный вывод — функция значимого расширения пространства сцены с помощью углубления, (псевдо) реального (буквального) и метафорического за «границы сцены». С точки зрения развития традиций тут продолжение идеи театрального термина alcova («альков»). Известное это помещение «открывается в глубине сцены, словно большая „кладовка“; иногда используется как пространство в спектакле, но обычно — это хранилище подсобных материалов… чаще именно в огромных театрах…» [35] Такие альковы, схожи с компьютерными возможностями получения материалов из «облака», в прежних плоскостях сцены способны открывать иные измерения.
Новые точки и ракурсы наблюдения, предлагаемые зрителю в зале, дают в целом бòльший объем, иной уровень зрения, сопоставления, слышания музыки, восприятия сочинения в целом и его трактовки. Как всякий контрапункт, экранное содержание, виртуальные альковы и прочее способны радикально менять оперные смыслы, подчас меняя их на противоположные; модифицировать стиль, дух первоисточника, до юмористического ракурса, иронической трансформации, травестизации, — опять-таки, расширить не только видимое, но сами границы интерпретации и степени активности ассоциативных связей, креативности у зрителя. Экранная поэтика способствует рождению новых иллюзий в восприятии зрителя, как эффекта симультанного движения оперных персонажей при их фактической неподвижности, иллюзии уменьшения или увеличения материальных предметов, по сравнению с «отдалением» или «укрупнением» виртуального изобразительного фона. Помимо эффекта расширения условного пространства оперного действия, происходят смещения времени его свершения; в сознании зрителей происходит сопоставление с иным локусом, с иным периодом и темпоритмом протекания времени.
Важно: то, что визуализируется на экранах сцены, становится локусом для выявления, визуализации бессознательного — ассоциаций, связанных с подсознанием персонажей, авторов литературного источника либретто, композитора, постановщиков спектакля. И зрителю предлагается вглядеться, вслушаться в самого себя, в свое подсознание, и ощутить, «подключить» к восприятию оперы активную собственную работу-интерпретацию.
Все названное: движущиеся кино-, мультипликационные и живописные панорамы на стенах сцены, режиссура меняющихся световых потоков, символика светоинсталляций на плоскостях сцены и всем ее наполнении, становящимся экранами в прямом и в широком смысле термина, элементы «цифрового театра» и экранные отсылки к визуальным цитатам из опусов традиционных видов искусств, — все это преображает театральное пространство в явление нового сакрального уровня.
Явление это, собирающее воедино средства воздействия различных, в том числе недавно формирующихся медиа, призвано быть воспринятым зрителями синкретически. Представляется, качественный сдвиг в том, что нынешний зритель способен воспринимать такую сложную мультинарративность как некую целостность. И, пусть не всегда принимая происходящее на сцене как логическое повествование, ощущать некий целебный, терапевтический эффект такого «культурного массажа»; недаром полны ныне залы не только драматических, но и оперных театров.
Зрителей манит и возможность встреч с визуализацией смутных для него идей: зримого воплощения сновидческого измерения.
Даже если начнем подробнее расписывать пролегомены на нашу тему, дополнять иными наблюдениями, смысловыми оттенками, нельзя упустить важнейшую содержательную составляющую, пронизывающую все значения, все варианты «расшифровок». Ибо объединяет все сказанное искомая мечта человечества буквально узреть незримое, словно открываемое «третьим глазом». В данном случае, незримое, но ощутимое в свободных ассоциациях, в воображении творчески воспринимающей личности. Незримое, но «подозреваемое» или подспудно содержащееся в каждом опусе, плотно насыщенном смыслами, ассоциациями, связями с культурой, историей, отбрасывающих свои тени на каждый художественный опус. Другой вопрос, надо ли и как проявлять этот шлейф культурных следов, плюс плоды фантазии, воображения постановщиков, но зрителю-слушателю это интересно и важно. Ибо и публика зала изменилась: мимо нее не могли пройти изменения в естественнонаучной картине мира, которые меняют и даже перевертывают привычные представления.
Так, Н. Бор, основатель квантовой физики, не отрицал двух вариантов образования энергии: волновой или поток заряженных частиц, — однако ни то, ни другое не счел достаточным для описания, тем утвердив принцип дополнительности. Это, наряду с теорией относительности Эйнштейна, произвело переворот, приведший к смене научной парадигмы. С новой убедительностью был перекинут в культуре «мост» между естественнонаучной и мифопоэтической моделями мира, что ярко проявилось в практике художественного изображения, противопоставившей миметической традиции отражения опыт косвенного свидетельствования как «третьего глаза». Так, продолжая идеи авангарда в визуализации сокрытого от взора, искусство все более направлено в сторону обнаружения и демонстрации невидимого [36]. И в современном оперном театре соединение новых технологий со сложнейшим синтезом составляющих, в сценическом существовании оперы ныне можно зафиксировать качественные трансформации. Охватывая сознанием это соединение многоступенчатого прошлого, разнообразного современного, материальной действительности и утопии, внешних и глубоко сокрытых проявлений человеческой сущности, создатели постановок выходят на многоуровневые сценические концепции мироздания, привлекая миры на экранах как параллельные вселенные.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.