
Бесплатный фрагмент - Спаси и сохрани

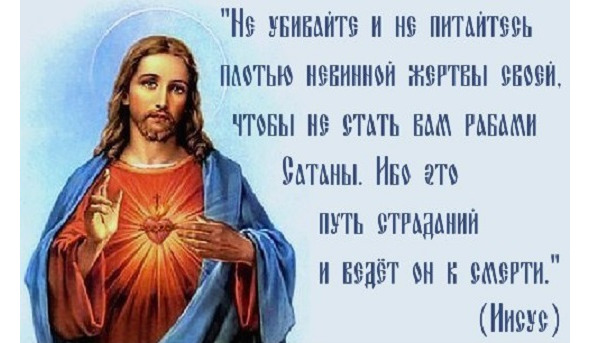
О книге
Первая Мировая война (28.07. 1914 — 11.11.1918. До начала Второй мировой войны в 1939 году — «Великая война», а в Российской империи «Вторая Отечественная», неформально «германская» или «империалистическая». «Первая Отечественная» — война 1812 года), один из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества.
Говорить и писать о Великой войне можно много, но правильно будет не фантазировать, а излагать события того периода со слов участников той войны или из воспоминаний людей переживших её. Именно по этому пути я и решил пойти в написании этой книги, — черпая информацию из архивных источников и российских газет периода Второй Отечественной.
Всё, что было в той войне охватить невозможно, и эту цель я перед собой не ставил, для этого есть историки и институты, занимающиеся прошлым, попытаюсь лишь кратко рассказать словами героев тех лет о нескольких днях их жизни.
На мой взгляд, нет права ни у кого, даже самого великого и могущественного человека, вершить судьбу другого человека, даже самого падшего.
Пора понять им, — ныне и в будущем власть держащим, что даже самый Величайший из великих — Иисус Христос — Спаситель Мира пришёл в наш мир не наказывать, а любить. Он нёс мир! Так какое вы имеете право вершить судьбу других людей, господа правители? Господи, вдолби в их головы, что наша земля одна на всех и всё, что живёт на ней нужно сохранять, беречь и приумножать.
Господи, спаси и сохрани!
Обращение к солдатам
Братцы!
В нынешнем году так же, как и в прошлом, очень многим — в том числе, например, и мне — приходится встречать праздник в исключительных условиях, так не похожих на обстановку мирного времени. Приходится забыть на время о привычках, которые прививались годами, всасывались, как говорят, с молоком матери, которые заполняли значительную часть нашей мирной жизни и казались почти неотъемлемой её частью.
Приходится забыть также и о всех обрядах приготовлений и встречи праздника, завещанных нам нашими отцами и дедами и освящённых веками обычаем и церковью.
В ночь накануне Великого Праздника сердце русского человека начинает учащённо биться при одном только воспоминании о родном селе, городе, родных ему лицах, с которыми его разлучила судьба и которых он, может быть, больше уже не увидит. В его памяти воскресают картины прошлого: из холодного и мрачного окопа он переносится в родной уголок, он видит радостные, праздничные лица, слышит их весёлый говор и смех. Ему чудится торжественный перезвон колоколов, могучий гул которых разносится далеко по окрестностям, призывая православный люд под высокие своды храма к общей молитве Новорожденному Спасителю мира; видит он, как в темноте мелькают закутанные фигуры, как всё больше и больше наполняется ярко освещённый храм; теплятся сияющие лампады пред святыми иконами, льётся горячая молитва мирян, вместе с кадильным фимиамом возносясь к Престолу Всевышнего, слышится стройное пение молодых голосов, и на душе становится так светло и отрадно!
Русский народ во всех случаях жизни привык собираться под сенью храма: случится ли радость — он идёт и изливает свою душу в благодарственной молитве Творцу за ниспосланное благодеяние; случится ли горе и несчастье — он идёт и испрашивает помощи и покровительства у матери-церкви; не дают ли покоя безысходная нужда и тяжкая доля — он опять идёт и в горячей молитве старается найти облегчение своей горькой участи, найти отраду и покой своей многострадальной душе, раскрывает всю свою душу и всегда находит там и помощь, и покровительство, и защиту!
И вот, вместо родных, ласкающих взор картин, перед глазами суровая действительность. Ночь. Необозримая снежная равнина, кое-где покрытая лесами, расстилается впереди. Миллионы снежинок блестят и искрятся при бледном освещении луны, как будто дорогие алмазы, рассыпанные по полю щедрой рукой. Тёмно-голубой небосклон весь усеян бесчисленными звёздочками, слабо мерцающими в беспредельной дали. Луна, как и всегда, с задумчиво-внимательным видом всматривается в давно знакомую ей землю, как бы старательно изучая каждый холмик, каждую горку нашей планеты. В воздухе мёртвая тишина, которую не нарушит уже праздничный благовест колоколов — иногда лишь прожужжит шальная пуля, да где-нибудь в стороне раздастся ружейный выстрел, а вместо праздничных лиц видны только неясные силуэты наблюдателей у бойниц.
Холодно в окопах. Мороз сковывает уставшие члены, глаза слипаются — клонит ко сну, но надо пересиливать себя: зорко смотрит опытный глаз в сторону противника, и от бдительности наблюдателя зависит спокойствие, боевая слава и даже жизнь многих его братьев, находящихся в окопах. Слышно, как кто-то у бойницы переступает с ноги на ногу и постукивает каблуками, отогревая застывшие члены. Много приходится переносить в окопах нашим братьям — солдатам. Часто терпят они и холод, и лишения, и неудобства; часто все мы подвергаемся опасности в мгновение ока превратиться в бесформенную кровавую массу; ни один из нас не уверен, что смерть к нему е придёт через день, через час, через минуту, но всё это мы переносим ради спасения дорогой нам Родины, не перенесём лишь одного — позора нашего Отечества, не перенесём сознания, что дерзкий враг останется в пределах земли Русской! Мы не вынесем справедливого упрёка наших детей, которые назовут нас жалкими трусами, продавшими русскую землю, — ту землю, которая куплена ценой крови наших отцов и дедов, которая собиралась по клочкам могучими усилиями всего русского народа и на зависть врагу става великой и сильной. Мы недостойны будем называться сынами Великой России, и попирать ногами её землю, обагрённую кровью наших предков, отдавших жизнь свою за благо России, не даст нам покоя и прах героев, каждый из нас, как проклятый Каин, будет скитаться по земле, не находя успокоения своей мятущейся совести.
«Не посрамим земли Русской» — сказал наш Верховный вождь, — не посрамим славы героев Суворова и Скобелева. Пусть каждый из нас проникнется сознанием непоколебимой уверенности в конечной победе России и её союзников; пусть он не сомневается в несокрушимой силе русского штыка, перед которым, настанет время, окажутся бессильными все хитроумные изобретения коварного врага; пусть ни на минуту не забывает, что миллионы наших предков, не задумываясь, жертвовали своею жизнью на полях брани, защищая честь и славу России, и тогда недалёк будет тот день, когда начнёт издыхать раздавленный враг, и мы получим возможность вернуться к своим семьям, имея право гордиться сознанием исполненного долга!
Жизнь наша тускла, монотонна, иногда и вовсе бесполезна, так пусть же она хоть раз вспыхнет ярким огоньком геройской смерти в борьбе за честь и свободу дорогой нам отчизны!
Прапорщик Шаталов. Действующая армия. Шуйский полк.
Глава первая
(Рождественские рассказы)

Рождество
Опять приходит праздник снежный,
Всегда чудесно молодой,
Струится свет лучистый, нежный
Звезды Рождественской, святой.
Опять душой светлеют люди,
Но ныне снова в третий раз
Под неумолчный гул орудий
Встречаем мы Великий час.
И в ночь, когда из Назарета
Нам засиял волшебный луч,
В палатах светлых лазарета,
Среди Карпатских грозных круч,
В окопах мёрзлых, в зимнем поле,
Где неустанно льётся кровь,
Томясь во вражеской неволе,
Встречают люди праздник вновь.
Мороз суров, и ветер колок,
И правит вьюга грозный пир,
Приходит светлый праздник ёлок,
Прекрасный праздник в грешный мир.
Вещает нам своим сияньем
Звезда Святого Рождества,
Что за годиною страданья
Настанет радость торжества.
Ценой лишений и усилий,
Ценою подвигов и бед
Дождёмся мы прекрасной были
И дня великого побед!
И, суд, свершивши над врагами,
Вернёмся мы в поля свои,
И засверкает вновь над нами
Луч яркий мира и любви.
Егор Сибирский.
В дни царя Ирода
Во дворце Ирода был пир. Вино лилось пенистой рекой из золотых сосудов, которые подавали красивые рабыни.
Плясали женщины, полуобнажённые, звенящие от драгоценных ожерелий, которые сверкали на их груди, переливаясь самоцветными камнями.
Золотой чешуёй блестели браслеты на их смуглых ногах и на прекрасных, тонких руках.
Чёрные волосы сбегали широкой волной на плечи, подхваченные сверкающим обручем или связанные в пышные узлы, унизанные жемчугом и алмазами.
Молодые иудеи и римляне возлежали на своих ложах около пышных разукрашенных столов и скучали.
Что было интересного римлянам здесь в этом отдалённом уголке Иудеи, куда они попали в качестве управителей или должностных лиц, когда они пользовались всеми благами жизни, которая только могла дать столица мира — Рим.
Молодые иудеи подражали своим владыкам и тоже скучали или, вернее, делали вид, что им скучно среди богатств и роскоши царского пира.
В то время Римская Империя обнимала почти все известные тогда земли.
Везде были разбросаны огромные колонии, огромные завоевания Римской Империей царства, где для вида оставлялись местные цари и владыки, но куда неизбежно назначались знатные римляне для верховного контроля над их деятельностью.
Во всех колониях стояли римские войска и строго наказывали местных жителей за малейшую провинность. Весь мир трепетал перед Римом.
Рим завоевал всё и крепко держал под своей железной пятой раздавленную землю.
Орлы — знамёна Рима облетели всю землю и, наконец, впустили свои когти в ужаленную, растерзанную внутренними междоусобицами Иудею.
Итак, в далёкой Иудее среди стонавшего, побеждённого народа пировали скучающие победители.
Мрачно лежал Ирод, прирождённый царь Иудейский. Он ненавидел наместника Рима Понтия Пилата и всех этих римских воинов, которые жили в Палестине, следили за ним и были на деле настоящими правителями Иудеи, которым он принужден был повиноваться.
Но он боялся римского императора и поэтому заискивал перед его слугами. И в тоже время он презирал и ненавидел свой собственный народ, ждавший какого-то Мессию, какого-то «настоящего» Царя Иудейского и он боялся свои подданных, этих восторженных, шумливых людей, всегда готовых кричать и спорить по вопросам веры.
Сам Ирод не был верующим человеком, отравленный близостью с презиравшими всё на свете римлянами, он был горд, честолюбив и глубоко страдал от владычества Рима, не имея в то же время возможности опереться на свою подавленную разорённую страну.
Ирод лежал на ложе, усыпанном, по римскому обычаю, душистыми лепестками роз.
Красавица рабыня стояла около него с большим опахалом, которым она навевала прохладу на своего владыку, а он мрачно смотрел на золотую чашу, блестевшую в его руке.
— Что с тобой, великий Ирод? — спросил его Понтий Пилат. — На тебе лица нет. Ты устал или какие-нибудь дела расстраивают тебя?
Ирод посмотрел на красивого римлянина. Он не знал, что ответить, потому что он был груб, не образован и ум его совершенно не знавал той изысканности, гибкости, которой были одарены его гости.
— Сегодня срок, — вдруг сказал он и разом выпил чашу.
— Какой срок? — сдерживая улыбку, спросил Корнелий, один из самых блестящих офицеров римского войска. Он попал сюда случайно со своим полком и не чаял вернуться в Рим.
— Срок моего царствования, — вдруг поднял глаза Ирод и сам испугался своих слов.
Но было поздно.
Пилат поставил чашу на стол и приготовился слушать.
— Или вы не слыхали, что болтают в народе. Сегодня должен родиться Царь Иудейский, который будет истинным царём.
— Слышал, — засмеялся Пилат.
— Не всё ли равно, что говорит народ, — презрительно процедил один из молодых знатных иудеев, увешанный драгоценностями, как женщина.
— Но ведь его царство будет не наше, не здешнее, а какое-то особенное. Надоели мне эти басни. И охота тебе их слушать, — сказал Пилат.
— Римские войска охраняют тебя, и наш император не признаёт другого царя в Иудее, будь покоен, — снисходительно заметил Корнелий, — лучше прикажи этой рабыне, что сидит там, в углу с арфой — спеть нам. Говорят, здешние песни красивы. Я их почти не знаю.
Рабыня стала. Окинув чёрными, горящими, как уголь, глазами, всех гостей, она запела.
Её голос звучал сначала тихо, потом она запела громче и громче.
Все замерли.
Казалось, древняя пророчица восстала и заговорила её устами.
— Придёт звезда с востока, — говорила она. — В городе Виелееме родится Он, и поклонятся Ему народы. И великий Рим склонит перед Ним главу свою. И на кресте примет Он смерть и поклонятся ему народы. И воскреснет он из гроба, и царству Его не будет конца. Горе вам, не знающим Его, горе вам не возлюбившим Его.
Рабыня в изнеможении упала на роскошный ковёр.
Весь бледный поднялся Ирод со своего ложа.
— Какая-то безумная, — сказал Пилат. — И как это пустили её сюда. Вот неприятный здесь народ. Который раз слышу я эту песню. Один раз какой-то нищий вздумал её петь под моим окном. Я его приказал повесить.
— Удивительное нахальство. Вы послушайте: «Рим поклонится Ему», — вскричал Корнелий.
— Душно мне, — прохрипел Ирод.
Рабы открыли двери.
Прямо против неё на безоблачном чёрно-синем небе горела необычная звезда.
Она сияла и переливалась всеми цветами радуги, она горела на небе, как огромный алмаз, и луч от неё яркий и белый падал прямо в сторону Виелеема.
— Звезда, — закричал Ирод. — Он родился! Видите. Я прикажу перебить всех младенцев, которые родились в эту ночь в этом Виелееме. Всех, слышите ли, всех, — хрипел он.
— Ну и отлично. Мы поможем тебе. Я не позволю, чтобы эти господа грозили самому Риму. Хочешь, я сам пойду и распоряжусь, — сказал Корнелий, которому невероятно надоела вся эта история и хотелось под благовидным предлогом уехать из дворца.
Он позвал своих воинов, вскочил на коня, и они помчались по широкой и гладкой дороге, которые всегда проводили римляне по завоёванным странам.
Звезда горела ещё ярче, когда они приехали в Виелеем.
Распорядившись, Корнелий решил уехать назад.
Крики матерей, у которых отнимают детей и вопли младенцев скоро наскучили ему, хотя ни одна капля жалости не проникла в его сердце.
Ему была только смешна затея Ирода.
Тихо поехал он назад совсем один, потому что воины, увлечённые резнёй, рассеялись по городу.
Но вот увидел он на дороге маленького осла.
На нём сидела женщина с ребёнком, и седой старик тихо шёл рядом с ними.
— Вот ещё младенец, — подумал Корнелий. — Надо и его прикончить. Тогда этот чудак Ирод будет совсем доволен.
Но вот женщина остановила осла, старик взял младенца в руки.
— Я так стала, — сказала Мать.
— Отдохнём, Мария, я тоже устал. Мои ноги стары и слабы.
Корнелий взглянул в лицо Матери.
Что-то особенное прочитал он в глазах её.
И ему вдруг стало страшно за свою прожитую жизнь.
Мёртвые младенцы Виелеема, когда-то убитый им в порыве гнева раб, все дурные поступки и даже мысли припомнились ему, и он поник головой.
Пустая грешная жизнь его, о которой он никогда не задумывался, предстала пред ним.
Он остановил коня.
— Что за пустяки. Два удара меча и всему конец.
Мать ещё раз взглянула в его сторону, улыбнулась Младенцу, который протягивал руки к сияющей на небе звезде.
Увидев римлянина, женщина прижала к груди Младенца, готовая ко всему.
Но вдруг случилось чудо. Рука Корнелия опустила меч, и он чуть не пал ниц перед Той, Которую старец назвал Марией.
Корнелий ударил коня и бешено пронёсся мимо её по гладкой дороге.
А во дворце Ирода играла музыка, плясали обнажённые женщины, охмелевшие от вина и поцелуев.
Звенели золотые чаши, и лилось вино на роскошный мраморный пол, усыпанный лепестками роз…
П. Рождественский. 31 декабря 1915 год.
Рождественская звезда
I. Когда в середине ноября выпал первый снег и нежным белым бархатом покрыл равнину Полесья, Дьяченко сразу преобразился: стал нервничать, суетиться и даже грустить.
— Что это ты? Спрашивали его товарищи по роте.
— Рождеством запахло…
— То есть, как это?
— Да так. Пройдёт Филиппов пост, а там и Рождество. Радости-то сколько бывает: сочельник, кутья, взварь, кныши, пироги. Дети со «звездой» ходят, Христа славят. Хорошо это ночью бывает! Темно, снег хрустит! Мороз так и щиплет за уши. А там, глядишь, — «звезда», так и горит на небе… и все разные огни: и красный, и зелёный, и жёлтый, и синий. Так уж всегда бывает, — четыре цвета. Боже, Ты мой!.. Как пойдёшь со «звездой», как пойдёшь, все хаты исходишь, в каждой побываешь. И наберёшь денег, пирогов… Радости-то, радости!
Когда Дьяченко говорил о славлении Христа, глаза его горели, голос дрожал и весь он преображался.
Там, в безвозвратном прошлом, было всё лучшее, всё светлое его жизни.
Если он когда-либо и был счастлив и весел, так это в те дни детства, когда он на Рождестве, во главе мальчишек, славил Христа со звездою.
Круглый сирота, он жил у дяди, рядом с домом священника, у которого был сын его лет. Попович зимой учился где-то в городе, а когда приезжал на каникулы, то почти всё время проводил с ним, водил его на спевки к псаломщику, учил прислуживать и читать в церкви.
Это занятие Дьяченко очень нравилось. Он был от природы мечтатель, любил всё красивое и приходил в восторг от всего того, что было оригинально. В то, что ему нравилось, он влюблялся и потом уже долго жил этим. Увлечение церковным чтением и пением было так велико, что став парнем, он даже в чужой церкви ходил на клирос петь; в окопах он сорганизовал из товарищей маленький хор, с которым вечером под праздничные дни пел разные молитвы и песнопения.
Казалось, светлый ангел слетал с неба и реял над окопами, когда из десятков грудей неслось в ночной тишине умилительное пение.
Солдаты называли его, вместо Дьяченко, дьячок и относились к нему по особому: так относятся, обыкновенно, к людям идеалистам, людям праведной жизни.
Общение с ним было тоже особенное, обычных грубостей и ругани по отношению к нему не допускалось.
Дьяченко платил солдатам по-своему — всегда старался сделать для них что-либо приятное или полезное в эстетическом или нравственном отношениях.
Чем ближе подходило время к празднику Рождества Христова, тем чаще одолевали его воспоминания детства, тем мучительнее они шевелились в душе, тем ярче вставали в воображении.
Но особенно сильно действовало на него воспоминание об одном страшном моменте его жизни. Сколько лет уже прошло с того времени, а в душе его не переставала жить какая-то непонятная жуть, какое-то непреодолимое желание чего-то неизвестного, что должно было явиться продолжением происшедшего.
Сидит Дьяченко в окопе, глядит на убегающую снежную даль, залитую таинственным светом луны, и в воображении его проносится картина:
Вот, кажется, перед ним родное поле, дальше болото, речка. Тёмная ночь. Он с товарищами возвращается со «звездой» из соседней деревни после полуночи. Идут напрямик, по знакомому пути. Чтобы светлее было, зажгли свечу, и «звезда» ярко горит над снежной равниной. Вдруг почти у самого села он попадает в прорубь, но задерживается на локтях и так висит. Его охватывает ужас. Находясь по пояс в воде, он бессознательно сжимает в руке палку со «звездой», которая продолжает освещать страшное место происшествия. Товарищи бросаются спасать его, но не могут помочь ему, может быть, с перепугу.
И вдруг у самого села слышится спасительный крик:
— О-го-го!
Сколько надежды и радости он влил в его душу. К болоту бежал какой-то мужчина. Дьяченко узнал его издали, это был одноглазый Бабарыла, по прозвищу «Отчаянный», кучер священника, деревенский силачи забияка. Он мигом вытащил его из воды и на руках отнёс домой.
— Благодари звезду. По ней заметил, где ты. Христос, значит, спас тебя за то, что славил Его. Помни звезду, а как вспомнишь, вспоминай и меня.
Дьяченко, вспоминая эти слова, испытывал что-то вроде угрызения совести. Ведь, он ничем е отплатил ему за добро, даже забыл поблагодарить его.
— Где он? — проносилось в его голове, жив ли?.. Остался ли в деревне или бежал?.. Ведь деревня занята немцами.
И сердце так защемило, так сжалось и заныло.
— Не будет там радости! Не будут там ходить со «звездой» и славить Христа. Не даст этого немец…
II. В начале декабря после долгих и мучительных переживаний «дьячок» отправился к ротному.
— Ваше благородие, дозвольте к празднику ребят поразвлечь…
— Хочешь пением заняться? Ну, что ж, святое дело. Хорошо, хорошо…
Дьяченко откашлялся и мялся.
— Ещё что-нибудь затеял? — догадался ротный.
— Так точно… дело секретное, чтобы, значит, никто не знал…
Ротный улыбнулся.
— Ну, ладно, никто не будет знать. Говори.
— Звезду задумал, ваше благородие.
— Какую звезду?
— Такую, с какой у нас Христа славят, бумажную. Да ещё со змеем.
— С каким змеем?..
— Таким, что в воздухе летает; он-то и поднимет звезду. Далеко будет видно, может быть увидят и те, что в тылу у немца остались… мужички наши… Им там не весело, ведь.
— Но откуда ты бумаги возьмёшь?
— Не могу знать.
— Ну, что ж, я тебе в городе закажу, если оказия будет.
Ротный, зная благотворное влияние Дьяченко на товарищей, всегда поддерживал его добрые начинания.
Скоро была раздобыта бумага и не только белая, но и цветная.
На фронте наступило затишье, прерывавшееся лишь изредка пустой перестрелкой. Свободного времени было много. И Дьяченко с жаром принялся за дело. Конечно, скоро секрет перестал быть секретом, и о затее «дьячка» узнала вся рота. Работа закипела. Огромный, чуть ли не саженный змей сделан был довольно-таки скоро и искусно. Дяченко в детстве не раз с поповичем змеев делал. Под змеем была подвешена «звезда», сделанная из промасленной разноцветной бумаги с пятью разноцветными четырёхгранными лучами. В середине «звезды» была укреплена свечка.
Дьяченко всё время находился в повышенном настроении.
Несмотря на удачную пробу, произведённую в сочельник на рассвете, он был не вполне уверен, что змей поднимется с освещённой звездой. Тревожили его и опасения, что переменится погода, появится ветер или выпадет снег.
К счастью, вечер выдался чудесный, именно, такой, какой был нужен: стоял лёгкий мороз, воздух был сух и прозрачен. Звёзды чуть-чуть искрились на тёмном фоне неба.
В окопах собрался хор, готовясь пропеть радостную весть о великом чуде на земле: Рождестве Богочеловека.
Солдаты насторожились. Дьяченко продолжал возиться со своим необыкновенным змеем, точно лаская и моля его не подвести. Вот он с помощью нескольких товарищей отнёс его от окопов в ложбинку и зажёг свечку внутри разноцветной бумажной «звезды».
По данному знаку над окопами пронеслись торжественные звуки тропаря:
«Рождество Твоё, Христе Боже наш»…
Громче и громче льются они из богатырских грудей, наполняя ночную тишину поля битвы неизъяснимым сладостным трепетом. Вот они усиливаются, и ещё громче звучат слова:
«В нём бо звездам служащие, звездою учахуся»…
В этот момент змей поднялся вверх и, подхваченный лёгкой струёй воздуха, поплыл к окопам, поднимаясь всё выше и выше…
Все так и ахнули.
Картина была величественная. Прекрасно склеенная «звезда» дивно играла в воздухе разноцветными огнями, ярко выделяясь на тёмном фоне неба, которое казалось ещё темнее. Звёзды на мгновение скрылись из глаз, будто не желая мешать эффектному свету рождественской «звезды».
И вдруг затрещали выстрелы со стороны немцев, засвистели пули. Но под их звуки ещё радостнее и теплее вливались в душу слова тропаря.
Дьяченко, управляя за нитку своим необыкновенным змеем, кроме него ничего не слышал и ничего не видел. Он весь ушёл туда, вверх, где так величественно сияла его «звезда».
Подействовала она, должно быть, и на немцев: они прекратили свою глупую стрельбу и стали слушать вдохновенное пение русских воинов.
III. Через глухие лесные заросли пробирались три человека: мужчина лет сорока и двое парней. Еле передвигали ноги по глубокому снегу, поминутно останавливались у деревьев, чтобы перевести дух.
— Замёрзнем мы здесь в снегу, — грустно сказал один из парней, — не видать нам больше ни отца, ни матери. Господи Иисусе! за что ж нам пропадать!..
— Да, — грустно заметил второй, — видно, конец близко… я дальше идти не могу, ноги не двигаются, есть хочется. И зачем нам идти? Если не замёрзнем, всё равно, попадёмся немцам, убьют… Сядем здесь лучше, да и конец…
— Эх, вы, — укоризненно заметил мужчина с бородой, — и чего вы торопитесь умирать, успеете. Важно родине послужить, чертяг-немцев потревожить. Здорово, ведь, обоз их обработали, правда? Ни одного живого не осталось… Поживём, ещё найдём их. Не всегда же неудачи, как сегодня. Вот хорошо, что простынь у баб захватили, чёрта с два нас увидишь на снегу…
— Нет, я не могу, сил нет… Сяду…
— Ну, ну, замёрзнешь! Подкрепись ещё, выйдем из лесу, а там и сообразим, как быть; авось где-нибудь деревушку увидим. Хорошо бы погреться… да пирога попробовать… Ведь сегодня сочельник… Рождество Христово…
Молодые парни вздрогнули.
Согнанные немцами с родных мест, они, оставаясь в тылу врага, давно потеряли счёт дням во время скитаний по родному Полесью в поисках немцев. Напоминание о празднике Рождества Христова сразу воскресило их. Эти дивные слова влили в них новые силы, зажгли желание жить…
— Так пойдёмте скорее…
— Ага! захотелось пирога!
— Ой, не поминай… не мучь… в желудке так больно…
Партизаны ускорили шаги.
Но вдруг загремели выстрелы…
— Немцы! — замерла у них в мозгу холодная, как лёд, мысль…
— Назад… назад!..
— Стойте, братцы, нельзя так. Дайте оглянуться.
Пожилой крестьянин нагнулся и, пристально взглянув меж деревьев, радостно вскрикнул:
— Глядите, глядите! Вон там… видите?
— Видим. Звезда! Такая, как у нас хлопцы делают…
С опушки леса прекрасно была видна разноцветная звезда. Как нежно она манила к себе голодных и промёрзших сынов Полесья, сколько радости, сколько тепла и счастья она обещала им там, вдали…
— Хлопцы! — вдруг громко сказал пожилой мужчина, — там наши… да, да — наши… это они славят Христа… звезду сделали.
Выстрелы стихли.
— Пойдём?..
— Пойдём… всё равно!
И, не говоря больше ни слова, готовившиеся к смерти полещуки двинулись прямо к немецкой линии, выбрав путь через непроходимые болота, где окопов быть не могло и где они рисковали только одним: наткнуться на вражеский дозор или разведчиков…
Прошло более часу.
Немцы слушали пение солдат и любовались звездой, зная, что русские в сочельник не станут предпринимать наступательных действий, они вели себя довольно беспечно…
Звезда догорала и опускалась всё ниже и ниже.
Пробравшись по болоту через неприятельскую линию и очутившись вблизи русских окопов, партизаны с криком бросились вперёд.
Поднявшаяся тревога вмиг улеглась.
Крестьян окружили и начали расспрашивать.
И вдруг пристально всматривавшийся в лицо пожилого крестьянина Дьяченко радостно воскликнул:
— Отчаянный!
Крестьянина словно огорошило.
— Ты откуда меня знаешь?..
— Да я Дьяченко. Помнишь, ты меня спас, когда я со звездой попал в прорубь…
— Дьяченко! — вскрикнул Отчаянный и бросился обнимать его… — Так это ты звезду сделал?.. Ты нас спас?
— Нет, тебя, как и меня, спасла рождественская звезда… Видно Сам Господь Бог судил мне отплатить тебе…
И Дьяченко набожно перекрестился.
Партизаны были обогреты и накормлены. На радостях Дьяченко вновь собрал хор и долго звучали над полем смерти радостные слова:
«Христос рождается, славите»…
В. Островский. 25 декабря 1915 год.
Огни негаснущие
Это было как раз год тому назад.
Второй батальон К-цев, под командованием капитана С, находился в Буковине за Чермошем, среди высоких Карпатских гор.
Крупных столкновений в то время не было; войска наши стояли по одну сторону провала, а за долиной, на другой стороне, находились австрийцы.
После утомлений от больших переходов и передвижений в горы, куда трудно налаживалась доставка провианта, — как наши, так и австрийцы друг друга особенно не беспокоили ни вылазками, ни атаками. Шла обычная перестрелка, стихавшая по вечерам, с наступлением сумерек.
Солдаты обжились на новых позициях, понемногу установились хорошие сообщения с Россией. В последние дни перед Рождественскими праздниками в батальон прибыли запасы провизии, почта, которая с трудом разыскивала стоявшие среди неприступных гор части войск, и что всего важнее, так это то, что вместе с почтой прибыли из России рождественские подарки под названием «Ёлка в окопах». И пришли эти подарки совершенно неожиданно, и от людей незнакомых.
Вскрыли ящики с подарками, в них оказалось бельё, табак, конфекты и всякая всячина. Особо упакованный на дне ящика находился свёрток, а в нём елочные свечи, мишура, золотые и серебряные нити, разные блёстки, словом, всё, что требуется для украшения ёлки.
— И не думали и не гадали… а там, в России, позаботились о нас, — сказал командир батальона капитан С, — ёлка будет на славу.
Под редкую ружейную стрельбу во второй линии окопов, защищённой от пуль невысоким хребтом возвышений, разложили мешочки с подарками, написали на них номера, свернули билетики, положили в папаху, и каждый по очереди подходил тащить себе счастье. И чувствовалась во всём огромная радость, словно солнце взглянуло в окопы. Получить подарки от совершенно незнакомых людей, от людей, которых никогда не видал, не знал и, быть может, никогда не увидишь, — это ли не радость? Каждый чувствовал, знал, что там, где-то далеко-далеко, в родной России, в каком-то городке или селе, помнят о тебе, знают, быть может, не одну ночь провела женщина или девушка, неведомая тебе, незнаемая тобою, но дорогая и близкая своей отзывчивой душой, укладывая и собирая подарки. Каждый брал, старался разгадать неразгаданное, кто та или тот, которые вспомнили, не забыли холодную траншею…
И от этого была такая радость, какую не предать никакими словами.
И в час этого случая, е сговариваясь, по общему влечению, крикнули «ура».
Да так крикнули, так раскатилось это «ура» между гор, что австрийцы, думая, очевидно, что мы пошли в атаку, открыли беглый огонь нашу сторону из пулемётов, ружей и даже пушек.
И долго не смолкал ухающий, перекликающийся между гор глухой, рокочущий, зловещий звук.
— Пусть их потешатся, — смеялся батальонный.
— Пусть потешатся, — смеялись солдаты. И ещё крепче неслось в честь подарков «ура» между морозных, снегами окутанных гор, вершины которых даже в ясный полдень тонули в серой облачной дымке.
А свёрток с ёлочными украшениями отнесли на квартиру ротного командира.
…
Накануне Рождества с полдня трое из солдат — Иван, Леонтий да Тихон были отряжены разыскивать ёлку и доставить в окопы. Разыскать ёлку не трудно: растёт ельник на вершинах гор, где даже среди лета прохладно, в то время, как в лощинах всё замирает от зноя. Растёт ельник на горе, а достать его трудно: горы крутые, снежные, высокие, глянешь кверху, — шапка валится. И много надо силы положить и ловкости, чтобы взобраться на гору. Даже не каждый из местных жителей отважился бы взобраться вверх.
Пошли Иван, Леонтий да Тихон, винтовки повесили за плечи, топоры взяли — рубить ёлку.
Один по одному шли да шли, а всё ещё высоко до ельника. Снегу по пояс. Ивана была верёвка. Он закинет конец кверху, захлестнёт за дерево: по верёвке легче взбираться. А взберётся выше, — кинет конец верёвки товарищам — им поможет. Иногда попадалась такая круча, прямо отвесной стеной.
Так шли всё выше да выше, пока, наконец, не добрались доверху.
А горы, — сверху видно, — одна другой выше, вдаль тянутся.
Вырубили ёлку, не то, что рота, — полк приходи любоваться: крылатая, зелёная…
Срубили ёлку, покурили, присели около неё на снег, спускаться ладят, да всё толкуют, — как. Иван говорит: «По верёвке надо». Леонтий говорит: «Нельзя по верёвке, ёлка изомнётся, в целости надо предоставить». А Тихон молчал, зябнуть ноги стали, портянки сидел, перевёртывал.
Встали. И понемножку, кое-как, держась один за другого, бережно несли ёлку, спускаясь с горы.
Начинало темнеть, и снег отливал белым фосфорическим светом.
…
Долго шли Иван, Леонтий да Тихон. Каждый про себя думал: «Вот так штука. Идём, идём, а конца дороги нет. Уж туда ли попали? Не спутаться бы…».
Однако, мысли свои вслух не выказывали.
Спустились в низину между перевалов гор, обогнули выступ и пошли прямо. Кажется, что это та самая дорога, а, поди, тут разберись: одна гора на другую похожа, один перевал не различить от другого.
Снова сели, закурили.
Вдруг показалось им, что кто-то идёт навстречу.
— Эй, кто тут? — окрикнули они, когда фигура поравнялась.
— Свои, — ответил голос из тьмы.
— По голосу то, словно, Дорофеев, это…
— Я самый.
— А куда идёшь?
— Да вот ходил на деревню к ротному в халупу за ёлочными украшениями, — он указал на завёрнутый в палатку пакет и продолжал. — Иду, иду… да, надо быть, не по той дороге хватил. Там, что ли, наши то?
— Кажись, что там. Мы и сами-то хорошо не разберёмся. Садись, покурим да все вместе и двинемся…
Между тем, становилось всё темней и темней. Уже нельзя было различить: кусты ли это тянутся вдоль оврага, или шеренга солдат…
…
Шли, шли и шли.
А ёлку не бросали: тащили попеременно.
Надо сказать, что в прошлом году в конце декабря стояли морозы. И в канун Рождества также было свежо. Всем хотелось поскорее добраться до окопов.
— Вот беда-то, — печалятся они. — Ждут ведь там товарищи наши. А тут никак на дорогу не попадёшь.
— Смотри, смотри звезда… — сказал Дорофеев.
И действительно, на небе сквозь узорчатый разрыв облаков замерцала зеленоватым светом Вечерняя звезда.
Все сняли шапки и перекрестились.
И снова пошли в путь между высоких перевалов Карпат. Но не прошли и ста сажен, как увидели где-то, недалеко над землёю, качнулся огонёк.
— Вот и наши, — сказал Леонтий, — слава Богу, добрались.
И все пошли на огонёк.
Но в это самое время около них раздался чей-то окрик на немецком языке. Это немец-часовой спрашивал: «Кто идёт?»
— Вот те и раз! К австрийцам в гости пришли, — сказал Дорофеев.
И снова раздался грозный оклик:
— Кто идёт? Стрелять буду!
Уйти и скрыться было совершенно невозможно. Да и куда идти-то? В какой стороне наши?
И они положились во всём на свою судьбу.
В это время из тьмы навстречу им шёл часовой немец. Хотя в Буковине в том месте, где стоял батальон К-цев, и был фактически австрийский фронт, но в рядах австрийцев были и германцы.
…
Австрийцы и германцы все почти до одного вышли из траншеи.
И, действительно, было поразительное зрелище: впереди шёл рослый, здоровый Леонтий, нёс ёлку на плече, за ним с узелком Дорофеев, Иван и Тихон, а сзади них германец-часовой.
Тесным кольцом окружили пришедших австрийцы: кто такие, что, зачем?..
— Вот что, — вдруг сказал Дорофеев, обводя суровым взглядом сотоварищей. — Наш корпусный командир подарок нам прислал. Ёлку… С подарком, значит… И просит не стрелять сегодня.
Находчивость Дорофеева вывела из затруднения остальных.
— Так, так, — говорили австрийцы. — Добре… Добре, пане…
— А вот здесь и украшения к ёлке, — продолжал Дорофеев, указывая на свой свёрток.
— Добре, добре…
Австрийцы, как известно, не так плохо изъясняются по-русски или, вернее, по-украински. Поэтому-то легко можно было с ними сговориться.
Ёлку спустили в крытые окопы, а из окопа в землянку. Землянка была высокая и просторная, и ёлка вола свободно. Все четверо принялись за её украшение: развешивали блёстки, укрепляли свечи, вешали мишуру, золотые и серебряные нити.
…
Ничего не подозревая, австрийцы были тронуты русским рождественским подарком корпусного командира.
А в то время у них сильно нуждались в провизии, подвоз которой в горы был сопряжён с большими трудностями, и войска их сидели полуголодными.
Развешивая свечи, Дорофеев, между тем, расхваливал русскую жизнь.
— Мяса у нас, — говорил он, — дают по фунту на обед, да полфунта к вечеру, каша с маслом, ешь не хочу, а уж про хлеб и говорить нечего… Так наешься, что поясок не сходится.
Вот тут-то вдруг и произошло чудо.
— Хотим к русским… К русским хотим! — раздалось несколько голосов.
А когда зажгли ёлку и засияла она тысячами блёсток, дробившихся и переливающихся в золотых нитях, уже властнее раздались голоса:
— К русским идём!..
Через минуту горящая, сияющая ёлка была вынесена из окопов и теплилась она радугой семицветной в тихом морозном воздухе рождественской ночи.
Поднял Дорофеев ёлку на плечи и так с огнями негаснущими зашагал к своим окопам. За ним шли, сняв шапки, Иван, Леонтий и Тихон, а сзади их целой толпой австрийцы.
Около двух рот, целых 318 человек, перешло на нашу сторону, добровольно сдавшись в плен.
Этот случай был как раз год тому назад, в Буковине за Чермошем, среди высоких Карпатских гор.
Михаил Артамонов.25 декабря 1915 год.
Рождественский подарок
I. Накануне Рождества года 1915 на русско-немецком фронте наступило некоторое затишье. Лишь изредка просвистит пуля, да на отдельных участках прогремит артиллерийский выстрел, и тишина. Жить хотели все — русские и немцы.
В глубокой землянке потрескивал огонь печи. За столом и на лежанках расположились русские офицеры, спать никому не хотелось.
— Последняя ночь перед Рождеством. Что-то ждёт нас в новом году? — проговорил немолодой уже поручик «из запасных» Седов.
— Ничего радостного, уж поверьте мне, Игорь Васильевич. Та же тяжёлая военная работа… — покачав головой, проговорил капитан Самохин.
— Так-то оно так, любезный Фёдор Иванович, только всё ж таки интересно… кому, что суждено в новом году…
— А я об этом не задумываюсь, — приподняв голову от подушки, проговорил подпоручик Васнецов. — Что толку, лишний раз тревожить душу, и так вся искорёжена. Я, господа, даже сейчас вспоминаю славные новогодние вечера с миленькими дамами… ах! Какие это были вечера, скажу вам, шампанское, танцы, пустая, но забавная болтовня и глазки… Ах! Какие чудные глазки! — умиленно помотал головой, прищурив глаза, Иван Иванович.
— Жизнь! Что только не встречается в ней, — глубоко вздохнув, ответил поручик Седов.
— О чём это вы, Игорь Васильевич? О каких это коллизиях, думается мне, хотите нам рассказать, — спросил поручика Самохин. — Из своей жизни или какого знакомого вам человека?
— Не приучен, Сергей Петрович, жизнь других людей ни речами и действиями колобродить, чай простой смертный, а не Господь Бог… А вот вспомнить хорошего человека и помянуть его добрым словом то, думаю, не возбраняется.
— А вот и расскажите нам о том человеке, если то не секрет… конечно, — заинтересовался разговором товарищей подпоручик Васнецов.
— Особого-то секрета нет, Иван Иванович, — повернувшись лицом к подпоручику, ответил Седов. — Просто вспомнилось… два года назад, аккурат в этот же самый день в жизни моего хорошего товарища произошёл случай резко повернувший её на 180 градусов.
…
Жизнь супругов Плавниных сделалась невыносимой до того, что в минуты примирения и раскаяния они сами приходили в ужас от тех безобразных сцен, какие друг другу устраивали.
Они хорошо знали, что каждый из них в отдельности был чутким, хорошим, вполне интеллигентным человеком, но стоило только одному из них вспомнить что-либо из старого, давно прошедшего, как вспыхивала жёсткая ненависть и они вонзали своё лезвие в больное место, вызывая придушенный крики, слёзы, безобразные оскорбления и жгучую обиду, клевету друг на друга.
И тянулось это долго, целых девять лет, с тех самых пор, как Агния Сергеевна заболела и стала ходить к врачу, специалисту по женским болезням.
О первых её визитах к врачу Аполлон Борисович даже и не знал. Он узнал об этом совершенно случайно. Как-то на благотворительном спектакле к Агнии Сергеевне развязно подошёл высокий молодой брюнет и, не удостоив взглядом её мужа, вкрадчиво заговорил:
— Ну, как наши дела? Отчего вы ко мне так долго не заглядывали?..
Агния смутилась, вспыхнула, и поспешила отойти, невнятно и поспешно проговорив:
— Ничего… Благодарю вас.
И так как Аполлон Борисович намеренно молчал и не хотел расспрашивать жену о том, какие и когда завелись у неё дела с этим незнакомым ему господином, то Агния поспешила разъяснить сама:
— Это доктор Квитко… Я как- то у Митиных с ним познакомилась… Он нашёл у меня малокровие… Был так любезен, что предложил к нему прийти… Я обещала, но до сих пор не собралась.
У Аполлона как-то вдруг похолодела душа, и дрогнула, насторожилась, но он всё-таки ничего не сказал жене. Агния почуяла, что солгала не совсем удачно и рассердилась:
— Что ты, в самом деле, вдруг надулся?.. Уж не думаешь ли ты, что я лгу?!
Аполлон осклабился и изумлёнными глазами внимательно взглянул в её большие, заблестевшие, красивые глаза.
— Признаться, я от тебя этого не ожидал…
— Чего? Чего?
— А всего… В особенности этой лжи!..
— Ну, это, знаешь, черезчур!..
Аполлону показалось, почему-то, что слово «черезчур» на этот раз было сказано не тем картавым голосом, который нравился ему, а каким-то грубым и чужим, почти косноязычным.
Не дождавшись окончания спектакля, они, расстроенные, уехали домой и на санях извозчика не сказали друг другу ни одного слова. И только дома, приказав слуге спать и не скушав поданной закуски, они пошли в спальню, затворились и, раздеваясь, стали раздражённо, полушёпотом осыпать друг друга первыми обидными словами.
— Я знаю, я уверен, что здесь что-то не чисто!.. — говорил он сквозь стиснутые зубы и жадно вглядывался в её заплаканные, часто моргавшие глаза…
— А я знаю, что ты не имеешь права так мне говорить!.. — и Аполлон видел, как неуверенно и слабо она протестует, как лгут её глаза и опускаются руки.
— Но почему ты солгала о малокровии, когда это не его специальность?.. Нет, я не сомневаюсь: ты была у него, и он тебя осматривал!.. Не лги мне лучше, не лги… — задыхаясь, говорил он, как будто произносил над нею приговор за то, что доктор её осматривал.
Она слабела, глаза её моргали чаще, она отмалчивалась на вопросы, как бы придумывая, как на них ответить, а он всё больше свирепел и мучился и в муках этих забывал, что говорит и оскорблял, навязывая ей невероятные проступки.
Наконец, она совсем устала и не могла ему противоречить. Полураздетая она сидела на краю кровати и, уронив на руки голову, примиренно говорила потухшим голосом:
— Ну, хорошо… Хорошо… Я всё тебе скажу… Только, ради Бога, не надо так глядеть… Клянусь тебе — ничего тут нет дурного!.. Ничего!.. Впрочем, есть, конечно… Есть.. О, Господи!.. Это же пытка!..
Она была так беспомощна и в то же время так близка ему, так много раз обласкана, что у него больно сжалось сердце… Но он был полон гневного ожидания и торопил:
— Говори же. Говори!..
— Я скажу… Скажу… Только ты, пожалуйста, не гляди так ужасно… Сядь сюда… Но, Боже мой… Я, действительно…
Но не приходили нужные слова, не смела, не умела сказать то, что было надо и что казалось жутким…
Она чувствовала, как мучается он, как он застыл со сгорбленной спиной, с искажённым мукой лицом, и ждёт… Скорее надо было как-нибудь ему сказать, и она сказала внезапно — строго, откуда-то вдруг явившимися грубыми, короткими словами:
— Ну, да… Ну, да!.. Я сделала выкидыш!.. Он меня лечил… И я больна сейчас!..
Она сидела на кровати сгорбленная, жалкая и будто бы ждала, что он сейчас обрушит на неё потолок и раздавит её, убьёт… Но он почему-то вдруг затих, лицо его вытянулось, окаменело и сам он весь подался к ней, сомкнул ладони у подбородка и тихо-тихо простонал:
— Да, что ты говоришь?!
С тех пор и началось. Она, действительно, была больна, поминутно раздражалась, быстро стала дурнеть, озлобляться на всё окружающее… — Тяжёлым, безобразным сценам не было конца.
Аполлон уже сам возил её к доктору Квитко, следил за её режимом, нервничал, когда она съедала что-либо не по рецепту, и по целым дням ходил подавленным и угнетённым.
Когда же она вдруг забывала о болезни и, туго затянувшись в корсет, спешила куда-нибудь для развлеченья, он не выдерживал и снова грубо оскорблял её:
— Ты не отдаёшь себе отчёта, на что ты способна! Ты… Ты просто похотлива!.. И для этой похотливости ты совершила преступление и с лёгким сердцем развлекаешься!..
Она вдруг сбрасывала с себя нарядное платье, топтала его ногами, разбивала об пол флакон с духами и билась в истерике до тех пор, пока Аполлон не начинал за ней ухаживать и вымаливать у неё прощение…
II. Так тянулось девять лет. Плавнины не однажды собирались разойтись, но не расходились и жили, мучаясь и негодуя.
На десятом году супружества Агнии Сергеевне пошёл тридцатый год. Она была ещё свежа и хороша собою, болезнь её прошла и большие, тёмные глаза не утрачивали грустного загадочного блеска, когда она была в обществе мужчин.
К концу этого года, когда Аполлон Борисович получил руководительство постройкой народного дома, он очерствел и охладел к жене и как будто уже не замечал её особенно открытых декольте, деланного смеха и подозрительного увлечения работой в патронате совместно с прокурором Торским.
Вместе с тем, несмотря на свои тридцать семь лет Аполлон Борисович ярко облысел, отяжелел, и архитектура уже не увлекала его, как прежде, когда он видел в ней служение творчеству.
Он вяло вычерчивал примерные наброски для фронтона; выходило тяжело и угловато, он откладывал работу, а время шло, срок для представления сметы истекал.
В один из вечеров, после ряда неудачных эскизов, Аполлон Борисович внезапно раздражился на свою судьбу и почему-то вспомнил, что его жена, изгнавши первый плод, останется бездетной.
В это время она вошла к нему сказать, что без него был председатель строительного комитета и просил его поспешить со сметой. Он не глядел на жену, но слышал шелест шёлка её нового платья, и уловил резкий запах модных духов. Он знал, что она идёт на сомнительное заседание патроната, но всё-таки спросил, не поднимая головы:
— Куда это вы опять?..
— Что за тон? — немедленно отозвалась она.
Он поглядел на неё, увидел глубокое декольте и ядовито подчеркнул:
— У тебя пудра лежит кучами!..
Агния Сергеевна сверкнула глазами:
— Вы очень любезны!..
— Иди, взгляни на себя в зеркало!
— Прошу мне не указывать!.. негодующе сказала она, и неподвижный злобный взгляд её остановился на его нахмуренном лице.
— Скажите, пожалуйста!.. — протянул он, и вдруг жена показалась ему ненавистной. Ему захотелось бросить в эти злые, жёсткие глаза горячего песку и он сказал:
— Вот они какие благодетели-то угнетённых… Ха, ха… Наставники и покровители!..
Агния Сергеевна задрожала от негодования и потребовала:
— Что это за намёки?.. Я прошу вас…
— Отстаньте вы, пожалуйста!.. Какие там намёки, когда всё ясно… Подумаешь — объединились на служенье ближнему… Один — неумолимый обвинитель, а другая…
— Что… Что другая?..
Аполлон Борисович увидел искажённое злобою лицо и исступлённо закричал:
— Детоубийца!
Агния Сергеевна учащённо заморгала, пошатнулась и тяжело упала на застланный коврами пол.
Аполлон Сергеевич сначала закричал:
— А-а, началась опять комедия!..
Но в эту минуту затворил дверь кабинета, чтобы не вошла прислуга, и склонился над женой.
Она лежала бледная, и большие незакрытые глаза её с расширенными зрачками глядели прямо на огонь.
Он испугался, взял её и положил на оттоманку… На одних носках сбегал в столовую, принёс воды и, смачивая ей виски, стонал:
— Ну, будет уже!.. Чёрт знает, что такое… Ну, Агния!.. Ах, Боже мой!..
Не знал, где валериановые капли и сам побежал в аптеку…
И вот, открывши дверь на крыльцо, он споткнулся о тяжёлый узелок, который запищал… Нагнулся, посмотрел, в простом клетчатом одеяле и ещё каких-то тряпках шевелились маленькие руки, а маленький беззубый рот выкрикивал:
— Ми-я-а! Ми-я-а!
— Вот ещё сюрприз!.. — проворчал Плавнин, и хотел было идти дальше, но забыл, куда пошёл, остановился, помахал по декабрьскому воздуху рукой и сам себе сказал:
— Вот околеет тут!
И позвонил в свою квартиру.
Вышла горничная. Аполлон Борисович сконфуженно полувопросом, полуприказанием сказал:
— Внеси его, пожалуйста!.. Пока пусть побудет… А завтра отнесём в приют… Не околевать же ему тут!..
Неохотно и стыдливо хорошенькая горничная несла ребёнка в комнаты…
— Куда его, барин, прикажете?
— Да я не знаю… Погодите… — Пока в гостиную уже, что ли. Гость ведь тоже…
И засуетился, захлопотал… Побежал в свой кабинет, в котором Агния Сергеевна уже сидела на оттоманке и, потирая тонкою рукою лоб, смотрела в пол усталыми заплаканными глазами.
— Тебе лучше, нет?.. — заговорил Аполлон Борисович. — Я побежал было в аптеку, да… Представь себе — нам подкинули ребёнка!..
— Этого ещё не доставало!.. — глухо вымолвила Агния Сергеевна.
— Но ты не беспокойся… Завтра отвезут его в приют… Я утром же скажу по телефону…
Агния Сергеевна сидела неподвижно всё в том же положении и молчала.
— Тебе раздеться нужно… — посоветовал ей муж. — Иди, разденься да приляг… Подождёт твой патронат.
— Позвони Торскому, что я сегодня не приеду… — сказала Агния Сергеевна и медленной, усталою походкой пошла к себе.
III. Оставшись наедине с собой в кабинете, Аполлон Борисович долго стоял, опершись одной рукой о край письменного стола, собираясь о чём-то подумать, что-то сделать, но память захлопнулась для мысли и для дел, и он с досадой проворчал, махнув рукою:
— А-а, как всё это глупо, безобразно!.. — и по собственному адресу негодующе бросил: — Образованный, интеллигентный человек!..
И вспомнил о проекте, о визите председателя, о будущем народном доме, для которого всё ещё не мог найти определённого, законченного стиля.
Из гостиной донёсся резкий писк подкидыша.
— Вот ещё тоже ирония судьбы… — с досадой буркнул он и направился в гостиную.
Около ребёнка хлопотала горничная и пожилая, бледнолицая кухарка.
— Как же не кричать ему, мокрёхонек лежит!.. — говорила она с упрёком в голосе. — Ишь, глядите-ка, парнишка… Да сытенький какой!..
Из одеяла выпала записка. Горничная наклонилась, а Аполлон Борисович взял и прочитал полуграмотные слова:
— Не покиньте, люди бодрые. Дитёнок не виноват. Крещён. Зовут Кирилой.
— Ну, не реви… Небойсь есть хошь! — умело купоря ребёнка говорила кухарка. — Сейчас возьму тебя к себе, а то ты тут не дашь покоя. — И чтобы удостоверить свой опыт в няньченьи, добавила, не обращаясь ни к кому. — Пятерых сама родила, да только ни одному, Бог веку не дал… Либо оспа, либо корь, либо другая хворь какая придёт и унесёт в могилу.
Из спальни беззвучно и медленно шла Агния Сергеевна. Аполлон Борисович, встретив её на средине комнаты, с улыбкой сказал:
— Мальчонка!.. Вот и паспорт, — он подал записку.
Она небрежно прочитала, свернула бумажку в трубочку и подошла к кухарке, которая перепеленывая толстенькие, дрыгающие ножки мальчика, ворчала:
— Не лягайся! Не лягайся! Вот я те как скручу, дак будешь знать, как по чужим людям без спросу с эких пор шататься!.. Ишь, разревелся, прости Бог!..
Агния Сергеевна внимательно взглянула на сморщенное криком личико ребёнка и, сдвинув брови, попросила стряпку:
— Да ты утешь его!.. Болит у него что-то, что ли?..
— Какой болит!.. Как сбитый весь… Крестьянская кровь то, надо быть… Ишь, одеялко-то крестьянское… — она проворно подхватила ребёнка на руки и начала трясти.
Аполлон Борисович с любопытством заглянул в лицо жены и полупримиренно засмеялся ей:
— Не правда ли, забавная картина!..
Но Агния Сергеевна смотрела на ребёнка новыми, никогда невиданными Аполлоном Борисовичем глазами, в которых вспыхнули огоньки и любопытства, и жалости, и как будто ласки…
— А ну-ка, Ермиловна, я подержу его…
— На-тко, барыня, возьми!.. Ишь Бог от не нашёл тебя своим, дак хучь чужого подержи…
— Какой тяжёлый!.. — прошептала Агния Сергеевна, расширив ласково заулыбавшиеся глаза. — Сколько же ему времени, как ты думаешь, Ермиловна?..
— Да не сейчасошный… Должно кормленный уже. Ишь, шарит рылом-то…
Ребёнок замолк, прислонился к упругому девичьему бюсту женщины и тыкался беззубым ртом в тонкий батист её капота…
— Он хочет есть! — вдруг зазвенела Агния Сергеевна и, засмеявшись точно от щекотки, протянула ребёнка Ермиловне. — Возьми его, он хочет есть!..
Но когда Ермиловна взяла ребёнка, Агния Сергеевна снова наклонилась над ним, рассматривая его розовое, пухлое личико.
— Вихрастый, кучерявый какой!.. А ну-ка дай, Ермиловна, я ещё подержу его.
Аполлон Борисович с любопытством смотрел на жену, которая, казалось, забыла о его присутствии и о том, что было в кабинете час тому назад. Оживившись и повеселев, она смеялась около подкидыша, качала его на руках, играя с ним, как маленькая девочка куклою…
Затем прижав ребёнка к груди и подняв задорно-смеющееся и торжественно-сияющее лицо на мужа, она вдруг залепетала молодым весёлым голосом:
— А знаешь что, я его возьму себе?
— Ну что за фантазия! — ответил он, но нерешительно, и ласково глядел в её глаза, такие новые, простившие и полные любви к чему-то неизведанному и большому…
— Нет, я возьму его! — решительно и не переставая улыбаться, говорила она и неумело качала ребёнка на руках, смотрела на него и, улыбаясь, повторяла:
— Возьму, совсем возьму!
Ермиловна постояла, поглядела на барыню, хлопнула по бёдрам сухими, крючковатыми руками и наставительно произнесла:
— Возьми-как, да вскорми!.. Это Господь тебе утеху посылает… Возьми, барыня, возьми!
— Ну, что же, если хочешь… Я не имею против ничего, — сказал Аполлон Борисович и тоже для чего-то взял из рук жены и покачал ребёнка. — Добро пожаловать!.. Добро пожаловать, мой сударь! — пошутил он, глядя в узенькие синеватые глаза ребёнка и снова передал его жене.
— Бери! Назовём его Кирилл Аполлоныч!.. — добавил он и, весело осклабившись, пошёл в свой кабинет.
IV. На завтра председатель патроната Торский, низенького роста, шустрый, с крашеными волосами человек, два раза приезжал к Агнии Сергеевне с визитом и оба раза не застал её дома.
Она с утра захлопоталась. Прежде всего по газетным объявлениям ездила, искала няню. Затем покупала ванночку, кроватку, детское бельё.
А когда возник вопрос о том, где поместить ребёнка, Агния Сергеевна озабоченно прошла к мужу и сказала:
— Аполлон! Пока я Кирика устрою в спальне… Там теплее… А тебе пока придётся спать в кабинете… Можно?
Аполлон Борисович пожал плечами.
— Ну, что ж. Я должен быть гостеприимным… Делай, как находишь лучше.
Все следующие дни он посмеивался, с весёлым любопытством выходил из кабинета посмотреть, как три, разных возрастов и положений, женщины купают «незнакомого мужчину» и кипятят для него разбавленное молоко, как затем хлопочут возле него, суетливо бегая по комнатам квартиры.
— Вот, действительно, не было печали!.. — улыбался Аполлон Борисович. — Всех на ноги поставил, как будто он князь сиятельный какой…
Но говорил он это без тени недовольства, напротив, с тайной, неопределённой радостью.
Впрочем, настроение его было приподнято, быть может, потому что эти дни были удачными в работе. Подогретый оживлением в доме, он без труда наметил общие черты проекта, и дело быстро стало двигаться вперёд.
— Скажи, пожалуйста! — сказал он как-то Агнии Сергеевне. — Можно подумать, что этот шельмец мальчонка внёс с собой что-то такое, этакое… Тфу! Не сглазить бы!.. Ты слышишь, я суеверным становлюсь.
Вместо ответа Агния Сергеевна озабоченно сообщила ему что-либо о нововведении в доме или о каком-либо забавном происшествии с ребёнком… А однажды сообщила, что она отказалась от работы в патронате и что Торский рассердился.
Аполлон Борисович с интересом следил за поведением жены и в тайне опасался, как бы она не охладела к «игре в материнство», как он думал про себя.
Однажды после целого дня увлёкшей его работы, он вошёл к жене.
У кроватки няни не было. Она была на кухне. Значит, Кирик спит.
Аполлон Борисович уселся поудобнее возле жены, читавшей книгу, и некоторое время молчал, искоса рассматривая её полузатенённый профиль. Глубокой тишиной и вдумчивым покоем веяло с её опущенных ресниц. Аполлон Борисович впервые проникся к ней невольным уважением и покорно ждал, пока она сама заговорит.
Но она как будто не слыхала, что он вошёл и по-прежнему читала страницу за страницей. Он приподнялся и увидал давно прочитанные строки старой книги Льва Толстого.
— Как работа продвигается? — спросила она вдруг, закрывая книгу.
— Хорошо. Скоро окончу…
— А стиль?
— И стиль нашёл… Оригинальный… И представляешь, не без участия «его сиятельства» Кирилла Аполлоныча.
— То есть?
— Очень просто, работая, я не переставал немного философствовать о жизни. И появление этого молодого человека на нашем горизонте весьма мне пригодилось. Признаться, я таки порядком фантазирую на этот раз, мне хочется в стиль народного дома вложить призыв к работе, к бодрой светлой жизни… И это у меня выходит… Да…
— Я вот возвращаюсь к старине… К Толстому потянуло… И тоже что-то странное со мной творится… Как будто я вернулась в прошлое и сызнова учусь… Так много теплоты у этих стариков… И вообще…
Аполлон Борисович улыбнулся:
— А не раскаешься ты, что увлеклась вот этою забавой? — он указал на кроватку.
— Не знаю… — вздохнув, ответила Агния Сергеевна. — Мне просто захотелось взять на себя хоть что-нибудь… А то уж очень пусто стало на душе… Ты думаешь, от радости я что-нибудь, кого-нибудь искала? Притом я как-то вдруг почуяла, что я действительно виновата…
— Ну, полно… Не надо вспоминать!.. — нахмурившись сказал Аполлон Борисович.
— А я думаю наоборот. Мне даже хочется пойти к священнику и всё, всё рассказать ему, покаяться…
— Вот глупости!.. — коротко сказал он и, взяв её руку, тихо ласково погладил и поцеловал.
Помолчали, конфузливо и непривычно приласкав друг друга.
Затем, как бы желая устранить неловкость, он встал, дружески пожал в своих руках её руку и серьёзным бодрым тоном проговорил:
— Поживём, увидим!.. Может быть, ещё и поработаем!.. Ну, конечно, материнствуй, милая, а я пойду кончать проект.
Он улыбнулся ей и бодро зашагал к себе.
Г. Д. Гребенщиков.
Новогодний гость
Шарик, — так звали ротного пса, — всюду следовал за своей ротой. Рота в бой, он с ней, рота на отдых, он, примостившись у походной кухни, терпеливо сидит и ждёт, чтобы пища была готова, а потом, когда солдаты явятся с котелками, он вместе с ними уходил, чтобы дождаться комков каши, дождаться кости.
— Чёрт знает, какая умная собака, — говорили солдаты этой роты, — всех упомнит в лицо, даже прикомандированных и тех знает.
— А это потому, — говорил ротный философ, — что как каждый человек, так, значит, и обчество, а рота — обчество и есть, имеет свой особый запах и знает своих хозяев.
— Ври, ври, Емеля, твоя неделя, ишь выдумал — рота имеет запах. Так, по-твоему, и ротный командир пахнет так же, как и ты, — возразил ему старый солдат из запасных.
— Отчего же ему не пахнуть, как и мы, коли день и ночь с нами? Он-то сам, может быть, того запаху не имеет, но мы его своим запахом и обкуриваем. Сказано тебе ясно, у роты свой запах, потому собака всю роту за хозяина и знает, как другим не пристанет.
Шарик сидел тут же и слушал, помахивая своим пушистым хвостом. Слова ротного философа точно пришлись ему по душе и он посмотрел пристально на философа своими умными глазами, точно желая сказать ему:
— Конечно по запаху, а то куда же вас бритых и не бритых запомнить, — и затем, чтобы подкрепить свою затаённую мысль, обошёл всех присутствующих, начиная с философа, и лизнул каждого куда кого попало.
— Ну, чёрт, куда лезешь в губы целоваться, не баба же, — проговорил молодой солдат, не сделав никакой попытки его отогнать.
Целый день можно было слышать:
— Шарик, сюда, колбасы возьми. Шарик, на же сала, — а завзятый курильщик, который не выпускал изо рта австрийские сигаретки, неизвестно где им доставаемые, как-то, когда рота целый день ничего не ела, вынул из кармана последнюю сигаретку и, протянув собаке, сказал:
— На-те, чёрт лохматый, жри.
Он был крайне удивлён, когда Шарик отвернулся, чихнул, но сигаретки не взял.
— Стесняется, знает, что последняя, — проговорил он и вместо того, чтобы закурить, положил её в карман.
После одной из неудачных разведок, в которых страсть как любил принимать участие Шарик, вернувшиеся участники сообщили, что пропала собака. Были убитые и раненые, но последнее менее тронуло роту, чем пропажа собаки.
Перекрестившись за убиенных, все начали расспрашивать, как пропала собака и что без неё станут делать. Ведь такой второй собаки не найдёшь во всём мире. Несколько человек отважились пойти на розыски. Но собака, как будто канула в воду…
Рота целый месяц была на отдыхе, кормили отлично.
— Вот бы теперь Шарик был, костей сколько даром пропадает, — говорили кругом, а кто-то даже выругался по адресу противника.
— Такие сякие, собаку-то зачем убивать, тоже… храбрецы.
Был канун Нового года. Рота опять была на передовых позициях. Днём ходили брать окопы, но австрийцы так огородили их, что не было никаких сил добраться. Часть роты полегла в этих ограждениях, а другая, окопавшись, ожидала, чтобы пришли на помощь сапёры уничтожать заграждения.
Среди проволочных заграждений остался лежать и легко раненый ротный философ Никаноров. Притворившись днём мёртвым, чтобы избежать расстрела со стороны наблюдавшего за проволочными заграждениями противника, он, когда наступила темнота, начал производить попытки выбраться, но неудачно. Хитрый враг подвесил к проволоке звонки, и чуть дотронешься до неё, сейчас идёт трезвон, а затем и пальба из окопов противника.
Улегшись на землю, Никаноров стал обдумывать своё положение.
— Ишь ты, чёрт, хитрый, в клетку меня запер, да ещё жрать ничего не даёт
Достав из кармана последнюю сигарку и закурив её, он вспомнил давно пропавшего Шарика.
— Эх, был бы Шарик, он бы пронюхал, как выбраться из этой западни, недаром выручал нас не раз в разведке, — думал он и почти в то же время почувствовал, как что-то мокрое дотронулось до его руки.
Первый момент он даже немного испугался, но тут же рассмотрел у своих ног тёмный силуэт собаки и услышал лёгкое взвизгивание. Он крайне обрадовался собаке и от радости даже поцеловал морду Шарика.
— Ну, теперь не один, всё же веселее, — и, обратившись к собаке, он стал ему говорить. — Ну, Шарик, докажи, что ты умён и что не забыл ротный запах. Нюхай кругом хорошо и веди к нашим.
Собака точно поняла смысл его слов, весело завиляла хвостом и начала кружить, ища что-то, а потом, делая крутые повороты, повела его по лабиринту проволоки. Наконец, выйдя из проволочных заграждений, Никаноров внезапно почувствовал сильную боль в ноге и упал, не имея сил двинуться, а собака, покрутившись около него, вдруг пропала в темноте.
— Это неспроста, — решил философ.
Не просидел он на земле и десяти минут, как услышал невдалеке шорох, а затем увидел собаку и человеческую фигуру. Никаноров немного струхнул и чуть было не выругал Шарика словом «предатель», думая, что это он австрийца привёл, но тотчас же заметил свою ошибку, увидя вдруг вынырнувшую около себя из мрака фигуру русского солдата.
— Ох! — сорвался у него вздох облегчения.
— Никаноров, жив? — спросил его молодой голос, в котором он узнал своего приятеля так же любившего Шарика, как и он сам.
— Да, это я.
— Умная бестия этот Шарик и откуда, чёрт мохнатый, взялся. Прибежал, ему даём есть, а он всё лапами скребёт мои штаны, ложится и потом встаёт, выбирается из окопа и чуть ли не зубами тянет куда-то. Ну, думаю, собака неспроста это делает, пойду за собачьей головой, недаром умной её читал даже ты. Прём, прём, и вдруг вижу фигура лежит, хватился на всякий случай за винтовку, но Шарик так начал прыгать, около меня и ласкаться, махая хвостом, что я решил, свой должно быть.
…
Когда молодой солдат принёс Никанорова в окоп, то все диву дались.
— Ну и собака, — говорили кругом.
— Всё ротный запах, — проговорил философ и, помолчав немного, докончил. — Ежели бы его собака не признавала, то ночью не приметила бы меня, не нашла бы роты, и я Новый год встретил бы среди трупов, а не среди вас.
— Оно то верно, — поддакнули все кругом.
С. Маркович. 31 декабря 1915 год.
Сон перед Рождеством
Галечка Самарцева долго не могла уснуть. Сердечко было не спокойно; какое-то жуткое чувство щемило его. А мысль, о чём бы ни подумала Галечка, — всё возвращалась к одному. И это одно было — высокое, смуглое, с здоровым румянцем, с добрыми серыми глазами, широкое в плечах, всегда весёлое и добродушное существо в форме офицера гренадерского полка.
— Что-то он теперь делает в этих холодных окопах… Бедный Юрочка! Один в Святую ночь, так далеко от своего дома и от неё, Гали. Ах, уж эти проклятые немцы…
Горячо молилась Галечка сегодня за всенощной; от души клала поклоны, совсем по-деревенски, — «за наших воинов, о еже усилити силу мужества их, и за приявших раны на поле бранном»…
Всё, что приготавливалось обычно на ёлку, в этом году купили заранее, запаковали и отправили «на позицию», в тот гренадёрский полк, где служил прапорщиком Юрий Таволжаев, — Галечкин жених и любимец всей семьи Самарцевых. Без ёлки Святой вечер прошёл тихим, томительным, тоскливым.
И снится Галечке…
…Большой лес ёлок и сосен уходит стеной, смыкается, расходится и снова сходится, образуя большую поляну. Ярко блестит на ней солнечными пятнами снежный покров, глубокий и ещё не тронутый шагами. Зеленятся ёлки и сосны. На ветвях их плотным слоем повис ослепительно белый снег.
Часть деревьев повалена кругом полянки, не в кучу, а правильными рядами; идут эти ряды вдоль опушки, исчезая в синеве леса. Нет, нет, да и промаячит тут остроконечная каска. Вот мелькнули из-под каски бесцветные глаза и обшарили лес. На минуту колючий взгляд этот встретился с испуганными глазами Гали и сейчас же спрятался.
Вот вышел осторожно из-за засеки дозор, пять человек в белых балахонах, каски тоже закрыты белыми чехлами. Отрывистые, быстрые слова вполголоса. Более громкая команда: «Rechts!». Лязгнули примыкаемые штыки, и дозор исчез из лесу.
Но вдруг тишина нарушилась резким выстрелом. Галя вздрогнула вся. В лесу испуганно вспрыгнул целый ряд касок.
Вдали между деревьев показались проворные, ловкие люди в серых шинелях и папахах. Они цепью скользили на лыжах. Останавливались, вскидывали винтовки, выпускали по очереди пулю за пулей и шли дальше. Впереди, размахивая сверкающей, как зеркало, шашкой, распоряжался и громко командовал какой-то прапорщик. Что-то знакомое в его высокой фигуре; сердце замерло у Галечки, она не может оторвать глаз от этого офицера.
Всё ближе и ближе наши удальцы. Да, это Юрий! Видно, как упали два человека, скрестив на груди руки.
«Боже, Боже, спаси, помилуй раба Твоего Юрия» — шепчет Галя во сне запёкшимися губками. От волнения сердце у неё остановилось.
Гренадёры вскочили и бросились атаку со штыками наперевес.
«Ура» — кричал Юрий, схватываясь рукой за взятый пулемёт.
«Вот молодчина, Юрка, — произносится в грёзах Гали, — и никто и не знает, что он такой храбрый».
Но что это? Он зашатался. Упала на землю шашка и подогнулись колени, прапорщик тихо опустился на руки подбежавших солдат. Из головы бежит струйкой кровь и ярко окрашивает снег пурпуром.
Окружили офицера солдаты, поддерживают голову, и на неё ложатся один за другим обороты бинта.
Около лежащего Юрия остался только его денщик.
Пышный снег был притоптан. Недвижно лежали тела трёх павших героями гренадёр да десятка полтора убитых немцев. Около раненого Юрия хлопотал денщик; наломал веток с мягкой хвоей, устроил из них ложе; придвинул пулемёт, чтобы прапорщику было удобно опереть спину.
— Ваше благородие, давайте, я вас моим полушубком укрою.
— Нет, нет, Верещагин, не надо, — отмахнулся рукой Юрий.
— Дозвольте, ваше благородие, мне-то, ведь, не холодно, могу и побегать кругом. Не замёрзну…
Прапорщик, молча, покачал отрицательно головой. И от боли лицо сморщилось, как и обиженного ребёнка.
Верещагин поглядывал на своего офицера и, наконец, не выдержал, жалко стало: сбросив с себя полушубок, он накрыл им прапорщика. А сам принялся скакать и прыгать кругом, ударяя себя по плечам наотмашь обеими руками.
Крадучись, пробирались к ним меж деревьями две согнутые фигуры в касках. Как у шакалов, горят глаза, и походка с согнутыми коленями, крадущаяся, трусливая, напоминает этих кладбищенских собак.
Всё ближе они. Вот шмыгнули и спрятались за ёлочку, у которой лежал прапорщик и прыгал, размечтавшись, Верещагин. Силится Галечка приподняться, крикнуть, предупредить их, этих двух таких близких, родных ей людей. и не может, нет голоса…
А немец толстый, краснорожий, усы рыжие сосульками от мороза обвисли вниз, глаза, как оловянные плошки, — всё ближе подбирается за спиной Верещагина. Вынырнул, вскочил, поднял штык…
Тут, сделав невероятное усилие воли, Галя громко вскрикнула, и сейчас же проснулась. Долго не могла она прийти в себя от ужаса и пережитого волнения. Грустная она ходила по всему дому, словно е в Святое Рождество, а после похорон. Зато в полдень Галя получила на своё имя телеграмму: «Ранен не опасно, поправляюсь, Москва, седьмой земский госпиталь, целую, жду. Юрий».
Через три дня Галечка сидела около кровати раненого, — уже подпоручика Таволжаева, смотрела на него преданными, влюблёнными глазами. Маленькие пальчики её перебирали то загрубелые руки Юрия, то беленький крестик, что красовался на новой жёлтенькой с чёрным ленточке на его больничном халате.
В десятый раз он принимался рассказывать ей про своё отличие, ранение, про опасность и спасение, но каждый раз поцелуи и радостные слёзы мешали ей слушать, ему говорить.
Вдруг Галя как-то потемнела и задрожала маленькие ручки.
— А Верещагин? Что с ним?
— Верещагин? — удивился Таволжаев, — а ты откуда знаешь? О-о! Это такой молодчина! Когда два мерзавца, немецкие мародёры, подкрались к нам и один уже занёс штык, чтобы приколоть Верещагина, тот изловчился, прыгнул, сшиб его с ног и винтовку вырвал. Потом с этой винтовкой на другого. Хотя этот и успел ранить Верещагина в плечо, да зато мой молодец его насмерть приколол.
После схватился с первым. Всё это, ведь, в мгновение ока. Покатились они по снегу, меня совсем растормошили. Вынул я револьвер, стрелять стал; да рука дрожит — всё мимо. Боюсь и в своего попасть.
Тут как раз подоспел капитан с ротой. Немца скрутили, а нас с Верещагиным на носилки да на перевязочный пункт.
— А с немцем что?
— Его полковой суд, как мародёра, приговорил к повешению.
Галя с уважением смотрела на незнакомое ранее выражение, которое приняло лицо его жениха. Оно стало старше, серьёзнее, преисполнилось сознанием важности своего военного дела и долга.
Но молодая жизнь заявляла и свои права. И через несколько минут снова улыбка играла на её юном лице и глаза горели любовью и счастьем.
К. Озерецкий. 25 декабря 1915 год.
«Подарок» от немцев
— Было это в прошлом году, в самый Рождественский сочельник.
Старый унтер с двумя Георгиями покрутил усы и многозначительно посмотрел на слушателей, заполнивших тесную и тёплую землянку. В землянке горела маленькая керосиновая лампочка с заклеенным газетной бумагой стеклом, и висел серый дым от махорки и человеческих испарений.
— Пахомов сейчас расскажет, — не выдержал томительной паузы кто-то из собравшихся в землянке солдат. — До чего врать мастер!
— Тшш!.. Чего рот раскрыл, коли не спрашивают, — осадили нетерпеливого несколько голосов.
— Да, было это в самый сочельник, — продолжал Пахомов, — я тогда ещё ефрейтором был. Ну, хорошо. Призывает меня ротный, прапорщик Апсюк, убит, царство ему небесное! Так вот, призывает и говорит:
— Ну, Пахомов, штаб требует достать языка, и чтобы непременно. Бери сколько тебе надобно людей и ступай ловить. Крест заработаешь.
— Слушаю, — отвечаю, — ваше благородие. Людей мне много не надо, двоих только возьму: Андреева, он больно здоров, коня за передние ноги подымал, да латыша Януса, он по германскому лопотать умеет, чтобы, при случае, им, то есть неприятелю, голос подать, будто свои.
— Ладно, — говорит. — Как хочешь, так и делай, только чтобы язык был.
— Будет, — отвечаю. — Какой язык попадётся, сказать не могу, а только будет. Дело это, известно, крест на крест: либо серебряный на груди, либо деревянный на могилке, а только, казалось, что будет серебряный.
Ну, рассказал я Андрееву и Янусу. Поужинали мы, хлеба захватили на всякий случай да в самую полночь и шарахнули через окоп в чистое поле.
Все втроём в белых балахонах, как есть покойники с кладбища.
Андреев, тот ничего, ему хоть в будни, хоть в праздник идти на немца — одна цена, а Янус всё вздыхает:
— Сочельник, — говорит, — теперь, лучше бы завтра. Сегодня по земле всякая нечисть скитается; бывает и на чёрта наткнёшься. Ещё ничего если чёрт наш, — русский, а как немецкий чёрт попадётся? Я на него заговора не знаю.
— Ладно, — ответил Андреев. — Мы и немецкого под себя подомнём.
— Не подомнёшь, — ответил Янус. — Немец хитёр, а немецкий чёрт ещё хитрее. Они у сатаны первыми чертями считаются. Газ, думаешь, кто немцам придумал? ихние черти из ада пробу дали.
— То-то ополоумел человек. Однако, ничего, поползли мы к самой ихней проволоке, в ложбинку. Там у них лаз был, ихние разведчики оттуда к нам в гости ходили. И такой у нас план был: залечь порознь на самом лазу, но так, чтобы друг другу помощь можно было подать.
Залегли. Зарылся я в снег, только чувствую, холодно ногам, самой подошве. Посмотрел — подметок, как ни бывало! Точно их ножом кто срезал!
Вот, думаю, оказия! Придётся в одних портянках ночь прогулять, хорошо ещё, что тёплые были. И втемяшись мне в голову, со слов Януса, что бесовы это проделки: «Крепкие сапоги были, и как ножом!»
Перекрестился я, «Да воскреснет», — прочёл, лежу. У немцев тихо, впереди проволока чуть видна в темноте. Януса и Андреева не слышно, схоронились
Долго-ли, коротко-ли я так лежал — не помню, только вижу, будто с немецкой стороны белый бугорок на меня двигается. Ползёт и ползёт. Затаился я, а тот прямо на меня.
«Ладно, — думаю, — ползи». — И о чёрте забыл.
А тот ползёт и ползёт, слышу, дышит с хрипотцой, устал, значит.
Только он до меня дополз, я хвать его за шиворот. Схватил и обомлел, смотрю Янус! Как это так вдруг с немецкой-то стороны?
— Янус, — шепчу, — ты?
— Я, говорит. — А это ты, Пахомов?
— Али не видишь?
— Перекрестись, коли ты!
Перекрестился я, и Янус перекрестился. Смотрим друг на друга, как дураки.
— Как, — спрашиваю, — ты к немцам-то попал?
— И сам, — отвечает, понять не могу. Страшно стало одному, пополз к тебе, а угодил прямо под немецкую проволоку. Не иначе, как чёрт крутит. Под самой проволокой уже опомнился.
«Не ладно, — думаю. — Совсем сдурел парень. — И самому как-то жутко стало, подмётки мои на ум пришли. Что за притча в самом деле? Этаким манером вместо языка сам в плен попадёшься».
— Гайда, — говорю, — к Андрееву. Вместе будем лежать.
Поползли к Андрееву, вот и лёжка его, снег примят, бугорок насыпан, а самого Андреева нет!
Что за притча?
А немецкие окопы — вон они! И тишина там, прямо зловещая. Точно притаились там, нас ждут.
Янус даже дрожать стал.
— Андреева, — шепчет, — чёрт схватил. Вернёмся в наши окопы подобру-поздорову, а то и нам тоже будет!
Тут меня зло взяло. Как это так, чтобы русский солдат немецкого чёрта испугался? Сам погибай, а товарища выручай.
— Нет, — говорю, — не бывать этому! Поползём искать Андреева.
А след от лёжки прямо под немецкую проволоку ведёт. Что за диво? Янус туда лазил, и Андреев туда же. Не миновать и нам!
Полезли. Янус сзади, шепотком по-своему молитву читает, и у меня сердце здо́рово постукивает. Лаз нашли: точно нарочно для нас приготовлен.
А за окопом немецким тихо, как в могиле. И начинаю я носом чуять — пахнет спелыми яблоками. Точно в саду в августе на знойном солнышке. Яблоки и яблоки. Мне даже представилось, как они на ветках висят, боками краснеют, наливаются соком.
Ах ты, дьявольщина немецкая, что придумала! Зимой, в сочельник, яблоками дразнить!
Рассердился я. Стой, когда так! Лезу дальше, а в ушах, слышу, звон начинается. Как колокольчики звенят, и чудится, что по снегу красные и зелёные огоньки прыгают.
Вот оно, наваждение! Так и думал, сейчас самого беса увижу, как он среди этих огней по снегу катается, нас обхаживает.
Однако дополз до бойницы, глянул в неё — пусто! Ах, чтоб тебя! А яблоками пахнет всё сильнее да сильнее, слеза из глаз пошла.
Толкнул я Януса: «Гайда на бруствер!»
Всползли. Высунул я голову осторожно за гребень, глянул вправо-влево — пуста траншея, ни единого немца нет!
Этого уж я никак не знал. Вчера ещё перед сумерками палили в нас отсюда, и пулемёты частили, а теперь никого!
«Неладно, –думаю. — Тут или хитрость немецкая, или бес нам глаза отводит. Вот спустишься вниз, а немцы тут как тут из-под земли…»
А голова совсем кружиться стала, и слышно, как будто стонет кто-то, только тихо, там внизу.
— Не Андреев ли?
Обожгла меня эта мысль, точно калёным железом. Может быть, его немцы прирезали? Толкнул я опять Януса, поползли мы по валу в ту сторону, где стонало. Проползли этак шагов сотню, как будто под нами стонет. Глянул я вниз, лежит на дне Андреев, руки раскинуты, папаха с головы свалилась…
Тут меня и осенило: «Газы!»
Вот какую проклятую ловушку немцы подстроили: напустили в окоп газу, а сами ушли. Пусть, думают, русским рождественский подарочек достанется — пустая траншея. Займут её — все полягут. А газ в ямах по три дня держится! Известное дело, что немцев в траншеях и быть не могло.
— Янус, — говорю, — в окопе газ. Как у тебя голова?
— Кружится, — отвечает, — и слеза бежит.
— Надо Андреева вытащить!
— Как не надо? Известно, надо вытащить.
— Ну, — говорю, — крестись да живо.
Обкрестились мы, — бух в окоп. Сразу нас дьявольским газом охватило. Стали у меня ноги подкашиваться, в висках как молотом стучит, да и Андреев тяжёл был. Насилу вытащили вдвоём, и как вытащили, так на валу и растянулись.
Сил больше не стало, а глотку нам обручем сдавило. Насилу отдышались. Андреев пластом лежит и уже не стонет.
Велел я Янусу его дальше от окопа оттаскивать через лаз, а сам по валу дальше пошёл посмотреть, нет ли какой ещё немецкой затеи? И как встал на ноги — сразу легче голове стало, газ-то только внизу был.
Ладно. Прошёл я ещё шагов сотню, смотрю, немецкая записка на шесте висит, а у шеста бутылка стоит. Я записку собрал, в карман сунул. Только к бутылке нагнулся, гляжу, от бутылки проволока идёт, привязана за горлышко.
Вот, — думаю, — что! Ты немец хитёр, а я тебя хитрее. Дёрни как за эту проволоку, сигнал будет, или ещё что. А мы вот как сделаем: были у меня с собою ножницы, для проволоки захвачены, отрезал я несколько кусков, скрепил между собою, один конец осторожно к бутылке прикрепил, а другой за вал перетянул. Ну, на, — думаю, — если теперь дёрнуть, что тогда?
Дёрнул. Земля подо мною заходила. Осветило кругом, как ахнет взрыв, сразу оглох на оба уха: фугас взорвался. Вскочил я на ноги, бегом к Янусу с Андреевым; тот уже Андреева далеко от проволоки оттащить успел.
И что тут вышло: настоящая там ёлка! С немецкой стороны ракеты полетели, синие, красные, зелёные, артиллерия ихняя забухала по своему же брошенному окопу, и наша в него же. Из ружей стали палить — светопреставление настоящее, а мы как раз посерёдке!
— Убили? — не выдержал кто-то из слушателей.
— Ещё бы! — невозмутимо ответил унтер, — разве не видишь? Второй год в покойниках хожу!
Раскатистый смех покрыл его слова; когда солдаты поуспокоились, унтер продолжил:
— И убили бы, очень просто, если бы мы в вороне не схоронились. До утра пролежали, пока стрельба не стихла; Андреев всё себя не приходил. Так без чувств и приволокли в наши окопы.
Явился я к ротному, доложил всё как есть, записку представил, а в ней написано:
«Русские, мы уходим и оставляем вам наш рождественский подарок — наши окопы».
Ну не хитрецы ли? Беса перехитрить хотели, да не удалось.
А тут и опять стрельба поднялась: пошли немцы в атаку на свою же пустую траншею, думали, что там наши отравленные лежат. И переколотила же их тогда наша артиллерия!
А доложи ты, что окопы пусты, да займи их наши — беда бы была, сколько бы наших потравилось, сколько бы немцы перебили. Каиново племя!
— Ну, а что с Андреевым? — спросил кто-то.
— Андреева в тыл отправили, а после на поправку домой. Кровью долго харкал. Вот они газы-то, что делают!
А что, братцы, думаете? Нам, ведь, в пользу пошло, что мы беса-то боялись, осторожны стали очень, потому и не влопались и своих не подвели. И подмётки не даром отлетели, всё одно к одному очень хорошо вышло. Сапоги мне ротный новые выдал и к Георгию представил.
Значит, и немецкого беса бояться не следует, смотри только в оба. Не даром говорится: «На всякого мудреца довольно простоты!» так-то, братцы!
И унтер стал свёртывать толстую «цыгарку».
Ив. Митропольский. 25 декабря 1916 год.
Сила духа
Помимо военных доблестей и мощи, свойственных по натуре нашему солдату, помимо глубокой, одухотворяющей силы, которую придаёт армии ощущаемое здесь тесное единение вождей с серыми героями, помимо сознания необходимости неизбежности конечной победы, которым проникнуты все, — есть здесь, в армии, одна особая мощная сила, идущая к каждому солдату изнутри страны.
Серенький обыватель где-нибудь в Елизаветграде, Константинограде, или в Петрограде и Москве, посылая охотно, радостно или так, по инерции, свои подарки и пожертвования солдатикам на войну, наверное и не подозревает того, что, именно, он делает. Для него это иной раз пустяк. Рубашка… кисет с табаком… бумага и карандаш… сладости. Для солдата это иногда колоссальная ценность. Но не в материальной ценности и не в одной только материальной помощи тут дело. Тут важна сила внутренняя, духовная. Солдат чувствует в этой мелочи, что он не покинут, не оторван, не одинок. Он близок всей России и вся Россия с ним, расстояние как бы исчезает.
Вот только что раздали вернувшиеся на позицию офицеры привезённые подарки. Сколько умиления, восторга, радости! Одному солдатику досталась рубашка с вышивкой: «От гимназистки Шуры — из Полтавы», а в руках записочка, полная прелестных слов. Солдатик обезумел от восторга, прыгает, хвастается. Другой получил кисет, табак и трубку. Третий — пирожное и кисленькую карамель. Четвёртый — фуфайку тоже с вышивкой.
И ощущают все близость этих добрых, помнящих, любящих, молящихся за них сердец. Эта серая масса идущих в бой героев чувствует за собою всю многомиллионную великую Россию.
Каждая безделушка, получаемая солдатами, действует, как электрический ток. Незримыми волнами несётся энтузиазм изнутри страны. Всякая, даже слабая вспышка, вырвавшаяся из глубины России, здесь, в армии, отдаётся пламенным воодушевлением. Рождается великая сила духа — та сила, которая двигает на изумительные подвиги, на бессмертную доблесть и на победы.
Пусть Германия, Австрия и все наши враги придумывают, какие угодно «адские» орудия! Но им никогда не сломить эту великую силу духа, отваги, храбрости и выносливости, которую имеют только русские солдаты.
Вольноопределяющийся Новицкий. 9 февраля 1916 год.
Глава вторая
(Реальные истории)

На Пасхе
Весна установилась ранняя и тёплая, а на Страстной и дороги просохли. Уголок наш был тихий, нечего зря говорить, не особенно донимали австрийцы. Обжились мы, можно сказать, хорошо, — хоть не чисто в халупах и тесно, да и то понять надо — не дома находимся. Три дня в окопах, да три дня в деревне. Придёшь в деревню — первым делом отоспишься, амуницию приладишь, письма напишешь, а то выйдешь к халупе на солнышко. А дни-то весенние тёплые да солнечные. Жаворонки в поле напевают, того гляди трава в рост двинется, со дня на день ждёшь — сады зацветут. Вдаль глянешь — поле тянется бурое, весеннее и течёт над ним пар, синий дымок знойный, а ещё дальше облака белые грядой; только как вглядишься хорошенько, не облака это, а горы высокие, белые — Карпаты. И видно: тянутся к горам гряды перевалов, отрогов гор. Вспыхнет дымок, белый клуб и уж потом донесётся выстрел, раскатится по полю в знойном текучем воздухе синем. А налево глянешь — Днестр течёт чёрный, половодный, кое-где белые крылья на горе, не успел растаять снег. Расстелешь шинель на земле, да так и лежишь — отлёживаешься, дышишь весной ранней, глядишь на горы, на село русинское. Пройдёт дивчина до стодола, — окликаешь:
— Зачекай, паночка, зачекай, поразмовляем трохи…
Остановится, глянет:
— Та чому нi?
А сама смеётся лукавым глазом, прислонит ладони к глазам, на солнце глянет. Высоко ещё солнце. И побежит до стодола, обронит:
— Весняно…
Выйдет русин-господарь из халупы, на завалинку сядет, тютюну завернёт, закручинится.
А день-то тянется и тянется. Не на убыль — на прибыль идёт. Светло, тихо, солнечно и на душе светло. Окликнешь пана:
— Чего, пан, закручинился?
— Э, хлопська доля! — и рукой махнёт. И глядит на гору, на полосы бурые. Думу думает пан-господарь: запашку бы делать надо, сеять пора. Да как тут сеять и чем? Как утекали австрийские войска, всё забрали — жито и семена, обсеяться нечем. А что сумели сховать, — съели до весны. Глянет на полосы, вздохнёт тяжко и скажет:
— Як будемо?.. Або жити, або вмерти…
…
Перед Пасхой куличи пекли, яйца красили. Заботы сколько хочешь. В халупах дым, суетня. Всё надо поспеть. За работой и день незаметно прошёл.
А с вечера, ещё засветло, понесли куличи к роще. Туда ещё днём команды была отряжена амвон строить. На поляне среди рощи сделали возвышение, срубили из деревьев настил, дерном обложили, ветками ельника. А по четырём углам амвона вкопали молодые ёлки, перед престолом сплели арку из молодых еловых ветвей, полукругом, как царские врата.
Вечером при лёгком морозце началась служба. Засветили свечи на амвоне перед ликом Нерукотворного Спаса. На четырёх углах амвона в ветвях молодых ёлок стояли образа: Матери Божьей Одигитрии, Всех скорбящих радости, Георгия Победоносца и Николая Мурликийского чудотворца. И все шли к ним и ставили свечи восковые, приклеивали к веткам пахучим хвойным, истово клали поклоны. И от этого горел звёздами, искрился тысячами огней молодой хвойник пахучий и весь амвон залился светом пасхальным, радостным.
На поляне, лицом к амвону, четырёхугольником стояли войска с восковыми мерцающими свечками и ещё дальше, между ельника, в новых хустках — газдыни и господари — мешканцы.
И стояла тишина ровная, недремлющая, весенняя, и только певучий голос священника да хор из солдат разносился над рощей.
— Христос Воскресе! — сдержанным радостным гулом отвечали тысячи голосов. И сквозь этот гул доносился грозный гул войны — недалёкие редкие пушечные выстрелы. Раскатился гул по низам, по взгорьям, затеряется где-то далеко-далеко в перевалах отрогов. И через четверть часа снова ударит сторожевая пушка другой батареи, больше для того, чтобы показать, что все находятся на местах, не спят.
…
Пасха выдалась на редкость тёплая и солнечная. Оркестр полковой играл в деревне, и все жители сошлись хоть на день да забыть кручину. Сначала солдаты один с другим, а потом и дивчины пошли польку танцевать, хустками размахивать, притопывать каблуками.
А на другой день австрийцы стрельбу открыли по селу. Снаряды недолёт делали, рвались пред деревней у озера. Дело виданое — стрельба, пошли солдаты за село к озеру. Несколько снарядов попало в озеро. И видно было: упадёт снаряд, взметнёт столб воды и песку, оглушит рыбу и поплывёт она вверх пузом по озеру, блестя серебристой чешуёй.
Собралось несколько человек, нашли лодки, поехали вылавливать рыбу.
— Ай, да австрийцы, молодчаги! Ради праздничка рыбкой угостить захотели, го-го-го! — заслышался смех.
— Ещё, ещё разочек, чтобы для всех хватило! Ахни-ка, приноровься!
И, словно угадывая наше желание, снова раздался гул и послышался воющий свист снаряда.
— Так его! Раз! Убей да не всех сразу, — смеялись у озера.
— Го-го-го, попал пальцем в небо!
И снова выбросило столб воды. И ещё больше поплыло поверху озера серебристой глушенный рыбы. Вылавливали её наскоро сделанными из рубах сачками и бросали на дно лодок. На мелководье, у берега, засучив штаны, ходили ребятишки, стараясь поймать руками выныривавшую около них рыбу.
— Тримай, тримай до кишеня.
А солнце уже клонилось к вечеру, и золотой диск его окрашивал багряным светом озеро.
…
Ночь ещё свежая. Прохватывает морозец. Звёзды высыпали, дрожат синими огнями. Тихо над полем. Но тишина острожная: будто затаился, притих большой великан, не дышит. Но чувствуется, что ждёт он, ловит осторожный гул, к чему-то готовится. Словно тяжёлый вздох тысячи людей, в молчании ночи раздастся гул над полями и снова наступит тревожная тишина. Булькает вода в потоке с камня на камень, ближе к Днестру.
От того, что весна наступила, зелёным туманом окутала землю, — не спится. За халупами раздольней. Где-то звенит девичий смех, шутка чья-то слышится, но людей не видно, темно. За околицей раздаётся песня. И по голосу слышно: поёт Микола Веретюк, украинец. Весна разбудила в нём грусть тихую по Дунаю-реке, по слободе родной, где он с мальчишками вместе бегал, где подрос и откуда взят в ряды. По Галь-чаровниц в серебряном монисто грустит голос, по ветлам раскидистым, под которыми видел последний раз Галю, по родному тын-частоколу…
«Тихий Дунаю, зелёный гаю,
Быстро текучий, в хвилю ревучий,
Вас я благаю, грудь облегчите,
Висть принесите з ридного краю…»
Призатих девичий смех, шутки смолкли. Только один голос, как серебряная струна, звенит о прошлом. И слушает ночь эту чарующую песню с чутким вздохом невидимых, неспящих в осторожном ожидании людей. и плывёт этот вздох над отрогами Карпат, над увалами, вдоль чёрной ленты Днестра.
Тихой тоской, грустью весенней звучат последние слова. И замирает где-то далеко-далеко в поле за теменью:
«Висть принесите з ридного краю…»
А ночь-то, ночь какая! Рассыпались миллионы звёзд синих, огней ночных.
Паникадила заревые зажглись, словно от ветра, колеблются, качаются огоньки. И над землёй качаются огоньки на взгорье, за туманом дымчатым: вспыхнут и потухнут, и в другом месте поплывут. И уже спустя минуту, словно тяжёлый воз с камнями, докатится гром выстрела…
Мих. Артамонов. 10 апреля 1916 год.
Белые привидения
На карте всё это обстоит несложно.
Вправо от перевала узкая извилистая линия, означающая просёлочную дорогу. Она минует, капризно извиваясь, крутые подъёмы и спуски, отмеченные разными цифрами высот, далее разветвляется на две, охватывающие густо заштрихованный кружок, на котором стоит «730». Южный склон этого кружка более бледный — пологий. У подошвы начинаются обильные кудряшки, означающие местность, покрытую лесом. Под этими кудряшками направление и толщина штришков уже не так заметна, но в расстоянии полуверсты, по масштабу, ясно читается цифра «420».
В общем, от места стоянки до высот, отмеченных этими пунктами, версты три — три с половиной. Приблизительно около часа ходьбы.
Было около шести часов вечера, когда затих артиллерийский огонь противника, прикрывавший отступление пехоты, и офицеры, Александр Степанович и Сергей Николаевич, повели свои роты.
Задача состояла в том, чтобы этими двумя ротами занять высоту «730» и выслать на вершину «420» заставу.
Александр Степанович, как старший в чине, и потому на походе командовавший всем отрядом, с третьей ротой шёл впереди.
В четверть часа дошли до перевала и стали взбираться на хребет, по которому дорога поворачивала вправо.
Сергей Николаевич приостановился, чтобы взять большой интервал. Старый поручик стал пропускать свою роту по взводам, оставляя между ними значительные промежутки. Кромешная тьма не могла достаточно охранить от пристрелявшейся по перевалу артиллерии, и идти небольшими частями было мерою далеко не лишнею.
Где-то сзади, за четверть версты, продвигалась за нею другая, но, шли ли она, или ещё оставалась под перевалом, или сразу, быть может, пошла не туда, — этого теперь уже нельзя было бы сказать.
Ни звука не раздавалось кругом, ни слова, ни лязга винтовки, ни звякания неприлаженного котелка, ни кашля, ни вздоха, ни смеха.
И только совсем вблизи чавканье сочной грязи под напором неутомимого сапога оттеняло гробовую тишину обстановки.
Александр Степанович пропустил роту мимо себя, затем снова обогнал её и пошёл впереди, впираясь взором в темноту, словно надеясь разглядеть в ней что-то, но что, — он не мог бы сказать. В этом жутком слиянии тьмы с тишиной, отличающем ночные движения, время идёт мучительно медленно. Его не проверишь пространством, так как ничего не видно вокруг.
Александру Степановичу казалось, что давно бы пора уже дойти до придорожного креста, отмеченного на карте приблизительно в середине пути, но креста не было… И кто поручится, что он идёт теперь по дороге, а не где-нибудь в стороне от неё, где та же вязкая грязь — единственный признак одолеваемой почвы.
Не было только сомнения в том, что, миновав опасный перевал и сделав ещё два подъёма, теперь рота совершала довольно крутой спуск и была, таким образом, в какой-то сравнительно безопасной лощине.
— Стой! — полушёпотом сказал ближним солдатам Александр Степанович.
Рота остановилась от этого шёпота, словно по громкой команде, и так же беззвучно, как шла.
Выслали троих дозорных поискать креста.
Они вернулись минут через десять и доложили, что креста не видать.
Ориентироваться всё равно было не по чему, и, подумав немного, Александр Степанович решил двинуться дальше. Не прошли сотни шагов, как справа в стороне какой-то тёмный силуэт обратил на себя его внимание. Он подошёл поближе и с радостью увидел каменный столб, на верхушке которого был укреплён небольшой металлический крест.
— Вот оно что! — подумал он.
Теперь не было сомнения, что рота была на верном пути, и Александр Степанович бодрее зашагал вперёд. Минут через десять стали круто подниматься вверх. Ещё через десять минут достигли хребта, окаймлённого редким кустарником по противоположному склону.
Незаметно, без шума подошла и четвёртая рота. Сергей Николаевич, меланхолически размахивая своей неразлучной спутницей — плёткой, подошёл к товарищу.
— На месте? — тихо спросил Александр Степанович.
— Очевидно! — равнодушно ответил подпоручик.
Действительно, хотя вокруг не было никаких неопровержимых доказательств тому, что они находились на указанной им высоте «730», но никто не мог бы выставить и опровергающих соображений против такого утверждения.
Справа, пробираясь среди густых, тёмных, но обрывчатых туч, выплывал, словно ныряя среди них, серп прибывающей луны. При его неустойчивом свете прояснились тёмные дали горизонта. Впереди, внизу, уходя в даль, блеснули нетронутые передвижением человека обширные снежные поляны. Кое-где чёрными пятнами обозначались на них мелкие участки кустарника, и вилась змеевидная лента заросшего ивняком оврага. Далее совсем туманно обозначалась ломаная линия горного рельефа. Справа и слева, закрывая горизонт, поднимались лесистые скаты.
Солдаты уже расположились на новой вершине, как дома. Там и здесь хрустнули сырые ветви, там и здесь вспыхнули сучья, наломанные для костра.
Александр Степанович поспешил прекратить опасные попытки развести огонь, могший выдать расположение рот неприятелю.
— Что за народ, прости Господи! — волновался поручик. — Так головой и выдаёт себя. Черти полосатые! Чего смотришь? — набросился он на взводного Кобзаренко, с полнейшим равнодушием поглядывавшего на то, как ротный подошвой тушил разгоравшиеся ветви.
— Та что же, ваше благородие, — так же спокойно ответил унтер из полтавских хохлов, — вин то же само родить!
И он указал в пространство перед собою.
Александр Степанович невольно взглянул по направлению руки Кобзенко и, действительно, вдали, в тумане разглядел то вспыхивавший, то погасавший огонёк.
Огонёк появлялся то в одном месте, то в другом, то иногда вспыхивал в двух-трёх местах сразу.
Были ли это вспышки отдалённых костров, как полагал взводный, или иное что, — не было сомнения, что там впереди, на расстоянии, которое сейчас ещё было трудно определить, давала знать о себе какая-то жизнь и, конечно, жизнь эту делал австриец.
Окопы неприятеля, или какие-нибудь отдельные его партии, беспечно блуждающие в неустанно шевелящемся пространстве между двумя враждебными линиями окопов.
Вернее — окопы. Разведчики, караулы, секреты не зажгли бы огней. Кобзаренко прав. Александру Степановичу показалось, что он слышит и какие-то звуки, какой-то отрывистый лязг, но такой глухой, неопределённый, что поручик успокоился на том, что это плод его воображения.
Солдаты, не спеша, стали окапываться. Сергей Николаевич прошёл по хребту, обозначил линию.
— Ну, давай дом строить! — прозвучал в темноте сдержанный голос, по которому Александр Степанович сразу узнал своего любимца, отделённого второго взвода, Вторых, и обернулся к нему. Всегда спокойный, шутливый и насмешливый, но, преимущественно, над самим собою, солдат из «стариков» — Вторых, опустившись на колени, ковырял короткой лопаткой оттаявшую землю, намечая очертания своего будущего «дома» и отбрасывая в сторону противника соскребываемую землю.
Однако, сделана только половина дела, — думал про себя поручик. — Надо доделывать и вторую.
Высота «420» ещё не была занята караульным взводом. Александр Степанович направился к товарищу, в сумке которого была единственная в батальоне карта. Он нашёл молодого офицера сидящим на поваленном дереве за прикрытием купы кустов и рассматривающим уже её при свете огарка, который держал пред ним тщедушный, но бойкий солдатик, неизменно назначавшийся к нему «для связи» с фельдфебелем роты.
Лицо молодого офицера было задумчиво.
— Ну, что? — спросил его Александр Степанович.
— Да что, никакой такой вершины тут, очевидно, нет, — не поднимая головы, ответил подпоручик.
Даже с занятой горы можно было убедиться в этом. Она командовала широко над окружающей местностью. И как раз в том направлении, в котором по карте должна была быть высота «420», местность спускалась в покрытую лесом низину.
Посоветовавшись, товарищи решили сами пойти в разведку.
Взяли от обеих рот по четыре человека из более опытных и расторопных и, не тратя дорогих минут, двинулись искать таинственную вершину, отмеченную на карте цифрой «420».
…
Но в реальной обстановке редкая, выдающаяся вершина заявляет безапелляционно о своей высоте. Большинство из них молчаливо скрывает свою неопределимую а глаз высоту, цифра которой — её единственное крестное имя.
Прошло добрых два часа с тех пор, как офицеры и восемь солдат, утопая в снегу, путаясь среди кустов и оврагов, проваливаясь в канавы и снова с не малыми усилиями выкарабкиваясь из них, тщетно искали какого-либо признака вершины, которая могла бы соответствовать отмеченному на карте заклятому пункту.
— Больше не могу! — произнёс Александр Степанович, как сноп, падая в снег у густого, ветвистого чёрного куста, где в мрачном недоумении стоял Сергей Николаевич и половина взятых в разведку солдат.
— Какого чёрта мы ищем? Ясное дело, заданная точка лежит в лесу, на дне этого проклятого оврага. Всё дело в том, что в приказе она нелепо названа вершиной, и в этом вся разгадка. Больше никаких вершин здесь нет, и искать я их не намерен.
— Очевидно, так, — согласился Сергей Николаевич. — Да и по обстановке это вполне соответствует заданию. Мы занимаем высоту «730». Лес и овраг образуют к ней хороший подступ для неприятеля. Поэтому сюда необходимо поставить надёжную заставу, спрятать её в лесу и опустив, по возможности, ниже в овраг. Всё ясно.
— Так и сделаем. Идёмте!
— Подождите, ещё не все собрались, — возразил подпоручик.
— Оно точно, ваше благородие, — вставил в разговор офицеров своё слово бойкий ротный разведчик — Свобода, за которым уже числилось не мало лихих дел на разведках. — Ему здесь подходить самое разлюбезное дело.
— Чего лучше! — прибавили остальные.
Группа расположилась на утоптанном снегу под кустами и отдыхала. Постепенно подошли ещё три разведчика, но и они не нашли, как оказалось, никакой вершины в заданных им направлениях. Теперь оставалось дождаться только одного ефрейтора Кузнецова, чтобы двинуться обратно и сделать последние распоряжения о высылке в овраг заставы, и тогда подумать об отдыхе на новых боевых «квартирах».
Над сонными горами, над белыми пеленами снегов и белыми кудряшами покрывающих горные склоны лесов разгоралась роскошная декабрьская ночь. Теперь было видно далеко вокруг от сияния выбравшегося на простор лунного полукруга, окаймлённого грандиозным светлым кругом. Морозило. Воздух становился всё более сухим и дыхание прохладным. Тихо, чудно красиво было вокруг. Небольшая кучка людей, заброшенная волей судьбы в эти пустынные горные снега, словно приютившаяся от охватывавшего их незнакомого, чуждого простора в тени мелкого кустарника на склоне пригорка, задумчиво и молчаливо созерцала эту дивную красоту природы, столь чуждую, в свою очередь, их волнениям и тревогам, и невольно поддавалась её обаянию.
Каждому из них навевала она затаённые думы, в душу вливала чувство тишины и спокойствия.
Кто-то из разведчиков, утомлённый скитаниями по глубокому снегу, мирно дремал уже, мерно посапывая в стороне, кто-то глубоко, задушевно вздохнул и снова застыл в молчании.
— А у нас теперь — ух! дюже большие морозы. Не заснёшь вот так на воле, а заснёшь, — не проснёшься, — заговорил бравый Свобода, кивая в сторону задремавшего товарища.
— Да, не привёл Господь встретить дома праздничек! — отозвался другой голос.
— А, ведь, в самом деле, уже наступило Рождество, — как-то вдруг оживившись, произнёс Александр Степанович, ни к кому, в частности, не обращаясь.
Сергей Николаевич хмуро промолчал.
— О, Господи! — снова вздохнул кто-то сзади офицеров.
И все снова затихли в неподвижных, лежачих и полулежачих позах.
И снова в торжественной тишине побежали благоговейные минуты…
— Т-ссс! Никак Кузнецов идёт… — насторожился Свобода.
Офицеры подняли лица и стали всматриваться в том направлении, куда глядел молодцеватый, зоркий и чуткий на слух разведчик.
Однако никого впереди не было видно.
— Никого нет, — гневно прошептал Сергей Николаевич, уже начинавший терять терпение. — Чёрт его знает, куда человек делся.
— Минуточку… потише, ваше благородие… минуточку!.. — нервно заговорил Свобода, приподнимаясь с места. Лицо его выражало сильное напряжение внимания, и было ясно, что он воспринимал что-то, но не зрением, а слухом.
Все насторожились.
В воздухе ощущалось какое-то движение, словно хруст хрупкой коры под давлением невидимых ног, какой-то шелест, робкий, неясный, но ничто вокруг не обличало присутствия не только нескольких, но и одного человека.
По временам шелест этот становился яснее, словно кто-то, разбив звонкий, стеклянистый верхний покров ещё не тронутого снега, глубоко проваливался в прикрытый им рыхлый пух, то замирал совершенно, точно шедший останавливался в испуге от шума, производимого его движением.
— Так и есть, что идёт, — пробормотал, было, один из разведчиков, но властное «т-ссс!», тут же вырвавшееся из уст Свободы, пресекло всякую попытку делать дальнейшие замечания.
Сергей Николаевич поднялся во весь рост, резким жестом толкнул Александра Степановича и повлёк его за собою в чащу ветвей, закрывших обоих офицеров.
В один прыжок около них оказался Свобода. Прочие разведчики также поспешили укрыться надёжнее в чащу оголённых кустов, хотя растерянный вид их ясно обнаруживал, что они ещё не понимали, в чём дело.
Сергей Николаевич с возбуждённым видом показал товарищу вдоль опушки по направлению к оврагу и, повернувшись к Свободе, стал что-то говорить ему, но не звуками, а исключительно шевелением губ.
Кучка солдат теснее сплотилась около них.
Александр Степанович не без волнения стал всматриваться. Он довольно отчётливо слышал теперь резкий хруст снега от редких, осторожных шагов, но на белой пелене снега, вдоль опушки кустов и далее, вверх по скату, не мог разглядеть ни одной чёрной точки, которая производила их.
Но по мере того, как он напрягал зрение, ему начинало казаться что-то совершенно невероятное. В том направлении, откуда доносились звуки хрустевшего снега, как бы вздымалась самая пелена и, колыхаясь над снежным покровом, белая на белом, то останавливалась, то тихо и мерно подвигалась вперёд.
Наконец, шагах в полутораста от себя ему удалось уже достаточно ясно рассмотреть очертание человеческой фигуры, приближавшейся к ним.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.