
Бесплатный фрагмент - Сов Семь
Двенадцать часов
В доме пять часов.
Я накрываю стол на пять персон, все пять часов рассаживаются за столом, напольные часы с маятником спорят со старинными часами с зодиаком, кому занять председательское место, наконец, я напоминаю им, что таких мест два.
Когда солнце садится, наступают шесть часов. Они наступают мне на ногу и вежливо извиняются. Я усаживаю шесть часов в креслах у камина, и думаю, что мне делать, ведь в доме набралось уже целых одиннадцать часов.
Когда восходит луна, бьет час. Он бьет в двери, нетерпеливо ждет, когда его пустят. Впускаю час, беру у него шляпу и пальто, и промокший зонтик. Считаю спальни в доме, их оказывается десять, на мое счастье, в двух спальнях стоят по две кровати, — мне удается устроить все двенадцать часов.
В доме двенадцать часов.
Задергиваю шторы в гостиной.
Двенадцать часов.
Накрываю столик на двоих.
Я жду Полночь.

Сов семь
В лесу сов семь.
А где нет сов, там нет сов-сем.
Вот сидят совы, из дупла вы-совы-ваются.
Полетели сов семь по лесу с полуночи до двух ча-сов.
А там и до трех ча-сов.
А тут у трех ча-сов раз — и захлопнулся за-сов.
Тут-то совам и конец, да как бы не так.
А почему?
А ну-ка, думайте, думайте… сов семь, сов заперли, что осталось?
Правильно, семь.
Вот семь засов и открыло за сов.
И совы вылетели.
Главное, не лететь им туда, где семь часов. Там своя семь есть, семь от сов с семь от часов драться будут.
А может, там вообще не семь ча-сов, а семь ча-филинов.

Яьлырк еытачнопереп, ыталбрефиц еищюацрем
Подгоняю экипаж во весь опор — скорей, скорей, скорей. Впрочем, оно и не нужно, экипаж и сам несется во весь дух, подпрыгивает на поворотах, жалобно поскрипывает. Мы оба чувствуем, что этот лес таит в себе немало опасностей, деревья шумят, шепчутся, переговариваются о чем-то на неведомом языке, костлявые ветви зацапали луну и медленно её пожирают, тусклое свечение тянется с болот.
Скорей.
Подгоняю экипаж — скорей, скорей, скорей. Стараюсь не слышать зловещее угуканье за спиной, в который раз говорю себе — это совы, совы, совы, черт возьми, ну что это еще может быть…
Хлопанье крыльев.
Там, сзади.
Они налетают со всех сторон, даже не могу толком понять, кто именно, вижу мерцающие циферблаты, перепончатые крылья, чьи-то когти вонзаются мне в волосы.
Кольт, кольт, должен быть кольт, еле сдерживаюсь, чтобы не начать палить во все стороны, пытаюсь прицелиться — не могу, они мельтешат слишком быстро, стреляю — наугад, со звоном разлетается циферблат, аг-га, есс-с-ть….
Их слишком много, говорю я себе, закрывая лицо. Слишком много. Нащупываю сухие палки, чиркаю спичкой, — с ревом взмывается пламя факела, циферблаты разлетаются, аг-а, не понравилось… Подхлестываю экипаж, пошел, пошел, лес расступается, хлопающие крыльями циферблаты остаются где-то там, там. Пристраиваю факел, чтобы отгонял тьму, фонари экипажа чуть меркнут в свете пламени. Только сейчас понимаю, что обронил кольт, еще думаю вернуться, еще смеюсь над собой, жить мне, что ли, надоело — вернуться…
Подгоняю экипаж во весь опор — скорей, скорей, скорей. Впрочем, оно и не нужно, экипаж и сам несется во весь дух, подпрыгивает на поворотах, жалобно поскрипывает. Мы оба чувствуем, что этот лес таит в себе немало опасностей, деревья шумят, шепчутся, переговариваются о чем-то на неведомом языке, костлявые ветви зацапали луну и медленно её пожирают, тусклое свечение тянется с болот.
Скорей.
Подгоняю экипаж — скорей, скорей, скорей. Стараюсь не слышать зловещее угуканье за спиной, в который раз говорю себе — это совы, совы, совы, черт возьми, ну что это еще может быть…
Хлопанье крыльев.
Там, сзади.
Они налетают со всех сторон, даже не могу толком понять, кто именно, вижу мерцающие циферблаты, перепончатые крылья, чьи-то когти вонзаются мне в волосы.
Кольт, кольт, должен быть кольт, еле сдерживаюсь, чтобы не начать палить во все стороны, пытаюсь прицелиться — не могу, они мельтешат слишком быстро, стреляю — наугад, со звоном разлетается циферблат, аг-га, есс-с-ть….
Их слишком много, говорю я себе, закрывая лицо. Слишком много. Нащупываю сухие палки, чиркаю спичкой, — с ревом взмывается пламя факела, циферблаты разлетаются, аг-а, не понравилось… Подхлестываю экипаж, пошел, пошел, лес расступается, хлопающие крыльями циферблаты остаются где-то там, там. Пристраиваю факел, чтобы отгонял тьму, фонари экипажа чуть меркнут в свете пламени. Только сейчас понимаю, что обронил кольт, еще думаю вернуться, еще смеюсь над собой, жить мне, что ли, надоело — вернуться…
Подгоняю экипаж во весь опор — скорей, скорей, скорей. Впрочем, оно и не нужно, экипаж и сам несется во весь дух, подпрыгивает на поворотах, жалобно поскрипывает. Мы оба чувствуем, что этот лес таит в себе немало опасностей, деревья шумят, шепчутся, переговариваются о чем-то на неведомом языке, костлявые ветви зацапали луну и медленно её пожирают, тусклое свечение тянется с болот.
Скорей.
Подгоняю экипаж — скорей, скорей, скорей. Стараюсь не слышать зловещее угуканье за спиной, в который раз говорю себе — это совы, совы, совы, черт возьми, ну что это еще может быть…
Хлопанье крыльев.
Там, сзади.
Они налетают со всех сторон, даже не могу толком понять, кто именно, вижу мерцающие циферблаты, перепончатые крылья, чьи-то когти вонзаются мне в волосы.
Кольт, кольт, должен быть кольт, еле сдерживаюсь, чтобы не начать палить во все стороны, пытаюсь прицелиться — не могу, они мельтешат слишком быстро, стреляю — наугад, со звоном разлетается циферблат, аг-га, есс-с-ть….
Их слишком много, говорю я себе, закрывая лицо. Слишком много. Нащупываю сухие палки, чиркаю спичкой, — с ревом взмывается пламя факела, циферблаты разлетаются, аг-а, не понравилось… Подхлестываю экипаж, пошел, пошел, лес расступается, хлопающие крыльями циферблаты остаются где-то там, там. Пристраиваю факел, чтобы отгонял тьму, фонари экипажа чуть меркнут в свете пламени. Только сейчас понимаю, что обронил кольт, еще думаю вернуться, еще смеюсь над собой, жить мне, что ли, надоело — вернуться…
Подгоняю экипаж…
…спохватываюсь.
Понимаю, что заблудился, что еду по кругу. Притормаживаю экипаж, не нахожу ничего лучше, как повесить маленький фонарик на ветку высохшего дерева, снова подгоняю экипаж, скорей, скорей, зорко слежу, чтобы ехать по прямой, никуда не сворачивать…
Подгоняю экипаж во весь опор — несется во весь дух, жалобно поскрипывает. Деревья шумят, шепчутся, костлявые ветви зацапали луну и медленно её пожирают.
Скорей.
Стараюсь не слышать зловещее угуканье за спиной…
Хлопанье крыльев.
Там, сзади.
…мерцающие циферблаты, перепончатые крылья…
…стреляю — наугад, со звоном разлетается циферблат, аг-га, есс-с-ть….
…с ревом взмывается пламя факела, циферблаты разлетаются, аг-а, не понравилось…
Только сейчас понимаю, что обронил кольт. Подгоняю экипаж во весь опор, тусклехонький огонечек светится впереди, не сразу понимаю, что вижу свой собственный фонарь.
Вперед.
Только вперед, никуда не сворачивать, дорога делает петлю, нехорошая какая-то петля, подхлестываю экипаж, он проносится по бездорожью, беспомощно поскрипывает.
Вешаю на ветку фонарик.
Еще один.
И еще.
Хлопанье крыльев.
Вынимаю кольт, вспоминаю, что обронил его недавно, точно помню, что обронил. И зачем я зажигаю факел, если уже зажигал его неоднократно, и…
…хлопанье крыльев остается за спиной, вижу мой первый фонарь, повешенный на ветку дерева, вот он покачивается на ветру. Еду по развешенным фонарикам, отчетливо вижу, что еду вперед, вперед…
…хлопанье крыльев.
Сразу зажигаю факел, да черт возьми, я хотел зажечь факел, зачем я стреляю из кольта…
…перевожу дух.
Останавливаю экипаж под фонарем, загоняю свой транспорт под сень деревьев, укрываю, гашу фонари.
Спать.
Хоть ненадолго.
Спать.
Сначала думаю, что не смогу заснуть здесь, в этой бесконечной тревоге, — странно, моментально проваливаюсь в сон, мне снится мой мир, маленький шар, на котором только нескончаемый лес и дорога через него — из ниоткуда в никуда…
Просыпаюсь.
Что-то здесь не так, говорю я себе, что-то здесь не так…
Смотрю на часы.
Одиннадцать вечера.
Пришпориваю экипаж, он не хочет ехать, чует беду. Подгоняю, пошел, пошел, надо выбраться отсюда, любой ценой…
Луна смотрит единственным глазом. Отмечаю про себя, что луна не сдвинулась ни на чуть-чуть, как будто и правда запуталась в ветках.
Зловещее угуканье за спиной.
Это совы, говорю я себе, это совы.
Стая сов действительно проносится мимо.
Экипаж несется во весь дух, чует беду.
На этот раз они налетают бесшумно, на этот раз я сразу зажигаю факел, отгоняю циферблаты, смотрю, как бешено вертятся стрелки.
…стрелки…
Смотрю на собственные часы, время приближается к полуночи, стрелка перескакивает на двенадцать, тут же отпрыгивает на одиннадцать.
Начинаю понимать.
Открываю приборную панель экипажа, переключаю на четвертое, временное измерение, посмеиваюсь, а мы тоже не лыком шиты.
Зачем-то мотаю назад, …ясьтунрев — олеодан, ил отч, енм ьтиж, йобос дан ьсюемс еще, ясьтунрев юамуд еще, тьлок линорбо отч, юаминоп сачйес окьлоТ. инемалп етевс в тункрем ьтуч ажапикэ ираноф, умьт ляногто ыботч, лекаф юавиартсирП. мат, мат от-едг ястюатсо ыталбрефиц имяьлырк еищюаполх, ястеапутссар сел, лешоп, лешоп, жапикэ юавытселхдоП …ьсоливарноп ен, а-га, ястюателзар ыталбрефиц, алекаф ямалп ястеавымзв мовер с -,йокчипс юакрич, иклап еихус юавыпущаН. огонм мокшилС. оцил яавырказ, ебес я юровог, огонм мокшилс хИ
.…ьт-с-ссе, аг-га, талбрефиц ястеателзар моновз ос, дагуан — юялертс, ортсыб мокшилс ташетьлем ино, угом ен — ясьтилецирп ьсюатып, ыноротс есв ов ьтилап ьтачан ен ыботч, ьсюавижредс еле, тьлок ьтыб нежлод, тьлок, тьлоК
.ысолов в енм ястюазнов итгок от-иьч, яьлырк еытачнопереп, ыталбрефиц еищюацрем ужив, оннеми отк, ьтяноп моклот угом ен ежад, норотс хесв ос тюателан инО
.идазс, маТ
.веьлырк еьнаполХ
…ьтыб тежом еще отэ отч ун, имьзов треч, ывос, ывос, ывос отэ — ебес юровог зар йыроток в, йонипс аз еьнакугу еещеволз ьташылс ен ьсюаратС. йерокс, йерокс, йерокс — жапикэ юяногдоП
.йерокС
.толоб с ястенят еинечевс еолксут, тюарижоп ёе оннелдем и унул илапацаз ивтев еывялтсок, екызя момодевен ан от-меч о ястюавиравогереп, ястучпеш, тямуш яьверед, йетсонсапо оламен ебес в иат сел тотэ отч, меувтсвуч або ыМ. теавыпирксоп онболаж, хаторовоп ан теавигырпдоп, худ ьсев ов ястесен мас и жапикэ, онжун ен и оно, мечорпВ. йерокс, йерокс, йерокс — ропо ьсев ов жапикэ юяногдоП
..не то. Хлопаю себя по лбу, и чего я хотел добиться, тут хоть вперед, хоть назад, из петли не выскочишь…
Останавливаю время.
Хлопающие крылья замирают, теперь я могу рассмотреть своих нападающих, я могу перестрелять их — вот так, со звоном, одного, двух, десять. Догадываюсь не убивать последний циферблат, осторожно беру в руки, тяжелый, чер-р-рт, осторожно открываю часы-луковицу, вынимаю крохотную шестереночку, вот так, полетай мне теперь…
Прячу шестеренку в нагрудный карман, складываю крылья часов, убираю часы в саквояж. Снова пускаю время, снова еду через лес, угукают совы, скрипят колеса, дорога уже не кажется опасной…
…стоп.
Останавливаюсь под фонариком на дереве, хлопаю себя по лбу. Хорош я, хорош, ничего не скажешь, ну поеду я по этой дороге, ну что, можно подумать, от этого что-то изменится.
Снова открываю приборную панель.
Смотрю.
Переключаю, переставляю шестеренки, миллион раз представлял себе, как это можно сделать, миллион раз не делал, понимал, что не все так просто, что тут пробовать и ошибаться, пробовать и ошибаться до скончания века, что тут не так…
Пробую.
Ошибаюсь.
…иду к ручью напиться воды, вытираю губы, смотрю на полную луну за деревьями.
Будь я проклят, если не переделаю экипаж.
Будь.
Я.
Проклят.
Подыскиваю последний винтик, последнего винтика не хватает, вытаскиваю из нагрудного кармана то, что выкрутил из крылатых часов, подкручиваю в экипаж.
Сажусь за руль.
Осторожно поднимаюсь над лесом, плавно-плавно, невысоко.
Все в порядке.
Мне так кажется.
Выше.
Выше.
Экипаж делает крутой вираж, еле успеваю посадить на поляну.
Нет.
Еще не все.
Еще выверять и выверять, еще взмахивать и взмахивать крыльями, прежде чем…
Ничего, время у меня есть.
Вернее, нет. Вернее, только один час, замкнутый в бесконечное кольцо.
…поднимаюсь над лесом, не над лесом, — над временем, холод безвременья охватывает со всех сторон, зябко поеживаюсь.
Смотрю на временное кольцо, по которому ехал, так и есть, кольцо, дорожка в лесу, огоньки фонарей, луну, вижу самого себя, едущего по дороге, вижу крылатые циферблаты…
Подгоняю экипаж.
Выше, выше.
Ничего не видно, хоть убей, ничего, напрасно жгу фонари, напрасно вглядываюсь в темноту безвременья. Выпускаю несколько крылатых фонарей на цепочках, выжидаю.
Два фонаря исчезают в темноте, дергаю цепочки, обрывки цепей беспомощно повисают в моих руках.
Третий фонарь подсвечивает что-то в темноте, гоню экипаж туда, — так и есть, вот она, стрела времени, вот она, родимая, вот…
Вижу себя.
Как-то так сразу вижу себя, чего не ждал, того не ждал…
Вижу себя. Как я выезжаю из города, — это Таймбург, вспоминаю я, Таймбург, — машу кому-то рукой, кажется, чете Букманов, Агнесса машет платочком, я подгоняю экипаж.
Еду через лес — темный, зловещий, подсвеченный полной луной. Я тороплюсь успеть домой до того, как зайдет луна и станет совсем темно.
Экипаж спотыкается на дороге, я успокаиваю его, еду дальше.
Отсюда, сверху, смотрю, почему споткнулся экипаж.
Вижу.
Вот оно.
Тонюсенький шов на… …нет, не на дороге, на том месте, где аккуратно обрезали время.
Подгоняю экипаж вверху, зорко слежу за собой, едущим через лес, вот я останавливаюсь возле своего замка в виде настенных часов на старом дубе, поднимаюсь по лестнице…
Подгоняю экипаж, делаю виражи над домом.
Жду, когда в спальне вспыхнет свет.
Приказываю своему экипажу остановиться на крыше дома.
Распахиваю окно спальни.
Я подскакиваю на кровати, я не ожидал увидеть самого себя, и уж тем более не ожидал, что я достану шпагу.
— А ты ловко выдумал… — говорю сам себе, лежащему в постели, — не понравилось ему, видите ли, что на него по дороге нечисть эта нападет…
— Ка… кая нечисть?
— А, ну да, ты же не помнишь ничего. Удобно, вырезал кусок жизни, и забыл… а я, значит, мучайся целую вечность…
— Слушай, а давай день я, день ты…
— Смеюсь.
— Ну, уж нет… делай, как было… — прижимаю лезвие шпаги к его горлу.
Думаю, догадается он, что я его не убью, не смогу убить, ведь тогда прихлопну и самого себя тоже… или нет… ага, разволновался, пошел резать и клеить время…
Оборачивается ко мне:
— Как… как ты догадался-то вообще?
Усмехаюсь:
— Да не глупее тебя, знаешь ли…
…останавливаю экипаж, загоняю его в стойло, поднимаюсь по лестнице, вхожу в живительное тепло дома, спать, спать, спать…
…только в постели спохватываюсь, что не задернул шторы, скорей-скорей, босиком по пушистому ковру, второпях, чтобы не растерять драгоценные крупицы сна, не удерживаюсь, смотрю в окно на…
…луна прячется в ветках, уходит спать, что-то видится мне над луной, что-то… что-то…
Ну, конечно.
Петли, петли, петли.
Думаю, сколько раз я вырезал свое прошлое.
Думаю, сколько еще предстоит починить…
Что-то вспоминаю, вынимаю из саквояжа крылатые часы, смотрю на выгравированную фамилию мастера, думаю, зачем я сделал часы и послал их убить самого себя…

Элия
Утром потерянного дня Элия вернулась в город, где её никто не ждал — потому что никто не знал, что есть вообще такая Элия. Даром, что здесь прошло детство и юность Элии, и каждый прохожий, услышав имя Элии, широко улыбнулся бы и вспомнил какой-нибудь смешной случай со времен самого-самого детства Элии.
Элия вышла из машины, которая разбилась два года назад, и побрела по главной улице, укрытой тенистыми кронами желтеющих кленов: стояла ранняя весна, но деревьям не было до этого никакого дела.
Элия дошла до поворота и остановилась возле старой часовни, даже протерла глаза, но ничего не изменилось: часовня не исчезала. Этого не может быть, сказала себе Элия, этого просто не может быть. Эту воображаемую часовню Элия сделала любимым местом для своих игр: часто, засыпая, она представляла себе, как бродит по лестницам и темным коридорам старой башни, поднимается в часовой механизм, прыгает с шестеренки на шестеренку: она верила, что в часовне должны быть часы. И совы.
Но все это были детские грезы, мечты, переходящие в сновидения — но никак не реальность. Элия сделала несколько шагов по направлению к часовне — часовня не исчезала, наоборот, как будто стала еще явственнее, ощутимее. Женщина даже потрогала чуть облупившуюся краску — вот именно, что чуть-чуть, часовня нисколько не изменилась за годы и годы, когда… на сколько отсюда уехала Элия? Десять лет? Двадцать? Тридцать? Она никак не могла определиться со временем: одновременно ей казалось, что её здесь не было несколько десятков лет, и в то же время чувствовалось, что она покинула городок минуту назад, не больше.
Элия решила дойти до своего дома, посмотреть, что от него осталось, — может быть, его снесли давным-давно, а может, в нем много лет жили другие люди, ничего не знавшие об Элии, а может, дом стоит позабытый-позаброшенный, и с крыши потихоньку облетает черепица вперемешку с осенними листьями. Элия прошла несколько шагов… и поняла, что не помнит, где её дом.
Элия перепугано обошла несколько кварталов и в нетерпении топнула ногой: она могла потерять свой дом, забыть адрес и улицу, но не могло случиться такого, чтобы в городе просто… не было её дома.
Нет, нужно у кого-то спросить, кто-то же должен помнить Элию, даром, что её никто не помнит, потому что не знает, кто-то же должен знать, где её дом…
— Простите, вы не подскажете…
— Элия! Сколько лет, сколько зим!
Элия оторопело обернулась и в недоумении посмотрела на Кэтти, которая спешила к ней через улицу. Этого не существует, этого просто не существует, сказала себе Элия.
— Кэтти?
— А ты нисколько не изменилась… надо же, сколько лет прошло…
Элия все еще не могла поверить в происходящее: в конце концов этого просто не могло быть, ведь Кэтти не существовало…
Кэтти…
Кэтти, Кэтти, Кэтти…
— С кем ты там играешь?
— С Кэтти, мамочка…
— Вот еще! Не выдумывай! Иди с нормальными детьми играй!
— Ну, ма-а-а-ам!
Кэтти.
Кэтти, Кэтти, Кэтти…
А Кэтти, уже весело щебеча, тащила Элию к уютному домику, на первом этаже была кофейня, гордость Кэтти, а на втором этаже и мансарде — уютная квартирка Кэтти, где можно было засыпать, глядя на Луну в узком окне. Кэтти усадила Элию за столик и принялась расхваливать свои пряничные домики. Она тараторила так быстро, что Элия даже не успевала сказать, что…
— Ну, ма-а-а-ам!
— Иди, с настоящими детьми играй! Не выдумывай себе никого!
А ведь Элия выдумывала, выдумывала Кэтти, и двухэтажный домик, где Кэтти обязательно откроет кофейню, когда вырастет, а пока можно подниматься в мансарду, где большая кровать, и занавеска с гирляндой из цветных лампочек, и пахнет лавандой…
…но все это жило только в воображении Элии, в её детских играх — но никак не здесь, не сейчас, ведь Элия уже взрослая, да и вообще, она может себе напридумывать все, что угодно, но именно, что напридумывать, этого не может быть на самом деле…
— Ну а ты как устроилась, рассказывай уже!
Элия открыла рот, и тут же спохватилась, понимая, что сказать ей нечего. Элия… ничего не помнила. Вот так, вот так, глупая Элия, сначала она не помнит, где её дом, хотя обошла уже весь городок, теперь она не может сказать, где она работала, что она делала все эти годы…
— Э-э-э…
— Не знаешь? — спохватилась Кэтти.
— Ну… вроде да.
— А давай тебе биографию придумаем… ну, ты из городка уехала, в театральный поступила… отучилась три курса, потом замуж вышла, потом развелась… да не расстраивайся ты, у тебя потом все получится, ты свой театр откроешь, найдешь мужчину своей мечты, вы с ним пожениться хотите…
— Да нет же! — Элия еле сдерживается, чтобы не хлопнуть ладонью по столу.
— Ну, не хочешь, как хочешь, давай…
— Да нет… я свою настоящую жизнь не помню, ты понимаешь? Как будто… как будто и не было ничего… как будто я заснула лет в семнадцать, а проснулась вот сейчас…
— Ну что ж ты хочешь, ты же…
— Где мой дом? Ну… где я жила тут?
— Ой, а нигде.
— В смысле?
Кэтти волнуется, Кэтти обнимает Элию:
— Ой, ну ты прости, я тебе дом тогда не придумала. В смысле, ну я думала, как ты ко мне в гости приходила, мы играли, ты всегда с ночевкой оставалась, мне мама еще всегда утром две чашки с какао ставила, мне и тебе…
— Постой-постой… мой дом…
— …ну говорю, не придумала же!
— В смысле… как…
— Ну… ну прости, про тебя подумала, а про дом твой нет…
— Постой-постой, ты хочешь сказать…
— …ну да… я же тебя придумала…
Элия вздрагивает:
— Нет-нет, постой-постой, это я тебя выдумала, еще в детстве…
— Да не ты меня, а я тебя!
— Да не ты, а…
…Элия останавливается возле дома. Это её дом. Элия знает это, просто знает. Дом полупрозрачный, еще сам не понимающий, что он дом. Это Кэтти намечтала, чтобы Элии было, где жить, а может, не чтобы, а просто намечтала, раз разговорились об этом…
Элия ставит ногу на ступеньку, другую — ступеньки прочные, держат Элию, даром, что дом не существует, так и Элия тоже…
…нет.
Элия существует.
Еще как.
Просто…
…потому что…
…потому что существует, вот почему. Она еще покажет этой… это…
Элия поднимается в спальню, вынимает из сейфа маленький кольт, хочет выйти на улицу, не выходит, ждет.
Она еще ей устроит, этой Кэтти. Она ей…
…Кэтти достает маленький кольт, она еще устроит этой Элии, еще устроит…
— …как бы они друг друга не поубивали…
— Не поубивают.
Недоверчиво смотрю на инспектора, мне кажется, он просто не хочет заниматься этой проблемой…
— С чего вы взяли, что не поубивают?
— Ну, вы сами подумайте, они друг друга помнят? Помнят. Вот то-то же, это главное, пока помнят, будут жить…
— Точно, инспектор, вы гений…
Инспектор молчит, инспектору не до меня, и не до Элии, и не до Кэтти, у инспектора проблем хватает, вон, вчера исчезло что-то в конце улицы, потому что про это что-то все забыли. И главное, никто не может вспомнить, что там было, и черта с два теперь восстановишь…

Город, который хочет жить
Первым делом проверил, есть я или нет — проверка получилась какая-то хиленькая, ущипнул себя за руку, было больно, синяк остался, только это ничего-ничегошеньки не значило. Я даже не понял, был я во сне или наяву, а то и присниться может, что больно, мало ли. Даже непонятно, живой я человек из плоти и крови или искусно сделанный робот. Слушаю сердце, вроде есть, вроде дышу, отчаянно борюсь с желанием вскрыть свое тело, ладно, можно и попроще, можно и рентген где-нибудь найти.
Так что я все-таки есть.
И я настоящий.
Оглядываю город — тоже похож на настоящий, нормальный такой английский городок, дома стоят на месте, не ходят, не бегают, в тумане проплывает что-то вроде дирижабля, ну, это еще ничего.
Вспоминаю свое прошлое — прошлое молчит. Совсем. Может быть, я потерял память, а может быть, моего прошлого еще нет.
Встречаюсь глазами с неприметным прохожим, он хочет увильнуть в переулок — преграждаю ему путь, спрашиваю вот так, в лоб:
— Вы… меня узнаете?
Он не отвечает. Он целится в меня из чего-то огнестрельного, и черт пойми, то ли убить хочет, то ли просто напугать…
Откашливаюсь:
— Ты осторожнее… а если я — это ты?
Он притихает, видно, понимает, что он и правда может оказаться мной в какой-нибудь другой реальности, или в будущем, или в прошлом, или в моем сне, или…
Повторяю:
— Так не помнишь меня?
— Э-э-э… нет.
— А себя?
— Тоже нет.
— А как не помнишь, будто память потерял, или будто еще не придумали тебя?
Неприметный человечек фыркает:
— А как одно от другого отличить?
Развожу руками.
— Не… не знаю.
Иду домой — память подсказывает мне дом за углом, маленький двухэтажный особняк, доставшийся мне в наследство от… от кого, не помню, а может, еще и не знаю.
Захожу в дом с незнакомцем, а ведь даже не знаю, кто он мне, друг или враг, но все-таки не хочется оставлять его одного на заснеженной улице, тем более, быстро темнеет.
Я чувствую себя моложе лет на двадцать, я ошарашенно оглядываю свою одежду и дом, который теперь кажется совсем новым. Морщины исчезают с лица незнакомца, черты лица разглаживаются.
Думаю, что это было — воспоминание или переход в прошлое. Осторожно спрашиваю:
— А… а здесь в прошлое погружаются?
— Нет, нет, — он мотает головой, — это воспоминание.
— А… как вы определили?
— А посмотрите, стены-то просвечивают…
— А чье воспоминание, мое или ваше?
— Мое, конечно.
Вспыхиваю:
— С чего… с чего вы взяли?
— А вы на себя посмотрите.
Смотрю на себя. Понимаю, что тоже просвечиваю. Что-то торкает меня, что-то вспоминается, отматываю на три страницы назад, когда еще было не воспоминание — понимаю, что там я тоже просвечивал насквозь. Смеюсь над собой, вот ведь черт, и щипал себя, и ощупывал, а такой мелочи не заметил.
— Я…
— …вы не существуете.
Жду, что он добавит — мне очень жаль. Не добавляет. Смотрит на меня придирчиво, с интересом.
Знать бы еще… вы в моем воображении… или воспоминание мое про человека про какого-нибудь умершего…
Спохватываюсь:
— А давайте на кладбище посмотрим, может, могила моя там есть…
Смотрим на холод подступающей полуночи, поеживаемся. Делать нечего, расправляем крылья (я раньше и не знал, что у нас есть крылья), выпархиваем в окна, в морось осени, в ветер, в промозглую сырость — за окраину города, где кладбище.
Ищу свою могилу, не нахожу. Хочу окликнуть своего попутчика, понимаю, что он меня не услышит, он оторопело смотрит на надгробие со своим фото.
Взгляните на даты, — говорит он мне.
Смотрю на даты, не понимаю, почему год рождения стоит много позже года смерти.
Догадываюсь:
— Здесь что-то не так со временем?
— То-то и оно, что все так…
— Но тогда…
Он поворачивается, летит к дому. Лечу за ним, все-таки я его воспоминание, или выдумка его какая-то, так что я тоже имею право сидеть в этом доме и греться у камина. Смотрю на календарь, зачем я посмотрел, зачем увидел дату его смерти, уже замеченную на памятнике.
Он кивает:
— Я знаю. Сегодня.
— И вы…
— …я должен выйти из дома.
Он не договаривает.
Часы бьют полночь.
Он не выходит на улицу.
Страница так и остается неперевернутой.
Пьем кофе, еще проверяем, да кофе ли это, а то у этого автора все может быть. Так и есть, у чашек вырастают перепончатые крылья, чашки хотят выпорхнуть в окно, хозяин перехватывает их, жарит на вертеле.
Ужинаем.
После полуночи наоборот, он становится то ли моей фантазией, то ли моим воспоминанием.
Часы снова бьют полночь, зовут на улицу.
Вопросительно смотрю на своего товарища:
— Вы… не пойдете?
Он презрительно фыркает.
— Я, знаете, жить хочу.
Хочу встать, выйти на улицу, он одергивает меня:
— И вы тоже жить хотите.
— Вы думаете…
— …я догадываюсь.
— Но… откуда?
— Очень просто… вы автора-то нашего хорошо знаете?
— М-м-м….
— …читали?
— Еще как.
— Вы у него хоть одну хорошую концовку видели?
— Не доводилось.
— Вот то-то же… Так что и с вами ничего хорошего не будет, если у него на поводу пойдете…
— А этот город…
— …здесь собираются все те, кто хочет жить…
Киваю. Начинаю понимать.

Несыгранный инструмент
…это не каждому дано — играть на инструменте, это талант нужен. То есть, играют-то все, у каждого инструмент есть, куда без инструмента-то, только один так играет, что лучше бы никак не брался за это дело, а другой на своем инструменте такую историю загнет, что еще века и века помнить будут. Вот, например… этот… который…
…распахнутое окно…
…холодный мартовский ветер…
…город внизу…
— Успокойтесь, пожалуйста. Их не существует.
— Они есть. Я вам клянусь…. Они есть.
— Мы… мы не можем на нем играть.
Это было уже потом.
— Оне не можем на нем играть.
— Дайте другого, просим мы.
Оне смеются в ответ. Оне все. И главный.
Потому что не было большего позора, чем сменить инструмент.
А совсем потом было вот что:
— Оне… оне хоть понимают сами, что сделали?
Оне в таком гневе, что даже называют нас — оне, никогда не обращались к нам — оне, всегда — вы да вы…
А тут вот — оне.
— Оне хоть сами понимают, что сделали?
Смотрим на главного, говорим:
— Понимают оне.
— Оне… зачем оне это сделали?
Отвечаем:
— Все будет хорошо, вот увидят оне.
Он бы так не сказал. Он. Мы уже по привычке говорим про него — он.
Он скажет так:
— Вы хоть понимаете, что сделали?
— Он в гневе и говорит мне — Вы.
Смотрю на главного, отвечаю:
— Понимаю.
— Вы… зачем вы это сделали?
— Все будет хорошо. Вот увидите.
Так он говорит со своим главным. А мы с нашим главным — так:
— Оне… оне хоть понимают сами, что сделали?
Оне в таком гневе, что даже называют нас — оне, никогда не обращались к нам — оне, всегда — вы да вы…
А тут вот — оне.
— Оне хоть сами понимают, что сделали?
Смотрим на главного, говорим:
— Понимают оне.
Проводить социальные опросы населения на тему, не чувствуют ли люди какого-то постороннего воздействия.
Финансировать разработки технологий, способных исследовать человеческий мозг на предмет поиска посторонних воздействий.
Третий пункт… какой, к черту, третий пункт, много будет этих пунктов, ой, много, мысли путаются, или это он их путает, кто он, ну этот, который там, внутри, который…
Он…
Наш инструмент.
Нам сразу сказали говорить про инструмент не оне, а он.
Сказали:
Так положено.
И вручили инструмент.
Инструмент оказался плохонький, хиленький, нам сразу не понравился, еще не хватало, заведутся в нем какие-нибудь микробы, съедят его дочиста.
Так что это наша вина.
В том, что случилось.
Он нам не понравился — напрасно оне уверяли нас, что бывает и хуже, и вообще, раз на раз не приходится, бывает, здоровяк-здоровяком, и умрет в два счета, а бывает вот такой хиленький, и прослужит долго-долго…
Но это еще ничего, что инструмент нам не понравился, да вообще по пальцам можно перечесть тех, кому инструмент сразу нравится, каждому что-нибудь да и не так, или сильно простой, или сильно сложный, вообще не знаешь, с какого боку подступиться, или хочешь на нем играть одно, а получается что-то совсем другое…
Но у нас все было хуже.
Намного хуже.
Мы испугались.
Потом оне говорили — первый раз такое, чтобы испугались….
А мы испугались, мы покинули оне (не оне! Полагается говорить — его!) как только оседлали его, это было настолько…
…нет, даже не непривычно. И вдвойне обидно, ведь готовились, учились, сколько муляжей инструментов перепробовали, отточили навыки, и нате вам…
…что самое страшное, я сам точно не могу сказать, правда ли они существуют или это только плод моего больного воображения…
(зачеркнуто)
Нет, нет, никаких сомнений быть не может, я сделаю все, чтобы избавить от них человечество…
— Ну что оне хотят, все инструментов поначалу пугаются. То муляжи, то настоящий инструмент…
Это главный.
— Только первый раз, чтобы с инструмента соскочили…
Это тоже главный.
— А… а можно еще раз?
Это мы.
— Нужно.
Мы вошли в него снова, снова ощутили дикое, непонятное, грохот пульсирующей влаги внутри, что-то влажное, животрепещущее, и все навыки разом вылетают прочь из памяти, как играть, какие там арии, какие там оперы, вы о чем, тут бы не испугаться, не вырваться от него снова…
Мы испугались.
Это да.
Мы испугались.
Может, поэтому все и случилось.
Он нас почувствовал.
Мы это сразу поняли — что он чувствует нас, оглядывается, озирается, прислушивается, откуда-откуда-откуда-почему-почему-почему…
Так что не зря он нам не понравился.
Он.
Нет, конечно, к каждому инструменту нужно приноровиться, что есть, то есть, никто тебе сию минуту удивительную историю не сотворит, никто в одночасье не станет великим ученым или завоевателем. Только здесь было совсем другое, совсем…
…он отличался не просто фанатизмом, а настоящим безумием, он мог заставить своих работников трудиться по нескольку суток подряд, до полного изнеможения. Ему повсюду мерещились некие тайные силы, которые управляют людьми. Однажды он уволил свою секретаршу только потому, что у неё были зеленые глаза — видите ли, по его мнению на зеленоглазых людей больше влияют загадочные «они». В другой раз он приказал заключить под стражу собственную жену, потому что…
— Можно сменить инструмент?
Спрашиваем. С надеждой.
Оне отвечают:
— Нет.
— А оне на своем сыграли музыкальную арию, — говорят оне, — настоящую.
— Композитором, что ли, сделали? — спрашивают другие оне.
— Ага, настоящим.
Мы завидуем. Мы не сыграли на своем инструменте арию.
— А оне на своем построили храм, — говорят третьи оне.
Одним инструментом? — спрашивают четвертые оне.
Нет, там много было. Но и наш тоже, — говорят оне.
Оне молчат, смотрят на оне, которые на своем инструменте завоевали полмира.
На нас никто не смотрит.
Мы сами на себя не смотрим.
— Пусть оне поймут…
Это главный.
— …то, что оне видят, как недостаток, можно использовать, как плюс.
Это тоже главный.
— В смысле?
— В прямом. Сыграйте на нем историю… как он вас чувствует… как он пытается избавиться от вас…
…пациент внешне спокоен, на вопросы отвечает охотно, однако, когда речь заходит о существах, с трудом сдерживает нервное напряжение. Уверяет, что они проникают в мозг — но не знает, как…
(из медицинского протокола)
А потом:
— Оне… оне хоть понимают сами, что сделали?
Оне в таком гневе, что даже называют нас — оне, никогда не обращались к нам — оне, всегда — вы да вы…
А тут вот — оне.
— Оне хоть сами понимают, что сделали?
Смотрим на главного, говорим:
— Понимают оне.
— Оне… зачем оне это сделали?
Отвечаем:
— Все будет хорошо, вот увидят оне.
И снова главный:
— Зачем оне это сделали? Зачем оне внушили ему, что он тоже оне?
— Ну, оне понимают… если он просто подозревает, и непонятно, правда это или неправда… это, конечно, оне хорошую историю сыграют, но как-то все равно слабовато… А вот если внушить ему, что он сам…
…нет, я не верю, что сам порожден тайными правителями нашего мира, нет, это не может быть правдой, я человек, я упорно заставляю себя не слышать их, когда они надиктовывают мне, как управлять людьми…
…нет, я знаю, как сделать, чтобы одним чудовищем стало меньше…
…распахнутое окно…
…холодный мартовский ветер…
…город внизу…
И мы снова испугались — что греха таить, мы испугались, когда все случилось, мы покинули его за мгновение до того, как…

Лунная пыль
— …видите ли, уважаемый Эйкин Драм…
— Но… постойте… — чашка едва не падает из рук гостя, — вы… откуда вы…
— …знаю ваше имя?
— Ну да… — гость растерянно оглядывается, смотрит, не торчит ли у него из кармана кусочек паспорта или билет на его имя, или еще что. Нет, ничего нет, и все-таки —
— …уважаемый Эйкин Драм…
— Но как?
— Так это же элементарно, мой дорогой! Вы же прекрасно понимаете, что я легко могу отличить пыль с улицы в районе Найсбриджа и пыль Восточного Лондона?
Гость хлопает себя по лбу:
— Вы смотрите на мои ботинки… и что вы видите?
— Лунную пыль, мой дорогой, лунную пыль. Этот грунт невозможно спутать ни с чем.
— Боже мой… слушайте, мне даже в голову не пришло, что так легко можно догадаться… что я с Луны… но все-таки… почему же…
— …так это же элементарно! Жил человечек на Луне, на Луне, на Луне, жил человечек на Луне, его звали Эйкин Драм!
— Ну да, и правда, так просто… и как это я сам не догадался?
— Чуть-чуть побольше внимательности, мой друг, и вы сами начнете замечать такие вещи… Так как вы попали к нам? В Норич?
— А, не тут-то было! — гость смеется, — человечек с луны упал с вышины и ветер занес его в Норич… э, нет, все было не так…
Кэтлин волнуется.
Ну, еще бы не волноваться,
Когда еще такой случай подвернется.
Кэтлин сжимает в руке билет, комкает, только бы не порвать, а то не пустят.
Возвышается колесо.
Ближе, ближе.
Кэтлин забывает, за кем она стояла, кажется, просачивается вперед очереди, слышит в спину хлесткое, как удар бича — «бич».
Кэтлин опускает глаза, прячет лицо, чтобы никто не видел, как Кэтлин краснеет.
Поднимается по ступенькам, протягивает билет.
Люди в нарядных костюмах торжественно открывают перед Кэтлин дверцу кабинки. Кабинки маленькие, легкие, качаются на ветру.
Кэтлин заходит, ждет, кто-то ступает за ней следом, тот самый, который говорил —
— Бич.
Не смотрит на Кэтлин. Отворачивается к окну, щелкает на телефон, как кабинка поднимается над городом, выше, выше, Биг Бен виден, и Темза, и много еще чего, Кэтлин даже и не думала, что Лондон такой большой…
Кэтлин волнуется. Еще бы не волноваться, не каждый день такое, чтобы луна над глазом Лондона проходила низко-низко…
Кэтлин косится на своего соседа по кабинке, тут бы надо сказать что-нибудь, типа там, ай эм сорри…
Человек не смотрит на Кэтлин, не до неё сейчас…
Колесо поднимается выше, вот уже и земли не видно.
Кэтлин спохватывается, щелкает на камеру, делает снимки, еще, еще, еще…
Поднимется кабинка.
Приближается луна.
Кэтлин задирает голову, уже видны лунные кратеры…
Сосед оборачивается, показывает на лунные кратеры:
— Файн.
Кэтлин кивает:
— Йес, оф коурс…
Кабинка вздрагивает последний раз.
Замирает.
С легким стуком ударяется о лунный грунт.
Кэтлин хочет выйти, незнакомец вежливо подает ей руку.
Выходят.
Кэтлин прыгает высоко-высоко, уи-и-и-и, так только на луне прыгнуть можно. Незнакомец да как же вы так, да вы осторожнее, что делаете-то…
Делают снимки, фоткают друг друга на фоне луны.
Кабинка чуть подрагивает, Кэтлин торопится назад, незнакомец подсаживает Кэтлин, захлопывает дверцу, снова щелкает все на телефон…
Вертится колесо.
Ниже, ниже.
Вот уже должна показаться Земля внизу.
Кэтлин смотрит, Кэтлин не понимает, почему нет Земли, должна же быть, должна. Здесь. Внизу.
Кабинка замирает в пустоте.
Все.
Приехали.
…люди сбиваются в очередь, боятся не успеть, поднимаются по лестнице, протягивают билеты, боятся не успеть.
Еще бы.
Редкость-то какая.
Только раз в сколько-то там лет луна подходит так близко к земле, что глаз Лондона до неё дотягивается, вот и толпятся туристы…
Кабинка останавливается.
Распахивается дверца.
Выходит — нет, вываливается человек, оторопело оглядывается, неловко прыгает, падает, шарообразный полицейский подхватывает упавшего:
— Велл?
— Э-э-э…
— Ват из ю нейм?
— Эйкин… Эйкин… Драм…
— Ар ю окей?
— Й-й-ес-с…
Человек трясет головой, потирает ушибленную руку, надкусывает блинчиковый сюртук, снова пытается идти, снова не может, падает на скамейку, придавленный земным притяжением…
— Что же, Эйкин… я так понимаю, вы хотите вернуться домой?
— Совершенно верно.
— Я могу вам помочь….
— Огромное спасибо.
— Попробуйте проехать на метро.
— Простите?
— Попробуйте. Проехать. На метро.
— Но…
— Просто. Попробуйте.
— Уважаемые пассажиры, просим прощения за задержку, мы готовились к старту. Осторожно, двери закрываются, следующая станция Пикадилли…
— Дамы и господа, просьба сохранять спокойствие, просто от вагона отделятся вторая ступень…
— Уважаемый господин в сиреневом, убедительная просьба, снимите шлем своего скафандра, уверяю вас, внутри с воздухом все в порядке. А вот снаружи в туннеле могут быть отдельные области безвоздушного пространства. Будьте внимательны, на участке пути от Олгейт до Бейкер-Стрит возможны перебои с гравитацией.
— Дамы и господа, вынуждены сообщить вам, что на станции «Юстон-Сквер» остановка проводится не будет по причине того, что станцию засосало в черную дыру…
— Уважаемые пассажиры, просьба соблюдать внимательность при выборе станции: в последнее время участились случаи попадания составов в район Альдебарана и Денеба…
…поезд несется в неведомую тьму…
…несмотря на доходы более ста фунтов водители лондонского метрополитена продолжают требовать повышения зарплаты…
— С-спасибо… огромное спасибо за совет… — Эйкин отрывает еще одну пуговку-булочку, нервно теребит в руках, — сколько… сколько я вам должен?
— Хорошо, что спросили… — дама в кресле многозначительно улыбается, — вы слышали про птицу феникс?
— Эйкин от волнения надкусывает свой блинчиковый сюртук.
— Э-э-э… редкая птица.
— Очень редкая. Будьте так любезны найти её мне…
Эйкина передергивает.
— Ну… я…
— …только не говорите, что вы попытаетесь. Вы просто сделаете это, и все.
— Да… непременно.
Эйкин Драм выходит на заснеженную улицу, рановато в этом году стал сыпать снежок. Найти птицу феникса, говорит себе Эйкин, найти любой ценой…
— Я нашел её.
— Простите?
Эйкин кивает:
— Я нашел вашу птицу феникс.
— Вы…
— …я нашел вашу птицу.
— Где… где же она?
— Я покажу вам координаты…
…ажиотаж рождественских распродаж достиг своего апогея: в рождественском супермаркете две дамы подрались из-за замороженной индейки, одна другую избила зонтиком. Впоследствии оказалось, что индейка была просроченная…
— Вы… вы это нарочно подстроили… — тетя Тротт хмурится, думает, а не поколотить ли тростью самого Эйкина.
Эйкин Драм пожимает плечами, всем своим видом показывает, что от него это никак не зависит.
— Видите ли… за птицу феникса, конечно, надо сражаться… но не такими же методами… Птица счастья такого не любит…
Тетя Тротт не отвечает, в гневе выходит из комнаты, хлопает дверью. Эйкин успевает наскоро прочитать её мысли, ипподром, ипподром, что такое, почему ипподром…
— …ваши ставки, господа, ваши ставки…
Эйкин пугается, Эйкину не по себе в суете ипподрома, Эйкин не знает, куда идти, на кого ставить, что, зачем…
Вкрадчивый шепоток за спиной:
— Хотите мудрый совет?
Эйкин хочет мудрый совет, Эйкин поворачивается к сухонькому человечку.
— Вот, посмотрите… — сухонький человечек ведет Эйкина между рядами Лондонов, — вот этот фаворит прошлого года, н уже свое отскакал, на него не надейтесь. А этот вот шустренький, но молоденький еще, на него тоже не надейтесь. А вот этот, он покрепче будет, в него никто не верит, правда, а вы на него ставочку сделайте, не прогадаете…
Эйкин сомневается. Смотрит Лондоны, Лондоны, Лондоны. Наконец, останавливается перед неприметным Лондоном, даже не Лондоном — Лондонушечкой, протягивает кусочек блинчика от сюртука, Лондон фыр, фыр, — не берет.
— Ну, дело-то ваше, молодой человек, вы же проиграете, не я же…
Жокеи готовят Лондоны к скачкам, проверяют, у кого-то из Лондонов оказывается два глаза, второй глаз тут же выбивают, непорядок, глаз один должен быть, порода все-таки…
Эйкин хочет поставить деньги на Лондон, люди смеются, ведут Эйкина в кассу, потом на трибуны ведут, женщины рассаживаются, своими шляпками похваляются, у этой шляпка в золотой клетке, у этой на цепочке, эту даму не пускают, почему шляпка без поводка, вы хоть намордник на неё наденьте, дама возмущается, на вас бы намордники на всех… Шляпки лают друг на друга, ругаются, кого-то выводят за нарушение порядка…
На старт…
Внимание…
…скачут лондоны. Кто-то вырывается вперед, кого-то тут же штрафуют, еще не хватало, куда вы вперед сорок третьего года, год-то еще не наступил. Кто-то с пеной у рта доказывает, что еще до сорок третьего года были какие-то поселения на месте Лондона, кого-то не слушают, кто-то обещает судиться…
Кого-то уводят.
Скачут лондоны. Почти все ловко становятся столицей Британии, потом падают, сожженные Боудиккой, почти все встают из пепла, несколько скакунов, впрочем, уже не приходят в себя.
Трибуны ревут.
Шляпы чирикают и гавкают.
Несколько Лондонов не уворачивабются от нападения саксонских пиратов, сами виноваты, надо было о воротах позаботиться. Про кого-то забывают, кто-то стоит заброшенный, кого-то уводят с ипподрома, кто-то снова кричит — я буду жаловаться.
Эйкин Драм ждет, Эйкин Драм боится эпидемии чумы, — ничего, все были готовы, все пережили, и Великий Лондонский пожар все пережили легко, отстроились. Кто-то схитрил, кто-то даже не поджег город, кого-то дисквалифицировали.
Трибуны ревут.
Эйкин ждет.
Его фаворит идет уверенно, не отстает от других. Падает, подбитый бомбежками, с трудом поднимется, скачет, как-то неловко, неуверенно, бочком, бочком, сейчас упадет…
…нет.
Не падает.
Вырывается вперед, выпускает Глаз Лондона, отстраивает разрушенные кварталы, снова гонит даблдекеры…
Ну же…
Ну…
Лондонов осталось всего трое, все три отлично провели олимпиаду, с блеском, Елизаветинскую башню на ремонт поставили…
А дальше самое интересное.
Города вырывается в будущее, один, два…
…третий спотыкается, падает навзничь.
Эйкин Драм с замиранием сердца следит за своим городом, как высотки поднимаются в небо, одна высотка вспыхивает пламенем, сердце Эйкина делает сальто, Эйкин бросается с места на помощь людям, Эйкина останавливает полиция, вы будете дисквалифицированы, Эйкин сжимает зубы в бессильном отчаянии, читает сообщения горящих людей от кого-то кому-то, прощай, я тебя люблю…
Эйкин бросается к городу, выхватывает людей из горящего дома, судьи показывают какие-то карточки, красные, желтые, синие, дикредитирован, дисквалифицирован, оштрафован…
Крики зрителей на трибунах сливаются в единый гул.
— …единогласным решением нашей почтенной публики Лондон под номером сто семнадцать возвращается в игру!
Аплодисменты.
Два оставшихся Лондона доживают до самого конца земли, с ревом и грохотом поднимаются в космос, берут курс на планеты, где может быть жизнь.
Трибуны ждут.
В динамиках объявляют — со сто семнадцатым Лондоном потеряна связь.
Те, кто ставили на другой Лондон, ликуют, обнимаются, радуются, дамы бросают шляпки, шляпки громко лают.
Ведущий уже готовится объяснить что-то, когда от второго города приходит сигнал:
— Все кончено… нет связи… темнота…
Люди ждут.
Мертвая тишина на трибунах.
И — в полной тишине — весточка от сто семнадцатого Лондона, который нашел пригодную для жизни землю.
Аплодисменты.
— Господин Эйкин Драм, просим вас пройти за выигрышем…
Люди оторопело смотрят на Эйкина Драма, вежливо поздравляют, кто-то уже готов удавиться от зависти…
Эйкин идет к кассе, где его уже ждет победитель, Лондон-фаворит…
Кассир хочет выписать чек.
Кто-то спохватывается, показывает на Лондон:
— Глаз! Глаз!
Люди оборачиваются, смотрят на глаз, а что с глазом, а что такое, а вот оно что, глаз-то один и есть, а второй где, который выбитый, а нет второго!
И вздох изумления по толпе:
— Лондон… настоящий!
И все кричат:
— Настоящий… настоящий!
Эйкин смотрит, Эйкин не понимает, все показывают на глаз Лондона, вот один глаз, а второй, выбитый, где? А то-то же, а нету.
Лондон-то…
…изначально…
…одноглазый…
Эйкин смотрит, и правда, все Лондоны-то с глазами выбитыми, а этот изначально одноглазый.
Неправильно.
Не порода.
Потому что — настоящий.
Специальный человек готовит ядерный заряд, хочет подвязать к бракованному Лондону, успокаивает всех, счас, счас, все уладим…
И вот здесь уже безо всяких но —
— Снимается с гонок.
Нет, впрочем, есть одно Но, — когда Эйкин Драм берет под уздцы списанный Лондон, уводит с ипподрома.
Вот так.
Молча.
Садится верхом на взмыленный Лондон, спрашивает:
— А до Луны можешь?
Лондон недовольно фыркает, смотрит в небо, Эйкин драм подгоняет, ну давай же, ну что тебе н так…
Наконец, Эйкин понимает, что не так.
Лондон номер два.
Тот самый Лондон, с которым потеряна связь…
— Мы найдем его — обещает Эйкин Драм, — обязательно… найдем.
Сам не верит в то, что говорит.
Бойся единорога, говорят солдату.
Бойся единорога, повторяет себе солдат.
А что за единорог, спрашивает солдат.
Солдат молоденький еще, ничего не знает.
В небо смотри, говорят солдату.
Солдат смотрит в небо.
Читает какие-то записи о борьбе льва и единорога.
…символизирует победу лета (лев) над весной (единорог)
…победу надземного мира и подземного…
Яркая вспышка в небе.
Во все небо.
Солдат уже не думает.
Уже не читает.
…противостояние созвездий льва и единорога вышло на новый уровень: уничтожена одна из планет в районе Денеболы…
— …а отчего так вообще… лев с единорогом? Что случилось-то?
— Да кто ж его знает… из-за чего вообще войны начинаются… лев с единорогом…
— Кто там сейчас львом-то правит?
— Да кто, все те же… этот… Макс… а единорогом Кетлин…
— Говорят, у них общий сын есть…
— Да ну, быть не может!
— Не-е, говорят, был… то ли умер, то ли пропал…
(из записей Эйкина Драма)
…честно признаюсь, когда мне сказали, что я могу заработать кругленькую сумму, то я усомнился, можно ли доверять мистеру Айсу, который воодушевленно расписывал мне, как через какие-то несколько дней я стану миллионером. Однако, у меня не было выбора, и я покорно поплелся за мистером Айсом в его дом на углу старинной улочки: холодок осени подступал все ближе, и я торопился за своим новым другом, в нетерпении предвкушая уютный жар камина и теплый плед. Когда мы дошли до крыльца, холод осени уже нюхал мои ботинки, добираясь до продрогших ног, я уже живо представлял себе чашку горячего супа у камина. Однако, каково же было мое изумление, когда мы вошли в дом, и я умер.
Да-да, я не преувеличиваю — я умер. А что я еще мог сделать в комнате, температура которой опустилась до абсолютного нуля?
— …ляю, друг мой…
— А?
— Поздравляю, друг мой… вы только что заработали двести фунтов.
— Но… но как?
— Очень просто, друг мой… Вот вы мне скажите, сколько сейчас стоит отопление?
— М-м-м… насколько я знаю, дороговато…
— Вот именно. А что нужно делать, чтобы сэкономить отопление?
— Ну… понизить температуру…
— Верно говорите. И чем больше понижаете температуру, тем больше экономите.
— И вы решили… до абсолютного нуля?
— Вы совершенно правы, друг мой! Хотите попробовать еще?
— Н-нет, благодарю вас…
— Два билета на миллион-дек, пожалуйста.
— Простите? — кассир оторопело смотрит на Эйкина.
— Да. Билета. На…
— Даблдек?
— Нет-нет, миллиондек, пожалуйста.
— П-прошу вас, — кассир растерянно протягивает билеты.
Эйкин от волнения надкусывает ветчину со штанины. Ведет Лондон под номером сто семнадцать, на первый этаж автобуса, на второй, на третий, выше, выше, выше по изогнутым лестницам. Никто не хочет показаться слабым, оба спешат вперед, наконец, Эйкин в изнеможении садится на ступеньки, подальше от прохода, чтобы не мешать людям. Переводят дух, отдыхают, но недолго, некогда отдыхать, надо поторопиться.
Торопятся.
Выше, выше.
На миллионный этаж.
Там, говорят, на поворотах трясет так, что мало не покажется.
Эйкин и Лондон добираются до верха, выжидают.
Луна близко.
Совсем близко.
Эйкин распахивает окно, примеряется, держит Лондон за уздечку, прыгает в седло.
Кто-то кричит — так нельзя, кого-то не слушают, Лондон делает великолепный прыжок, копыта звонко ударяются о луну.
— Эйкин?
— Мама? Папа?
…противостояние двух созвездий закончилось перемирием…
Эйкин обнимает Кэтлин, владычицу Единорога и Макса, владыку Льва. Рядом тревожно ржет Лондон, что такое, а, ну да, вот он, второй Лондон, в целости и сохранности…

Рано ушел
Зачем так рано ушел, сколько бы еще сделал, говорят люди.
И вздыхают.
Зачем так рано ушел, говорит вдова булочника.
Тоже вздыхает.
Зачем так рано ушел, говорит викарий.
Тоже вздыхает.
Вдова булочника замешивает тесто.
Глэтти смотрит, как вдова булочника раскатывает тесто.
Глэтти восемь лет.
Вечером бежит к причалу, смотреть на волны.
Он ушел в волны, думает Глэтти.
Он ушел в волны, говорят рыбаки.
Тянут сети, доверху набитые щедрым уловом, вокруг вертятся мелкие собачонки, дай-дай-дай.
Глэтти тоже достанется рыба, он её вдов булочника отнесет, она пирог с рыбой запечет, Глэтти его тетушке отнесет.
Зачем так рано ушел, скажет тетушка.
И разломит пирог.
У причала стоят лодки, которые он не доделал.
С парусами лодки.
Солнце заходит, идет холодный ветер с моря.
В это море он и уплыл. Сам уплыл. Безо всяких лодок, просто бросился в волны, и поминай, как звали.
До берегов хотел добраться, — говорит тетушка.
Ужинают.
Холодный ветер теребит черепицу, как-то скорехонько в этом году пришла осень.
Вот так вот бросил все лодки свои, сам поплыл, — говорит викарий.
Отчаялся парень, говорит жена викария.
Глэтти этот разговор не слышит, Глэтти дома.
Сколько он лодок этих переделал, чтобы до берега добраться, а куда денешься, далеко берега, хоть сто лет плыви, не доплывешь…
Еще бы пожил, глядишь, изобрел бы чего-нибудь, на чем плавать до берегов, — говорит тетушка.
Десять вечера.
Спать пора.
Глэтти спать ложится, одеялом потеплее укрывается, Глэтти снится, как этот, тот самый вышел ночью из дома, по главной улице, к морю, в слепом отчаянии бросился в волны, поплыл, быстро, легко, он был хороший пловец, — к дальним берегам…
А Глэтти в университет поступать будет.
Глэтти умный.
А Глэтти на корабле поплывет, сейчас корабли от берега до берега ходят.
Тетушка нет-нет да и вздохнет, эх, не дожил, не дожил этот до того, как корабли стали…
А больше про этого уже и не вспоминает никто.
Зачем на психологию, спрашивают у Глэтти.
А надо, говорит Глэтти.
Глэтти подводит к голове два проводка.
Разряд.
Глэтти больше нет.
То есть, есть.
Но нет.
Он смотрит на мир глазами Глэтти, он с восхищением оглядывает корабли у причала.
Корабли.
С парусами.
Чтобы плыть до берегов.
— Что вы можете сказать о современном мире?
— Он великолепен.
— Вы, должно быть, очарованы кораблями?
— Они могут плыть до берега.
— Вы чувствуете своего предшественника, который пожертвовал для вас своим телом?
— Да, я ощущаю его.
— Что вы планируете делать дальше?
Он улыбается. Глэтти так не улыбался.
— Я буду строить корабли.
Корабль поднимается в небо, выше, выше, выше, взмахивает крыльями, беспомощно кувыркается в небе, кажется, сейчас упадет…
…нет.
Не падает.
Выше, выше, поднимается до самой луны.
Аплодисменты.
Первые пассажиры спускаются на луну с летучего корабля.
— …и человеком года в этом году объявлен…
Глэтти раскланивается.
То есть, уже не Глэтти.
Но раскланивается.
Думает, что он тут делает вообще, ему вообще не до того, ему бы сейчас туда, где корабли…
Корабль беспомощно взмахивает крыльями, выше, выше, выше, крылья слабеют, крылья не слушаются, корабль падает.
— Что ж вы хотели… — говорят Глэтти, который не Глэтти, — не полетят они выше, не полетят…
Глэтти в гневе бросает оземь шапку.
Ну, может, еще сделаете… когда-нибудь… — утешают Глэтти.
Глэтти распахивает чердачное окно, расправляет крылья.
Взмахивает крыльями, еще, еще, еще.
Летит в небо.
Выше, выше.
До самых звезд.
Крылья слабеют, крылья не слушаются, Глэтти падает в бесконечную пустоту.
Рано ушел, говорят люди.
Сколько бы еще сделал, говорят люди.
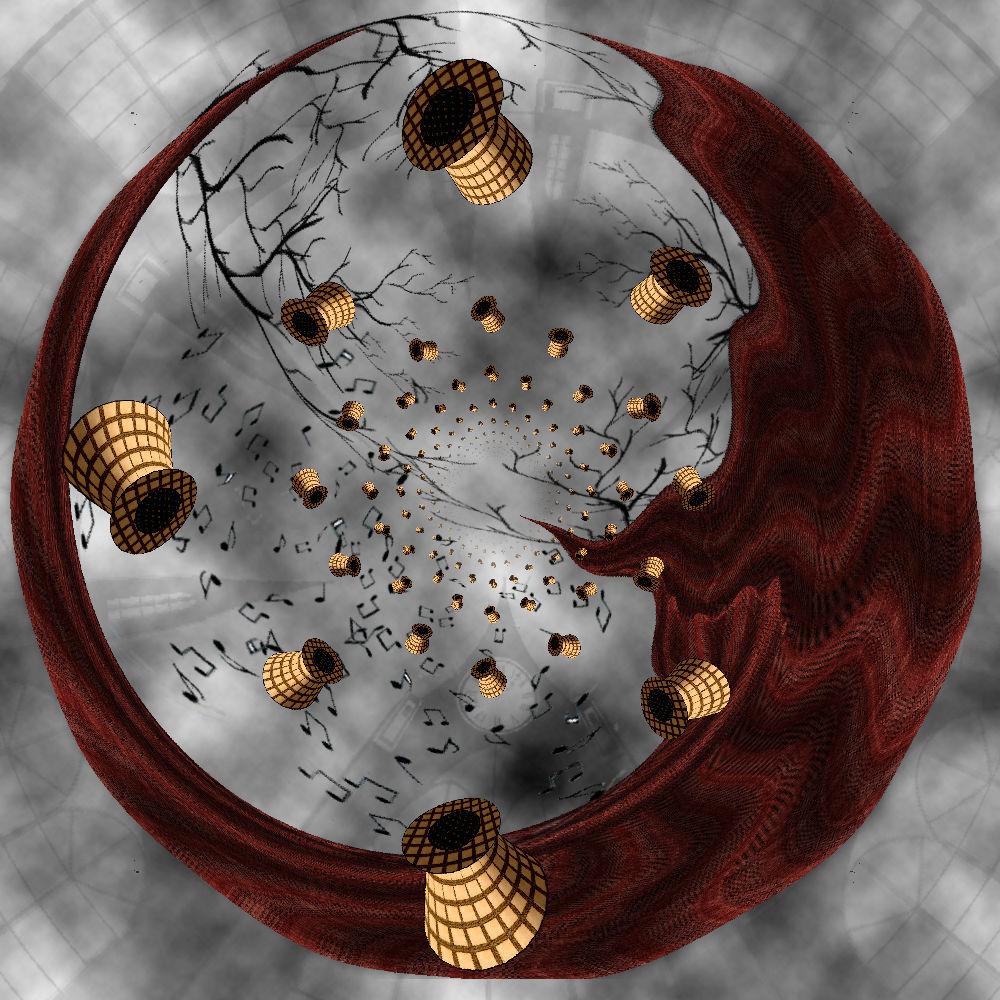
Безмостие
Завтра Аглаи не будет.
И Герти не будет.
И никого-никого не будет.
Уго думает, последнюю ночь ему осталось думать, что делать, чтобы Аглая была, и чтобы Герти была, и чтобы все-все были.
Ужинают.
Уго из уважения к Герти и Аглае целиком не глотает, на куски режет.
У них так положено.
А зачем вы так делаете, спрашивает Уго. Не про куски, про другое спрашивает.
А так надо, говорят сестры.
А кому надо, спрашивает Уго.
А сестры смеются.
А надо.
Уго еще по городку походил, в один дом, в другой, в третий, с кренделем на вывеске, со старым фонарем, и в дом, где живет вдова пастора. Пил чай, ел как положено, на кусочки резал, целиком не глотал.
У всех спрашивал:
Зачем?
А так надо.
А кому?
А никто не знает.
Наутро Уго просыпается, когда уже всё началось, он просыпается и слышит — все началось. Уго выползает из дома, смотрит на бегущих, вон они, толпами, толпами, мчатся прочь из города по главной улице, к обрыву, и — в пустоту.
Один.
Два.
Десять.
Сто.
Тысяча.
Уго хочет схватить кого-нибудь за шиворот — не хватает. Уже знает, все бесполезно, — схватить, затащить в тюремную камеру, запереть под замок, смотреть, как люди остервенело бьются о стальные решетки — в кровь…
Уго молчит.
Смотрит на бегущих — сам не знает, зачем.
Пронзительный крик кого-то, упавшего в пропасть.
Уго молчит.
Уже все сказал, уже бесполезно.
…до сих пор никто не может объяснить странные миграции жителей Лемибурга — раз в сто лет они собираются толпами и бросаются в пропасть….
В городе осталась Аглая.
А Герти нет.
И вдова старого пастора.
И булочник с женой.
И семейная пара, которая жила в доме со старым фонарем.
И еще человек сто.
В церкви собираются, молятся.
Благодарят кого-то, что уберег.
землю идут пахать.
Уго ходит по закромам, проверяет, может, еды людям было мало, вот и бросились…
…нет, много еды, полные закрома, что же случилось-то…
Уго спускается по обрыву посмотреть, что там внизу, за чем там люди прыгали. Нет, ничего нет, искалеченные трупы с уже подсохшей кровью. Уго хватает умершего, тащит на край обрыва, к подвальчику, где Уго живет. Глотает умершего, Уго целиком глотать любит.
Ложится спать.
Уго снится город. Там, по ту сторону обрыва, уходящего в никуда. Большой город, красивый город, город будущего.
Уго просыпается, смотрит — а города нет.
Это только сон.
Или…
…ближе к концу недели Уго подбирается к краю обрыва, смотрит, нет ли города. Нет, не видно никакого города там, вдалеке, только пустота подступающих сумерек…
И все-таки…
И все-таки Уго чувствует город там, вдалеке.
Чует.
У Уго чутье что надо.
Снова спускается по отвесной скале, подхватывает кусок истлевающего трупа.
Заглатывает.
Уго целиком глотает.
— Я видел сон, — говорит Уго.
Режет бисквит, размешивает чай ложечкой, следит, чтобы не звякнуть.
— Что такое? — спрашивает Герти.
Мне снился город по ту сторону провала… там, в будущем…
У Герти горят глаза, ей тоже снится город.
— Понимаете… — говорит Уго, — вот идет городок ваш из прошлого в будущее, а потом пропасть…
…что-то случилось, что история вашего городка оборвалась пропастью, и теперь вы не можете попасть в будущее, — продолжает Уго. Уже в церкви продолжает, куда его Герти повела, чтобы он всё рассказал.
— …город пропал, а он вам все мерещится, и вы в пропасть бросаетесь…
Ропот в толпе:
— Так это он нас в пропасть гонит!
— Это он, он!
— Да я видела, он людей жрет!
Люди бросаются на Уго, Уго шипит, это у него хорошо получается. А людям что, люди знают, что у Уго клыки так, для виду, не ядовитые.
Толпа вздрагивает.
Оборачивается.
Уходит прочь в пустоту улицы, человек за человеком, ускоряют шаг, срываются на бег, скорее, скорее, боятся не успеть в пропасть, как будто в пропасть можно не успеть. Уго не выдерживает, хватает Герти, хватка у Уго что надо, Герти вырывается, пусти-пусти-пусти, Уго не пускает.
Выжидает.
К вечеру безумие заканчивается. Уго осторожно выпускает Герти, успокаивает, шепчет что-то, все, все хорошо.
— А что… что было-то?
Уго молчит, и так понятно, что было.
Ветер гонит по улице обрывки газет. Уго подбирает несколько страниц, читает новости, пожар на мельнице, открылась новая ярмарка, у городского лекаря родился первенец… И ни слова о том, что происходит там, на краю обрыва. Уго уже и в архивах смотрел, и в архивах, и в библиотеках — ни слова.
Уго оборачивается, ищет Герти, Герти нет, Герти уже в конце улицы, бежит к обрыву, подпрыгивает, взмахивает руками….
…Уго не успевает, Уго беспомощно смотрит на пустоту за обрывом. Спускается пот отвесной стене, хватает первый попавшийся труп, тащит на улицу, проглатывает.
Уго пьет чай у викария.
Осторожно пытается втолковать:
— Вы меня поймите… у нас тоже так было… шел город из прошлого в будущее…
— Как шел? — не понимает пастор.
— Ну, вот так… три тысячи первый год, три тысячи второй, три тысячи третий… а потом преграда какая-то была во времени… провал там какой-то или наоборот, гора…
— И они дальше не пошли?
— Отчего же, пошли… просто в другой реальности пошли вперед, в будущее. Там к провалу подходишь и чувствуешь, что город где-то тут, рядом… а нету. И надо просто чуть-чуть дсвинуться в другом измерении… — Уго показывает игральную кость, вертит, — вот три измерения… вот время… — Уго показывает расстояние от начала до конца улицы. А тут надо в пятом измернии шажочек в сторону сделать…
Пастор отчаянно пытается понять.
— Давайте… я вас научу…
Уго протягивает пастору руку, тот вырывается, боится…
Уго спускается по отвесной стене.
Выискивает тело Герти, находит то, что от неё осталось.
Заглатывает.
Хочет подняться наверх, уже не может, устраивается в ущелье.
В этой реальности у людей прыгучие лапки и шерсть.
А в реальности Уго у людей чешуя и длинные хвосты.
В реальности Уго сделали мост в будущее.
А в этой реальности нет.
…ближе к весне Уго выбирается из ущелья, больше там поживиться нечем.
Смотрит на пропасть.
На город, который там, за пропастью, его не видно, его можно только почувствовать.
Шагает в город.
Снова шагает из города.
Снова.
Снова.
У Уго получается.
У людей нет.
Уго делает мост, по которому могут пройти люди, камень за камнем.
Уго не знает, как делать мосты.
Но делает.
Сегодня будет пастор.
И завтра будет пастор.
И Аглая будет завтра.
Не та, правда, другая уже, сколько веков прошло.
Но будет.
И Герти.
И все-все будут.
Потому что есть мост.
Уго на праздничном ужине сидит, ножом мясо режет, по кусочкам ест.
Кофе пьет.
Отчаянно вспоминает, что здесь в кофе кладут, сахар или соль. Можно Аглаю спросить, так она из вредности скажет не так.
Завтра все будут.
Все-все.
Только бы мост не упал, все-таки не умеет Уго делать мосты.
…Уго просыпается, смотрит в окно подвальчика, Уго в подвальчике живет.
Люди спешат по улицам. Толпами. Толпами. Уго ищет в толпе Аглаю, не может найти.
Люди подбираются к мосту, примеряются…
…прыгают в пропасть.
…выжившие собираются в церкви.
Благодарят кого-то за спасение.
Идут сеять зерно.
Весна.
Уго смотрит на дорогу, по которой уходили люди.
На которой прыгали в пропасть.
Зачем, спрашивает Уго.
Так надо, отвечают ему.
Уго спускается по отвесной стене.
Выискивает труп Аглаи.
Долго смотрит.
Потом проглатывает.
Устраивается на дне ущелья.
Аглаи на неделю хватит, не меньше.

Краденый день
Миллилионный год
Пять минут до конца света.
Все прячутся по своим кольцам.
Кто все?
Да все, кто остался.
Я их не вижу.
Они сами себя не видят.
И я не вижу себя.
Меня нет.
Но я есть.
И у меня нет кольца, чтобы спрятаться.
14 июня 2080 года
У нас украли день, говорит Элис.
Элис никто не слышит, Элис сама себя не слышит, Элис гонит велосипед — дрын-дрын — по улочкам городка, развозит свежий хлеб.
А какое сегодня число?
Четырнадцатое.
А какое должно быть?
Тринадцатое.
То-то и оно.
А день сегодня какой?
Суббота.
А пятница где?
Вот-вот.
Минус четырнадцатимиллиардный год — миллилионный год
…я снова погружаюсь в бесконечный темный туннель, чуть подсвеченный сиянием, я лечу через него, через пустоту, я ищу свое пристанище — и не нахожу…
14 июня 2080 года
Ну, никто ничего не говорит, нет, так нет, только вдова викария сказала что-то вроде, что оно и к лучшему, мало ли что там в пятницу тринадцатого случится, вот уже и указ издали, чтобы черных котов на улицу в пятницу тринадцатого не выпускать.
А день пропал.
День пропал, — говорит Элис в полиции. У Элис золотые волосы до плеч, а у корней черные.
День пропал, — пишет полицейский. А у полицейского бакенбарды рыжие и глаза зеленые с золотой искринкой.
Составляет протокол. Так, на всякий случай.
Объявления развешивают по городку, тоже на всякий случай, не видел ли кто потерянный день.
Пятницу.
Тринадцатое июня.
Особых примет нет.
Люди руками разводят, ну, пропал день, так пропал, у булочницы тоже вот третьего дня сережка пропала, так её потом в пироге нашли в семье Бишепов… Кто-то отличился, принес в полицию четырнадцатое июля тысяча семьсот восемьдесят девятого, люди возмутились, чего вы вообще день взятия Бастилии принесли…
Минус четырнадцатимиллиардный год — миллилионный год
…я пытаюсь уцепиться, но не знаю, за что, я пытаюсь найти хоть какой-то причал, на котором можно остановиться, замереть, жить — и не нахожу. Напрасно я плыву по реке времен, снова и снова опускаюсь в бесконечно длинный туннель временного потока, я пытаюсь найти хоть один день, хоть один час, хоть одно воспоминание, за которое можно уцепиться, остаться там, в каком-то дне, хотя бы в каком-то часе, где ничего не происходит, где никого не убивают, где не думаешь о том, что завтра война, или вчера была война, или сегодня…
14 июня 2080 года
Элис едет по вечернему городу — дрын-дрын — развозит по домам хорошие сны. И не очень.
Надо убрать город, как к празднику, вспоминает Элис. Не к месту, и не ко времени. И сказать булочнице, чтобы побольше вкусного всякого напекла, для такого дня можно. И напомнить, что пятница нерабочая будет, негоже в такой день работать, пусть люди с семьями дома будут. А нет, это уже не Элис решать будет, а кто другой, там, в верхах. И чтобы войны не было в этот день…
…стоп.
Элис спохватывается, о чем она вообще думает, что вообще происходит.
А вот.
Подготовить город… подготовить город… Элис отчаянно сжимает виски, Элис открывает блокнот, записывает воспоминания, не к месту, не ко времени, из ниоткуда.
Миллилионный год
— У вас нет берега?
— Да… представляете… я всю жизнь думал, что у меня будет хоть какой-то берег… пристанище какое-то… а оказалось…
— Что, за миллиарды лет — никакого пристанища?
— Верно… никакого.
Я отвечаю ему (кому? Хоть убейте, не знаю!), я пытаюсь представить себе, когда же у меня было пристанище, хоть какое-нибудь, ну не считать же пристанищем холодные ночи у тлеющего костра, когда студеная метель бьется в окна, и не знаешь, доживешь ли до весны? Не считать же пристанищем жаркие битвы, когда крепость дрожит под ударами врагов и сверкающий клинок обагряется моей кровью? Что мне вспоминать — небо, дрожащее от гула боевых машин? Куда мне идти — в дом, разрушенный войной? Я отчаянно ищу хотя бы один день — и не нахожу…
14 июня 2080 года
Убрать город к этому дню.
Остановить все войны.
Всем помириться.
Испечь что-нибудь, это булочнице сказать…
Нет, все не то, не то, не то, мысли уходят, а ведь только что вспоминалось что-то странное, как готовили город, спорили до хрипоты, фонарики вешать или не вешать, а пикник на весь город делать или не делать, или каждая семья сама по себе праздновать будет, да что там праздновать, это же обычный день, вы понимаете — обычный…
…нет.
Память уходит.
14 июня 2090 года
Элис перебирает хлам в шкафу, на ковер падает пожелтевший блокнот, раскрывается на недописанной странице, Элис читает, не понимает, к чему подготовить город, какие фонарики, зачем всем помириться, какие войны прекратить…
Элис не понимает, Элис не помнит, Элис бросает блокнот в хлам, на чердак…
Миллилионный год
Смотрят, как умирает вселенная.
Еще бы, не каждый день такое увидишь.
Говорят:
Надо бы этому помочь.
Кому — этому?
Да этому — этому. А то, что такое, у всех есть, у него нет.
Сам виноват, что у него нет.
Тоже верно.
Все готовятся к концу вселенной, все вырезают самые лакомые кусочки из…
…чтобы вырезать кусок из истории, сначала отмерьте необходимое вам время. Потом осторожно сложите из времени петлю, чтобы соприкасались начало и конец петли. Важно — сначала склейте петлю, и только потом вырезайте её из времени…
14 июня 2190 года
— Тебе не кажется это странным? — Аглая держит блокнот своей бабушки Элис, стряхивает пыль.
— Что странным? — Ден смотрит на молодую жену, думает, чего ради вообще полезли на чердак.
— Вот это вот… — Аглая листает, — не забыть: не рабочий день. Убрать город, развесить фонарики… обещали хорошую погоду….
— Ну что, праздник какой-то, — Ден пожимает плечами.
— Да нет, ты посмотри… день, которого не было… украденный день…
— Да… не бери в голову…
— Нет, ты смотри… день, которого не было…
Миллилионный год
Смотрят, как умирает вселенная.
Кто смотрит?
Да все.
Все, кто остался.
А может, это, говорит кто-то, этому каждый по кусочку от своих времен подарим?
Да зачем ему кусочки от чужих времен…
15 июня 2190 года
— А мне, пожалуйста, газету за тринадцатое июня восьмидесятого года, — просит Аглая.
— А этого дня не было, — говорят Аглае.
Не было дня.
Не было.
Минус четырнадцатимиллиардный год — миллилионный год
И обратно
…сегодня мне почти повезло, мне посчастливилось найти почти идеальный вечер, это был вечер августа, на берегу моря, солнце, которое никак не хотело заходить, пары кружатся в танце, кто-то обнимает меня, кого-то обнимаю я, впиваюсь губами в губы…
…Завтра от цветущего острова не останется даже тени, все будет выжжено войной…
Так что нет, не подходит…
15 июля 2190 года
…передали в собственность музея единственную дошедшую до нас информацию об украденном дне: блокнот с записью многолетней давности…
Миллилионный год — минус четырнадцатимиллиардный год
И обратно
…ещё раз прокручиваю весь свой путь, отчаянно пытаюсь найти хоть какую-то зацепку, хоть что-то, что можно взять с собой после конца вселенной. Может, вот этот кусочек июньского утра, когда все лето впереди, или вот, осенний вечер, когда дождь стучит в окна, а на столе дымится глинтвейн… нет, не то, не то, слишком мало, слишком рассыпчато все, отчаянно собираю время по крупиночкам, выхватываю кусочки, нанизываю одно время на другое, падает, рассыпается, не хватает стержня, стержня…
…сам не понимаю, как в моих руках оказывается обрывок блокнота…
…украсить фонариками…
…нерабочий день…
…тринадцатое июня…
..начинаю понимать.
13 июня 2080 года
Элис просыпается, Элис не может понять, что она только что слышала во сне, какой день, какой выходной, с кем не ссориться, какой пикник на весь город, какие семейные вечера…
Элис уточняет сквозь сон, сквозь сладкую полудрему:
А ты как человек, да?
А ты живой?
А как понять, ни живой, ни мертвый?
А ты электрический?
А как ты без тела живешь?
А как ты время режешь?
Элис выкатывает из прихожей велосипед, дрын-дрын, Элис надо свежие новости развозить.
Новости.
Что сегодня хороший день.
Дрын-дрын.
Что сегодня майское утро, плавно переходящее в июньский полдень, когда еще все лето впереди. В домах просыпаются люди, завтракают на веранде, дети бегут в поле — лето-о-оо-о!,
Вечереет, осенний дождь стучит в окна, а на столе дымится глинтвейн, люди сидят у очага, смотрят в серую дымку сумерек, а вот уже и первые снежинки летят, кружится снег в свете фонарей, Элис — дрын-дрын — разносит по домам добрые сны, люди ложатся спать…
Миллилионный год и еще пять минут
Вселенная умирает.
Все прячутся по своим кольцам, сворачиваются клубком.
Я тоже сворачиваюсь клубком в своем кольце, совсем маленьком.
А люди не знают.
Люди думают — день пропал.

Югли
А пусть будет Югли, говорит прабабушка Снежица.
И все сразу ворчат, ну что вы, какой Югли, выдумали тоже — Югли, сказали тоже — Югли, какой Югли, ужас какой — Югли, что, кроме Югли и нет никого больше?
Югли слишком большой, говорит дядюшка Метелиц.
Югли слишком маленький, говорит прапратетушка Гололедишна.
Югли слишком глупый, говорит Снежин.
Югли слишком умный, говорит ветер в трубе, какой-то там родственник по какой-то там линии.
А вот — Югли, — говорит прабабушка Снежица.
И все смотрят на Югли, что за Югли такой, да справится ли, а то мало ли, детей-то в Таймбурге пруд пруди, уж неужто получше Югли не найдется.
Ветер в трубе прислушивается, прабабушка Снежица поддувает, Снежин заглядывает Югли в раскрасневшееся лицо. Югли как Югли, не лучше, не хуже других, спешит домой, надо еще хлеба взять, и пряников рождественских, и крылопатку, и огонь для камина купить. А там и домой можно, огонь в очаг пустить, сидеть в тепле, слушать вой ветра.
Ну да ладно.
Пусть будет Югли.
Тут по обычаю Югли стучат в окно, подойдет, не подойдет, ждут. Если не пойдет к окну, к холоду зимы, к темноте студеной ночи — не наш человек, не годится. А вот если не побоится…
Не боится Югли, идет к окну, с интересом смотрит на весточку, которую сестрица Морозица набросала инеем на стекле.
Все понимает Югли.
Его выбрали.
Югли кланяется сестрице Морозице, и прабабушке Снежице, и дядюшке Метелицу, и
Снежину, и всем-всем, а особо ветру, который живет в трубе. Пишет весточку родным, чтобы к ужину не ждали, а то мало ли когда Югли вернется. Одевается по погоде, прапратетушка Гололедишна неодобрительно смотрит на новомодную курточку и ботинки, вздыхает что-то, что вот раньше-то в старые добрые времена так не ходили…
Ну и тут по традиции потолок темнеет, серебряные звезды из темноты сыплются. Югли уже не маленький, уже знает всё, а всё-таки ему расскажут, ну по традиции так положено. Что беда случилась, Зимушка-Зима Новый Год в серебряной клетке спрятала, теперь Новый Год не наступит, если Югли его не освободит. Если, конечно, не испугается Югли, пойдет за дальние дали и ближние близи, высокие выси и низкие низи.
Югли кивает.
Югли пойдет.
Ну и тут снова по обычаю все идут к Югли, велят Югли выбирать, что он с собой в путь возьмет. Сестрица Морозица говорит, я тебе подарю свечку, которая тьму отгоняет, а прапратетушка Гололедишна говорит, а я тебе подарю волшебный компас, который путь укажет, а прабабушка Снежица говорит, я тебе санки волшебные подарю, они тебя от ран вылечат… ой-ой, все-то перепутала прабабушка Снежица, не от ран вылечат, а увезут тебя по небу, куда захочешь. А ветер в трубе говорит, а я тебе волшебный шар подарю, в нем будущее видно, а…
Вот так вот все Югли свои подарки показали, а Югли выбирать будет, чей подарок ему милей, с чем он пойдет в путь.
А Югли посмотрел — и волшебный шар выбрал.
И дядюшка Метелиц испугался.
И прапратетушка Гололедишна испугалась.
И прабабушка Снежица испугалась.
И сестрица Морозица.
И Снежин.
А больше всех — ветер в трубе.
И зашептались все, зашептались, зашушукались, да как это так, да первый раз такое за много-много веков, чтобы кто-то выбрал волшебный шар.
Что-то будет теперь.
Ну, дядюшка Метелиц всех успокаивает, что же, и волшебный шар пригодится тоже, не зря же его делали.
Югли идет из тепла на улицу, в снежную круговороть, кутается потеплее, шагает через старый город, припорошенный снежком, мимо газетных киосков, мимо пестрящих новостей, белые против черных, черные против белых, синие против красных, красные против синих, война неизбежна…
Югли спешит к городским воротам, за окраину города, там темно, там уже нет праздничных огней, там начинается лес, глубокий, темный, который кажется бесконечным. Тут-то Югли и пожалеет, что санки не взял, дорог-то в лесу нет. И что компас не взял, Югли тоже пожалеет, вот теперь ищи-свищи этот новый год. Ну да ничего, что есть, то есть, Югли в шар смотрит, чего-то там видит, на город через шар смотрит, на лес…
Югли в лес идет.
Остальные за ним издалека смотрят, дядюшка Метелиц, прапратетушка Гололедишна, прабабушка Снежица, сестрица Морозица, ветер в трубе — смотрят издалека, как-то Югли по лесу пройдет, как-то Зимушку-Зиму одолеет, как-то Новый год из Серебряной клетки выпустит. А Югли ничего, Югли в шар смотрит, видит, где в ловушку попадет, где в силки, где в ветвях запутается, где в снегу заплутает, а где на тропу выйдет. Зимушка-Зима притаится, в засаде устроится, а Югли мимо пройдет, Югли же в шар смотрит.
Дома родители Югли письмо читают, что Югли к ужину не ждите, а когда вернется, неведомо. Папа Югли телевизор включает, а там опять все то же, синие против красных, красные против синих, черные против белых, белые против черных, война неизбежна…
А Зимушка-Зима Югли выследила. Долго ли ей. Понеслась по веткам, закружилась, завьюжила, у-у-у-ух, вот-вот схватит…
А Югли р-раз — и в сторону.
Р-р-аз — и в другую.
Югли же в шар волшебный смотрит, Югли же видит, куда Зимушка-Зима кинется.
Раз, два, хлоп, хлоп, запуталась Зимушка-Зима, затерялась, а где Югли, а не видать Югли. А Югли уже во-о-о-н где далеко, лестницу нашел, что до самой луны ведет, ступенька за ступенькой, все круче, все дальше и дальше прыгать приходится. Ну да ничего, Югли смотрит, где какая ступенька подточена, он на ту и не встанет, Югли же в шар смотрит, будущее видит.
Так-то Югли — раз-два-три — до месяца добрался, а там серебряная клетка висит, здоровущая такая клетища, а там Новый Год сидит, крыльями хлопает, радуется, освободитель пришел.
Вот и ключ на ступеньках лежит.
А тебе здесь хорошо, спрашивает Югли.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
