
Бесплатный фрагмент - Серебряная роза. Женщины в искусстве. Строфы и судьбы. Том первый
Авторские очерки и эссе
В книге полностью сохранены орфография, пунктуация и стиль автора. Автор несет также полную ответственность за все фотоматериалы иллюстрации, опубликованные в этой книге
Предисловие автора к первому изданию книги
Сколь непростым бывает путь Женщины — будь то Музы, Поэта, Писательницы, Художника на вершины Олимпа искусства, я думаю, никому объяснять не надо!
Временами он похож на путешествие по пустыне или подъем по отвесной скале. Молчание, презрение, скрытая зависть, недоумение, открытое неприятие, попытка манипулировать талантом, если женщина влюблена, или же просто — присвоить его.
Это далеко не все» подводные рифы и каменья» адовой дороги, которые проходит дама — творец, решив посвятить себя Искусству, сотворению непреходящего, прекрасного, того, что останется после…
В попытке выразить себя, многие из тех, о которых я пишу здесь, в первом томе книги очерков и эссе
«Серебряная роза» … оставили после себя блестящий и немеркнущий столетиями, годами, след в искусстве, во многих его гранях и ипостасях, образах и красках. Это радует. Удивляет. Поражает. Восхищает. Иногда, как в случае с Шарлоттой Бронте, Ольгой Ваксель, Надеждой Львовой, рисунок Судьбы повергает в отчаяние. Но и он, завершенностью точно грифельных штрихов и знанием того, что было и есть — дальше, дарит проблеск надежды…
А надежда, порыв, стремление это и есть — начало чего — то нового… Начало жажды, постижения. Пути. Обретения того, что впереди. Всегда — впереди.
Первый том разделен автором на две обширных главы, раздела, части.
В первой представлены образы героинь — поэтесс и муз Серебряного века, за исключением, пожалуй, Беллы Ахмадуллиной, а во второй — лики красавиц и писательниц — и прошлого, и современности: Агата Кристи, Франсуаза Саган, мадам Жюли Рекамье, Элизабет Браунинг, Сапфо. Надеюсь, что такое деление просто и ненавязчиво удержит читателя в напряжении внимания и интереса к страницам книги.. Ее продолжение — следует.. Непременно.

Немного Белла. Донна Белла…
Ахмадуллина Бэлла Ахатовна (полное имя Изабелла) является одной из крупнейших российских поэтесс второй половины XX века. Также была переводчиком. Известны и ее произведения в прозе.
Появилась на свет 10 апреля 1937 года, в Москве. Первое стихотворение было напечатано в газете «Комсомольская правда» в 1955 году. После школы решила поступать в Литературный институт им. М. Горького.
В период обучения в литинституте начались публикации стихов Ахмадуллиной в различных литературных журналах, в том числе и в рукописном под названием «Синтаксис». Также продолжала журналистскую деятельность, публиковала статьи, в одной из которых, вышедшей в Комсомольской правде, утверждала, что настоящее искусство должно не веселить людей, а заставлять их страдать. За то, что отказалась участвовать в травле Бориса Пастернака, в 1959 году была отчислена из института, однако вскоре восстановлена. На следующий год с блестящими результатами закончила учебу.
При содействии П. Г. Антокольского в 1962 году вышел первый сборник стихов Беллы Ахмадуллиной под названием «Струна».. Антокольский высоко ценил ее поэтический дар, и в одном из своих стихотворений написал «Здравствуй, чудо по имени Белла / Ахмадуллина, птенчик орла!»
В 1989 году Белла Ахмадуллина стала лауреатом Государственной премии СССР. Смерть поэтессы наступила 29 ноября 2010 года на даче в Переделкино. Ей шел 74-й год.
Официальная биография…
И еще немного — от себя:
Я все думаю: А легко ли быть Поэтом?… Изящно задумчивая, УПРУГАЯ, строфа Беллы Ахмадуллиной. Она похожа на дождь. На гроздья сирени. Она не была летящей.. Или просто я — не нашла такой? Перелистываю томик. Насыщенность слога, «подстрочник традиции — такой давней, лебединой, еще державинской, ЕЩЕ ГОМЕРОВСКОЙ Еще Древней Эллады.. Она сама была для меня немного непонятной.. Тайной поэзии. Я и до сих пор — разгадываю строки и строфы. Но — Женщина, Донна Белла, — как звала ее про себя — была так понятна со своими браслетами, шарфами, кольцами, шляпами, сопереживанием друзьям, перелистыванием страниц, кокетливым отрешением от земного. Только — показным, не сомневаюсь… Она была так понятна мне. Ее любил Владимир Высоцкий. Грань, критерий для меня.. Все кошки и собаки были — ее, особенно бездомные. Еще одна грань со общности. Все птицы. Она и сама была, как птица… Иногда я не понимала ее строфы. Разгадывала. Но иногда, как прозрение.. «По улице моей, который год…» Мое любимое. Памятное… Читаю и постигаю… И помню ее. Донну Беллу. Летящую птицу. Это имя — одно из тех, что… навсегда..
Мирра Лохвицкая. «Жизнь в обрамлении строфы»…

Она уронила левую перчатку на каменный, выщербленный уступ балконной балюстрады. Поморщилась. Жжение в груди не прекращалось… Слабые, глухие удары сердца не прощупывались в тонкости запястья, она лишь стянула кожу в складку, оголив его. От рубца перчатки еще исходил слабый аромат жасминового «Cotie». Она чуть улыбнулась. Прикрыла веки. Ноздри ее жадно трепетали. Вспомнила нечаянно и совсем некстати, не ко времени, до терпкости горький, насмешливо-небрежный взгляд Бальмонта при встрече, его скользящий по запястью поцелуй.
Усы, их щегольская, знакомая всем и вся, по открыткам и рассказам истовых поклонниц, щеточка, неприятно щекотала ей кожу. Словно — проползло насекомое… Опять поморщилась.. Власть, колдовская власть вооб-ражения, никак не отпускала ее. Власть над словами…

…Что же говорили об их «призрачном» романе в обществе? Она пожала плечами, опускаясь в плетеное кресло, и, прикасаясь пальцами в серой замше к полированной столешнице черного дерева, покрытой мелкими крапинками не то дождя, не то соленой морской воды.. Да ничего не говорили. Не о чем было и говорить. Ни писем, ни записок. Одни догадки, полушутливые вопросы, улыбки, шарады взглядов…
В газетах и альманахах читали страстные строфы Бальмонта, якобы посвященные ей и только ей, Мирре (Марии) Лохвицкой, но она… Она-то знала, что вокруг него извечно много Муз.. Вот и сейчас он живет, кружится в некоем «тройственном союзе»: жена Екатерина Андреева, гувернантка–немка дочери Ниночки Луиза или Белла — она не помнила точно — и еще.. Еще — Елена Цветковская, жившая совсем неподалеку от семейного гнезда Бальмонтов и тоже ожидающая от Константина ребенка…
Она слышала обо всем этом от общих знакомых, вспыхивала румянцем, тотчас менявшим ее ровный, нежный, как золотистое крымское яблоко, цвет лица, нервно подергивала покатыми плечами..
Ей-то какое дело есть до всего этого и до того, что далее будет? Да и будет ли?

Все чаще кололо в груди, все чаще скульптурно вылепленные веки античной богини или весталки и нежные ресницы феи смежал удушливый сон. Без гофманских и бестужевских капель уже не могла по утрам подняться. Врачи дружно советовали влажный туман невской державной столицы сменить на сухое солнцестояние южных берегов и качали головами: четверо детей за недолгие, стремительные годы замужества, пусть и счастливого, совершенно истощили организм. Нельзя же так бездумно относиться к здоровью! Надо щадить себя. Но упрекать Эжена Жибера она не смела. Да и в чем же упрекать? Он подарил ей дом, полный покоя, солнечный, как янтарная бонбоньерка. В ее будуаре стояла капризно изогнутая мебель красного дерева, в восточном вкусе, оттоманки, кабинетный рояль, шкафы для нот и книг с инкрустациями, причудливо изогнутые вазы из яшмы, покрытые китайским лаком. Иногда она рвала пальцами бархат или репс, поспешно меняла обивку на муар или шелк.
Но тоски, глухой тоски в груди, холодного голода по чему-то неизведанному это не убивало, и она вновь поспешно и виновато погружалась в детей, дом, утомительные журфиксы по средам, визиты к портнихам и поездки в театры — на детские утренники и спектакли… О Бальмонте старалась не вспоминать…
Ей, наконец, надоела вся эта путаница в сердце. Она приехала в Крым. По настоянию мужа.
Чуть отвлечься, передохнуть… От постоянных домашних хлопот, детских голосов, шума и визга, секретов, оживленного блеска сыновних глаз во время чтения сказок на ночь… Она предпочитала всему и вся стихи, но что могла прочесть десятилетнему Вячеславу? Разве что детскую элегию, посвященную ему же? Она опять улыбнулась, встряхнула головой, слизнула с внезапно треснувших губ каплю крови… Каплю, темную, как вишневое варенье. Она любила угощать гостей своим варением, иногда и собственноручно ею приготовленным, как бы в шутку, мимоходом…
Она давно уже слыла в петербургских и московских салонах несказанною красавицей, хорошей хозяйкою, остроумницей, муж, по-юношески пылко, все еще не чаял в ней души, стихи ее и сборники расходились по России мгновенно. Ими зачитывались, копировали от руки, переписывали в альбомы.
Словно бы шутя, получил один из них в 1904 году знаменитейшую Пушкинскую премию Российской Академии. Ей молчаливо кивал при встречах вечно погруженный в себя, темнокудрый и глубокоокий поэт и философ Владимир Соловьев; с легкою ироническою шуткою, ее подходил приветствовать Иван Бунин. Словно бы затаенно восхищаясь ею, находя, что «все в ней было по-пушкински, «по-татьянински «прелестно». Но ее, ее саму, казалось, ничто не трогало! Бурно. Темно. Страстно. До самой глубины души…..Неуспокоенной. Неутоленной.
Весь свой темперамент она отдавала только стихотворным строфам. Да прогулкам вдоль побережья Финского залива, где они держали дачу. Все тайные извилины дюнного песка этой местности и солнечные тени сосен, высоких, корабельных, она отчетливо помнила с самого детства, и там ей нравилось более, чем здесь, в сухом, прожженном солнцем, настоянном на винном, степном воздухе Крыму.
Мирра снова высоко вскинула голову, передернула плечами. Повеяло чем-то странным: терпким, тяжело–горьковатым и, одновременно, — сладостным и тревожным. Не смирной ли, древним Христовым даром, благовонием, об аромате которого знал и ведал ее дед, мистик и прорицатель, перед смертью своею якобы прошептавший: «Запах мирры уносит время»?…
…Миррой она стала в память о нем, измарав первый альбом строфами, почти не исправленными, летучими, приходившими к ней, как некий туман легковесный, не мучающий, сладкий, образный, точный, как узор на лаковом, изящном китайском веере. Она любила восточные вещи, как и сестра, Наденька, знаменитая остроумная Тэффи, рассказы которой читают и при Императорском Дворе. Они смешны, блистательно точны, эти рассказы, но только она, Мирра — Машенька, одна знала, что Наденька острием своего пера пыталась творить еще и романную прозу, и литературные портреты — этюды своих современников. Отрывки романа своего — о любви, постигшей растерянного молодого человека из хорошего «юридического» семейства — давала Наденька читать лишь ей. А потом — яростно рвала в клочья. Писала снова. И Мирре казалось что она никогда не закончит. Никогда.

….А вот о ней Наденька не писала. Почему? Боялась? Ревновала? Втайне, душою. Соперничала.. Они все, сестры Лохвицкие, с детства немного соперничали, смеясь, шутя, затаенно, играя словами, кусая губы: в литературном даре, красоте, остроумии, вкусе, умении вести дом. Они никогда не хотели быть заурядными. Да у них бы это и не получилось. При всем желании. Договорились меж собою тайно: входить в литературу по старшинству, но Мирра опередила сестер. Как шаловливый ребенок, начав писать стихи с пятнадцати лет. Стихи, что признали — тотчас.
Мирра Александровна нахмурилась, подняла глаза к небу. Казалось, что оно пусто, невесомо, легко. Жарко и вязко, как вата. Голова кружилась в этом солоновато–тамарисковом пространстве, нежно и как-то томно и сладко… «Клеопатров аромат» — чуть усмехнувшись, она прикрыла веки. Да. Тамариск был еще при Клеопатре… Давняя трава. Древняя. Сухая, как пергамент старинных книг, которые остались от дедушки… Она и боялась — внутренне холодело сердце, как только брала их, те тяжелые волюмы, в руки…
..А что же в них было сказано? Да ничего. Что каждый сам может создать свою Судьбу, ежели пожелает.. Хоть в стихе, хоть в книге. Хоть и в письме… Письмо — целый роман, эпоха в жизни Женщины. Но у нее не было писем к Бальмонту. В своем полупустом бюро она хранила одно единственное письмо от него: холодное, равнодушное и — поучающее, приведшее к отчуждению и высокомерным кивкам в гостиных, при встречах… Встречи были редкими: модный и загадочный поэт неизменно много путешествовал, изъездил всю Европу, побывал даже и в Греции, и на арабском Востоке…
Не то что она, домоседка, «ленивая небожительница», как писал о ней один из анонимных критиков в модном литературном журнале.. А, впрочем, нет, он не был анонимом, у него такое странное имя — Е. Поселянин. Не то псевдоним, не то и вправду фамилия.
Она удобнее, чуть глубже устроилась в плетеном кресле, легко постукивая пальцами в замше по пологому подлокотнику, пытаясь вспомнить, что же было написано в той рецензии. Ах, вот — вот.. Кажется, так. Невычурно. Просто:
«Она, Лохвицкая, одна из первых женщин, так же откровенно говоривших о любви с женской точки зрения, как раньше говорили о ней, со своей стороны, только поэты. Но как ни смотреть на эту непосредственность её поэтической исповеди, в ней была и есть великая искренность, которая и создала её успех, вместе со звучною, блестящею, чрезвычайно отвечавшею настроению данного стихотворения, формой.»
— Е. Поселянин. «Отзвеневшие струны». 1905 год…
…И тут Мирра вдруг рассмеялась.. Сухо, с глухим, прерывистым придыханием Что бы ни сочинили о ней все эти модные зоилы и ветреники пера, ей, на самом-то деле, глубоко все равно…
«Я б хотела быть рифмой твоей» писала она когда-то в стихотворении, звучном и искреннем, обращенном к некоему лирическому герою…
К кому? Бальмонту? Эжену Жиберу? К кому-то неизвестному, третьему, облик и лик которого все дружно пытались выявить, «вырисовать» из ее строф и рифм поэмы «На пути к Востоку» — о греческом юноше Лионеле с зеленовато–синими глазами и пшеничными кудрями, высоким лбом. Бальмонт был темно–русым… Но это все — неважно… В поэзии главенствует лишь своевольство воображения. Лишь его ветер надувает парус поэтического Дара. Она это знала точно.
И не считала, что Дар ее — волшебен, но жить без него не умела. Никак.
Не могла… Не могла. Почему же вдруг в прошедшем времени говорит она о себе? Острой иглою мелькнула в мозгу мысль, что не поможет здешний воздух, как не помогла Швейцария, Ницца… Ей было жаль чего-то, но она не могла понять ясно — чего?
Закрыла глаза, зажмурила их. До ярости красно-белых пятен.. фиолетовых вспышек…
Вспомнила, как впервые Бальмонт — крутолобый, яркий, манерно–небрежный, с зелено-синими провалами глаз на смуглом лице, вошел в ее гостиную. И сестра была там. Он говорил Наденьке какие-то комплименты на французском, потом внезапно перешел на арабский или еще какой-то древний язык, сказал что-то по-испански, прищелкнув пальцами. И зачаровал ее своими речами. Она тихо слушала, не вмешиваясь в диалог, слегка покусывая губы, а голове был неясный шум… Строфы рождались, наплывали, уходили снова, поднимались, как волны моря, будто кружевная пена опадала…

Пахнуло бризом. Издали. Она открыла глаза… Ноздри нервно затрепетали, жадно вбирая в себя густую терпкость тамариска, горьковатость туи, жар нагретого солнцем песка, гальки, ракушек… Где-то там, на расстоянии двух протянутых рук, за невысокими, осыпающимися скалами, нетерпеливо шумело море. Ей хотелось посмотреть на него. Она встала, решительно натянула правую перчатку чуть выше запястья и подошла к каменной балюстраде, чтобы поднять упавшую…
Но, едва она наклонилась, как головокружение захватило ее и властно понесло в своем танце, холодя виски и сминая сердце, как прошлогодний осенний лист, уносимый ветром все дальше и дальше, как уносил он в те стародавние пропалестинские времена запах мирры, Дар волхвов и Богов — тайный, властный, неуловимый…
Мирра (Мария) Александровна ЛОхвицкая-Жибер — одна из крупнейших лирических поэтесс начала Серебряного века, дважды удостоенная Пушкинской премии Российской Академии Наук, умерла в Санкт Петербурге 27 августа (9 сентября) 1905 года, после тяжелейшей болезни: сердечной астмы и последствий скрытой формы туберкулеза. В архиве Марии (Мирры) Лохвицкой, так же, как и в архиве и наследии Константина Бальмонта, не сохранилось абсолютно никаких свидетельств их личных романтических отношений: писем, записок, телеграмм, посвящений на книгах, подарков и сувениров. Есть отголоски лишь «поэтической переклички». «Двухголосьем», аллюзиями, метафорами охвачены, навеяны многие циклы стихотворений Бальмонта, в том числе написанные уже после смерти поэтессы. Мир поэтики Лохвицкой — не камерный, а радостный, солнечный, психологический глубокий и верный — тоже во многом навеян многоплановыми образами и сравнениями бальмонтовской лирики, звуками его строф и поэм. Поэтическое воображение свободно и вольно присутствует там, где хочет. Гений поэтический обрастает легендами. Но стоит ли им, легендам, доверять? Одна из них гласит, к примеру, что Константин Бальмонт до самой своей смерти держал на письменном столе портрет Мирры Лохвицкой, сохраняя его во время всех бурь и невзгод жизни в эмиграции…
© Светлана Макаренко — Астрикова. Июль 2013 года.
Мария Волынцева — Вега (Ланг). «Судьба на одиноком корабле»…

«Мария Николаевна Волынцева, Мария Вега, или просто Муся, родилась в северной столице 15 июня 1898 года, на стыке двух веков. Сероглазая и, по-видимому, очень талантливая ее мать была певицей. Но девочке было запрещено вспоминать о ней, когда та таинственно «исчезла». Отчего, почему? Что заставило молодую женщину покинуть свою маленькую дочь, навсегда оставить мужа?.. Романтическое увлечение, приверженность сцене, мятежность непонятой натуры?
О, эта женщина,
Такая же, как все:
Рот полумесяцем,
И невеселый смех,
И смутных крыльев проблески,
Но вниз влекущий страх.
И вечно поиски
Впотьмах, впотьмах.
Так, много позже, в 1933 году, напишет о матери Мария Вега. Конечно же, не думать, не тосковать о ней она не могла, думала всю жизнь. О той, что «лететь заставила, / Сама — сгорев». И завет матери: «Вспыхни заревом, птенец мой, полетев!» — выполнила, отдав всю жизнь искусству.
Тут властвует семейная тайна. А тайнам лучше оставаться тайнами. Так, по крайней мере, считал отец Муси, отставной офицер, человек по-своему тоже весьма одаренный. Он прекрасно рисовал (кстати, этот талант достался и дочери…), а математику не только досконально знал, но делал в ней свои открытия. Иногда увлеченно пытался поделиться ими с маленькой дочерью, но, встретив ее недоуменный взгляд (считать Мария Николаевна не умела никогда — ни в детстве, ни в старости), спохватывался: «Ах, Боже ты мой, с кем я об этом говорю!» Что до стихов, тут офицер Волынцев был откровенно «не силен» и честно признавался, что никогда не мог одолеть «Онегина». Впрочем, одно «произведение» своей малолетней дочери он всё же по-своему весьма оценил и нередко цитировал, неизменно вызывая смех и рукоплескания публики. Это была маленькая «поэма», которую Муся торжественно преподнесла «дорогому Папи на мои одиннадцать лет» (орфографию сохраняю авторскую). Текст звучал возвышенно и одновременно забавно — так сказать, державинская ода, «переведенная» на детский язык:
Повсюду видно Бонапарта,
Иль в шляпе, или в сюртуке,
В его руках, конечно, карта,
Сраженье будет при реке.
И вдруг французы победили,
Никто не понял, почему.
Всех немцев наповал убили,
Живых же бросили в тюрьму.
Шутки шутками, но, между прочим, именно отец помог уже взрослой дочери в Париже выбрать себе такой красивый и звучный псевдоним — Мария Вега. И, цитируя нелюбимого Онегина, тем самым «лучше выдумать не мог»!
Стихи все-таки звучали в доме, и частенько. Да и как могло быть иначе? Ведь девочка росла в артистической среде, две бабушки, и обе –известные тогда «актерки»! Одна, Мария Карловна Брошель, — балерина Мариинского театра. Другая, Александра Карловна, — драматическая актриса, блиставшая на сцене Александринки. Да еще и крестная мать — великая Мария Гавриловна Савина!.. И дядя — М. Н. Брошель, артист театра Сабурова.
Мария Карловна, «танцорка», не только танцевала, но и любила поэзию, особенно Апухтина, была знакома с Тургеневым. А были еще и тетки, нередко встречавшиеся со Львом Николаевичем Толстым… Как же, вырастая в такой среде, было не приобщиться к искусству с самого раннего возраста?
«География детства», благодаря разветвленному родству, тоже оказалась достаточно широка: не только Санкт-Петербург, но и Москва с ее золотыми звездами на синих куполах, и Орел с «Дворянским гнездом», и Калуга с пышными белыми зимами… Чувство России, в первую очередь благодаря этим детским впечатлениям, стало потом в поэзии Марии Веги неодолимым, как голос крови.
Была и дача «Раковина» на Черном море, в Гаграх, с армадами кораблей-ракушек, с необозримым Млечным путем, с любимым фиговым деревом… И это станет потом стихами.
Но все-таки еще даже до стихов был театр. Знакомство с ним произошло у Муси очень рано, и вскоре девочка почувствовала неодолимую тягу ко всему театральному. Придет время — и в Русском театре за рубежом с успехом будут поставлены пьесы Марии Веги «Великая комбинаторша», «Король треф», «Суета сует», «Ветер», причем талантливые декорации к ним она будет делать своими руками… Но даже эта радость серьезного сценического успеха не могла затмить воспоминаний о «дебюте» восьмилетней Муси, который состоялся в имении теткиных друзей. Муся Волынцева тогда еще не писала пьес, но задумала инсценировку «Василисы Прекрасной» — и справилась с этим блестяще! Прежде всего, она вступила в тайные переговоры с садовником, и тот, польщенный тем, что ему открыли «ужасную тайну», притащил ночью (!) в усадьбу горшки с пальмами и олеандрами, т. к. нужен был «русский лес». И совсем не важно, что вместо черепов на частоколе вокруг избушки злодейки Яги красовались… странные бумажные шары с видными на просвет свечами сзади, и что публика, увидев их, начала непочтительно хохотать. Но зато, зато! Как вспоминает Вега: «В последнем акте, когда Баба-Яга исчезла и пошла зажигать бенгальский огонь, мы с царевичем стояли (роль Василисы
Прекрасной Муся, конечно, взяла на себя.) в густом дыму и верили в свою неотразимость».
Вот это был успех так успех! Но… всё хорошее быстро кончается, пришел конец и этим невинным детским забавам. Уже через год Муся поступила в Павловский женский институт. Впрочем, и там, помимо напряженных занятий и выработки безупречных манер — «привычки к гостиной», — случались свои праздники. И самое волнующее воспоминание: она, двенадцатилетняя, танцует на балу с высоким подростком Михаилом Лангом… Михаил — Мика, будущий Крылатый — учился тогда в Морском корпусе, готовясь стать потом лейтенантом Черноморского флота. Будущий капитан дальнего плавания влюбился в Мусю Волынцеву совершенно, как принц в Золушку! И… Золушка не убежала, не потеряла туфельку, но совсем потеряла голову от счастья.
Были и еще головокружительные встречи. А потом… Жизнь надолго разведет их. Бурные хляби моря житейского обернутся сыпнотифозной горячкой на Кавказе, затем эмиграцией… Придет час — и уже в Париже Мария Вега прочтет однажды в газете траурное извещение о гибели лейтенанта Ланга. Прочтет — и всё же ни на единый миг не поверит этой черной вести! Сердце, вопреки очевидному, подсказывало: он жив! Она будет ждать, искать, надеяться на невозможную встречу… И чудо все-таки произойдет! На закате дней она найдет своего далеко-далеко уплывшего принца. С седыми висками, но по-прежнему статный, он предстанет перед ней. Он подарит ей топазы, привезенные с Цейлона, он увезет ее в Майами, в свой маленький белый домик, точно снятый с новогодней елки. Когда-то, глядя на игрушечный елочный домик, она сказала ему: «Хочу войти в такой!» — и он уверенно ответил ей: «Войдешь!» Когда они пересекали Атлантический океан, то увидели две радуги, стоящие «ни на чем» над свинцовой водой, и вошли в эти семицветные ворота…
Сказка со счастливым концом! Правда, жить в Америке Мария Вега все-таки не смогла. Уж очень непривычно было всё, начиная с климата, фауны и флоры. Ну, вот хотя бы такая милая деталь: невыносимо жарко, Мария Николаевна собирается принять прохладную ванну, а в ванне — огромный, с блюдце, тропический паук! С криком она кидается к Мике, а тот невозмутимо говорит, не отрываясь от книги: «Ну, что же тут страшного, захотел купаться — и купается!» Но паук любитель водных процедур — это бы еще полбеды. А вот как разобраться во всех этих бесчисленных сто седьмых и тысяча восьмых авеню? Мария Вега, как многие поэты (вспомним, хотя бы Анну Ахматову, не умеющую переходить улицу! Марина Цветаева тоже отродясь не умела…), ориентировалась в пространстве не без труда, а что касается цифр, ей легче было бы прочесть и запомнить клинописную ассирийскую табличку…
В конце концов. решили выбрать более спокойный вариант: простившись с белым домиком, Ланги перебрались в Швейцарию, где им было суждено прожить вместе десять счастливейших лет. Снятая квартирка превратилась для них в Дом покоя, Мика, по Булгакову, стал Мастером, и Мария-Маргарита собственноручно вышила для него на шапочке букву «М»… Но и он в долгу не остался: как-то раз к празднику взял и сшил для нее… платье! Руки у него вообще были золотыми. Он сам мастерил книжные полки, умел починить всё, и Мария Николаевна не однажды с гордостью говорила: «Какой практичный морской волк!»
Они разделяли радости и беды. Последних тоже выпало немало. Годы и болезни брали свое (у Михаила Максимилиановича был наследственный диабет). Открывшаяся язва на ступне, ампутация ноги — дважды… Перед смертью Михаил Ланг пожелал, что если Марии Николаевне будет все-таки суждено вернуться в Россию, то чтобы урна с его прахом нашла успокоение на дне морском… Если не в Черном море, то хотя бы в Финском заливе, в балтийских водах. Мария Николаевна свято выполнила его волю — это произошло невдалеке от Кронштадта — и пожелала, когда придет ее час, быть похороненной там же и так же… (И ее воля была выполнена — мы сделали это с Майей Луговской и ее родственником, моряком. Но это уже совсем отдельная, особая история…)
Однако я всё время забегаю вперед, что и неудивительно: так причудливо сложилась жизнь Марии Веги.
Вернемся к тому моменту, когда она вместе с отцом и тетей оказалась в эмиграции, в Париже. (Несколько лет, впрочем, она прожила также в Ментоне, на юге Франции.) Начиная с тридцатых годов ее имя становится известным, и не только во Франции, но и в Бельгии, в Италии, в США, в других странах. У нее выходят в Париже три сборника стихов: «Полынь» (1933), «Мажор в миноре» (1939), «Лилит» (1955), по которым стало ясно, что она — крупный и неповторимо-своеобразный поэт. Обрела она известность и как драматург и романист. Благосклонный прием читателей и критиков встречают два ее романа — «Бронзовые часы» и «Бродячий ангел». На одном из публичных чтений (Мария Вега знакомила парижскую литературную публику с отрывками из романа «Бронзовые часы») оказался сам «Иван Великий» — так почтительно именовали в эмигрантских кругах Ивана Алексеевича Бунина. Дождаться от него комплимента было, как известно, не просто — с таким же успехом можно было выжать из камня воду. Мария Николаевна прочла, в частности, отрывок о русском лесе, который стоит того, чтобы привести его целиком:
«Русский лес — стихия. Думая о нем, надо отрешиться от всех лесов земли, и страшных, и очаровательных, зажмуриться, забыть Шварцвальд, забыть кудрявые леса Франции с гротами фей и останками аббатств, забыть о джунглях, об Аляске, о Канаде и смотреть изо всех сил в то дальнее стеклышко, спрятанное в тайниках памяти, сквозь которое увидишь забытый и незабываемый русский лес. Не думайте ни о чем, что делает его специфически русским: почерневшая богомолка, мужик с вязанкой хвороста, нестеровский пастушок с его лаптями, дудкой и пегой телкой, забудьте глубоко врезанную в черную землю колею от расхлябанного колеса, и лошадей, выезжающих в „ночное“, и Хоря с Калинычем, и вурдалака, и врубелевского Пана, и прислушайтесь к простым словам: „И смолой, и земляникой пахнет темный бор“. Почему они так волнуют? Почему так остро дают почувствовать именно русский бор — тульский, черниговский, костромской, со всей его темной, сочной, жуткой и упоительной глубиной, а не французский лес и не скандинавский, хотя они тоже пахнут смолой и земляникой, те же в них корявые пни, курящиеся на закате болотца и свечки подосиновиков в тонкоствольной чаще. В чем дело? А в том, что и смола, и земляника, и горящий на солнце мухомор, и могучее дыхание земли в России совсем другие… Но какими словами изобразить ту смесь запахов, красок, сказочности, печали, древности, дикости и торжественного покоя, в которую душа погружается, медленно закрывая глаза, при воспоминании о лесе своего детства, о русском лесе?» Внимательно прослушав это лирическое «стихотворение в прозе», Бунин выразил безоговорочное одобрение: «Вот как надо писать!» Это произвело на всех большое впечатление. А уж когда, уходя с вечера, Иван Алексеевич перепутал шапки (у Марии Николаевны и у него они были одинаковые, из серого каракуля, только у Марии Николаевны поновее, чего Бунин величественно не заметил) и ушел в головном уборе Марии Веги, — та, конечно, не решилась указать мэтру на его ошибку, — тут поклонники Бунина и вовсе ахнули: счастливица! Ей досталась шапка самого Бунина! Друзья потом подшучивали: «Ну, как? Не тяжела ли шапка Мономаха?» Однако это всё, как говорится, мелочи, а вот похвала Бунина действительно дорогого стоит.
Память сердца неизбывна. Столько лет прожив в чужих краях, Мария Вега сумела сохранить в первозданной яркости и чистоте всю ту «смесь запахов, красок, сказочности, печали, древности, дикости и торжественного покоя», которая — кратко — и есть Россия. Эти запахи и краски оживали на ее полотнах (картины Марии Веги выставлялись в парижском Салоне), царили в стихах, и недаром ее первый на Родине поэтический сборник, изданный при содействии Комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом в 1970 году, назывался «Одолень-трава».
Одолей, трава-одолень,
Всё, что в жизни неодолимо…
Сборник этот явился «первой ласточкой» в эпопее возвращения на Родину. Радуясь его выходу, Мария Николаевна признавалась, однако, что не во всем она согласна с его составителем, Г. К. Талько (которого шутя называла «такой французский Жорж Талько», а также «мой Вергилий»), говоря, что, будь у нее возможность, она совсем другую книгу бы составила. Оно и понятно — при всех дружеских связях с Комитетом, тут были и свои «подводные камни»: от Марии Веги — замечательного поэта — бесконечно требовали разные «отклики»… то на речи Брежнева, то еще на что-либо подобное, и всегда «срочно, в номер», — сколько же сил и нервов это отнимало!
Тут необходимо сказать следующее. Прекрасное и глубокое чувство патриотизма, которое невозможно ни отрицать, ни сбрасывать со счетов, говоря о ее творчестве, было так же несовместимо с казенным псевдопатриотизмом, как трепетная лань и конь из известной поэмы. Но коня и трепетную лань упорно стремились запрячь в одну тележку — из соображений, бесконечно далеких от поэзии!
Но всё перевешивало стремление вернуться на Родину — во имя этого Мария Вега готова была, как андерсеновская Русалочка, ходить по ножам. Но только не онеметь, потому что каждым словом она служила своей «сероглазой вечной Матери»! Она писала мне в одном из писем: «Даже то прекрасное, что удалось повидать в разных странах, мне уже ничего не говорит… Только Россию, такую неизведанную, такую необыкновенную, я была бы готова пешком исходить, и на это не хватило бы длинной жизни. Меня на импрессионистов заманить невозможно: всем им предпочту московский переулочек, низкий старый домик за забором, тоненькие осенние деревья, огромное московское небо».
В этом нет никакой «узости интересов». Наоборот, и Марию Николаевну, и всецело разделявшего стремление к «неизведанной России», Михаила Максимилиановича интересовало всё: картины, выставки, театральные постановки, фильмы, лекции о поэзии, которые я в те годы читала (рассказывая своим слушателям и о стихах Марии Веги, что глубоко волновало и трогало ее…), даже диссертацию мою о судьбах пейзажа они одолели поистине героически, с лупой в руках — четыреста страниц! — встречи с людьми, нравы, судьбы, лишь бы это касалось России. Пластинки, книги, открытки, рисунки, стихи шли в Берн бесконечным потоком, а они всё просили меня: «Присылайте, присылайте свет в конвертах».
После смерти Михаила Ланга жизнь в Берне потеряла для Марии Николаевны всякий смысл. Не говоря о том, что она оказалась на грани полной нищеты (уже и до этого, из-за катастрофического падения доллара, что сказалось на пенсии Крылатого, эта угроза надвигалась…), она и душевно не могла опомниться от потери своего «близнеца». Всё окружающее казалось ей «картонными декорациями», жить стало не на что (уроки французского едва-едва давали возможность как-то существовать), а главное — незачем… Берн терял свое былое очарование, на глазах становился чужим и враждебным. Налоговые чиновники, квартирохозяева и вся армия «бессмертной пошлости людской» терзали ее, как могли. «А ведь я, кажется, поэт! Разве поэта так затаптывают?» — горестно недоумевала она, и все ее помыслы были об одном: чтобы «сероглазая вечная Мать» услышала, позвала… Иногда она так и засыпала, в изнеможении, с телефоном на груди, боясь пропустить долгожданный звонок из Москвы… И порой он раздавался, и Вергилий упрашивал: «Голубушка, переждите как-нибудь, вопрос решается!» Это длилось, кажется, без конца. Но вот — свершилось!
Как забыть 25 августа 1975 года, день ее возвращения на родную землю! Мы встречали ее в Шереметьеве с цветами, а Дина Анатольевна Терещенко, «Мона Лиза», держала в руках… валенки, русские валенки, о которых Вега так мечтала «там», чтобы пройтись по русским снегам!
После всех радостных волнений — отъезд в Ленинград, в уже знакомый Дом Ветеранов Сцены. Всё как будто хорошо: встретили с почетом, комната прекрасная, чудесный парк, еще не знакомые, но вроде бы доброжелательные обитатели «Савинского дома»… Но что вдруг так защемило сердце, отчего в первом же, еще восторженном письме оттуда тревожащий вопрос: «А что же дальше?» — и просьба: «Приезжайте скорее!»?
А дальше было разное. И радостное узнавание заново родного города, прогулки в белые ночи вдоль Крюкова канала, и сирень — любимые цветы Крылатого, и неотступная тоска по нему, и стремление выполнить его завещание вопреки всем житейским преградам… И новые друзья, и старые, не забывавшие ее. И волнения, связанные с выходом книги стихов в Москве… Эти «Самоцветы» (1978) обошлись Марии Николаевне крушением одной из ее иллюзий. Когда-то она жаловалась мне на «пиратские нравы» парижских издателей. Каково же было ее онемение, когда в издательстве «Современник» (главным редактором которого тогда был В. Сорокин) рукопись для начала урезали вдвое, а затем Вергилий — понятно, без свидетелей — заявил ей, что надо отдать часть гонорара для того, чтобы книга вышла «поскорей»! Разумеется, Мария Николаевна не скрыла своего потрясения от меня, а я не собираюсь сейчас скрывать этого от читателей. Понятно, не пойман — не вор, и в чей именно карман попали эти деньги — дело темное, но надеюсь, что каждая монетка, до последнего пятака, еще обернется горячими угольями на Страшном Суде!
И все-таки книга вышла, голос Марии Веги зазвучал на Родине. Она была полна творческих замыслов, на двери ее комнаты бессменно висела табличка: «Я РАБОТАЮ», и машинка стучала вовсю…
В Доме Ветеранов Сцены она обрела нескольких близких ей по духу людей, но в целом атмосфера «преддверия гроба», царившая там, оказалась слишком тяжела для нее. Она не чувствовала себя «достаточно старой», не могла смириться с бесконечными обострениями болезней, со многими «казенными гримасами», которые для нас привычны с рождения… Легче всего, пожалуй, с великолепным чувством юмора переносила бытовые трудности: то вдруг исчезнут во всем городе чай или спички, то нигде нельзя достать нужных по цвету и размеру пуговиц, — дело житейское! Наводнение ее восхитило. Ночные хулиганы, ворующие в парке цветы и овощи с ветеранских грядок и однажды ночью запустившие в ее освещенное окно камнем, ее не пугали. Но от мелких дрязг и столь же мелких страстей, кипевших «в преддверии гроба», она неизменно и неуклонно отстранялась, уходила в одинокие прогулки, в работу… Кольцо одиночества сжимало всё плотней, она чувствовала, что скоро, скоро ее Крылатый приплывет за ней на ночном корабле и позовет за собой… Это не страшило, а радовало.
Книга стихов с таким названием — «Ночной корабль» (1982) увидела свет уже после смерти автора. Мария Вега умерла 27 января 1980 года, собираясь в Москву с подготовленной рукописью о бабушке — знаменитой актрисе, озаглавленной «Александра Карловна». Она вычитывала ее до последних минут. Уже лежал на столе билет; позвонив мне накануне, она сообщила о часе приезда, весело добавив: «А я Вам что-то интересное везу в подарок!» Я никогда не узнала, что же на этот раз она собиралась мне подарить… Ее подарки бывали экзотичными — так, однажды это оказался кокосовый орех, с приложенным к нему стихотворением; драгоценными — большой топаз, из тех, что когда-то привез ей Крылатый; просто милыми и заботливыми — красный японский зонтик, белый пуховый капор. Она подарила мне все свои книги стихов с трогательными надписями, всех своих друзей, столько ярких воспоминаний… Что же еще она могла мне подарить в свой несостоявшийся приезд?
Но, что бы это ни было, самый прекрасный подарок жизни — она сама. Звезда, найденная мной на земле, озарившая мою судьбу надолго. Навсегда!
Двадцать лет я не могла прикоснуться к трем большим папкам, хранившим в себе подлинное сокровище — письма Марии Веги, которые трудно даже сосчитать — ведь наша переписка длилась без перерывов с 1968 по 1980 год. Множество стихов, еще не публиковавшихся, фотографии, ее рисунки. Несколько ее переводов. Два-три письма Крылатого… Всего не перечесть! Это было долгие годы моей «черной жемчужиной», я хранила эти папки, даже не надеясь, что когда-нибудь смогу всем этим поделиться со многими людьми, показать прекрасное лицо этого большого поэта и замечательного, близкого мне, как никто, человека…
Теперь такая возможность представилась. То, что было жизнью, стало книгой. И эта книга — перед вами.
В нее вошли целиком все три парижских сборника Марии Веги, избранные стихи из трех ее книг, вышедших на Родине, а также не публиковавшиеся до сих пор стихи и переводы. Особое место в книге занимают письма — это своего рода документальная «эпистолярная повесть» с множеством интереснейших и живых подробностей. Здесь ничего не придумано и не добавлено: Судьба, эта «Великая комбинаторша», умеет «сочинять» неповторимо-причудливые, трагически-прекрасные жизни лучше нас….
Переводы Марии Вега:
РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ
(1875—1926)
СМЕРТЬ ПОЭТА
Его лицо бледнеющее стынет
Среди подушек… Безглагольный лик,
Отбросив жизнь, сейчас его покинет,
И время безразлично опрокинет
Всё, что он знал о ней, назад, в родник.
О, кто поймет в холодный час конца,
Что из земных бесчисленных узоров,
Глубин, высот, потоков и просторов
Изваяны черты его лица?
Всё то, что целиком отражено
В погасшей маске нежно-беззащитной,
Еще зовет, еще не смущено,
Еще живет в рассеянности слитной.
Но, плавно отдаляясь навсегда,
В последней тишине безмолвно лежа,
Его лицо открытое похоже
На сердце обнаженное плода.
И медленно, как будто с сожаленьем,
Легчайший воздух льется с высоты
И на лету пугливые черты,
Едва задев, туманит первым тленьем.
СИБИЛЛА
Испокон веков считали древней…
Крепкая, она всегда жила.
Проходила тою же деревней
Каждый день.
Иной закон числа
Применили к ней и в страшной смете
Стали дни равнять шагам столетий,
Как деревьев возраст…
Но она
Всё на том же месте вечерами
Возвышалась над судьбой земель,
Спалена, источена годами,
Черная прямая цитадель.
Вкруг нее то буйно, то устало
Бились, трепеща, крича не в лад,
Все слова, что в мире раскидала,
Разметала, не приняв назад.
А другие, заглянув ей в очи,
Тихой стаей замолчавших птиц
Забивались в глубь ее глазниц,
Полных тени и готовых к Ночи.

Я рассказала здесь, в этой маленькой статье, о совершенно забытом поэте, современнице Анны Андреевны Ахматовой, человеке яркой и сложной судьбы, характерной для многих представителей того поколения, поколения «Исчезнувшей Атлантиды». Эмигрантов, живущих в других странах и эмигрантов собственной Души, ушедших внутрь себя, создавших свое пространство. Оно трагическое, быть может, несколько искривленное, растерянное, в нем много боли, но пространство это есть…. Оно похоже на драгоценный ларец. Не полениться только нам, потомкам, его крышечку приоткрыть… Хоть немного…
Судьба Марии Николаевны Волынцевой-Ланг… Проекция ненаписанного романа. Что-то слишком характерное, узнаваемое, недописанное, не прописанное, горчащее неистово, как зрелое горчичное зерно.. Как-то страшно смотреть, вглядываться в зеркало этой судьбы, ибо в ней отражается страна, эпоха, кривые росчерки, недомолвки, гибельность безумия той России, Атлантиды, которую мы никогда не знали..
Узнаем ли? Десятки томов, сотни эпопей могут, должны родиться под пером желающего узнать много больше о судьбе Марии Вега… И, надеюсь искренне, будет вновь звучать где–то в сердце и душе читающего эти строки странная перекличка с судьбами тех, о которых нежно и горестно писала Анна Ахматова в своей петербургской «Поэме без героя», поэме — сне… И, как выдох, вырвется невольно, как сожаление… «О, эта женщина.. Такая же, как все…!» Но я тотчас одерну себя:
Нет, не как все… Мария Вега носила имя — псевдоним звезды. И сама, пожалуй, была для иных как далекая, непостижимая, загадочная звезда… Только свет ее давно рассеялся меж облаками… И едва доходит до нас строками стихотворений.. Ловите, читайте, держите.. Удержите ее на земле…
МИСТРАЛЬ
Мистраль — поэт — лицом к мистралю.
Пусть мертв поэт, — мистраль поет,
Поет, и плещет, и метет
Прованса сумрачные дали.
Разливами косматых туч
Угрюмый запад опечален,
И сходят с неприступных круч
Гиганты каменных развалин.
И дремлет памятник в дыму
Туманных зорь, в огне заката,
Но на лету прильнут к нему,
Пахнув лавандой, крылья брата,
И в запахе родной земли
Опять цветут, как встарь цвели,
Стихи, не знающие ночи,
Бессмертные, как высь и даль…
И мертвому живой мистраль
Целует каменные очи.
1934
ВЕСНА БОТТИЧЕЛЛИ
В мире не было лучше
Симонетты Веспуччи
И не будет во веки веков.
Это личико девичье
В сердце Козимо Медичи
Просияло из облаков,
И, как свечи у клироса,
Флорентийские ирисы
У бессмертных колен склонены,
Восхваляя певуче
Симонетту Веспуччи, —
На земле воплощенье Весны.
В желтых локонах лента,
Это — весь Кватроченто,
Вся лазурь итальянских высот,
И, всегда одинакова,
В самой нежной из раковин
Афродита над миром встает.
Что нам праздники Медичи,
Короли, королевичи,
И луна, и балы, и цветы,
В том, что весел ли, грустен ли
Этой девочки пустенькой
Быстрый путь до последней черты?
Легким взмахом качели
Захлестнув Боттичелли,
Пронеслась над вершинами ив
И пропала за тучей
Симонетта Веспуччи,
Беззаботные крылья спалив.
Но не в смертном луче ли
Уловил Боттичелли
Победившую тленье весну?
Вечность плещет столетьями…
В том же солнечном свете мы
Угасая, отходим ко сну.
Вечность плещет приливами…
Под такими же ивами
Без конца зеленеет трава,
И, всегда одинакова,
В самой тайной из раковин,
Симонетта Веспуччи жива.
1936
РОЖДЕНЬЕ
И снова шелест белых риз,
И преклоненные колени,
И снова жив Квентин Мэтсис
С его палитрою весенней.
Под несказанной синевой,
На полог розово-лиловый
Архангел золотоголовый
Роняет лилии… Травой
И земляникой пахнет в доме, —
Всё как тогда! — Порог, окно,
Тенистый дворик… На соломе
Два голубя клюют зерно, —
Всё как тогда! — У женщин в темном
Жалеющий и мудрый взгляд,
И розаны в кувшине скромном
У изголовия стоят.
Как будто целый мир не тронут
Ничьей виной, ничьим концом,
И дремлет у груди, спеленат,
Ребенок с солнечным лицом.
А тень от двери, так знакома,
Так ежедневна и проста,
Рисует на пороге дома
Две перекладины Креста.
1937
САМОФРАКИЙСКАЯ ПОБЕДА
Лувр
Твой оборвавшийся полет
Еще живет, еще поет,
Дерзки развернутые плечи
И напряженный сгиб колен,
В закат планеты, в пыль и тлен,
В ее чумной угарный вечер,
Слетев с гремящей высоты,
Смертельно раненая, ты
Заискрилась и заблестела,
И бережно несет земля
Обломок древний корабля
И обезглавленное тело.
Несет, дыханье затая…
И тень гигантская твоя
На лик ее, всему покорный,
От крыльев, от разбитых рук
Ложится, замыкая круг —
Туманный, пламенный и черный.
1937
***
Лот говорил о том, что будет скоро
Конец пескам и, встретив свежий сад,
Они найдут в тени, под сикоморой,
Овечий сыр, и мед, и виноград,
Смерчи огня витают над Гоморрой:
Спасется тот, кто не взглянул назад.
Чем глубже в ночь, тем ярче свет пожара,
Краснее небо, золотей пески.
Так вот она, обещанная кара,
Которую сулили старики!
И мечется неистово и яро
Над миром тень Неведомой Руки.
Лот смотрит вдаль, и мускулы окрепли;
За шагом шаг, отчетлив мудрый путь.
За ним дома качались, окна слепли,
У площадей раскалывалась грудь,
Захлебываясь в пламени и пепле…
— «Жена моя, жена моя! Забудь!» —
— «Простой кирпич карбункула был краше,
Когда на нем закатный цвел отлив.
Ни сок плодов из незнакомой чаши,
Ни мирный сон в тени чужих олив
Мне не нужны! Ни упованья ваши,
Ни звонкие серпы грядущих нив.
От трогательных уличных названий
До городской застенчивой весны
Здесь всё мое! Нет для меня желанней
Струящегося вниз, из тишины,
Среди дворов и прокаженных зданий,
Медового сияния луны.
Я к мостовой прислушивалась, вторя,
И каждый шорох знаю наизусть.
Здесь все мои девические зори,
Большая, человеческая грусть.
Теперь, когда настал конец Гоморре,
Лот, не зови меня! — Я оглянусь!
Клокочут лавы огненные реки,
С горящих кровель в лаву льется медь,
О, пусть мои расширенные веки
Хлестнет огня сверкающая плеть,
И, смерть Гоморры отразив навеки,
Я буду перед нею каменеть.
Я буду знать покой надгробных статуй
На пепелище родины моей.
Тебе же Бог укажет край богатый,
Сады мимоз и берега морей…»
Лот уходил, укутав в плащ крылатый
Рыдающих от страха дочерей.
1937
Переводы Марии Вега:
РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ
(1875—1926)
СМЕРТЬ ПОЭТА
Его лицо бледнеющее стынет
Среди подушек… Безглагольный лик,
Отбросив жизнь, сейчас его покинет,
И время безразлично опрокинет
Всё, что он знал о ней, назад, в родник.
О, кто поймет в холодный час конца,
Что из земных бесчисленных узоров,
Глубин, высот, потоков и просторов
Изваяны черты его лица?
Всё то, что целиком отражено
В погасшей маске нежно-беззащитной,
Еще зовет, еще не смущено,
Еще живет в рассеянности слитной.
Но, плавно отдаляясь навсегда,
В последней тишине безмолвно лежа,
Его лицо открытое похоже
На сердце обнаженное плода.
И медленно, как будто с сожаленьем,
Легчайший воздух льется с высоты
И на лету пугливые черты,
Едва задев, туманит первым тленьем.
СИБИЛЛА
Испокон веков считали древней…
Крепкая, она всегда жила.
Проходила тою же деревней
Каждый день.
Иной закон числа
Применили к ней и в страшной смете
Стали дни равнять шагам столетий,
Как деревьев возраст…
Но она
Всё на том же месте вечерами
Возвышалась над судьбой земель,
Спалена, источена годами,
Черная прямая цитадель.
Вкруг нее то буйно, то устало
Бились, трепеща, крича не в лад,
Все слова, что в мире раскидала,
Разметала, не приняв назад.
А другие, заглянув ей в очи,
Тихой стаей замолчавших птиц
Забивались в глубь ее глазниц,
Полных тени и готовых к Ночи.
Кенга 17.04.2015 08:34:33
Отзыв: положительный
я оставила это чтение «на потом»… и вот оно наступило. Благодарю, Лана за память, за знакомство, хотя, конечно, это имя было мне известно, но поверхностно. Сейчас маме отправлю, она обожает всё, что касается истории таких выдающихся личностей.
Ответить
Madame d~ Ash, lady light 17.04.2015 11:20:23
Спасибо… Как то мне сказали, что описывая прошлое я останавливаю время… Имею над ним власть… Не знаю, так ли это. Спасибо.
Елена Талленика 15.04.2015 01:47:48
Отзыв: положительный
У нее великолепные переводы.
А у Вас — стиль)
пишу отзыв второй раз. почему то первый исчез.
Valentina 14.04.2015 16:52:15
Отзыв: положительный
Низкий поклон Вам, Светланочка. Для меня новое имя! Значит, день прожит не зря. Меня особенно тронули стихи про жену Лота. Судьба самой поэтессы, конечно же, ярка и невероятно интересна. Ваш труд бесценен. Дай Вам Бог здоровья и сил и много благодарных читателей. С сердечным теплом и безграничным уважением Ваша почитательница и благодарная читательница.
****
Ди. Вано 14.04.2015 15:44:52
Отзыв: положительный
Как интересно сохраняются в памяти имена… и как досадно, что
круг нашей памяти столь узок.
Поэтому переполняет чувство огромной благодарности Вам, Светлана,
за обогащения, за волнения от знакомства с такими интересными личностями.
У меня пару томиков Рильке.
Многие переводчики отмечают, что он близок русской культуре.
Листаю переводы В. Б. Микушевича
/1971 г. в изд-ве «Искусство»/
Мне ближе приведённые вами переводы М. В.
Их подборка.
И уношу общее впечатление:
В самой нежной из раковин
Афродита над миром встает…
Спасибо вам огромное за труд вашей души.
С поклоном
Несущая мир 14.04.2015 16:03:55
Редкостное имя, пленительная судьба. (c)
Давно не была в Избе, забыла все правила
И как писать отзывы (((:))
Но подписалась на все произведения уважаемого Автора.
Поэтому, как правило читаю и ставлю добрую оценку.
Тем более, как знак с Небес, последний отклик уважаемой и
чтимой мной интеллектуально-возвышенной Дины Ивановой. Ди. Вано:)
Нужное дело творите, Светлана! Увы, забытые Имена заставляете блистать…

Синица Тусенька. Наследница Лилит. Наталия Васильевна Крандиевская — Толстая…
***
Как яблоко, надкушенное Евой,
Моя любовь внушала опасенья.
Отбросили ее пинком усталым,
Пожав плечами в вялом безразличье:
«Уйдешь — уйди, то — не моя забота!»
Как яблоко, надкушенное Евой,
Мой мир упал, и на моих коленях
Заплакал тихо — тихо, как дитя.
А я ему запела: «Будет завтра!»
…
Как яблоко, надкушенное Евой,
Был сладок плод познания привычки,
Что тих твой шаг, что взгляды — осторожны,
И что слова — пленительно — нежны
На пять минут, на полчаса, на день!
Как яблоко, надкушенное Евой,
Любовь моя горчила, сознавая,
Что в мягких травах сочтены мгновения
Ее безумств, и пелена — спадет
Очарований, детских и наивных…
Как яблоко, надкушенное Евой,
Любовь моя увяла, источая,
Немного странный, пряный аромат!
***
О, яблоко, надкушенное Евой!
Его делить никто, никто не станет.
В садах душистых тихого Эдема
К нему неслышно подкрадется птица,
Иль мышь забавная, или — волна ручья
Его слезинкой — каплею омоет..
О, яблоко, надкушенное Евой!
Тобой играл с улыбкой тонкой Ангел.
Иль то был — змий? Уже никто не помнит.
Отброшено рукою, как досадность,
Ты мир добром и злом, как хмелем — пОишь,
И над тобой Тень — сирена плачет,
Та, Первая, которая из пыли, —
Такой же миф, в какой ты превратилось,
О, яблоко, надкушенное Евой!
24 февраля 2006 г.
(Стихи — Светланы Макаренко — Астриковой. Цикл «Лилит».)
***
Несколько этих стихотворений, написанных мною давно, навеяны поэтической строфою и образом Наталии Васильевны Крандиевской-Толстой, третьей супруги Алексея Николаевича Толстого, «красного графа», создателя эпопеи «Хождение по мукам» и исторического романа — компилятива «Петр I».
Наталия Васильевна познакомилась с графом Алексеем Толстым в художественной мастерской, где упоенно занималась живописью вместе с его тогдашней супругой — Софьей Дымшиц, которую считала своей подругой. Н. В. Крандиевская, дочь известного московского книгоиздателя и писательницы, и жена преуспевающего петербургского адвоката, поэтесса, талантливая художница, она вовсе не думала и не гадала что-то менять в своей устоявшейся и спокойной жизни. Но та мимолетная встреча все перевернула в ее Душе, оставившей внутри себя беспокойный, живо заинтересованный, загадочный, золотисто-карий взгляд Алексея Николаевича. Казалось, он пронизывал сердце — насквозь…
Что тронуло Наталию Васильевну позже, уже при второй встрече с графом, читающим в одной из светских гостиных отрывок своего рассказа, — она так не поняла до конца…
Наверное — острое проникновение в суть ее мятущейся, неспокойной Души, что искала свой путь в безбрежном океане жизни. Размеренность безмятежно-довольного существования обычной светской дамы, балующейся «разными художествами» была явно не по ней, но как разорвать невидимые золотистые паутинки, связывающие крылья?
Ей помог все тот же Алексей Николаевич, посадивший ее в укромный уголок, в тени от гостей,
в доме писателя — дипломата Ю. Балтрушайтиса, в Москве — Р.), и принесший две чашки дымящегося чая. Чай остывал, золотистая жидкость становилось коричневой, а они все говорили, говорили и говорили: «Вы боитесь самой себя, Вы должны быть смелее, энергичнее, а в Петербург Вам возвращаться не стоит, прежняя жизнь — не для Вас, милая синица Тусенька!» — горячо шептал он, покрывая ее руки нежными поцелуями.
***
Но, какая тогда — для нее? Жизнь эмигрантки в Берлине и Париже, где в крохотных комнатах Она зарабатывала на пропитание шитьем, освоив искусство портнихи? Она забыла свой каждодневный урок живописи, так свободно занимавший ее время в Москве, забыла нежный аромат духов, щегольство нарядов. Перепачканные акварелями и пылью мордашки сыновей, Дмитрия и Никиты, все время были перед нею, как и их голодные глаза… Алексей Николаевич ночи напролет сидел за столом, писал и рвал написанное. Не получалось очередной главы, не получалось. Начало «Сестер» встретила эмигрантская публика, еще ностальгически не позабывшая прежнюю Россию, — «на ура», но деньги от изданий и чтений уходили быстро, ибо граф так и не научился экономить. Никогда. Вечера в ресторанах, букеты красных и белых роз, вино, щегольские костюмы, коляски, драгоценности и дорогие шубы — все это приходило и уплывало вновь, как мираж.
Оставались лишь ее исколотые иглою пальцы, которые он целовал по вечерам, когда припадок бессильного гнева и ярости оттого, что Вдохновение, как капризная дама, минуло бесследно, — проходил. И — опять писал и опять — рвал написанное, крича и страшно вращая покрасневшими белками глаз: «Пиши сама или — умирайте с голоду!». Она гладила его по голове, словно набедокурившего мальчишку, и шла во двор — прилежно собирать лежавшие на траве, разорванные клочки бумаги с написанным текстом. Она рассовывала их по карманам широкого фартука, чтобы дома — тщательно склеить. А в голове, незаметно, исподволь, рождались свои строки, давно, казалось, уже — ненужные:
Затворницею, розой белоснежной.
Нет имени у ней, иль очень много
Она цветет у сердца моего,
Я их перебираю не спеша
Она мне друг, взыскательный Она — Психея, роза — недотрога.
и нежный, Она поэзия иль попросту — Душа…
Она мне не прощает ничего!
***
Но она — забывала свои стихи. Гнала их прочь. Она полностью растворилась в муже, в его делах, заботах, тащила на себе эмигрантский воз тоски, чужеродности, упований, разочарований и новых тщет. Жила заботами подрастающих сыновей, рисовала с ними гуашью и акварелью синиц и жаворонков, черных дроздов и грачей, и — далекую московскую весну, так не схожую с парижской.. Потом они вернулись в Россию…
Новая жизнь, устройство нового быта. Роскошного — как оказалось. Толстому вернули его усадьбу в Красном Селе, двухэтажный дом с роскошною мебелью и автомобилем, у сыновей была гувернантка, в доме — прислуга. Очаровательная Наталия Васильевна, вновь полностью растворенная в облике своего мужа, вальяжного «красного барина», писавшего новый роман об императоре Петре, в котором должны были проглянуть типичные черты черноусого «отца большевистской империи»; исхитрилась, однако, в промежутках между шумными домашними и светскими вечеринками, написать либретто к опере «Декабристы» (1933 год), ставящейся с ошеломляющей помпезностью в Большом театре.

Алексей Николаевич на тщательно переписанных изящным почерком листах молча поставил — свое имя. И жизнь вновь покатилась своим чередом. Только огромные глаза Наталии Васильевны все темнели и темнели. То ли от невыплаканных слез, то ли от снедавшего Душу внутреннего огня. Она осунулась, похудела, появились первые морщинки, первые «серебринки» в волосах… По-прежнему тонкая, изящная, сдержанная, она вела дом, вечно полный гостей, наблюдала, вовремя ли подан чай «его красному сиятельству» в кабинет из карельской березы, где он писал по ночам или больше — пил, оставляя на столе следы своего невоздержанного пиршества. Уберет прислуга. Убирала — она, по утрам, раньше всех, войдя в кабинет, и подолгу стоя возле открытой форточки. Барабанила пальцами по стеклу. О чем думала? О том, что еще один отрезок Жизни заканчивается. Новый путь ожидает ее. И в нем уже не будет места даже и для Тени того пылко влюбленного в нее человека, что грел ее руки своим дыханием, убеждая покинуть безоглядно прежнюю Жизнь и начать — новую.
В этот раз он — не убеждал. Просто — поставил перед фактом. Любит — другую. Ей лучше — уйти. Сыновья останутся с нею. Он так решил. Ему же с Людмилой Ильиничной, новой избранницею, будет лучше: она молода, весела, энергична, да к тому же, он, шутя, сможет давать ей уроки французского, и так они все таки быстрее найдут общий язык. Она посмотрела на него сквозь пелену слез, тумана, мгновенно застлавшего глаза. Молча надела беличью шапочку, так шедшую ей, и ушла, взяв с собою сыновей и пытаясь сохранить на лице безупречность улыбки…
Ушла — в одиночество сердца, которое знакомо, увы, почти каждой Женщине. Возможно, она не справилась бы с ним, если бы хранительною тенью, безбрежным потоком не появились тотчас рядом строки стихов, которые, казалось, только и ждали своего часа — «Часа Души».
Все ее личное горе расставания, «горе оставленности», ненужности, после двадцати лет полной растворенности в другой, близкой жизни, мгновенно ставшей — «посторонней, чужой»! — утекло в творчество и стало — переплавленным серебром, а, может быть, и — золотом — строчек, многие из которых теперь часто сравнивают по силе и чистоте, ясности и точности — с тютчевскими:
***
Люби — другую, с ней дели
Труды высокие и чувства,
Ее тщеславье утоли
Великолепием искусства.
Пускай избранница несет
Почетный груз твоих забот;
И суеты столпотворенье,
И праздников водоворот,
И отдых твой и вдохновенье, —
Пусть все своим она зовет.
Но если ночью иль во сне
Взалкает память обо мне
Предосудительно и больно,
И, сиротеющим плечом
Ища плечо мое, невольно,
Ты вздрогнешь, — милый, мне довольно!
Я не жалею ни о чем!
***
Родится новый Геродот
И наши дни увековечит.
Вергилий новый воспоет
Года пророчеств и увечий.
Но, будет ли помянут он,
Тот день, когда пылали розы
И воздух был изнеможен
В приморской деревушке Козы,
Где волн певучая гроза
Органом свадебным гудела,
Когда впервые я в глаза
Тебе, любовь моя, глядела?
Нет! Этот знойный день в Крыму
Для вечности так мало значит.
Его забудут. Но ему
Бессмертье суждено иначе.
Оно в стихах. Быть может, тут,
На недописанной странице,
Где рифм воздушные границы
Не прах, а пламень берегут!
Н. В Крандиевская.
Да, страницы все берегли «не прах, а пламень».
Она же — старела, грузнела, все чаще ее одолевали разные хвори, и — неизбежная, густая тоска одиночества. Часто по ночам она смотрела в окно, слушала шум машин и лифта, который поднимался наверх, не к ней. Шаги устремлялись — мимо. Тогда, не пытаясь уже побороть бессонницы, она зажигала лампу. Доставала книгу Александра Блока и читала, читала до рассвета. Часто книгу заменяла тетрадь, в которой появлялись строки, подобные этим:
Уж мне не время, не к лицу
Сводить в стихах с любовью счеты,
Подходят дни мои к концу,
И зорь осенних позолоту
Сокрыла ночи пелена.
Сижу одна у водоема
Где призрак жизни невесомой
Качает памяти волна…
«Волна памяти» качала многое. Ее навещали сыновья, повзрослевшие, уже живущие своей жизнью, тянущиеся к отцу.. Она рассказывала им что-то светлое, свежее о детстве в Берлине, Париже, Москве. О встречах с Буниным, Горьким, Бальмонтом, Сологубом.
Никогда, ни одного плохого слова — о Нем. Она научилась «тишине прощенья» и учила этому — их. Они понимали — без слов. Как жила Она сама все эти годы — известно мало. Вероятно, скромно, но — с достоинством. Последнее — неизбежно для ее стати, для ее Духа.
В годы Отечественной войны Наталия Васильевна очутилась в эвакуации в Алма-Ате и Ташкенте. Но и там не теряла присутствия духа, оставалась приветливой, жизнелюбивой. О своих походах под гору, в больницу, к знакомым, с неизменною палочкой — тростью, сочиняла шутливые стихи, хотя ходить и просто — жить — ей становилось все труднее. Писала воспоминания, вела дневник — стихами и прозою. Дневник каждодневно трудного, но неизменно — солнечного быта.
Она умерла в 1963 году. (В других источниках ошибочно указан почему — то — 1967 год!)
А в 1972 году, стараниями сыновей, вышел ее посмертный сборник стихов «Вечерний свет». Он ничем не напоминал давние, первые два, изданные еще в 1919 и 1921 годах, и полные строк, светлых, пленительных, кружащих голову слегка лукавой, шаловливой прелестью Любимой и Любящей…
В нем, последнем, посмертном, было собрано тяжким, жемчужным, переливчатым грузом, все Бессмертие Мудрости зрелой Женщины. Евы, надкусившей яблоко и передавшей его — Другой. И ставшей — Лилит. И — написавшей в стихах — «Дневник сердца». Оставшийся с нами. Возникающий в неслышной «памяти Души» строфами, четверостишиями, строками. Как, например, сейчас у меня…
Я ищу ответа на эту загадку и не нахожу. Просто отзвук давней мелодии, так тронувшей сердце, что возникла — своя… Невольная, не точная. Но — близкая, созвучная.
Мы все так похожи друг на друга. Женщины, дочери Лилит и Евы… Может быть, потому то иногда наши голоса звучат в унисон? Даже почти столетия спустя.. Яблоко, надкушенное Евой, по-прежнему лежит в травах Эдемского сада…
При написании данной новеллы использованы материалы личной библиотеки и памяти автора.
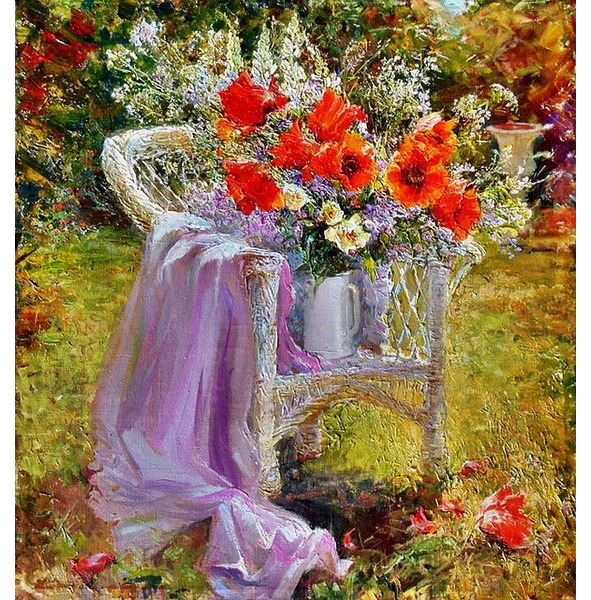
Инна Филиппова 30.04.2015 01:56:12
Отзыв: положительный
Как волшебно и грустно ты о ней написала…
Какая живая, пропущенная через сердце, получилась новелла… или эссе? или биография? я не подберу названия, просто — спасибо тебе еще раз.
Ди. Вано 29.04.2015 08:11:21
Отзыв: положительный
Как много у меня сегодня дум и чувств при прочтении…
Новое для меня имя…
Образ и внутренний мир раскрыт вами удивительно… музыкально и трогательно..
И ваши стихи в начале..камертон.
Схватываешь эту высокую ноту и чувствуешь …СОЗВУЧИЕ..
И это неслучайность..это волна ваших сердец, ваших поэтических душ.
С сердечной признательностью.
Д. Иванова (Ди. Вано)
Ольга Александровна Ваксель. Выстрел Миньоны…

Она сама оборвала этот странный, полувоздушный роман, в стиле Серебряного века, но кто знает теперь может, не раз потом за два года в далеком Осло вспоминала слова и мечты Мандельштама о поездке в Париж, о горячем чае в холодной его квартире, о встречах в Фонтанном дворце, где жила Ахматова и где собирались поэты известные и не очень и до глубоких белых ночей читали стихи…
Когда на выстрел револьвера вбежали в комнату, было слишком поздно… Странно, ее тонкие прелестные черты почти не исказила смерть… Просто они стали еще тоньше, но теперь в них как бы сквозила безмятежность… Может быть, в Смерти она, наконец нашла то, что искала? Обезумевший от горя муж позже найдет и бережно сохранит в ящике своего кабинетного стола все, что так недолго — неполных два года — связывало его с обожаемым Лютиком — Ольгой Ваксель. Среди бумаг и писем, дневников и мемуаров, очень тонко и интересно написанных — им еще предстоит быть узнанными широкой публикой нашел Христан-Иергенс Винстендаль — норвежский дипломат, бывший вицеконсул в Ленинграде — листочек с такими вот стихами:
Я расплатилась щедро, до конца
За радость наших встреч, за нежность ваших взоров,
За прелесть ваших уст и за проклятый город,
За розы постаревшего лица.
Теперь вы выпьете всю горечь слез моих,
В ночах бессонных медленно пролитых…
Вы прочитаете мой длинный-длинный свиток
Вы передумаете каждый, каждый стих.
Но слишком тесен рай, в котором я живу,
Но слишком сладок яд, которым я питаюсь.
Так, с каждым днем себя перерастаю.
Я вижу чудеса во сне и наяву,
Но недоступно то, что я люблю, сейчас,
И лишь одно соблазн: уснуть и не проснуться,
Всё ясно и легко — сужу, не горячась,
Все ясно и легко: уйти, чтоб не вернуться…

***
Кто же была все-таки эта женщина, которая «ушла, чтобы не вернуться», так просто решив все для себя и оставив загадку для других?.. Впрочем, эту загадку мало кто пытался разгадывать.
Ольга Александровна Ваксель родилась 18 марта 1903 года в г. Паневежис (Литва). Она принадлежала к старой петербургской интеллигенции, хорошему дворянскому роду. Мать ее, Юлия Федоровна Львова — известная в петербургских музыкальных кругах пианистка и композитор, была дочерью политкаторжанина — петрашевца Федора Николаевича Львова и, как не парадоксально, близкой родственницей автора знаменитого царского гимна «Боже, царя храни», известного скрипача и композитора, создателя хоровой капеллы, Алексея Федоровича Львова.
Отец Ольги Александровны, Александр Александрович Ваксель — потомственный военный, служил в Кавалергардском полку, вышел в отставку, был предводителем местного дворянства, и как типичный дворянин сохранил «гусарские привычки» — его кутежи и охоты славились на всю округу. Вскоре после женитьбы и рождения дочери (в 1905 году) супруги Ваксель разъехались и мать, решительная и волевая женщина, увезла девочку в Петербург.

Ольга, или Лютик, как ее называли родные, рано проявила тонкие художественные и музыкальные способности, начала учиться рисованию, играла на рояле и скрипке, очень рано научилась читать и читала очень много. Училась всегда хорошо, ровно. Да иначе и не могло быть в привилегированных частных школах и старинном дворянском женском институте Св. Екатерины — с их строгими правилами, жесткой дисциплиной. Но удивительно — при кажущейся казенности и всеобщей обязательности манер, правил этикета, знания языка эти заведения нередко накладывали на человека, окончившего их какой-то особенный отпечаток — изысканности, редкости, неповторимости что ли… А может, просто менялась эпоха, и то, что было нормою, становилось удивительным? (К сожалению).
Вот некоторые из отзывов родных и близких знакомых Ольги Александровны Ваксель: «Лютик была красива. Светло-каштановые волосы, зачесанные назад, темные глаза… Ни одна из фотографий не передает ее тонкую одухотворенную красоту… Она была необыкновенной, незаурядной женщиной. Чувствовался ум, решительный характер. И в то же время ощущалась какая — то трагичность» (Ирина Чернышева — близкая подруга Ольги)
«Ей нравилась острота жизни. Могла легко увлечься, влюбиться… Влюблялась она без памяти и вначале все было хорошо. А потом тоска, полное разочарование и очень быстрый разрыв. Это была ее натура с которой она не могла совладать… Браки ее быстро заканчивались. Она уходила и все оставляла. Её сильный характер оказывал влияние на других. Заставлял как-то подтягиваться, что ли. Лютик делала много глупостей, но всегда чувствовалось, что она выше окружающих на несколько голов…» (Елена Тимофеева, тоже одна из близких подруг, та что до конца жизни сохранила память о ней, ее стихи и ученические тетради… Она продолжает.) «В ней не было ничего такого, что называют мещанством… За модой не гналась никогда, но все в ней казалось модным и полным изящества…
Анна Ахматова сказала о ней: «Ослепительная красавица».
От признанной всеми чаровницы Ахматовой трудно было ожидать такой похвалы, тем более, Анна Андреевна, несомненно знала, что Николай Степанович Гумилев пытался ухаживать за Ольгой Александровной вплоть до ее брака с А. Ф. Смольевским, которого он терпеть не мог! Ухаживал серьезно за Ольгой и брат Осипа Мандельштама, Евгений, даже был с нею помолвлен, ездил на Кавказ, куда она отправилась отдыхать с маленьким сыном, но все закончилось размолвкой и поздними сожалениями «О том, что Лютик от него ускользнула…»
Да она ускользала и упархивала от многих, но так ли уж легка и беспечна была ее жизнь, как на первый взгляд казалось подругам, пусть и ближайшим?
Выйдя замуж в июне 1921 года за Смольевского — преподавателя математики и механики в Институте путей сообщения — предмет своей давней детской влюбленности (о, она влюблялась с 10 лет — признак раннего развития души и бурных страстей — вспомним Лермонтова и Байрона!), она вынуждена была оставить учебу на всевозможных курсах, на которые записалась, так как муж требовал ее постоянного присутствия дома, хотя сам был днями занят в институте. Оставаясь в доме одна, в промежутках между всяческими бытовыми хлопотами, Ольга самозабвенно писала стихи, а вечерами вместе с мужем проверяла работы студентов. Арсению Федоровичу был несколько чужд ее восторженный и тонкий внутренний мир, он смеялся над ее стихами, долго не хотел иметь ребенка, но Ольга Александровна настаивала, считая, что ребенок укрепит их союз, и ее жизнь будет иметь внутренний смысл. Однако, вскоре после рождения сына (в ноябре 23 года) она тяжело заболела и едва не умерла. Врачи признали острую форму менингита, последствиями которого остались острые периоды подавленного настроения в осеннее время. Семейный разлад обострялся, Ольга ушла от мужа и добилась развода, что было нелегко: А. Ф. Смольевский не давал развод, преследовал Ольгу письмами раскаянья, мелко шпионил за нею, устраивал бурные скандалы и в конце концов, нанес последний удар, оставил у себя сына, запретив матери приходить к нему.
Чтобы убежать от отчаянья, найти применение своему внутреннему богатейшему потенциалу, Ольга стремится найти работу, обрести независимость.
К этому времени относится начало ее занятий в производственной студии «ФЭКС» — «Фабрика эксцентрического актера» — и встречи с Осипом Мандельштамом и его женой Надеждой Яковлевной.
Осип Мандельштам, помнивший Ольгу еще подростком дворянского института, которую он навещал вместе с близким другом ее семьи Максом Волошиным, был сражен мгновенно!
Кто может заглянуть в душу поэта и сказать, как развивается любовь? Кому это под силу?..
Осип Эмильевич вообще был очень влюбчивым человеком, «тонким ценителем тонких душ», как было сказано где-то позднее, а тут еще и родственная натура — сошлись два человека близких духовно, с общностью интересов… Это был странный роман. Ольга Александровна познакомилась с Надеждой Яковлевной, очень полюбила эту «умную, теплую и сердечную женщину», как писала она сама в своих воспоминаниях. Ее смущал и мучил, а иногда и смешил тот треугольник, который образовался из-за чувств поэта к ней.
Он настойчиво приглашал ее к себе домой, говорил ей о чувствах, о том, что увлечен ею. «Он был большим поэтом и неудачником в жизни» — заметит в своих мемуарах Ольга Ваксель, хотя ее саму Надежда Мандельштам назовет «беззащитной принцессой из волшебной сказки потерявшейся в этом мире»
Беззащитная принцесса не говорила признанному поэту, что пишет стихи и пишет серьезно (сохранилось около 150 ее стихотворений и набросков в рукописях). Она считала это частью своего внутреннего мира. И предпочитала выслушивать рифмы Мандельштама, отрывки из его переводов, правленые рукою Надежды Яковлевны…
Вероятно она не оставалась равнодушной к проявлениям чувств поэта, к его строкам, написанным тайно и посвященным ей.
Но она не могла брать то, что не принадлежало ей. Она не могла предать женщину, которую считала подругой и которая уже начинала видеть, ревновать и страдать… Осип запутался окончательно во всех этих противоречиях и было жаль на него смотреть… «Для того, чтобы увидеть меня лишний раз и говорить о своей любви ко мне, он изыскивал всевозможные способы встреч… Он отчаянно цеплялся за остатки здравого смысла», — с горечью пишет Ольга Александровна.
«Однажды он снял номер в „Англетере“ и назначил мне встречу там, Чтобы переговорить о том, что касается только нас. Я заранее знала, что это будет и пришла сказать, что мне все это надоело и я более не смогу бывать у них, он пришел в такой ужас, плакал, становился на колени, уговаривал меня пожалеть его, говорил в сотый раз, что он не может без меня жить и так далее… Скоро я ушла и больше у них не бывала», — продолжает Ольга Александровна… «Я ничего не слыхала о Надюше (Н. Я. Мандельштам) в течение трех лет, пока не приехала на съемки в Детское Село, где мы мельком и увиделись с нею…»
Она сама оборвала этот странный, полувоздушный роман, в стиле Серебряного века, но кто знает теперь может не раз потом за два года в далеком Осло вспоминала слова и мечты Мандельштама о поездке в Париж, о горячем чае в холодной его квартире, о встречах в Фонтанном дворце, где жила Ахматова и где собирались поэты известные и не очень и до глубоких белых ночей читали стихи…

Стихотворения Мандельштама, посвященные «беззащитной Принцессе» носят глубоко личный характер, и нельзя поверить тому, что весть о ее смерти он принял равнодушно, как сказала позже его вдова.
Чем же объяснить тогда глухую ревность и ненависть к Ольге Ваксель спрятанную в несправедливых, неправильных строках Надежды Яковлевны в ее «Второй книге» воспоминаний?.. Болью отвергнутой Женщины, более ничем, ведь как говорила о ней Ольга Александровна, «Она всегда претендовала на монополию»… Это, конечно, было полным правом жены Поэта. Не об этом сейчас разговор.
Он ласково звал ее: «Миньона» — за ее тоску по солнцу и югу. Она уехала в далекую пасмурную Норвегию… Чтобы там забыть его? Чтобы там вспоминать его?.. Чтобы уйти, оставив близким и немногим друзьям легкую, как дымка вуали, загадку своей трудной и яркой жизни и загадку тайной, оборванной любви, о которой мало кто знал.
Лишь однажды у него в стихах вырвется: «Я тяжкую память Твою берегу». А она и вовсе промолчит, ведь мемуары писались под диктовку…
Останутся четыре бессмертных стихотворения с посвящением ей и заметка Ахматовой на полях рукописи — книги: «Кто такая Ольга Ваксель мы не знаем…»
Ди. Вано 27.04.2015 15:05:49
Отзыв: положительный
Спасибо.
Судьба … Так угасают звёзды…
Я расплатилась щедро, до конца
За радость наших встреч, за нежность ваших взоров…
Тональность отправляет к вашим главным героям..к мировосприятию фея.
Ахматова писала:
«Кто такая Ольга Ваксель мы не знаем…»
Спасибо, мы теперь знаем.
Спасибо за ауру поэзии…
С теплом.
Д.
Надежда Григорьевна Львова. «Надломленная орхидея»

…Бр — рр… Подумаешь! Как еще можно остаться в последнем десятилетии русской поэзии, в этом роскошно — изломанном «серебряном веке», освещенном звездой креста Петербургского ангела на игольчатом шпиле крепости, с бликами фонарей в невской воде. И струями Иматры, с шумом обрушивающимися в воду, и перекрывающими золотыми брызгами их негромкие голоса и жадность поцелуев?! Иматра. Финляндия. Счастливые мгновения. Они закончились. Ничего и никогда более не будет… Как уйти, не задержаться в этом темном провале, называемом жизнью? Или — остаться? Чем?!
Шляпка, низко надвинутая на светлые, гладко зачесанные волосы, подчеркивающие профиль.. Картавость, перчатки, упрямство, пылкость.. Револьвер. Все — ее. Все — в ней. Надежда закусила губу, решительно посмотрела в зеркало, встряхнула перо на деревянной вставке, и продолжила царапать им бумагу, почти разрывая ее:

«И мне уже нет [сил?] смеяться и говорить теб [е], без конца, что я тебя люблю, что тебе со мной будет совсем хорошо, что не хочу я „перешагнуть“ через эти дни, о которых ты пишешь, что хочу я быть с тобой. Как хочешь, „знакомой, другом, любовницей, слугой“, — какие страшные слова ты нашел. Люблю тебя — и кем хочешь, — тем и буду. Но не буду „ничем“, не хочу и не могу быть. Ну, дай же мне руку, ответь мне скорее — я все-таки долго ждать не могу (ты не пугайся, это не угроза: это просто правда). Дай мне руку, будь со мной, если успеешь прийти, приди ко мне. А мою любовь — и мою жизнь взять ты должен. Неужели ты не чувствуешь [одно слово неразборчиво] этого. В последний раз — умоляю, если успеешь, приди. Н.»
…Но придет ли он? Пожала плечами, усмехнулась самой себе, вслушиваясь в порывы ноябрьского холодного ветра за окном… Зябко. Неуютно. Что — то кипело в горле, кололо иглами, и пустота холода расширялась внутри, оседая, как хрустящая глыба льда… Может быть, зря она пишет все это? И что там, потом … за темнотой? За плывущими волнами Небытия? Она не могла их представить, вообразить.
Надежда старалась не вспоминать его рук, его слов, сумрачного блеска глаз, резкого, характерного профиля. Не вспоминать тот полу — вечер, дрожащее серебром наступление сумерек в неоампирной, со старинно-роскошной, темной мебелью редакции журнала» Русская мысль», куда в первый раз пришла к нему, принесла свои стихи… Неумелая, неловкая, ограненная лишь в пламень чувства, рифма… Но — какой пламень, не рдеющий тихо, а — ярчайший, до предела, до самосожжения сердца изнутри, до потрясения основ души! Она помнит, что, придя тогда вечером, домой, не ела, не пила, не вздохнула, а лишь кинулась порывисто к столу и тетрадям, чтобы записать то, что хлынуло из нее рекой, полноводной, совсем — не ручейком:
Я была в каких-то непонятных странах:
В небесах, быть может. Может быть, в аду.
Я одна блуждала в голубых туманах
И была бессильна… В жизни — как в бреду.
Колыхались звоны… Я не помню звуков.
Голоса дрожали… Я не помню слов.
Сохранились только перебои стуков
Разбивавших сердце острых молотков.
Кто-то плакал страстно. Кто-то к небу рвался.
Я — была покорна. Я — не помню дней.
Лунный луч склонялся. Лунный плач смеялся,
Заплетая нежно кружево теней.
Он ворошил ее листки с интересом, искоса взглянул на нее, сразу сразив этой нотой и искрой в зрачках, чуть желтоватых..
Потер высокий, покатый лоб тонкой, нервической рукой с холеными ногтями, отполированными до блеска. Еще взглянул, словно ожидая ответа …Но она — ничего не сказала. Затаилась в выдохе — вдохе.
Как бабочка на цветке. Только взмахнула ресницами, ответила тихо, неясно, рдея щеками, когда он о чем то спросил, предложил разобрать стихи, опубликовать несколько, в очередности. Что то он говорил о датах.. Она не помнила.. Только блеск его глаз из — под мохнатых ресниц.. Как всполохи молний…
Флирт меж ними был томительно — романтичным, пылким, красивым неожиданным для нее: цветы, театр, рестораны, прогулки на лихаче, поэтические вечера, знакомство с друзьями любимого. Она предалась нахлынувшему чувству со всею первородной страстью, нарушая девичий свой не — покой стремительностью и напором воображения, пылкого — донельзя.
Она и вообще то, все и всегда делала — пылко, стремительно, в бешенстве напора: увлекалась стихами Блока, романами Вербицкой и Арцыбашева, революционными прокламациями, бегая по мятежной, заснеженной, неспокойно бурлящей Москве в1905…
Наденька Львова так старательно исполняла все поручения своих товарищей, так самозабвенно, отчаянно, на ходу декламируя что то из Блока и Бодлера, что не заметила, не впустила в душу нескольких часов, проведенных в тюремной камере, и отважно заявила седоусому, удивленному жандарму, выпустившему ее под расписку, на поруки отца, как несовершеннолетнюю:
— Вот Вы меня отпустите сейчас, а я буду продолжать свое дело!
— Пойдем, Наденька, пойдем! — суетился подле нее отец, тихий человек в выцветшей почтовой шинели с зеленым кантом, и за что то благодарил жандарма, а она сердито сверкала глазами, чуть пофыркивая: «Зачем еще и это унижение?!»
Вернувшись домой, с родителями несколько дней — не говорила, разбросала по дому вещи, все куда то собиралась, перетряхивала старые, еще гимназические, платья, воротнички, пелерины, фальшивые бижу, рассеянно пила чай, роняя щипчики, сахар, ложки: все мимо, мимо…
…Смотрела в книги, страницы, не читая, не шевелясь, замерев, поверх страниц, что то чертила в альбомах с кожаным переплетом… Походила на притихшую и подраненную слегка, бездумно, птицу. Отец и мать боялись, что сорвется, уедет изих подольского тихого домика, с резными ставенками, канет в бездну в безумной этой, непонятной, говорливой купеческой, адвокатской мануфактурной, с пышной оперой Саввы Морозова, спектаклями Народного Дома, блестяще — конфетной, с маревом шоколадного дыма над Яузой….
И канула. Несколькими годами позже, носясь с друзьями по литературной чреде вечеров: Илья Эренбург и Николай Бухарин неустанно сопровождали ее всюду, смеясь ее увлечению артистическим шумом богемы». Она фыркала, отчаивалась, негодовала, но что то писала в в тетрадях, неустанно, изящными, неразборчивыми петельками:
…И Данте просветленные напевы,
И стон стыда — томительный, девичий,
Всех грёз, всех дум торжественные севы
Возносятся в непобедимом кличе.
К тебе, Любовь! Сон дорассветной Евы,
Мадонны взор над хаосом обличий,
И нежный лик во мглу ушедшей девы,
Невесты неневестной — Беатриче.
Любовь! Любовь! Над бредом жизни чёрным
Ты высишься кумиром необорным,
Ты всем поешь священный гимн восторга.
Но свист бича? Но дикий грохот торга?
Но искаженные, разнузданные лица?
О, кто же ты: святая — иль блудница!
…Так она и не разобрала, так и не поняла, что же была любовь для Брюсова. Страсть, увлечение, победа над скукою, томлением, сжигающий душу интерес, будоражащий нервы?… Она слышала краем уха о Нине, победительной Петровской, знала и об иных гибельных увлечениях своего кумира: об опии, морфине, безудержном вакхическом винопитии, но только пожимала плечами. Когда флирт перерос в нечто большее, Наденька начала требовать внимания, дарила его другим, как бы в отместку, кусая губы, писала кому то летучие, чуть нервные, письма, пряча светлый ум в косые строфы письма. Ей симпатизировали многие из литературного окружения: Борис Садовский, Владислав Ходосевич, Анна Ахматова.. Ахматова нравилась и ей, причем — безусловно, безудержно.

***
Наденька, сочиняя и живя, пыталась всячески подражать стройности и гармоничности ее строф и облика. В скромной комнатке Львовой, на Иерусалимском подворье, появлялись, то и дело, дорогое белье, модные платья, книги, статуэтки, духи.
Но, днем удачно играя роль кокетливо серьезной курсистки, вечерами она писала в тетради, закусывая нервически губу, и внутри себя отчетливо осознавая, что эти строки мало кто прочтет, а если и прочтет, то вскоре — забудет:
Мне хочется плакать под плач оркестра.
Печален и строг мой профиль.
Я нынче чья-то траурная невеста…
Возьмите, я не буду пить кофе.
Мы празднуем мою близкую смерть.
Факелом вспыхнула на шляпе эгретка.
Вы улыбнётесь… О, случайный! Поверьте,
Я — только поэтка.
Время бежало. Любимый ею безумно поэт, кумир, полубог, человек, временами назначал свидания, нервически ломал пальцы, ничего не предпринимал, туманно обещая. А потом уже и не обещал. Она осознавала, что все катится в бездну, но у бездны не было углов. Просто все меркло… Она звонила Ходасевичу. Жаловалась на жизнь. Тот перебивал ее. Живо. Горячо. Она вешала трубку.
Зачем ей рестораны, номера в «Дону», ложа в театре, красная лента в волосах? Скучно. Все то же и те же…
В 1913 году вышел ее поэтический сборник «Старая сказка» с изысканным предисловием Брюсова. Стихи разошлись мгновенно по Москве и Петербургу. Читались, но не перечитывались.
Анна Ахматова, позже, уже после гибели Львовой, напишет в журнале «Русская мысль»: «Её стихи, такие неумелые и трогательные, не достигают той степени просветлённости, когда они могли бы быть близки каждому, но им просто веришь, как человеку, который плачет…»
Она, Наденька Львова, и, правда, плакала. Разрывая сердце отчаянием, писала Брюсову, категорично и пылко: «И, как и Вы, в любви я хочу быть „первой“ и единственной. А Вы хотели, чтобы я была одной из многих? Вы экспериментировали с ней, рассчитывали каждый шаг. Вы совсем не хотите видеть, что перед Вами не женщина, для которой любовь — спорт, а девочка, для которой она — всё…» (Н. Г. Львова — В Я Брюсову. Письмо от 9 сентября 1913 года.) Стихи ее стали иными, трагичными, полновесными, яркими в обреченности. Приобрели густые «аметистовые» краски. Вот одно из них:
Мне заранее весело, что я тебе солгу,
Сама расскажу о не бывшей измене,
Рассмеюсь в лицо, как врагу, —
С брезгливым презрением.
А когда ты съёжишься, как побитая собака,
Гладя твои седеющие виски,
Я не признаюсь, как ночью я плакала,
Обдумывая месть под шприцем тоски.
1 ноября 1913 года
Она никому и ни в чем не признавалась.. Хохотала, уже не картавя и не стесняясь, веселилась на вечеринках, прилежно посещала курсы, мерила шляпки в салонах, писала письма брату — гимназисту. А по вечерам перебирала рукописи, перевязывала лентой, ставила сургучную печать. Все порывалась отправить любимому. Он их — не принял. В одном из писем написал жестко и печально, без оглядки, не то — манерничая — не то предугадывая: «Эти дни, один с самим собой, на своём Страшном Суде, я пересматриваю всю свою жизнь, все свои дела и все помышления. Скоро будет произнесён приговор»…
Приговор. Она решилась произнести его 24 ноября 1913 года, выстрелом в грудь из револьвера. Перед этим звонила Брюсову. Просила приехать. Он приехал. Она умирала. Говорить не было сил. Выстрел был точным. Пуля сразу пробила сердце
Ее хоронили растерянные родители, брат — гимназист. После похорон на Миусском кладбище они поспешно собрались, уехали, увозя кое как упакованные вещи, тетради, которые в девяностых годах попали к собирателю и коллекционеру, изучавшему творчество Валерия Брюсова А. В. Лаврову,
Он писал о Надежде Григорьевне так:
«Для Львовой любовь, овладевшая ею, составляла всё её существо, была единственным содержанием её жизни, и она ожидала от Брюсова взаимного чувства, исполненного такой же полноты и интенсивности».
Да. Разумеется, не встретив ответного «костра души» Львова восприняла эпилог отношений, как жизненную катастрофу. Иного быть просто не могло, ибо она такова была она сама, «предвосхитившая силой чувств, эмоций, страстей, Марину Цветаеву, как написал позже Е. А. Евтушенко в своей «Антологии поэтов» В ней имя Надежды Григорьевны Львовой, изящно — незаметной» поэтки» изломанного, серебряно — туманного века, с разливами Невы и Москвы — реки осталось. Навсегда. Как редкостный цветок орхидеи, расцветающей томно, остро, бурно, ароматно, пахуче, властно, в темноте ночи, под светом зеленовато холодных звезд, скользящих, неспешно и стремительно, по невскому или яузскому льду, в томительно холодном вальсе беспамятства.
Могила Надежды Львовой на Миусском кладбище — не сохранилась. Пистолет, из которого застрелилась поэтесса, был подарен ей Валерием Брюсовым.
Ди. Вано 22.07.2015 13:09:08
Отзыв: положительный
И текст Ваш.. …густые «аметистовые» краски…
С понимание душевного состояния «поэтки» до самого донышко..
Это и волнует и восхищает.
Поклон.
Аделаида Казимировна Герцык — Жуковская. «Судгейская сивилла»…

Поэтесса переводчица, автор «Подвальных очерков», изданных посмертно.
В зимней Москве 1911 года, в квартире издателя Дм. Жуковского в Кречетниковском переулке состоялась встреча трех поэтов, тогда только что выпустивших свои первые сборники: Волошина, Цветаевой и Аделаиды Герцык. Максимилиан Волошин слыл в Москве первооткрывателем талантов и, с восторженностью увлекающегося человека, немедленно привел 18тилетнюю Марину Цветаеву знакомиться с хозяйкой и поэтессой Аделаидой Казимировной Герцык-Жуковской.
Марина позже вспоминала об этой встрече: «Макс (Волошин) живописал мне ее: глухая, некрасивая, немолодая, неотразимая: Любит стихи, ждет меня к себе. Пришла и увидела — только неотразимую. Подружились страстно.» Аделаиде Казимировне было тогда около тридцати пяти лет. Понятие возраста слишком условно: для нас тридцать пять — возраст расцвета, в начале 20 века понятия — иные. А может быть, так судила Марина с максимализмом восемьнадцатилетия, оставив, впрочем, эпитет: «неотразимая».
Для Цветаевой каждое слово значило много. Что же хотела она сказать этим эпитетом об Аделаиде Герцык — Жуковской, чье имя почти забыто в мире поэзии? Попробуем угадать:.
Аделаида Казимировна Герцык родилась в январе 1874 года (дата рождения не установлена) в г. Александров, Московской губернии, в семье инженера — путейца, потомка обедневшего польского дворянского рода Казимира Герцык. Ада и ее сестра Евгения рано лишились матери, росли под руководством воспитателей и гувернантки, но домашнее образование было серьезным — только языков девочки знали пять, среди них — итальянский и польский.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
