
Бесплатный фрагмент - Русская удаль
Сборник рассказов — 3
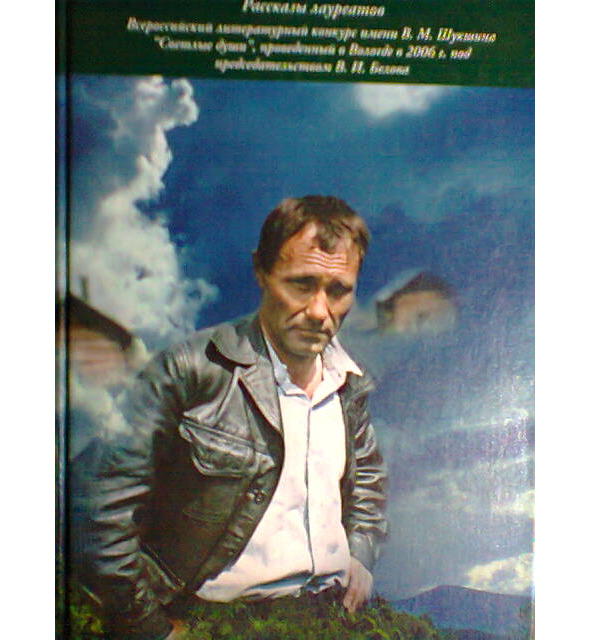
Русская удаль
Иван Трофимович Топотков расхаживал по кабинету. С самого утра у него не выходило из головы вчерашнее застолье. И вся вчерашняя компания и зал кафе время от времени вставало у него в воображении.
Он был приглашён с женой на день рождения: начальник жены справлял своё шестидесятилетие. Народ собрался разный и незнакомый, какой-то сдержанный, молчаливый. Чопорная публика.
Правда, потом, когда выпили раза по три и уже не шампанского, немного разговорились, расслабились.
«Если месяцами не выходить на люди, поневоле забудешь, как вести себя в обществе. Теряешь опыт. Дичаешь», — философски заключил Иван Трофимович, остановившись у телефона.
Хотелось позвонить жене, но он медлил. Что-то неясное томило душу.
Лучи солнца просвечивали сквозь редкую осеннюю листву деревьев сквозь окно, и, отражаясь от линолеума на полу, зайчиками играли на потолке, на стеклянных дверцах шкафа, освещая рабочий кабинет Ивана Трофимовича.
Мда… Вспомнилось, как после четвёртого или пятого тоста он сам выдал здравицу.
— Дорогие гости, мы все, собравшиеся за этим прекрасно сервированным столом, и чествуем не только именинника, хотя, разумеется, в его честь этот банкет. Но мы, я бы так сказал, целую эпоху в его лице чествуем. Можно только представить какие годы легли на плечи этого удивительного человека. Но они не сломались, они выдержали, и их гордо несёт эта широкая грудь… — кажется, такую околесицу нёс.
И хотя за столом сидел сморчок ростом не выше подростка, однако от слов Ивана Трофимовича в глазах публики тот вырос до исполина. Одна дама даже в ладошки захлопала, и её поддержали. Может быть, ей почудилась ирония в его словах, но Иван Трофимович не шутил.
Иван Трофимович кисло усмехнулся, дёрнув уголком пухлых губ, и вновь заходил по кабинету.
Потом танцы начались. Под магнитофон, импортный. Не танцы — кривлянье. Дёргались, кривлялись один перед другим, как припадочные.
Иван Трофимович, будучи помоложе, к таким разминкам относился терпимо, иногда и сам принимал в них участие. Но с возрастом начал стесняться. Что-то находил в них дурственное, неприличествующее людям среднего возраста, к коим стал себя относить. Но сейчас, куда не глянь, везде паралитики: по телевизору, в кино, на дискотеках, и вот, на гулянках тоже.
В детстве, в школе был кружок художественной самодеятельности, и он в нём занимался. В нём же научился танцевать вальсы — вот где полёт, фантазия!..
— И-эх! — и он закружился.
Научился плясать «русскую», «флотскую чечётку». По крайней мере, дробить степ ещё мог, и ладони для прихлопований не отсохли.
Иван Трофимович вдруг подпрыгнул, подбоченился и, отстучав чечётку, пошёл по кабинету в пляс.
— Та-д, та-д, та-та! Та-та-та-та-д, та-та!.. — аккомпанировал он сам себе.
Эх, были ж танцы на Руси! Куда что подевалось? Куда?.. Даже пьянки ради редко удаётся сбацать.
— Эх-эх! Эх-ма! — Иван Трофимович остановился у двери, вздохнул полной грудью и хохотнул от наслаждения.
Всюду, где бы ему ни доводилось гулять в компаниях, всегда испытывал пламенное желание сплясать, станцевать нормальный танец под нормальную музыку. Душа так и рвётся из груди птицей. Так и хочется топнуть ножкой. Но не танцуют теперь, не пляшут, к сожалению, — сплошные папуасы. И что с нами происходит? Вот, дикость!..
Правда, вчера немного подёргался.
— Вытащила, гиббониха! — не зло ругнулся Иван Трофимович на женщину, которая пригласила его на групповые припадки под чёрте что. Отказаться было неудобно, это была та, что хлопала в ладоши на его тост.
Думал, так и пройдёт всё веселье — в кривляньях и рокоте магнитофона.
Однако появился баянист, и разом вечер изменился. По крайней мере, для него. Вот тут уж он отвёл душу. Выдал по всей форме и «русского» и «цыгана»… А эти вихляют задами, дрыгаются, а под «русского» подстроиться не могут. Ноги словно шурупами к полу привернуты: туда-сюда, туда-сюда на одном месте.
— Ха-ха! Смех! — своё, русское не умеют, а папуасам подражают. Цивилизованный народ, называется. Сты-до-ба!..
Частушек не знают. Или уж сановитость не позволяет? А он пел, и все пóкатом катались. Ржали, как лошади. Всех развеселил.
Иван Трофимович улыбался, почёсывая лысеющий затылок.
И всё же душу томило смущение… Было в его поведении, наверное, что-то такое… Но он уже вошёл во вкус приятных воспоминаний.
И-эх! Его тело вновь отпружинило вверх и мягко опустилось на согнутые в коленях ноги, и Иван Трофимович от двери к столу пошёл вприсядку.
— Хоп-хоп-хоп-па! Америка-Европа… Съели русского мужика?.. Ха, фига! Покажем мы ещё себя этим паралитикам. Хоп-хоп-хоп-па!
У стола подпрыгнув, выбил лихо дробь на мягком утеплённом полу и, приуставший, довольный, остановился, опираясь на крышку стола.
Фу-у… Красота!
Не-ет, что ни говори, а вчерашний вечер удался. Удался, ядрёный корень! Спасибо юбиляру!
— Нет-нет, никогда буги-вуги не смогут раскрыть души русской, — хлопнул он себя в грудь. — Никогда! В вальсах, в плясках, в частушках она живёт. В них, ядрёный корень! Забили, забарабанили дуристикой: бум-бум-бум по мозгам, и на тебя же ещё смотрят так, как будто бы ты питекантроп пещерный. Чудак, мол, дядя, нашёл что выкинуть…
Ивана Трофимовича с утра начинали разбирать сомнения в правильности его поведения на вечере. Всё-таки народ чужой, представительный был народ. А он с плясками, частушками… Это, знаете ли, теперь не модно. А коли не в моде, значит, ты какой-то несовременный. С поздним зажиганием. То есть наивный простачок, Ванюша-дурачок. Кто там ещё плясал? Так, один-двое. А остальные? Посмеивались, в ладоши хлопали. А он, круженный, как только услышит гармошку, его будто кто подпружинивает, или под пятки горячих углей подсыпает. Не устоит на месте.
Тут Иван Трофимович стал испытывать неловкость на своё поведение. А вдруг он и вправду чудик?
Топотков вновь хотел позвонить жене, узнать её мнение на этот счёт. Да не решился. Вздохнул с сожалением.
И что он там вытворял? Сидел бы уж, прижал бы… Жена, поди, от стыда из-за него там сгорает. Ведь все с её работы были.
Вдруг Иван Трофимович стукнул себя кулаком по лбу и замер. Ноги у него подломились, и он мешком осел на стул.
Каррраул!.. Он вспомнил! Он вспомнил, как лез к Кузьме Спиридоновичу целоваться!
— М-нн… — замычал он, схватившись за голову. — Тьфу!
Прошло минут пять в молчаливых страданиях.
Наконец Иван Трофимович поднял голову и, покачивая ею из стороны в сторону, с тяжелым выдохом изрёк:
— О-пу-пе-ел! — глаза его закатились. — Ещё на кой-то хрен к себе позвал. И не одного, всех!
Иван Трофимович знал за собой маленький грешок: когда подопьёт, так становится рубаха-парень с душой нараспашку — всякий раз что-нибудь да выкинет от простоты душевной. За что Вера Никитична уже не раз его благодарила. То-то ему сегодня будет!..
Только сейчас он понял, чтó его с утра томило. И вот отчего он не мог так долго насмелиться, позвонить жене.
Ну, танцор, допрыгался!
Всё бы он мог себе сейчас простить. Даже лобызания с Кузьмой… Тьфу! — с Кузькой, прости Господи. Сейчас, поди, обтирается, подхихикивает, старый пень. Но то, что от доброты душевной опять наприглашал к себе гостей — это уже чёрт знает, что!
Топотков надолго замолчал, тупо уставившись в шкаф, на полках которого находились СНиПы, чертежи в папках и в рулонах. Но волна негодования на самого себя сходила, и в глазах появились проблески жизни. К тому же он находился в весёлой шкатулке, где долго не погрустишь. В ней играло солнце, разбрызгивая искры и зайчики по полу, по стенам, по шкафам.
— Дурак-с, ваша светлость! Вот где дурак так дурак! Каких век не видывал. Да хоть бы пьяным был в стельку…
Он действительно не был пьян до беспамятства. Но расходилась душа, разгулялась, и не столько от вина стал пьяным, сколько от охватившего его веселья, радости. Под конец вечера он всех любил: и юбиляра, и баяниста, и гостей — оттого и лез лобызаться.
А у нас как? Уж если ты обнял человека, да, не дай Бог, ещё позвал к себе в гости — так уж всё! Ты дурной человек, тряпка. Ты распахнул душу, а это такое место… куда только плюнуть можно!
Эх-хе, вот народ. До чего же мы огрубели, ни любви в нас не осталось, ни радости. Повыпотрошенные, деформированные. Даже жена родная не понимает. Тут от души, от чистого сердца. Разве это дурно?
— А может и плохо! — ответил он вслух. — Ведь гостей угощать чем-то надо. Это ведь не ранешное время. Сейчас, попробуй на такую зарплату, накорми да напои? И потом — хлопоты. Жене хлопоты. Оттого и дурно.
Топотков поморщился и вышёл в цех. Выпил два стакана газированной воды и, воровато оглянувшись, — не видит ли кто, как он мучается с похмелья, — вновь вернулся в кабинет. Прохладная вода, несколько раз отрыгнувшись газом, родничком прокатилась по пищеводу, охладила разогретые внутренности и бушующие в них старые дрожжи.
Похмелье пошло на пользу. Прочистило мозги.
— Мнда… Погулял…
А позвонить надо. Иван Трофимович не помнил, гостей он приглашал при жене или без?..
— Видимо, без неё, — заключил он. — Конечно без неё. Теперь бы уж все провода оборвала. Ох, дубина…
Топотков всё надеялся, что позвонит жена. Сам же не решался.
Он представил, как всей компанией гости вваливаются к ним в квартиру. Разрумяненные на первом морозце, жизнерадостные.
— Здрасте! А вот и мы…
Ивана Трофимовича передёрнуло в нервном ознобе.
— И где она была? Не могла чем-нибудь трахнуть по макушке! Хоть домой не ходи.
Стоп! Вот это мысль. А что если и в самом деле домой не идти? Созвониться с Верочкой и махнуть куда-нибудь в кино или так часов до десяти погулять по улицам, в парке. Пусть те у подъезда посидят, помёрзнут на холодке. Ха! — посидят-посидят и умотают.
И хоть мысль была как будто бы удачной, спасительной, однако, нравственная сторона её задела Ивана Трофимовича. В ту же минуту восторг сменился на нерешительность, и палец, набиравший номер телефона, медленно отпустил диск на последней цифре.
— Алёу, — услышал он родной голос с мягкими интонациями.
Иван Трофимович, смущённый, прикрыл трубку ладонью, кашлянул.
— Говорите, вас слушают.
— Это я, Верочка. Доброе утро, то есть день.
— А, добрый, добрый. Как ты там? — в голосе прослушивалось сочувствие.
— Да так, ничего… Я как там вчера?.. Перебрал, кажется? — у него повело челюсть на сторону.
— Да нет. Ты очень даже мило вчера выглядел.
— Ты!.. Ты серьёзно?!.
— Вполне. Давно таким не был. Душа всей публики. От тебя и сейчас все в восторге. Слышишь, приветы передают!..
Лицо Ивана Трофимовича засветилось от счастья, словно солнечный зайчик осветил его изнутри.
— Ага! Слышу! Всем там, приветики! — подскочил он со стула. — Так что, сегодня опять вечеринка предстоит?
— Где? — уже сдержаннее донеслось до слуха.
— Так у нас. Я… я ведь приглашал!
— Успокойся, Топотуша, — глухо сказала Вера Никитична, видимо, прикрыв трубку ладонью. — Они, что думаешь, люди без понятия? Очень милый и деликатный народ. Ты знаешь, кого приглашать, — и в трубке послышался добродушный хохоток.
Топотков тоже засмеялся, даже с какой-то детской радостью, и притопнул ножкой.
— А то б встретились, а? Такая компания! Такие люди!
— Успокойся, Топотуша. Это уже не смешно, — и в трубке запикали короткие гудки.
Иван Трофимович на окрик жены осёкся, и было присмирел. Но ненадолго. В душе у Ивана Трофимовича вновь всё заходило.
Разговор с женой, её похвала, и одобрение её сослуживцев за вчерашний вечер, подействовало на него столь же благоприятно, как если бы он принял бокал шампанского или, на худой конец, пиво.
Топотков хлопнул в ладоши:
— И-эх!.. Расступись, грязь — в пролётке князь!.. Ядрёный корень… — и пошёл по кабинету под «камаринского»…
Даже будучи в столовой в обеденный перерыв, стоя в очереди у раздатки, гладя на всех весёлым взглядом, ему так и хотелось топнуть ножкой. И сокрушался: до чего же всё-таки мы скучно стали жить! Собираемся раз в год, а то и в два, и то по каким-либо поводам, случайно. Негде грудь развернуть, душе волю дать…
Э-эх! Умрёшь от скуки.
Игра
…Возбуждение нарастало.
— Ну, Спиря, дела! — воскликнул Вавилон. — Амбикову — амба! Того гляди, сшибать скоро будем! — и даля подобна…
— Почему сшибать? Он ведь тоже баллотируется. Выбирать будем.
— Из ко-го?..
— Ну, как из кого? Говорят, нашли ему альтернативу.
— Это Сеньку-то Овского?!
— А что ты против него имеешь?
Маленькое личико Вавилона брезгливо скуксилось. Он промасленным пальцем поскрёб затылок, отчего кожаная промазученная кепи, как чёрный блин, поползла на глаза.
— Ты знаешь, Спиря, я к нему почему-то с детства э-э… как бы это помягче сказать, какие-то неприятные чувства питаю. Вот как увижу, как он сопли пригоршней о дорогу шлёпает, у меня к нему сразу вся симпатия, и даля подобна, нарушается.
— Ну, это когда было… — долговязый Спиря примирительно отмахнулся. — Сейчас он с платком ходит.
— Ага, с платком. А размазня та же. А если он ещё к нам в автопредприятие придёт, это ж ни одна машина с гаража не выйдет. Ха, буксовать на его соплях будут!
Оба рассмеялись.
Вавилон спустился в смотровую яму, Спиря остался наверху, забравшись на бампер КРАЗа. Стали отворачивать хомуты на коленчатом валу для замены вкладышей.
Два друга, Артём Спиридонов, или просто Спиря, и Архип Вавилов, или по-местному Вавилон, когда-то учились вместе, потом служили вместе и вот уже второй десяток лет работают на одном автопредприятии (на предприятии, входящем в объединение — комбинат). Правда, Вавилон после армии успел немного «порулить», но потом не по своей воле, точнее по воле «зелёного змия», был переведён на «яму», где так и остался (от греха подальше, и «даля подобна», — как он любит выражаться). Он стал у Спири чем-то вроде подручного, хотя работали они в одной должности — автослесарями. Друзья они были давние, дружба у них была прочная, несмотря на то, что внешне они разительно отличались друг от друга: Спиря — малоразговорчивый, смуглый и долговязый; Вавилон — тщедушный, невзрачный и подвижный. Если первого выгодно отличала внешность, то второго — язык. Его словоохотливость, философская рассудительность были одним из примечательных черт характера. При малословной и доброжелательной публики речевой дар Вавилона напоминал радио, а оборот «даля подобна», вводимый в предложения, скрашивал речь, как заключительный аккорд в песне.
Один болт на хомуте не отворачивался, и Архип закряхтел от натуги.
— Ты это, Вавилон, полегче там, — предупредил Спиря, — болту, смотри, голову не открути.
— М-м-м… — стонал внизу подручный. — Чё болту! Тут у самого голова крýгом. Будто под накидную головку ключа попала, того гляди, вязы свернутся, и даля подобна…
Наконец болт стронулся. Спиря и Вавилон облегчённо вздохнули. Последующие отвернулись легче. Они складывали части на бровку ямы под мотором машины.
— Ну, кажись, всё. Вылазь, — сказал Спиря, сходя с бампера. — Мда, надо ж как вкладыши приварили
— Плохо, когда у машины нет одного хозяина. Рулят на ней кому, как в голову взбредёт. Доездились, — недовольно ворчал Вавилон из ямы. — Вот так и с нашими властями, и даля подобна…
Он пошёл вдоль ямы к ступенькам, выводящим наружу. И остановился от неожиданности.
— Спиря, ты посмотри-ка, кто к нам зарулил?.. — с удивлением сказал Вавилон.
Спиря, собиравший ключи и детали, выглянул из-за машины.
По проходу шёл Овский Семён Иванович. Шёл, не спеша, оглядываясь по сторонам, как бы прицениваясь к хозяйству. На вид ему было лет сорок, среднего роста, немного грузноват. Одет в модное демисезонное пальто, хотя на дворе господствовала установившаяся весна, в туфлях. Лицо продолговатое, нос был бы ничем не примечательным, продолговатый, с картофелинкой, если бы лепестки его не были розовыми, даже красноватыми — признак хронического насморка. Массивный подбородок придавал облику тяжеловесность. Жёсткие волосы, подбитые проседью, нависали на узкий лоб.
Подойдя к слесарям, Семён Иванович поздоровался, как со старыми приятелями.
— Здорово, ребята! — и протянул каждому руку.
Вавилон посмотрел на свою ладонь и, как бы оправдывая своё нежелание здороваться, сказал:
— Да руки грязные, — взял с подножки машины ветошь и стал обтирать их.
— Да ладно, чего там, — простецки отозвался Овский, — не та грязь, что на руках, а та, что в душе, как говорится.
— О, тогда пожалуйста! — засмеялся Вавилон и подал руку.
Обменялись рукопожатиями.
— Чей-то ты в наши края зарулил, Семён Ваныч? Раньше тебя и калачом не заманить было.
Овский, испытывая заметное смущение от прямого, явно с подковыркой вопроса, ответил:
— Да так. Хожу, смотрю, как живёте, чем дышите…
— А чё принюхиваться, Сеня? Трезвы, как стекляшки, — Вавилон скрытно подмигнул другу. — Э-э, никак готовишься принять гараж, и даля подобна, под своё начальство, а?
Семён Иванович неопределённо пожал плечами, глаза его избегали встречи с глазами рабочими.
— Выберете, значит, приму.
— Так сурьёзно выходит, затеяли с выборищами?
— Жизнь, видите, какая. Предъявляет новые требования, — пустился в объяснения кандидат. — Вот и применяем их на практике, так сказать, идём в русле нового времени, гласности.
Вавилон понимающе покивал головой.
— Значит, ты у нас в качестве нового требования, Горбачёв прислал?
Семён Иванович торопливо достал из кармана платок и чихнул. Твоя правда, Вавилон! Потом с шумом высморкался и обтёр губы. Архип брезгливо отвернулся.
Не прощаясь, Овский пошёл вдоль бокса, вытирая платком руку, которой здоровался со слесарями.
— Хватит это требование с нами горя, — посочувствовал Спиря, глядя Овскому вслед.
— И мы тоже, — раздумчиво проговорил Вавилон и добавил. — Неспроста, Спиря, он к нам нарисовался. Неспроста. Не сёдня-завтра, гляди, рулить нами будет. Попомни моё слово.
Спиря добродушно усмехнулся.
— Стратег. За неделю вперёд видишь.
— А чё гадать. Дело ясное. Решили под шумок, и даля подобна, спихнуть Амбикова. Не вписывается он в их требования.
Спиря пожал плечами: дескать, поживём — увидим, и они стали собирать детали и ключи. Подошёл обеденный перерыв.
Перед обедом на щите объявлений, возле диспетчерской, появился отпечатанный на пишущей машинке текст.
«В Красном уголке АТПр сегодня в 16.30 состоится общее собрание трудового коллектива.
Повестка дня:
Выборы директора АТПр. Кандидаты:
1. Амбиков Виктор Константинович.
2. Овский Семён Иванович.
Кто не сможет принять участие в выборах, может свой голос в письменном виде передать секретарю парторганизации т. Тишкину В. В. или председателю профкома т. Горбункову А. В. через диспетчера.»
Прочитав объявление, Вавилон воскликнул:
— А! Я чё говорил? Вот она, даля подобна!.. — и тут же хлопнул себя по бокам от досады. — Только это, почему именно сёдня-то?.. Мне ж сёдня… мне некогда. Мне после работы за малым к тёще ехать надо.
— Ну и ехай, — спокойно сказал Спиря. — Отдай Валентине писульку и ехай.
— Ага, писульку ей! Ей только дай … — засмеялся он не без намёка, чему усмехнулся и Спиря. И добавил серьёзно: — Тут самому хоца… Что не говори, диковинка, выборы директора. Когда ещё такая комедия, и даля подобна, повторится? — и он, похоже, действительно был не на шутку раздосадован. Это было первое собрание, на котором он хотел бы побывать и добровольно.
После обеда они вошли в комнату отдыха — большое, прокопчённое, прокуренное помещение. В нём, как всегда, стоял дым коромыслом. Мужчины, собравшись вокруг стола, за которым играли в домино, бурно обсуждали назревающее событие.
— Нет, парни, как хотите, а Амбикова не надо отдавать. — Слышался густой баритон, и следом стук костяшки по столу. — Это факт!
— Чё, Ваня, забыл, как он тебя на месяц в яму опустил? — отозвался в ответ насмешливый молодой тенор.
— Сам виноват. Пить за рулём меньше надо… Ха! — шлепок по столу.
— Этот хоть дело знает. А Сенька что?
— Этот тоже знает, где что достать, во времена сплошного дефицита.
— Ага, в дефицитах щеголять будем. Ха!
Подошли Спиридонов и Вавилов.
— Об чём лай, бояре? — спросил Вавилон.
На его вопрос ответил Ваня, кучерявый, солидного телосложения мужчина с дымящейся папиросой во рту.
— Собрание проводим. Думаем, как Амбикова бортануть через край?
— И без нас абортируют.
— А тебя, Вавилон, мы альтернативой выдвинем. Во, будет смеху подобно!
— Зачем меня? Тут кандидатура есть, куда смешнее. И новому времени соответствует. Не веришь мне, спроси у Спири. Он сам нам признался.
— Мы только сейчас о его соответствии и говорили. В комсомоле дурака провалял, теперь к нам для поддержки штанишек. — Иван вдруг нетерпеливо заёрзал на скамейке. — Ну, Серёга, ставь пять-пусто! Ставь, не стесняйся. Счас я тебе вкачу голова! Чистенького, без единой крапинки. Хочешь, дам посмотреть! — в игре ему не было равных.
Вокруг стола оживились. Молодой парень, соперник кучерявого, в растерянности заметал взгляды по неровной крапчатой змейке из домино, лежащей на столе. Белобрысое лицо покраснело в предчувствии неотвратимого позора.
— Ставь! У тебя она. — Наседал Ваня, густо и самодовольно попыхивая папиросой. Он готов был сорваться со скамьи и с маха вбить в стол «горящую» в руке костяшку. Рука широкая тяжёлая, такой крагой, шутя столешницу проломишь. Вавилон с уважением относился к таким авторитетам.
Серёга тяжело вздохнул и, виновато глянув на своего напарника, выбросил на стол две костяшки.
— Вот она!!. — дико взревел Ваня, и оглушительный хлопок по столу от его пятерни содрогнул помещение.
— Ко-зз-лы-ы!!!
Смех, шутки посыпались в адрес схлопотавших «голова, без единой крапинки». «Козлы!», «генералы!» и «дале подобно…»
Появилось вакантное место, и Иван, перемешивая домино, приглашал следующую пару.
— Следующий! — в голосе слышались задор, удаль.
Вавилон поддакнул:
— Следующий, кричит заведующий.
— Вавилон, заведующего мы сёдня избирать будем. А я честно выиграл, — заметил Иван с достоинством.
Чего Вавилон и не пытался оспаривать.
— А мы знам, что ты с усам, — и с сожалением проговорил. — И чё они сёдня выборищи наладили? Нет, чтоб через день-другой.
— А тебе-т што?
— Так мне сёдня за малым ехать после работы. Завтра к врачу вести. Каки-то нарости у него под коленями наросли. Говорят, что это у него от сердца, или от ревматизма, и даля подобна…
— Ну, ясно, что не от удовольствия. У кого один-один, ходи!
— Так я и говорю, что они сёдни затеялись, нет, чтоб завтра.
— Да ехай. Без тебя что ли не выберем? Гляди-ка, пытица важная. Ха!
На «пытицу» рассмеялись. А Спиря однако заметил:
— Это как сказать. И один голос может роль сыграть.
— Ага! Ложка дёгтя в бочке мёда?..
На маленьком лице Вавилона вдруг засветилась прокуренными зубами плутоватая ухмылка.
— А чё, Ваня, хошь, я вам хохму учудю? — спросил он, запуская пятерню под фуражку, заскрёб затылок, кожаный блин зашевелился и пополз на сузившиеся глазки. — Вы за Амбикова, да? А я возьму, да за Овского свой голос напишу. Вот будет хохма, а?
— Ха-ха! — заразительно расхохотался Ваня, почти догоревшая папироса висела на его нижней губе. — Давай, Вавилон, отхохми! Посмотрим, что получится. Ха! — хлопнул костяшкой по столу.
На Вавилона уставились улыбающиеся лица.
— Я вам один всю карту перебью! Хотите?.. Во где у меня голый! — потряс в воздухе жилистым кулачком. — Вкачу его я вам по само некуда, и даля подобна. И без всякого солидола! — заливисто расхохотался, поддев на место фуражку, и торопливо потянул дружка за руку. — Пошли, Спиря, мой голос писать.
— Давай, давай, Вавилон, сыграем. Посмотрим, чья возьмёт. Ха! Дуплюсь!
— Будешь у меня петухом кукарекать! — пообещал Архип на прощанье. — Это тебе не домино. Это стратегия.
— Давай, стратег, давай, сыграем…
Утром на углу дома Архип Вавилов поджидал Артёма Спиридонова. Ему не терпелось узнать результаты голосования. Игра, что он вчера предложил ради потехи, почему-то не на шутку разволновала его. Вавилон даже во сне видел, как его бумажный «голос» летал голубком по Красному уголку, и сел прямо перед Овским на стол президиума. Овский украдкой тянулся к голубку, подманивал, как живого, а Архип наоборот, старался спугнуть его.
— Кишшшшш! — шипел он, — Кишшш скотина!
И проснулся от толчка в бок.
— Ты что, в гараже что ли?!. — разбудила жена. — Шипишь, как пробитый баллон.
Архип открыл глаза и обрадовался — голубок не достался Овскому. Жене отвечать не стал, хотя она ещё долго ворчала: разбудил, паразит, и дале подобно… Он повернулся на бок и попытался заснуть.
Сна не было. За окном уже брезжил рассвет, и по улице начали проезжать редкие машины и мотоциклы.
Вместо сна стали накатываться воспоминания.
В школе Сеньку Овского недолюбливали. И не потому, что был он из рук вон какой хулиган. Нет, не всякий хулиган так обескураживает. Тут, наоборот, за то, что он был нерасторопным, плаксивым и сопливым. И ему за это доставалось. Над ним смеялись, дразнили, а он плакал. Умом Сеня тоже не отличался, и учился так себе, ниже среднего, хуже, чем Вавилон со Спирей, но они и не старались в отличие от него. Пожалуй, единственное, в чём он преуспел — это в исполнительности. Чтобы ему не поручали в школе, Сеня выполнял с прилежанием. Не выражал протеста, если его обременяли обязанностями звеньевого, редакторскими заботами, хотя, что рисовать, что писать он умел одинаково. Но Овский это делал, и его усидчивость всех удовлетворяла: и учителей, и вожатых, и учеников. Одноклассники с потешным азартом голосовали за этого увальня на любую должность, чтобы только он сам не отказывался. На деле и впрямь оказывалось, что кроме него вести общественную работу в классе некому. Ни у кого к ней не пробуждался интерес. А что касается Спири и его, Вавилона, то им и вовсе не было времени: то лыжи, то цветомузыка, то техника — трактора, машины. Мечтали поступить в автодорожный техникум, да пожалели матерей оставлять одних. Так и приросли к гаражу.
На производстве, как и в школе, тоже ведётся общественная работа, только играют в неё взрослые люди, и важность этой работы каждый понимает по-своему, по тому сознанию, какое было заложено им в детсаде, в школе, самой жизнью, опытом… И Архип принял эту игру в чистом виде: с формалистикой, с показухой, с обязаловкой. Поэтому, зная заранее сценарий любого собрания, старался от него улизнуть, а если же этого не удавалось сделать — («когда в добровольно-принудительном порядке за шкирятник приводят!»), — то активность его проявлялась лишь на заключительном этапе — при голосовании его ладонь, как штык, поднималась среди прочих, лишь бы поскорей закончить пустое времяпровождение. Так когда-то они проголосовали за Овского, когда того избирали в комитет комсомола школы, затем и секретарём комитета. Позже он, очевидно, потому же единодушию (Артём и Архип служили в Армии. Сенечка по какой-то причине был от службы освобождён) прошёл секретарём комитете комсомола на предприятии, где и застрял, бедолага, на целых двадцать лет.
Но вот пришла, видимо, пора отрывать его от полюбившегося занятия, поскольку комсомольский возраст стала подводить седина. Но Архипу почему-то казалось, что бывшему однокласснику новая должность не подходит. По его мнению, и уже немалому опыту, ему представлялось, что тут должен быть человек беспокойный, грамотный и с характером. А в Семёне Ивановиче эти качества отсутствуют, как молоко в пустышке. Но, однако же, несёт его нелёгкая на эту должность, как баллон на гвоздь, на свою и чужую беду. И тоскливо становилось от этого предчувствия на душе. А та шутка, что он предложил вчера из озорства, теперь томила Архипа. Ведь если выборы будут келейными, как пишут в газетах, то его голос может действительно «вогнать голова» всем, в том числе и ему первому.
Перед уходом на работу жена спросила:
— Что такой хмурый, не выспался что ли?
— Выспишься с тобой. Весь бок отшибла, — пробормотал Архип.
— По ночам поменьше орать надо. На собрании что ли?
Они было заспорили, оба за словом в карман не лезли. Но Архип торопился и не стал ввязываться в перебранку.
Утро выдалось пасмурным, серым и прохладным, того гляди, просыплется снег. Вавилов, стоя на углу дома, ёжился, закутывался в лёгкую болоньевую курточку.
Как и многие пацаны, они часто «уркоганили», лазали по чужим огородам за яблоками, грушами, иногда и за овощами. Хотя всего этого было достаточно и в своих огородах. Даже за зелёными фруктами делали набеги — чужие всегда слаще. Особенно прельщал сад дядьки Вальки. Сад находился на окраине семьдесят третьего поселка, и к нему можно было подобраться с любой стороны.
При очередном набеге им с этого огорода пришлось драпать с неимоверной скоростью — дядька Валька на помощь в охране своего сада приобрёл овчарку. Эта собачка и придала им ускорения. Она не лаяла, но издавала рык такой, от которого душа выскакивала из пацанов птицей и помогала им перелетать заборы.
Лишь один от такого преследования не убежал. Собака его настигла у забора, и он стоял перед ней, раскорячившись.
Хозяин, покрикивая на пса, осаживал его:
— Нельзя! Сидеть!
И пёс сел перед незадачливым воришкой.
Валентин, подбежав к пацану, спросил:
— Сёмка, а ты чего не убежал?
— Не могу, дядь Валя… — ревел Сёма, — я обсерился…
Вавилон вспомнил детские забавы и рассмеялся.
«Ну, наконец-то…» — облегчённо выдохнул он, завидев Артёма.
— Ну как, привёз малого? — спросил тот, здороваясь.
— Привёз. Счас моя пойдёт с ним к врачу. Ну, как выборы?
— А никак, — меланхолично ответил Спиря.
— Как это? — удивился Вавилон. — Перенесли что ли?
— Да нет, избирали.
Они шли к остановке служебного автобуса, и Вавилов кружил вокруг Спиридонова.
— Ну не томи, Спиря. Вечно ты любишь по нервам проехать. Каланча, опора высоковольтная, и даля подобна… — ругался он.
Спиря посматривал на дружка свысока и насмешливо.
— Ну, чё, как жирафа, косишься?
— Хм, да ты, Вавилон, своим голосом все карты спутал. Вон, Иван рулит. Требуй, чтоб петухом на всю улицу кукарекал.
Они подождали кучерявого.
— Привет, братаны! — поздоровался Иван, протягивая каждому руку. — Чего лыбитесь?
— Да вот, Спиря говорит, чтоб я заставил тебя по-петушиному со с ранья петь. Чё, проспорил, что ли? — прищурился Вавилон.
— Если бы проспорил, то… — Иван развёл широкие ладони в стороны; дескать, делать нечего, пришлось бы кукарекать.
— Ну, чё случилось? Рассказывай всё путём, а то заставлю кукарекать!
— Дак что тут рассказывать, Спиря, наверно, уж рассказал?
— Ага, как раз. У него язык знашь где? Пока вытянешь, свой отвалится, и даля подобна… Рассказывай! — горячился Вавилов.
— Да что… Глотки драли за Амбикова, а как голосовать стали…
— И что?
— Ха-ха! Уравнялись оба!
— Вот это арихметика! Кто подсчитал?
— Так сами. Татарков и компания.
— Во, комиссия!
— Это ты своим голосом обоих уравнял.
У Вавилова вытянулось лицо, и сам он как будто бы стал выше.
— Как э-это, даля?..
— А даля получилась бесподобно. Твою писульку Татарков вытащил из папки и потряс ею. А вот, говорит, товарищи, голос Вавилова Архипа Сергеевича. Он его просит отдать за товарища Овского.
— О-ё!..
— У Сеньки от такой поддержки аж с носа закапало, — вставил Спиридонов, усмехнувшись.
Вавилон замычал, брезгливо скорчил физиономию и циркнул слюной через зубы в сторону. Обтёр кулаком губы.
Ваня продолжал.
— Татарков тут и рассмеялся, — и прогудел, подражая генеральному: — Хо-хо, ну, товарищи, в трудное положение вы меня поставили. Прямо не знаю, что и делать? Ну, раз вы сами не смогли выбрать себе руководителя, то я подумаю, как вам помочь.
Все трое рассмеялись.
— Ха, подумает! — воскликнул Вавилон. — А я вам счас разъобъясню, чего он придумает?
— Хм, — усмехнулся Спиря, — стратег.
— Смотри!
Вавилон взмахнул жилистым, серым от въевшегося мазута, кулачком левой руки, и словно о стол, как это делал Иван в обеденный перерыв в комнате отдыха, хлопнул с размаху о ладонь правой. Раздался звонкий шлепок.
— Получите! Голова, и без единой крапинки!
Друзья с насмешкой наблюдали за его пантомимой. На правой ладони Вавилон изображал вилку из растопыренных пальцев левой руки, между которыми медленно вводил большой палец с черным ободком под ногтем. Из чего без труда угадывалась известная конфигурация из трёх пальцев.
— Так ещё же не ясно, — протестуя, отмахнулся Ваня, с азартом не сдающегося игрока.
— Чё тут не ясно?! Чё не ясно? Все ясно-понятно, как Божий день. Комедия из двух действий. В первом акте нас раздраконили, а во втором… — дёрнул на себя руками, — и даля подобна! И притом, демократично. А?..
Вавилон заливисто расхохотался, довольный тем, что на сей раз он обыграл Ивана. Ваня же мотал головой, выражая не согласие.
— Стра-атег, — добродушно посмеивался Спиря, приобняв Вавилона. — Не голова — Дом Советов. Стра-атег…
— А! Как я вас? — даля подобна…
Вавилон был внешне в восторге, но это не говорило о том, что он выиграл. Игра ещё только начинается. Он это предчувствовал — сшибут Амбикова! Как пить дать — сшибут.
Доиграемся, однако, ох, доиграемся, даля подобно…
1989г.
На переулке Старичкова
Дед Кукарекин был в трансе. Он не находил в себе сил на переживания. На него волнами накатывал то жар, то холод, а сердце, казалось, уже не болело, а находилось в огненном мешке. Но если бы только сам переживал такое горе, так тут ещё жена, больная, немощная молодка, которую он в шутку и всерьёз называл по привычке — молодкой или девочкой моей.
И деду перед своей Марусей было неловко: надо же было ему пойти против её слова…
Когда деньги в Сбербанке стали обесцениваться, Кукарекины сильно заволновались. Но ещё на что-то надеялись, не верили, что такой банк — и может так всех объегорить? И потому не спешили снимать «гробовые».
— Да ему правительство этого не позволит! Сбербанк — это же… его денежный мешок! И связаны одной пуповиной. Они одно целое, и один перед другим в ответе. А правительство — перед государством, то есть перед народом. Это, девочка моя, серьёзное дело. Да потом, посмотри какие люди в правительство пришли, в парламент! Вон, какие заводные ребятки. Такие хлопцы не дадут обмишуриться, не дадут в обиду. Нет, нет, тут не так-то просто…
Так, или примерно так рассуждал Пал Палыч.
Но, не смотря на устойчивое мнение, о долге и чести правительства перед народом, и перед ними в частности, в государстве происходило почему-то не всё так, как пописанному. Деньги дешевели, а цены росли и на продукты, и на лекарства. Росли цены и на бесплатную медицину.
Последнее время к Марии Филипповне врачи приходили редко, а если приходили на вызов, то скорее из принуждения: он их доставал слезами и орденами, её и своими. Пал Палыч все пороги оббил в поликлинике и в больнице, куда они по месту жительства были приписаны. После удаления у неё злокачественной опухоли или доброкачественной (он не представлял разницы в этих понятиях) в «сердечной» области, что ниже пупка, девочка его отчего-то обезножила. Даже с трудом могла передвигаться до туалета.
А тут соседка Фаина Дмитриевна присоветовала: дескать, если ещё что-то осталось на сберкнижке, несите в коммерческие банки.
— Сейчас вона их сколь: «Селенга», «Русская недвижимость», «Хопер», «Валентина». А тут на переулке Старичкова открылся «Ростислав». Говорят, под триста процентов вклады увеличивает. — И добавила с некоторой важностью: — Я положила три месяца назад две тысячи рублей в «Селенгу», так недавно сняла четыре. А две пустила ещё на круг. А вы… что хлопаете?
И действительно, чего ушами хлопаем? Чего ждём? Так если дело пойдёт у этих ребят дальше, то и похоронить их не на что будет, не то чтобы лечится.
Правда, Мария Филипповна посопротивлялась. Да уступила под его доводами. Он, старый дуб, настоял.
— Не от хорошей жизни, девонька моя, люди икру-то мечут. Гляди-ка Димитревна как сообразила. Через рекламу «Селенгу» нашла. А чего раздумывать? Воспользоваться надо, больше-то о нас, как видно, некому поболеть и порадеть.
И в один из злополучных летних дней снял пять тысяч гробовых, да и отнёс в «Ростислав». Банк располагался недалеко от дома, ближе, чем «Селенга», куда их соседка, Фаина Дмитриевна, свои денежки вкладывала. Может быть и она в «Ростислав» снесла бы, так как он недавно свой филиал тут открыл, на переулке Старичкова.
Оказалось, что «Ростислав» располагается в большом здании, в котором ряд каких-то учреждений. А через коридор, дверь в дверь, даже комитет по контролю за водными ресурсами. Какой никакой, но ведь комитет! Контролирующий орган!
Да и напротив самого здания, через переулок Старичкова — Управа Центрального района города! И это последнее обстоятельство Пал Палыча очень даже подкупило и укрепило во мнении — фонд под строгим контролем государственных органов.
И положил он в тот фонд пять тысяч рублей. Крохи. Страна-то враз забогатела, жить стала на большие тысячи с четырьмя-пятью нолями да на миллионы.
Туговато пришлось эти три месяца переживать. Особенно последний из них, и с пенсиями задержки. Маленький огородик был, три сотки, и те очистили какие-то варнаки: парничок, грядку с лучком. Укроп, пожелтевший, и тот выдрали. Картошке не дали путём налиться, выкопали. На зиму оставили без «подножного корма».
А тут слухи разные поползли: прикрывают, дескать, коммерческие банки, и денежки вкладчиков, говорят, плакали…
Не может быть! — не поверилось. А куда тогда эти ребятки смотрят, чего они там, в правительстве думают, в Думе той?.. Почто носы повесили, петушки?
Кукарекину тяжёлая судьба досталась. Всего он повидал, и многое чего пришлось пережить. Но твердо зарубил себе «на носу»: долги в первую очередь! Сам ходи впроголодь, а долг вертай… Долги отдал — и живи спокойно. Иначе можешь поплатиться бóльшим. На примерах видел, на зонах, как там за долги карали. На всю жизнь те картинки перед глазами остались.
— Да и как это можно чужие деньги и не отдавать? — удивлялся Пал Палыч.
И не выдержал. Поспешил, опираясь на палочку, на переулок Старичкова. А осень уже надвигалась, из седых облаков снег вперемешку с дождём стал сыпать.
Всё как будто бы стояло на прежнем месте. И переулок, и большое и солидное здание Управы Центрального района. И то здание, где находятся комитет по контролю за водными ресурсами и филиал «Ростислава», тут же — дверь в дверь.
Но кое-чего всё-таки недоставало.
И, оказалось, самой малости — приклеенного к двери, как раньше, листочка с наименованием финансового фонда. И народ в коридоре какой-то угрюмый, какой-то потерянный. Стоят группками и поодиночке в конце коридора у окна. Смотрят на вновь пришедших с горькой усмешкой. А на него, на Пал Палыча, вроде бы как и с сочувствием.
Кукарекину в голову как будто начало что-то горячее приливать, а под ложечкой холодить.
— И где этот… «Ростислав»? — неуверенно спросил Пал Палыч.
От него люди глаза стали отводить, в неловкости что ли, может из уважения к возрасту, к его палочке.
— Так чего молчите?.. — вновь спрашивает он. — Хопром накрылся?
— Нет, дедунь, вместе с «Хопром», — ответила женщина, прижимая к себе девочку-подростка.
— А туды-т!.. — выдохнул Пал Палыч и от досады стукнул палкой в пол. «Она как знала!.. — это уже относилось к жене. — Как предвидела!»
Стояли, выжидали невесть чего часа два. И всем, кто вновь подходил, отвечали с такой же угрюмой ехидцей, как и ему, только без снисхождения на возраст: а, тоже попался, окунёчек на крючочек?..
Стояли, стояли, ни от кого так и не дождались вразумительного ответа. Никого не нашли из этого фонда ни на первом, ни на пятых этажах. На чердак не полезли. А в комитете по контролю за водными ресурсами вообще закрылись, чтобы не доставали. Вот тебе и контролирующий орган!
Не к кому податься враз обедневшим гражданам. Было сунулись в Управу Центрального района, а там стоят какие-то в бандеровской форме два облома с дубинками и отворот-поворот выписали.
Не сговариваясь, сошлись на следующий день. Опять чего-то ждали. Люди почти все среднего и пожилого возраста. И как заворожённые или зачарованные. О чём-то меж собой гомонят — не понять. Пал Палыч как не настраивал слух, ничего вразумительного уловить не смог.
Лишь на третий день начали чего-то предпринимать. Появились инициаторы.
Один мужчина из всех выделялся своей внешностью. Он был с маленькой шелковистой посеребрённой бородкой, и в шапочке из ондатры, и владел складной речью — его и выбрали Полномочным Представителем вкладчиков «Ростислав». И ещё двоих к нему в помощь прицепили, в комитет. И выборность эту на бумаге скрепили, протоколом оформили.
Полномочный Представитель все эти бумажки вложил в папочку и предложил через два дня собраться, тут же «на переулке Старичкóв, где обули старичков», — его шуточка. Он за это время постарается связаться с газетчиками, с телевизионщиками и кое с кем из администрации губернатора.
Пал Палыч понял, что это не простой человек. Поди, писатель, или член какого-нибудь солидной юридической конторы.
Дома Кукарекин пока не распространялся о случившемся. Жалел свою молодку, Марию Филипповну.
Через два дня был новый сбор. И Полномочный Представитель доложил о проделанной работе:
— Пресса будет на следующей неделе. День обговорим дополнительно. Представители аппарата губернатора на наше положение только руками разводят. Говорят, надо было смотреть, кому деньги доверяете.
— А как их усмотреть, они не присоветовали?
— И почему мы, граждане, а не они должны были за ними смотреть?
— Где у них-то глаза были, когда давали им разрешение на деятельность такого рода?
— Кто им лицензии выдавал? С тех и надо спрашивать!..
— Правильно! Давай их сюда!..
— Чубайса!.. Гайдара!..
— Черномырдина давай сюда!..
— Может, тебе ещё Ельцина в Калугу предоставить?!.
Шум разрастался не на шутку. Каждый пытался что-то сказать, кому-то чего-то доказать, в чём-то обвинить или убелить. В итоге дошла очередь до Полномочного Представителя. Дескать, вы, такой-сякой, плохо работаете, действовать надо поэнергичнее.
— В суд от нашего имени подавайте! — предложили из толпы.
Тут же этому крикуну Полномочный парировал:
— Это личное дело каждого! Такие иски суд рассматривает в индивидуальном порядке. — После этого сообщил: — Есть предложение: надо нашей инициативной группе, троим, может быть, двоим, — ехать в город Волгоград. Там головной офис «Ростислава». И там попытаться, может быть, с помощью милиции, прокуратуры вернуть наши тысячи, миллионы, триллионы. (Пошутил.) Пусть не все, без процентов, но хотя бы что-то.
Предложение, хоть и не с большим энтузиазмом, но прошло. Его так же закрепили голосованием. Тут же перешли ко второму вопросу.
— Для поездки нужны деньги, — объявил Полномочный.
Тут все стихли. И у Пал Палыча в голове набатом прокатилось: опять деньги!.. Да где ж их взять?..
Полномочный заехал с другой стороны.
— Тогда давайте решим по составу делегации. Сколько человек поедут?
— Да пущай едут все трое, — выкрикнул какой-то седовласый.
Ему сразу же вопрос:
— А вы на этих гвардейцев выделите средства?
— Почему я? Все.
— У всех таких денег не наберётся. Тут жрать не на что купить…
— Пусть едут вдвоём, веселей будет…
— Ага, в ресторане…
Загалдели.
— Один пусть едет, один!
— Одному опасно…
— Он что, сейф с собой повезёт?..
Успокоил Полномочный. Поставил вопросы на голосование: три, два, один.
В результате уполномочили двоих.
— Итак, решено: поедут двое, я и моя заместитель, как казначей и как секретарь.
— А ещё кем?!. — хихикнул кто-то из толпы.
Казначейша возмущённо крикнула:
— Поезжай тогда сам!
— Не смогём!.. Секретарить нечем!
— Тихо! — прикрикнул Полномочный. — Дурные шутки в сторону. Теперь давайте скидываться, кто сколько может. Если не сегодня, то за эти два-три дня. Подходите к секретарю, она запишет ваши пожертвования. На этом собрание считаю закрытым.
Полномочный Представитель, не смотря на гвалт и бестолковость в рядах вкладчиков, вёл собрание грамотно и даже жёстко. От чего у Пал Палыча к нему всё более и более росло уважение и надежда. И вообще, встречаясь с ним в толпе среди своих коллег по несчастью, в коридоре ли у окна, он испытывал к себе с его стороны даже некоторое, как ему казалось, сочувствие. Тот однажды в туалете, где была курилка, угостил его даже сигареткой.
И вот, находясь под впечатлением последнего собрания и его решения, и под обаянием Полномочного Представителя, Пал Палыч, придя домой, прошёл к столу, сдвинул с него не убранную им же после завтрака посуду, не до того было, сел писать письмо. Скорее прошение.
Что ещё утром Мария Филипповна ему присоветовала сделать.
Мария Филипповна не спала, но лежала молча. Упрекать мужа, пенять ему на его бестолковость, по причине которой он вляпался в такую историю, она уже не могла. Она теперь вообще ничего не могла понять в этой жизни. И потому сочувствовала ему, себе, им обоим. Сочувствовала в том, что их так бессовестно обманули, и тому, что по её смерти ему придётся ещё — ох — сколько чего пережить… Сочувствие выжимали слёзы, и глаза, уже поблёкшие, плавали в них.
Своё письмо Пал Палыч начал с обращения и, по его мнению, обстоятельного. Хотелось ёмко и доходчиво объяснить ситуацию, которая сложилась в его семье на данный момент. Письмо своё он так и озаглавил:
Упалнамоченому представителю.
Уважаемый товарищ! Али господин? Счас ведь не поймеш, кто ты такой. То вроде такой как все, то вроде как и другой, не такой как все. Но поскольку я тебя маленько знаю, помниш мы с тобой в курилке познакомились, то имею смелость называть тебя товарищем. Вот поэтому я и решился написать тебе письмо. Как я догадываюсь, ты поди писатель, али какой-нибудь там член юрюдический, и такой же как я облапошеный. То ись в смысле по глупости мы с тобой одного поля ягодки оказались. Так вот пишет тебе, чтоб ты понял, такой же как и ты, то ись товарищ.
Теперь про себя. Я Пал Палыч Кукарекин, 78 с половиной годов. Моей жене Марии Филиповне 68 и тоже с половиной. Пацанка по сравнению со мной. Я ей так всякий раз и говарю, ты против меня девчонка… Да это счас не имеет разницы. Разница вот в чом… в мозгах. Не получил я в свое время образования, вот оттого и мучаюсь, живу ее умом. Да только не дошел он до меня прежде, когда деньги я сунул в прореху этому Ростиславу. Но это к делу не касается. А дело вот в чом.
Да, забыл ещо сказать, штоб ты меня не спутал с другими, нас там в курилки было много, так я тот, который с палочной у окна стоял. Меня Пал Палычем звать. Ты должон меня помнить, ты меня ещо сигареткой угостил. Я вобщето не курю, давно бросил, но из вежливости принял. Вы там ещо с этим, с большими залысинами, о больших делах каких-то разговаривали, государственного однако значения. И тогда вы мне показались очень умными. То ись не таким как я и не таким как тот с плешиной. Мне показалось, што вы умней меня и его. Мне показалось што вы человек с понятием. Вот почему на собрании мы вас и выбрали нашим упалнамоченым представителем. И я первый за вас голосовал. Вот почему я и решил вам написать, чтоб вы знали кто я и как мне нужны деньги и в случае чего, то ись если вам удастся выбить хоть немного деньжат, то поимели бы меня в виду и мою большую в них нужду.
Так уж получилось, я позно поженился со своей жиной. Счас об этом можно говарить, поэтому и говарю. Я был сначала немного на каторге, то ись на Магадане, лет этак около пяти, а потом на поселении, тут немного помене, не успел полностью, война началась. Потом в добровольно принудительном порядке попал в штрафбат пока меня сильно не ранило. Там в госпитале меня выходила Марийка, пацанка, которой теперь 68 лет. Я говарил уже об ней, хорошая бабка, боевая, жаль что теперь больше лежмя лежит. Я-то ещо с палочкой хожу, а она вот лежит. Я ей когда рассказывал про вас, што вас избрали упалнамоченым, она и присоветывала мне к вам обратиться с характеристикой о себе и об ней маленько. Дескать, кто мы такие и почему очень нуждаемся в деньгах как никто другой. Нас облапошаных, кто очень нуждается много конешно, но вы всётки подумайте попервости об нас, поскольку мы нуждаемся теперь очень даже. Я думаю што вы тоже и вы первый и должны их получить. Как пахану, вам и надо быть первым. И мы против ничего иметь никогда не будем. Счас так жись нашу устроили, как на зоне. Кто при власти, тот и пахан. Я в зоне был в рабах и на фронте в солдатах и потому с понятием. Потому буду совсем не против еслив вы с плешивым будите первыми при деньгах. Но если вдруг от наших денешек щто-то останется после вас то поимейте в виду и меня и мою жену, нашу нужду в них. Я тот кто стоял с палочкой у окна и вы дали мне сигаретку, хоть я и не курю. Бросил может быть в семсят пятом что ли году, после второго воспаления легкого, первым на фронте отболел. На работе врач порекомендовала иначе окачурился бы. Может быть оно и лучше бы, не пережил бы такого срама и нужду какую переживаем счас. Сам посуди дорогой товарищ, хоть ты и молодой, лет может быть 50 с не большим крючочком и грамотный однако, а мне со с моей жиной как тяжело такой обман переживать? Я-то может годок другой перемогу, не помру, а вот молодка моя, девонька-то моя, может того, ни седня завтра приставица. И жалко ее, чего она в жизни-то видала… Все какая-то нужда теребила… Да, ты не думай што эта бумажка из туалета или ещо откуда, это моя слеза на нее упала, вытер ее неловко… Запачкал листочек.
Так вот дорогой товарищ упалнамоченый, в смысле представитель вы наш, будете когда в Волгограде в этом самом будь он неладен «Ростиславе» и вам будут передавать наши денежки, то поимейте нас в виду, меня и мою Марью Филиповну. Я не хочу ее хоронить заранее, но сам посуди — лежмя лежит и врачи без денег к ней не хотят подступаться, то ись лечить. А без лечения и нужного ухода долго ли она протянет. Так вот дорогой товарищ упалнамоченый, будь так любезен, то ись будь с понятием, и когда получишь деньги то пожалуста поимей нас с молодкой в виду. Верни нам наши пять тыщ рублей. Они нам если что на похороны очень даже сгодятся. Хотя конечно сичас на такие деньги разве что мышь похорониш. Но всетки деньги, жалко.
Ещо раз напоминаю. Я Пал Палыч. Тот кто стоял у окна с палочкой и вы мне дали сигаретку покурить. Я не курю и сигаретку не скурил, сберег. И как только вы привезете нам денежки пять тыщ рублей, я вам ее верну. Берегу ее от сырости.
Могу ещо сказать, что я инвалид второй группы имею два ордена. Один Красной Звезды а другой Отечественной войны, его получил в 45 году за польский город Краков. И ещо две медали: одну за 41 год, другую за 44 год, «За отвагу» называются. На производстве так же имел одни благодарности.
Досвидания.
С бальшим уважением к вам
господин хороший
Пал Палыч Кукарекин.
Написав письмо, Пал Палыч ещё раз-другой перечитал его, кое-где внёс правки и сложил листочек вчетверо. Аккуратно пригладил места сгибов кулаком и понёс в прихожую. Там висел его выходной, полинявший от времени, пиджак с двумя орденами, двумя боевыми медалями и десятком юбилейных. На следующий сход он пойдёт в нём. Во внутренний карман его он и вложил письмо.
Пал Палыч возвращался в комнату несколько приободрённый, и подмигнул своей молодке, Марии Филипповне.
2002г.
Мореман
— Ну, Мореман, всё, капут, — сказал мастер Петров, рослый загорелый парень. При слове «капут» он легко хлопнул по плечу деда, прозванного Мореманом за редкую должность шлюзового. — Теперь живи на заслуженном отдыхе.
Внизу рабочие цепляли трос за ставни шлюза. Один из них стоял на берегу и подавал сигналы трактористу.
— И зачем шлюзу выдираете? — едва ли не плача, спрашивал Мореман. — Пущай бы стояла…
— Она своё отслужила.
— Пошто это отслужила? А озеро? Оно ить всем нужно. Да, поди, ищо сплав будет, бревё-о-он-то тьма-тьмущая по берегам реки валятся?
— Нет, дед. Весь нужный лес сплавили, а этот… — Петров махнул рукой, дескать, мелочи.
Под мостом затрещали доски, заскрипели штыри, скобы, наконец, направляющие лопнули, и ставни шлюза выскочили из пазов. Вода с шумом устремилась под мост, и гладь залива стала опадать на глазах.
— Здря вы эдак-то. Ох, здря-а… — сокрушённо качал головой дед Мореман, сморщив, как губку, испещрённое старостью лицо.
— Что жалеть? — подмигнул мастер. — Хочешь, тебе на дрова уволокём, а?
Дед Мореман пожал плечами, дескать, дело ваше, можно и на дрова, но всё равно напрасно сломали.
— Егор! — крикнул мастер мужчине, стоявшему на берегу. Тот обернулся. — Эту палубу Мореману на дрова оттартайте!
Тягач выволок на берег доски и остановился. Егор залез в кабину к трактористу, и трактор, громко рявкнув, покатился по дамбе, звеня траками по дороге и пыля ставнями шлюза.
— Иди, дед, принимай, — подтолкнул Петров и ещё раз ободряюще подмигнул. — Не плачь. Для тебя же лучше сделали. Спокойней жить будешь. Не страшны вам теперь ни отливы, ни приливы. Не затопишь Заречную улицу.
…Года три назад случился паводок. Вода шла с предсаянских гор бурно и, заливая все пойменные и лесистые низины, подошла к деревне Савватеевке. Дед Мореман в то время был дома, но по какой-то причине проследил этот момент. Уж больно быстро вода накатилась.
Спохватился дед, ключи от шлюзового замка на лебёдке в карман, да поздно было. К мосту пройти только по дамбе можно или вплавь по затону. А в затоне глубина метров пять и воронки одна другой шире, нырнёшь — и поминай, как звали. По дамбе — вода едва с ног не сшибает. А третьего пути нет, поскольку летать не умеем! А помедлишь чуток, Заречная улица всеми постройками к Ангаре двинется. Опешил было старик, потом матюгнул себя боцманским матом и метнулся по затопленному гребню дамбы.
Хоть и легковат Мореман телом, да краб тот ещё, цепляясь за гребень, как за подводный коралловый риф, полз (по его словам) к мосту на всех четырёх и добрался-таки, открыл шлюз… И смех, и грех вспоминать. Струхнул, говорит, до такой крайности, что не понял, отчего порты намокли.
И вот сейчас мастер Петров упомянул о том самом случае.
Дед Мореман после разговора с мастером по-детски обиженно шмыгнул носом и поспешил домой. Он шёл вслед за тягачом, опираясь на суковатую палку, и с какой-то потерянностью посматривал на огромную равнину, где уже узкой лентой серебрилась речка Ода. Ему почему-то никак не верилось, что пойма с многочисленными лоснящимися на солнце топляками, осевшими бонами, пирамидами теперь будет безжизненной, голой, поросшей травой и что эта дамба — напоминание о некогда существовавшем озере. Он, проживший всю сознательную жизнь на берегу этого искусственного водоёма, привыкший к нему, сжившийся с ним, никак не мог осознать случившееся, смириться с таким поворотом дел и поверить в действительность своей отставки.
Его рассчитала сплавная контора весной. Вызвали и рассчитали. Сказали ещё, чтобы он своё морское дело завязывал и переходил на сушу. Тогда дед вместе с ними посмеялся и ушёл. Ему вновь не поверилось, что этот расчёт всерьёз. Это было и год и два назад. Уволят, а как время к сплаву, опять зовут. Сейчас не нужен, потом понадобится… И продолжал ждать. Рыбачил на озере-водохранилище, хозяйничал помаленьку по дому, побаливал — всё успевал по-стариковски. Когда же ожидания затягивались, переходил на вязание мётел — какой-никакой, а тоже приработок. И всё ждал.
Потом услышал пугающую весть: дамбу под нож, шлюз — на слом! Вот тут Мареман и заметал икру.
— Пошто? — сокрушался он. — Зачем? Ведь озеро осушат, рыба, какая есть, уйдёт. Сам старался, разводил. Осиротится целая деревня!
И никак не мог понять, взять в толк, для чего люди будут ломать шлюз и срезать дамбу?..
Но потом слухи сменились: совхоз «Савватеевский» отстоял дамбу и шлюз, и якобы сам будет содержать озеро. На правом берегу за школой строится профилакторий-санаторий, и озеро очень даже будет кстати, для красоты, значит, и удовольствия отдыхающих. А ещё поговаривали, что совхоз здесь построит большую птицеферму по выращиванию водоплавающей птицы. И Мореман воспрянул духом — море будет!
И вдруг — нá тебе. Приходит мастер Петров и говорит:
— Мореман, пошли. Операцию «Ы» проводить будем.
Дед Мореман пошёл. А когда увидел возле моста тягач, пятерых рабочих из сплавконторы и собравшихся односельчан — стариков, детей, — чуть было не осел на дамбе: ноги ослабли.
— Чей-то делать будете?
— Как что? — засмеялся Петров, глядя на деда сверху. — Сырость болотную выводить.
— Шлюзу ломать?.. Не дам! — попятился Мореман, пряча ключи в карманы потёртых штанов.
— Чудак же ты, Мореман. Больно я спрашивал бы у тебя. Замки пожалел, не то б давно выдрал.
Мореман опомнился и засеменил вокруг мастера.
— Ты, паря, это… слышь, не ломай, а? Смотри, сколь воды утекёт. Рыбы, рыбы-то сколя…
— Совсем сдурел старый! — рассердился Петров. — Разве это от меня зависит?
— От тебя, сынок. От тебя, Андрей Петрович. Не круши… Глянь, вся деревня собралась, — развёл он руки в стороны, как бы желая приблизить односельчан, чтобы и их голоса мог услышать мастер.
Но тот отмахнулся от него, как от назойливой мухи, и не стал далее слушать. Подал команду, и по его взмаху зарычал трактор.
И вот теперь дело сделано, плетётся старик вслед за тягачом и плачет.
— Эй, Мореман! — окликнул его сосед, ровесник. — Куда эдак попылил?
Дед Мореман остановился, достал из кармана широкий платок, тряхнул им и, подняв очки, вытер слезившиеся глаза. Потом снял соломенную шляпу, местами в дырах, отёр вспотевший лоб и сухим осевшим голосом сказал:
— Да вот, гляди, что делают варнаки, шлюзу выдрали и ко мне на дрова тащут.
Сосед осуждающе качнул белой головой и сочувствующе спросил:
— Значит, кончилась твоя морская служба?
— Кончилась, паря.
— И что б им озеро-то не оставить? Все людям на забаву было. Кто б порыбалил, кто бы поохотился. А ребятишкам-то какая жалость.
— Эдак, эдак.
— Ну, хоть возьми на дрова, не то пропадут, — посоветовал сосед. — Отжили доски своё.
— Пошто отжили? Им ищо лет триста стоять. Листвень. Он в воде, что камень делается.
— Эдак, эдак. Выходит, аминь Савватеевскому морю?
— Однако, паря.
— А говорили, утки-лебеди будут…
— Трепотня, не верь.
Дед Мореман спрятал платок.
— А я слухам и не верил. Я глазам своим верю. Вижу, кто что делает.
— Кто, что?..
— Ты что ослеп? Инопланетяне…
— Каки-таки инопланетяне? В жизнь их у нас не бывало, — Мореман заморгал удивлёнными глазами и вновь полез за платком в карман.
— Такие. Они уж сколькой год у нас на земле чудеса творят. То поля, леса выжгут, то леса повалят, то зверя истребят, то Байкал потравят. Што хотят, то и творят. Курить будешь?
Степан достал папиросы. Подал деду. Тот стоял сбитый с толку, уставившись на соседа.
— Каки это инопланетяне? Это ж бригада из лесосплава?
— Это тебе кажется, что из лесосплава. Ты приглядись. Приглядись. Вишь, как глазки у них горят? Так и норовят что-нибудь напакостить.
Мореман представил вновь мастера Петрова, и что-то внутри него стронулось. Действительно, глаза у мастера вроде бы как шальные, и поведение какое-то не нормальное, не человеческое, высокомерное, грубоватое и решительное. И бригадир будто бы как робот. И тракторист за рычагами…
— Слушай, а трактор, трактор-то наш, ДТ-54?
— Хм, трактор, — усмехнулся Степан. — Что, думаешь, трактор для них проблема?.. Они и танк, если надо, заведут. И глазом не поспешь моргнуть, как разбомбят твою дамбу. А ты говоришь дэтэ…
— И как теперь? Чё мне с ними делать?
— А что ты с ними поделаешь? Терпи. Попроказничают и сами уйдут.
— Вот это да… — Мореман стал вытирать вновь вспотевшее лицо. — Ё-моё. Вот беда-то. Так звонить куда-то надо, в лесобазу?..
— Хм… Ты что думаешь, их, оборотней, и там нет? Их, вон, сказывают, во всех конторах понасажали. Вплоть до Москвы. Потому о земном у них душа и не болит.
Теперь Мореману припомнились насмехающиеся над ним лица в сплавной конторе. Хотя ничего смешного там не было, плакать хотелось…
— Может милицию вызвать?
— А что она тут сделает? Да и пока приедет, они уж в другое место умотают. Это ж инопланетяне. Порода такая, без души и ума. Сёдня они здесь, а завтра уж там. Лови их…
— Ой-ёй! Што деется, што деется… Ну, я побёг. Хоть приберу куда-нибудь шлюзу. Пущай пока полежит. Вдруг ищо спонадобится, а она вот она, живёхонькая. — И он, оглядываясь встревожено по сторонам, надев шляпу, поспешил к дому.
А вечером, когда сопки обозначились на горизонте верблюжьими горбами, когда из низовий стал наползать густой мрак, с Заречной улицы послышался хрипучий голос деда Маремана:
Я знаю, друзья, что не жить мне без моря,
Как морю не жить без меня…
Дед был выпивши. Будучи и без того в печали, Мореман после вина совсем загрустил и, как морской волк, списанный на берег, пел о море, тянул эти две строчки, поскольку других не знал. И голос его улетал в Космос, навевая на земные души тоску.
1980г.
Ночь под фонарным столбом
Давайте заглянем через пласт времени, скажем, через пласт трёх последних десятилетий, где-то в тысяча девятьсот восемьдесят четвёртый год, и с высоты сегодняшнего дня представим себе ночь, хмурую, прохладную, где вы далеко от родного дома. Пусть не в пустыне, но в иной ситуации и многолюдный город может вымереть. И в вашей душе, с момента наступивших сумерек, возникло тоскливое чувство оторванности, словно вы не на обитаемой Земле, а где-то в такой дали от неё, что голубая планета светит вам едва заметным огоньком родимых окон. Душа рвётся к нему, плачет, но жестокий закон невезения примагничивает вас к обочине, к огороду, к перекрёстку или просто к столбу. И обстоятельства становятся выше ваших возможностей.
Представили, окунулись?.. Будем считать, что вы вместе со мной в той эпохе, и в тот полночный час июльской ночи у выше означенного объекта, то есть у столба.
А в те памятные достославные времена, когда машины стояли не в магазинах, а на базах ОРСов, УРСов и выдавались покупателю по очереди предприятий за высокие показатели в труде, за безупречную службу, за хорошее поведение в быту, и просто по блату. Тогда и запчасти к ним тоже были в основном на складах, частично в магазинах по сказочным ценам, то есть в три, пять, а то и в десять раз дороже и, разумеется, также по блату. То есть уже задолго до сегодняшнего дня опередили надвигающиеся социальные перемены. Но качество автомобилей и запчастей к ним, оставалось желать лучшего. А что касается автосервиса, то тут отдельная притча. Поэтому этот момент можно считать небылью, а плавно перетёкшее в наш век бессменное достояние и, похоже, — бессмертное. И потому наши средства передвижения, стóит какой-то детальке выйти из строя — встало! Даже при наличии гарантий отечественного автопрома, которые были далеко не в пример западным, (где гарантийный ремонт три-пять лет или пробег авто не 10 000 км, а в десять раз дольше). И если встало, то будь в нём хоть восемь, хоть все восемьдесят «лошадей» — не сдвинется с места. И особенно там, где негде их «подковать» и не к кому обратиться за помощью, поскольку в те достославные времена автосервисы были неуклюжими и инертными. Но не в том смысле, что набрать скорость им не на чем было (почти под каждым автослесарем была какая-нибудь да лайба, а у некоторых, хоть захудала, но иномарочка — а они-то уж знали, чем отличаются отечественные модели от закордонных). И не в том смысле, что автосервисы не имели передвижных ремонтных средств. А в том, что клиенты были не избалованы их вниманием и сами ехали к ним с протянутой рукой из-за поголовного дефицита запчастей. Буксировались или на чём-либо привозили к ним свои средства передвижения и становились в очередь на неделю, а то и на месяц. Это были злачные прикормленные места для волшебников жестяных и моторных дел, по этой причине высокомерные и нагловатые. К ним на «кривой» кобыле, конечно же, и не подкатишь.
И поэтому автовладельцы с завистью смотрели на дикий запад, где за частниками, такими вот горемыками, как я, агенты автосервисов едва ли не охотятся. Где в любое время суток можешь прибегнуть к их помощи (если судить по фильмам из-за бугра), а здесь, в России-матушке… тут стой, блажи, хоть сам впрягайся в лямки и буксируй машину до дому или до автосервиса — никому до тебя нет дела. Никто не поможет. Хотя и сейчас, четверть века спустя, нет уверенности в обратном.
Так вот, как только я почувствовал неладное в моей «Ладушке», то я попытался сам подкрутить её гайки. Но бесполезно. Правда, днём, когда приехал в Малоярославец, подходили с десяток спецов. Однако действий от них было мало, зато советов… А советы я и сам даю, могу и бесплатно, когда в настроении. И только один товарищ, Михаил, пытался было проявить содействие, но моя особь, из металла и резины, оказалась также не по его рукам. Плюнул мой Миша, и помахал дяде ручкой, то есть мне.
Вот он тот, заколдованный круг, в котором я припух. Стою на площадке в ста метрах от дороги, которая широкой улицей проходит по городу, и кукую. Стоянка эта не та, что специально оборудуют под осмотр автомобилей, не асфальтированная, а грунтовая. В дождь она живописно раскисает — я в том убедился сам сегодня, — в вёдра её утрамбовывают десятки колёс, превращая в довольно-таки сносную площадку. И я стаю на ней, поглядываю на небо, молю Бога, чтобы он не расплакался надо мной от сострадания. И, кажется, вопль этот доходит до слуха моего сострадателя.
Но стой, не стой, а что-то делать надо. И я пошёл на большую дорогу. Я хоть и доведён до отчаяния, но ещё не был сломлен.
Центральная улица Малоярославца освещена фонарями. Лампы ионовые с желтизной и асфальт от их света рыжий, словно его навощили воском.
Облака низко плывут. Я смотрю наверх, желая заглянуть за них и выразить признательность своему покровителю, но лохматые бороды прятали его лик от моего заискивающего взгляда.
И вот, наконец, со стороны Обнинска из низины выныривают пара огней. Слышится грохот бортов. Я приготавливаюсь.
Вскидываю правую руку. Стой!.. Стой!!. Но груженный КАМАЗ с полуприцепом прошёл мимо, чихнув на меня гарью.
Вот вам здравствуйте-пожалуйте!..
Тополя шумят, качаются под прохладным ветерком. Не спится им. Кому-то ж взбрела когда-то блажь в голову, безвинную тихую липку заменить на беспутный тополь — сеет пух в рот в нос, не говоря про квартиры и прочие частные, и общественные помещения. Ни духу от него, ни цвета, одна аллергия.
Ждём…
Ага, ещё фары мелькнули. Приближаются. Так, приготовились…
Мимо! Лесовоз. Ну что же, гладенькой тебе дорожки.
Из тьмы на жёлтом асфальте, как на экране, появляются трое, на велосипедах. Катят медленно, не торопятся. О чем-то болтают. Молодые, два паренька и девчонка между ними. Когда со мной поравнялись, один, тот, что был ближе ко мне, предложил покататься.
— Спасибо, — говорю, — не на чем.
Ребята засмеялись.
Сколько же время? Присмотрелся к циферблату — часы электронные, без подсветки. Свет от столба падает, отражается от окошечка, а цифирь не видно. А нет, поймал. Тридцать пять первого — ого! Вот что значит вторая жена.
Из низины опять фары мелькнули. Ну, теперь всё! Или сейчас или… Как таксистов тормозят? Тремя пальцами — трояк. Пятью — пятёрка. Приготовились…
На «Ниве» кто-то летит. Машу пятерней: стой! стой!.. Аванс даю сразу же!.. Да куда там. Несётся, как угорелый, и не до знаков ему, не до правил уличного движения, и, естественно, не до меня. Поди, навёрстывает лимит времени, отпущенный женой.
Чтоб у тебя распредвал полетел! Чтоб крестовина лопнула!..
«Эй-эй, молодой человек! Он-то вам, что плохого сделал? — слышу я укоризну моего внутреннего голос. — Человек торопится, ни о чем не подозревает, а вы ему, можно сказать, палки в колеса… Не хорошо. Сплюньте».
Пристыженный, я так и сделал.
Ребята на велосипедах назад возвращаются. Один сидит на багажнике, ногами, как ходулями, машет. Девчонка и второй парень ведут велосипеды в руках. Самый безобидный вид транспорта, универсальный. Хочешь — катись, не хочешь — кати. Девочка о чем-то рассказывает, и те смеются.
Эх, кто бы меня повеселил, хотя бы куском хлеба…
Ага, веселье, кажется, будет, приближается. Двое парней на «экране» нарисовались. Идут молчком, как тени. Шакалят, поди. Путные-то давно при месте.
Я внутренне подобрался. Драться я не умею, но первым приёмом самбо владею в совершенстве. Как впрочем, и всякий не вооружённый в столь позднюю пору человек.
Хотя, не будем торопиться. Засеменишь раньше времени, наведёшь шакалов на дурость.
Так, прикинем, с чего обычно начинают? Обычно спрашивают закурить. А вы не курите. Дескать, здоровье не позволяет. Но почему-то именно такой вариант ответа у некоторых вызывает раздражение. А у вас позже — сожаление.
«Он тут и ахнуть не успел, как на него медведь насел!..» — подсказывает мне голос удручённо.
Да-да, дружок, примерно так и бывает. Только тут два медведя. Но я уже битый, меня так просто не догонишь. Главное, уловить момент.
Парни приближаются и… проходят мимо в двух метрах от меня.
Фу-у! Кажется, пронесло. Только один из них что-то оглядывается, ко второму жмётся. Может самому спросить закурить?..
Мой внутренний голос расхохотался.
Лягушки тоже рассмеялись над моей отвагой.
Эх, вот ситуация. Сплошной вакуум. Пустота. Стою возле ГАИ и «Скорой помощи», а обратиться не к кому. Одни — давным давно пятисерийные сны досматривают, другим — от своих пациентов хлопот хватает. Да и не смогут они оказать мне помощь. Сердце не у меня болит, а у моей «Ладушки». С фонендоскопом и градусником к ней не подступишься.
Перешёл улицу к водяной колонке. Вода в ней калорийная — поверьте на слово, — пьёшь, и в желудке на некоторое время приятнее делается, как после обеда в «пельменной» на Театральной улице в городе Калуге. Желудок поурчал, побурчал, — пу-ук! — и опять есть хочется.
Нажал на рычаг колонки, мощная струя, изумрудно переливаясь в слабом ночном и уличном свете, стрельнула в бетонный лоток.
«Кушать подано, извольте жрать!» — слышу я.
О, приятно иметь дело с мало-мальски культурным человеком, по Чехову ботает.
Я наклонился к струе, глоток, другой… Вода, как молоко, не скажу, что парное, распрямляя ссохшийся пищевод, покатилась внутрь. В животе стало тяжелее, и желудок обрадовался, от пупка отстал. Ну что же, будьте и тем довольны товарищ удав, а я пойду спать, какого лешего сейчас остановишь? Прут, как заполошные и как по автодрому.
Перешёл обратную дорогу, спустился на площадку и открыл машину. Собачонка, на вид флегматичная, днём среди нас, водителей-автолюбителей, тёрлась, из-под ворот склада выползла, лениво тявкнула. Следом за ней из ворот сторожиха выглянула. Смотри-ка, молодая, не больше тридцати.
Ну вот, на пару и посторожим. Ты — склад, я — металлом.
— Наши окна друг на друга, смотрят вечером и днём… — пропел я, разумеется, про себя.
«Много ли человеку надо? Пол-литра воды натощак, и, пожалуйста, запел».
Хм, точно. Но пойду-ка я, сосну соска два, — как, предполагаю, говаривают младенцы. Утро вечера мудрее.
Сел в машину, отвалил сидение, голову положил на подголовник — затылок упёрся сквозь чехол в арматуру. Отчего-то в подушечке поролон иструх, и двух лет не прослужил. Теперь надо переделывать подголовник или новый брать?..
«Ладно, спи! Будешь сейчас подушечки кроить».
Вороны, грачи кричать, жуть нагоняют. Во дворе склада лампочка на столбе горит. Свет от неё слабый, сюда едва достаёт.
Вообще-то это какая-то база. Днём машины во двор лес завозили, доски, горбыли. Рабочие разгружали. В пять часов вечера их начальник, или мастер, за лесом сам поехал. Рабочих посылал, так они сами его, похоже, послали. Прыгнул в машину и укатил. Видать дело было срочное, иначе чего бы ему суетиться? Но и там, в срочном месте, сорвалось. Порожним вернулся. Распорядок есть распорядок, днём не спи.
Да, спать, — эх-ха-ха! — позевнул. Под голову кулак сунул, мягче стало. Закрыл глаза.
Черт возьми, веки тяжёлые, а сна нет. Позевота: один рот и тот дерёт. Ну что же, воспользуемся любезностью Морфия и подумаем: от чего искра есть, а не прикуривается?..
Но думы незаметно стали путаться, и я начал было засыпать.
Какая-то машина салон осветила и прошла мимо в сторону «Скорой» и ГАИ. Я вскинул голову — точно, «скорая».
Нет, одному скучно, пойду, пообщаюсь.
Вышел, закрыл кабину на ключ — чего доброго унят!
Опять эта собачка. И что тебе не спиться? Боишься, сторожиху украду? Не боись, я сам боюсь, от усталости едва тащусь…
Иду по тёмному проулку. Справа склад. Слева — осевший домишко, заросший кустарником, деревьями. Впереди кирпичные гаражи автолюбителей. Машины, однако, в лучших условиях находятся, чем жители этого дома.
Вот сколько имею машину, а под крышу собственного гаража так ни разу и не вставал. Нет, я бы не против, да гаража нет. Пока лет пять не простоишь в очереди, и думать не моги. Прямо душа кровью обливается. Гниёт ведь не только железо, но и деньги. Копишь десять-пятнадцать лет, пропадут за какие-нибудь два-три года и на глазах.
Не-ет, что не говори, а с машиной до чёртиков замарочек. То возле дома её карауль, смотри, как бы не угнали, или на капоте не нацарапали слова, глаз радующих своей популярностью. То распредвал, фильтры, баллоны спать не дают. Один бензин из штанов вытряхнет. Спасибо Димке, соседу, выручает. За полцены.
И всё доставай что-то, ловчи, выкручивайся. Тьфу! Сбагрить бы кому б маяту мою, и всё! — крест поставил бы и детям наказал. Только кому она нужна, любовь моя опостылевшая. Нынче дураков нет, все научены. Новые берут, а назад оглядываются — не маячит ли где на горизонте дефицитные распредвал, резина, крестовина…
А у «Ладушки» моей медовая пора минула, не прошло и двух лет. Теперь не столько на ней, сколько под ней крутишь. При таком не навязчивом автосервисе в стране Советов, можно сказать, в самом сердце России — не раз вспомнишь япону маму.
За тёмным поворотом широкая площадка и двухэтажный домик. Он залит электрической желтизной ионовой лампы, льющей свет с высоты железобетонного столба. Само деревянное строение похожее на теремок. Нижний этаж на половину в земле, маленькие окошечки завешены простынями. Похоже, здесь пристанище для тех, кому уже всё до фонаря. У них теперь своя забота: не промахнуться бы воротами в Рай.
На стене облупившаяся дощечка «Малоярославская станция скорой помощи». Белый РАФ у крыльца. Шофёра нет. Подождём, нам торопиться некуда.
Прошёл по площадке до другого здания. В нём ГАИ. Деревянный дом большой и старый. С виду ещё ничего, а внутри страшновато. Пол скрипит, ходуном ходит, как палуба, сам днём по тем доскам мелодию выводил. И стены облупившиеся. В кабинете, где сотрудники документы подписывают, в потолке здоровенная дырища, как от пролетевшей насквозь бомбы. Листом жести забита, по краям её солома, труха свисает. Гаишники выдают документы, а сами на потолок с опаской поглядывают. Оттого, наверное, лейтенант косит малость.
Хм, ну и язык у товарища. Вечером, выезжая из ГАИ, крикнул мне:
— Дежурить вместе будем?
Я хоть и кивнул головой из-за капота, но шутку не поддержал. Уехать надеялся. Уехал!.. Язык у товарища, что компостер.
От ГАИ повернул опять к «Скорой». Шофёра нет. Ещё похожу. Не так уж он и вреден полночный променаж.
За теремком в тени стоит «УАЗ». Зелёный, с красной полосой вдоль кузова. То ли резервная машина, то ли в ремонте. Эх, утянул бы ты меня до дому, родненький…
Дал кружок вокруг «скорой» и вернулся к крыльцу. Шофёра нет.
Всё! Хватит. Натерпелись. Будем вызывать.
Поднялся по крыльцу, ступил через порог в сени. Прямо, открытая настежь дверь, завешенная шторами из простыней. Отодвинул одну из них.
— Здрасте! — говорю.
Симпатичная темно-русая девушка лет двадцати пяти, что-то писавшая за столом перед окном, сменилась в лице. Губки нервно дрогнули, глазки из-под длинных ресниц выкатились.
— Извините, — говорю я как можно мягче. — Не пугайтесь. Я не с первого этажа вашего теремка, хотя и нахожусь на перепутье. Мне нужен ваш водитель со «скорой», — я подчёркнуто живо показал рукой взад себя на улицу, где стоит его РАФик.
Бледная тень сошла с милого личика на белый халатик, и девушка ожила.
— Андрей Палыч! — звонко прокричала она.
Из-за стены спросили полусонным басом.
— Чево там?
— Вас тут спрашивають, — с мягкой интонацией на конце предложения пропела девушка.
— Счаз…
Я благодарно наклонил голову, приложив руку к груди, как и положено живому, хоть и измученному человеку.
Она смущённо улыбнулась и показалась ещё прелестней.
«Полуночник! Приведение! Сам не спишь и людям не даёшь покоя, — поднялся в защиту девушки голос моей совести. — Изыди нечистая сила!»
Дружище. Нужда заставляет! Иначе разве б я позволил? Ты ж меня знаешь…
Вышел из другой комнаты на электрический свет мужчина, лет пятидесяти. Высокий, упитанный, похожий на дубовый кряж, с задатками здоровья ещё на добрую половину века. Я заговорил первым, не дожидаясь недовольного вопроса: чего надо?.. Он уже метнулся в его глазах, пробежал тенью по лицу и готов был соскользнуть с языка водителя.
Кто знает, что за человек владеет этим инструментом?..
— Здрасте! Можно вас? — я кивнул на улицу и попятился к выходу, едва не пришаркивая ножкой.
Знаете ли, светские манеры присущи и нам, из села Товарково.
Мы спустились во двор.
— Вы в «Жигулях» разбираетесь? — спросил я.
— Это ты там машину мучаешь? — в свою очередь спросил он. В голосе насмешка. Я чуть было не вспылил: ещё неизвестно, кто кого мучает?..
Но мой внутренний голос, верный мой друг, взял на себя грех и придушил во мне моё самолюбие. Но борьба эта, видимо, заняла какое-то время, и прозвучал второй вопрос.
— Что у тебя случилось?
Я обстоятельно — в который раз за день! — стал излагать причину моего невезения.
Вот ответьте, почему в универмаге, или в любом сельском промтоварном магазине, скажем, прямо в зале нельзя примерять брюки, а обязательно нужно пройти в примерочную, или за ширму?.. Да-да, вы правы, — надоедят советами. Так и у меня сегодня. Человек …надцать подходили к машине, дотошно расспрашивали, советовали, а помочь, кроме уже упомянутого Михаила, никто не смог или не захотел. А причина простая: я самостоятельно поменял рокера, то есть коромысла на распредвале.
— Может, зажигание сбил? — предположил Андрей Павлович.
— Да вроде бы всё, как по «букварю» писано, делал.
— Что по «букварю»? По четвёртому цилиндру выставлять надо.
— Как? — ухватился я за спасительную ниточку: может, сделает? Хотя я сам прекрасно знал этот метод. Но вдруг у этого дяденьки руки золотые?
По лицу шофёра прошла тень приятельского сожаления, и я, ещё не слыша его ответ, понял: руки-то, может быть, и золотые, да душа чугунная!..
Вот он яд, травящий надежды — безобидный «бы». Ещё один советчик. Во мне как будто оборвалось что-то, и я почувствовал страшную усталость. Затылок занемел, словно к нему приложили кусок льда.
«Всё! Защита сработала. Спать!»
Спасибо за приглашение, — ответил я внутреннему голосу.
Но, ещё внешне бодрясь, иду на второй вариант — запасной. Собственно, для него я и появился здесь. На него вынуждают отчаяние и свет родимых окон, что притягивает меня к себе всё настойчивее.
— Может, отбуксируете? — спрашиваю.
— Это куда?
Закудахтал. Я назвал свой посёлок. Андрей Павлович аж присвистнул.
— Э-э, брат. Это ж добрых шейсят кэмэ, да ещё ночью… — поскрёб затылок. И стал рассказывать, как их бывший главврач «скорой помощи» погиб. — При буксировке заснул, и царствие ему небесное. Нет, парень, ты уж тут переночуй. За день, поди, надёргался, устал. А утром я тебя на своей «Волжанке» оттартаю, — пообещал он и пошёл к РАФику, вышла бригада «Скорой».
Я был тронут его сочувствием. И, обнадёженный, прошествовал на ослабевших ногах к «Ла… ло»… к лоханке! Даже «Ладой» не хочется называть.
«Не обижай девочку, коль сам чудак на букву «М», — возмутилось моё второе я.
Я пристыжено примолк.
Нет, он прав, он прав (шофёр). Надо хоть немного поспать. В глазах уже вспыхивают искры, плавают разноцветные круги, словно по извилинам мозга проскакало стадо кулончиков напряжением в двести двадцать вольт.
Какая тут езда? Разве что в ад или рай к тому главврачу на консультацию.
В половине второго угомонился, в три проснулся. От мелкой дрожи. Живот и плечи замёрзли. Лёгкий массаж руками и вновь задремал, на пятнадцать минут. Снова проделал согревающий массаж, но сна уже не было. Зубы застучали громко, вспугнули. И ведь не в Сибири где-то, не на Северах, а в Центральной полосе России. Брр…
«А поделом тебе! Выфрантился в одной рубашке. Нет, чтобы пиджачок назад бросить, не перегрузил бы машину. Машина тогда греет, когда едет. Встала — всё наоборот».
Умён ты, я смотрю, задним числом. Нет, чтобы дома подсказать.
Чехлы с сидений сорвать что ли, ими укрыться? Шевелиться не хочется. Скрестил руки на животе, пытаюсь уснуть…
Нет, всё! Холод не подруга — выскакиваю из машины.
На звук двери из подворотни страж выполз, потянулся и, смачно позевнув, лениво гавкнул.
Здорово, здорово дружище! Не спится, или служба не позволяет? А хозяйка как? Спит? Счастливая. Ей холод не сосед. Хоть бы в гости пригласила. Делаю приседания.
Небо по-прежнему хмурое, прохладный ветерок протягивает, дождём попахивает. Хоть бы кто-нибудь перекрыл там краник, а то лил и лил три дня подряд, нашёл дырочку. Сегодня, первый день, вернее, вчерашнюю половину дня и сегодняшнюю ночь остановился. Может быть, в мою честь?
А голова вроде бы ничего, посветлела. Сейчас бы домой…
Эх-хе, вот ситуация, не привязан, а скулишь.
Побоксовался, побегал вокруг машины, ещё поприседал, но уже под «Камаринского». Холод серьёзный тренер, все способности враз выявит.
Теперь уж и вовсе не уснуть. Похожу, подумаю. На свежую голову должны шарики без напряжения крутиться.
Руки за спину, вид сосредоточенный, а в голове? — сплошная абстракция. Рой вопросов и не одного ответа. Помню, был на выставке абстракционистов. Ничего ребята, юморные. У одной картины под названием «Милый образ» долго стоял, разглядывал. Вначале глаз нашёл — на плече вроде. Потом по квадратикам, по треугольникам до ног добрался — в одном клубке с головой. Уши по бокам. А может и не уши, ступни ног? И всё в красных, синих, жёлтых линиях. Фантазию напрягал, начерталку использовал, а до «милого образа» так и не добрался. Ума не хватило. Только уж потом, издали, вдруг осенило — фига!
И сейчас так же. На все вопросы — один ответ.
Поднялся на центральную дорогу. Ни машин, ни людей. Даже лягушачий хор поутих. Благодать. Помню, с женой, когда в девках гуляли, такое время обожали. Никто не мешает, никто не подслушивает и никого видеть не хочется. Сейчас не то. Не те ассоциации. Сейчас, наоборот, к людям тянет. А что, может крикнуть на всю широкую Малоярославскую:
— Люди! Помогите! — кто-то да проснётся, прибежит.
Правая рука к шее потянулась, почесало.
«И правильно сделала. Самообслуживание, хочу заметить, самый безобидный вид услуг», — подсказал мне внутренний голос.
Кажется, ты прав.
Спустился с дороги и вновь пошёл в сторону «Скорой помощи», к её теремку. Тянет меня к свету, как мотыля.
Стараюсь думать об отвлечённом. На пример, где сейчас тот лейтенант, шутник раскосый? Обещал ведь вместе со мной дежурить.
«Там, где ему и положено быть. На боевом посту. В постели».
Жаль. А то бы брякнул в сервис, мол, тут человек загорает. И, пожалуйста, вам — техпомощь. Ведь ГАИ и автосервис для автолюбителя, можно сказать — два родственника, оба из него хорошо соки тянут. И на просьбу лейтенанта, глядишь, откликнулись бы.
…И вот, они приезжают.
— Что случилось? — спрашивают.
Я объясняю.
— Ну, это нам — раз плюнуть. Через полчаса всё будет тип-топ. Не извольте беспокоиться. Отдыхайте.
Я млею от восторга…
«Эй, эй, товарищ, проснитесь! Спуститесь с голубых облаков мечтаний, — одёргивает меня трезвый голос серых буден. — Нельзя этак воспарять, зашибиться можно. Автосервис днём, на месте не успевает управляться с вашим братом, а тут ночью, да на выезде…»
Тьфу, паразит! Весь кайф сбил. Чтоб тебя!.. — и я, простите, выругался.
«Скорая помощь» возвращается. Побежал за РАФиком. А ничего, теплее становится. Свои батареи заработали. Так кружок другой сделаю вокруг теремка и совсем согреюсь.
Подошёл вовремя, бригада из машины выходит. Я к Андрею Павловичу.
— Может, подтащите меня сюда, к свету, — киваю на столб с фонарем. — Всё равно не спится, поковырялся бы в машине.
На это он согласился. И мы проехали на РАФике до моей «лайбы».
После ночной тьмы, под фонарём, моя «Ладушка» глянцем заиграла. Будто улыбнулась. И до чего же мне её родимую жалко стало и обидно отчего-то, что даже на глаза слеза пробилась. Откуда только слова и мысли ласковые появились. Глажу её по дождевому желобку и напеваю:
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.