
Бесплатный фрагмент - Русь деревенская
Русь деревенская
«Люди вообще напрасно думают, что каждому из них доступно только то, что прошло через сознательные слои его «дневного» опыта. Неисследимо и неописуемо присутствуют в каждом из нас веяния наследственно окружающей нас природы, дыхание нашей национальной истории, потомственно намоленные в душе религиозные сокровища духа.
Всё это как бы дремлет под сводами нашего душевного подземелья; и только ждет своего часа для подъема и обнаружения. И в этот час, когда приходит в движение родовая глубь личной души, человек испытывает себя скорбно и радостно-древним, как если бы в нем ожили и зашевелились его безвестные, но столь близкие ему предки, их беды и победы; как если бы в нем проснулось некое историческое ясновидение, доселе сосредоточенно молчавшее, или рассредоточенно дремавшее в глубине его души, — проснулось и раскрыло ему сразу и глубину прошедшего, и глубину его собственной личности.
И вот все живо, все трепетно-свежо, все заливает душу скорбью былых страданий и радостью нового видения».
Иван Ильин, русский философ

«А не спеши ты нас хоронить,
А у нас ещё здесь дела,
У нас дома детей мал-мала,
Да и просто хотелось пожить».
Владимир Шахрин
Глава 1 «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО»

СВЕТ ДЕРЕВНИ
(повесть)
«Кровавая, хмельная,
Хоть пой, хоть волком вой!
Страна моя родная,
А что ж ты делаешь со мной?!»
Зоя Ященко
«Блаженны кроткие,
ибо они наследуют землю».
Евангелие от Матфея, гл.5, ст.5
Солнце вставало доброе, чистое, обещало хороший день. Оно появляется каждый день из-за угловой соседской ограды, что через дорогу, между изгибом реки и лесом. Сначала чуть подсвечивает снизу небо, потом, высунув макушку из-за горизонта, пускает свет вдоль по земле, и, наконец, показав свой лоб, щекочет лучами уже бока деревьев и изб. А уж когда является перед миром всем ликом, тогда щедро заливает светом и крыши, и огороды, и реку.
Дом поставлен так, что солнце в окнах весь день, от первого лучика до последнего. Сперва в го́рнице и комнате, в пяти окнах прямо, потом катится вправо, заглядывая в те, что выходят во двор, пока не спрячется за кладову́ю. Тому, кто привык трудиться от зари до зари, по-другому строить нельзя.
Александра наблюдала рассвет из окна родительского дома, дожидаясь невестку, чтобы с нею идти на реку полоскаться. Мария собирала в узел волосы, зевая, повязывала платок. Подхватив корыто с бельём и вальки́, женщины вышли из избы и стали спускаться к реке. Расположившись на плотике, заска́ли рукава рубашек выше локтя, принялись плескать на стайку гусей и кы́шкать, отгоняя их от мостков. Какое-то время у реки было спокойно, слышался плеск белья по воде и гусиных крыльев неподалёку, и солнце пронизывало золотыми нитями белизну птичьих крыл и лёгких женских рубашек, не забывая и обо всём береге, создавая неповторимое, не сравнимое ни с чем световое полотно утренней деревни.
Александре всегда было радостно гости́ть в родном доме, словно сила впитывалась в неё от самых стен, от тя́тиной тихой поддержки, маминого разговора, мир нисходил в душу, дух укреплялся. Только сейчас она у них не в гостях, и не от радости. Му́жнину семью раскулачили, и мужа, и отца его с матерью увезли куда-то, сказывают — в Сибирь. Свекровка добрая была у неё, уговаривала:
— Олександра, бабам-то можно отстать от мужиков, разрешают отделиться. Иди к своим, робя́т уводи, может — спасётесь.
Сомнительно это было, чтобы спастись. Несдобровать им. Свекры, конечно, тоже не худо живут, к худым её бы не отдали. Не живут, жили уж теперь. Узнавала про них, спрашивала — никто ничего не говорит. Ни слуху, ни духу. Где они, как они? Запропа́ли на́чисто, может, вовсе сгинули. Никого не жалеют теперь, стреляют. В Мироновой вон церкву изломали, батюшек убили. Кладбище испоганили, с землёй сровняли, где могилки теперь родные искать? Дедушко Иван там, баушка Надёжа, сестрица Мария…
Но к своим уехала, робятёшек пожалела. Да и за своих боязно. Не самой спастись, дак им помочь. Хотя, чем поможешь? Но как сам тут находишься, сам всё видишь, дак будто легче. Павел, муж-то, хороший у неё был, ладно у их было. Был, было… Неужто только так теперь и говорить об этом? Неужели всё поги́нуло?
Тятин-от дом посправне́е Павлова будет. Значит, не сегодня-завтра и к ним придут. Федя Горбатый уж не раз похвалялся: «Теперь мы станем кала́чики ись, а вы сухари суши́те». Мы — это, стало быть, новая власть. Ты сперва напеки этих калачиков-то! Да из своей пшенички.
Перво-то время власть не по один раз на дню из рук в руки переходила. Утром бе́ла, вечо́р кра́сна. Потом снова да ладо́м переменятся. Как красны в деревню — Федина семейка уж тут перед ими вьётся.
В соседних губерниях, сказывают, мужики сколь раз бунтовали. А наши… Дед Иван наверняка бы пошёл. А тятя другой, и брат тоже. На их многие глядят, уважают всё ж таки. Может, на их глядя, тоже молчат.
Сердце сжалось, вспомнив прежнюю жизнь. Тятя тогда токо недавно их с сестрой из школы приходско́й забрал, не дал в третий класс пойти — работы по дому полно, а прислуги ведь нету. Хватит, писать-читать выучились, и будет, не барыни. Совсем-то неграмотных у их никого не было, азбуку с арихметикой все знали. Токо ленивые грамоте не знают да худоу́мые. Однако, добро с неба не падает, а с поля, да с огорода, да с приго́на. А зимой — кро́сна, спицы, иголки да нитки. Мужикам пло́тницка работа, обу́тки шить, посуду ладить, да ку́зня ведь у них. Понимай, сколь работы-то. В большой семье у всякого своя куде́ля, большим — больша́, маленьким — ма́ленька.
И вскоре, в один недобрый день, прискакал тятин сродный брат, Перфи́лей, рассказал: «Пермь пала, царя сбросили!» И показалось это так, будто небо сбросили на землю, и всех придавило… Как жить теперь, чему верить, кому служить? А тятя твёрдо сказал: «Разве нам кто приказывал сердце менять? Или голову другую приставили? Им Бог судья, а нам гадать да менять нечего, так и быть, как было. Жить по совести, верить Богу, служить родной земе́люшке»…
И заездили, запылили, заскакали по деревням чужаки. Грохот, крики, топот, стрельба, грязи́ща, день и ночь смешались — ни в чем не было больше покоя. Ничего нельзя хуже придумать для деревенского человека, чем нарушить его уклад, его мирный, понятный ход жизни, в котором он знает, что это его дом, его двор, его поле, его семья. Его соседи, а значит, братья, друзья. Потому что у них такой же дом, и двор, и поле, и семья. И все они вместе, и знали, когда вставать и ложиться, сеять и жать, работать и праздновать. И берегли и умножали то, что давала им земля.
Теперь было непонятно, когда день и ночь — и ночью стреляли и кричали, и выгоняли из избы. Когда сеять — поля топчут чужие кони. Кони чужие, а седоки на них по-русски вроде говорят. Токо матерятся больно, да слов каких-то басурманских много. Русские, а чужаки. Что с ними делать? Знали многих врагов в лицо, воевали в германскую, дед Иван турка бивал. А эти — со своего уе́зда, да хуже турка. Раньше мчали по сёлам тройки коней, теперь тройки людей. Те тройки людям служили, душу радовали. А эти людей приговаривают да стреляют.
И как понять то, что им говорят: «Новая власть даст вам землю», а власть пришла и землю отняла. И как беречь заро́бленное — горят амбары и избы, выгребаются подчисту́ю и зерно, и сено. Кое-которые из деревенских ушли с имя́. Сро́дник тятин, Панкратий, ушёл. У их земли было не сколь ди́вно, пять девок в семье-то дак. Сказывают, нету уж живого. За что поги́нул? Жена с девками осталась сирота. Тятя им муки свёз, пшена, мама узел одёжи для их проводила, да денег сколь-то. Хоть и удивительно, как девки себе не нашили добра, не навязали? Безрукие ли чё ли? Ну, осуждать — грех.
Ещё раз приезжал дядя Перфилей. Что Илья с Егором к красным не метнулись, в том сомнений не было никаких. Тут другое дело. За Пермью и да́ле мужики восстали. Работать нельзя, семью кормить нельзя, хлеб отдай, лошадь отдай. Баб, ребятишек стреляют. Токо степняки́ так делали, их отбили деды, неужто мы этих не отобьём? Перфилей уехал мрачный. Впосле́дни сказал брату: «Смотри, Илья Иванович, ты против их не идёшь, а оне́ за тобой придут, не задержатся»…
* * *
Александра с Марией стали подниматься вго́ру, к избе. Трёхшёрстная кошка припусти́лась от лохматого кобеля через дорогу и взлетела на электрический столб. Пёс отметился у столба и пошёл по своим делам, а стайка воробьёв расселась на проводах. Замешкались вроде на минуту, и опять давай чирикать. Кошка долезла до середины, опну́лась, и сидела, думала — сползти вниз или лезти выше, чтобы воробьёв достать. Запоздалые петухи догорланивали побудку для ленивых, а на столбе по сю пор горел огонь. Сказывают, недёшева эта новая лампа, денег стоит. Мотает там где-то чё-то.
Дедушко Иван опять вспомнился. Всё говорил: «Наживи́, да не растряси́». Александра усмехнулась, припомнила, как они маленьки уроки сядут выполнять, зажгут лампу. Кероси́нова лампа, в деревне её называют «сбоку налива́тся, с ж..пы задува́тся». А дедушко не любил, когда кто при огне работу делает, особенно летом. На то солнышко есть. Не успели — стало быть, никуда не поспели. Никудышные, значит, работники. Поглядит на робят, встанет, подойдёт к окошку, занавеску вроде того пошшу́пает, покряхтит, ладошки друг об дружку пошо́ркает. Потом тихоньку подойдёт к лампе, и вроде невзначай задует. Вот и выучили уроки. А кто виноват? Припоздни́лись — всё.
А новую эту лампу с проводами и вовсе не жаловал. Для ленивых токо. Наливать не надо, ставить не надо, болтается, токо загогу́лину поворачивай, можно и с полатей не слазить, так дотянешься. Да мотает. Не сразу эти новые тенёта в избу провели, пригляделись сперва. А провели, дак не шибко зажигали их. Да ещё не всегда порядок. Как токо ветер — у их огня нету, тенёта оборвало. Лезти надо на столбы, завязывать. То потухнет, то погаснет, то опять не загори́т.
А теперича караси́н обчий, лампочки е́ти незна́мо хто покупает, незнамо кому и беречь. Вот и светят — солнце са́мо по себе, а столб сам по себе. Да столбы-то тогда ещё делать заставили. Сперва собрали народ, да всё какими-то бумажками трясли. Мол, новая власть приказывает то-то и то-то…
Липинские собрались, ди́вно пришло. Бояться стали, мало ли — не придёшь, заарестуют либо ещё что. Товарищей было вроде пятеро, столом отгородились, как у их в моде. Федя тут метлеси́тся, Ма́кся Со́ря тоже. Ну как — начальство! Говорить стал один из их, в кожаной тужурке. Сказывают, там, в карманах-то, всегда пистолеты у их, чтобы в любой момент в человека-та стре́лить. Поглядел на народ-от, подбородок голый кверху задрал и говорит:
— Товарищи крестьяне! Доводим до вашего сведения протокол заседания товарищества об электрификации северного куста Егоршинского района. Учитывая необходимость электрификации Мироновского куста в Егоршинском районе, президиум райисполкома предлагает товариществу «Свет и сила» развернуть массовую работу среди населения этого куста.
Народ молчал. Баушка Антанида Пахомовна оттопырила ухо, загнув платок повыше и наморщив и без того морщинистое лицо, изо всех сил слушала. Потом покрутила головой из стороны в сторону и тихоньку толкнула в бок свою сноху:
— Настёна, чё ето ладят делать-то опять?
— Дак не пойму, мама. Кусты, что ли, какие-то садить будут.
— Нашто́? Мало емя́м кустов-то в Липиной?
— Эти, вроде, какие-то северные…
— Ёлки, ли чё ли?
Сосед Мотька ввязался в разговор:
— Да нет, лифика́цию станут делать.
— Чё ето?
— Это, баушка, навроде екзеку́ции.
Антанида сохвата́лась за Настасью и начала, было, подвывать, но товарищ в тужурке поднял руку, чтобы, значит, молчали все.
После кожаного стал говорить другой.
— Товарищ Валов вам разъяснил постановление. Электрификация будет производиться на паевые средства. Контроль за сбором средств поручен Фёдору Савватеевичу.
Федя приосанился и важно оглядел земляков. Товарищ продолжал:
— Кроме того, необходимо приступить к заготовке столбов и материалов… Ответственный за это Максим Емельянович.
Со́ря приступит, а как же! Заготовит. Он с молодых ногтей за топор-то хвататся. Чуть чё не по ему дак.
Говорили товарищи долго, новая власть шибко любила собрания. Душа болит — хозяйство ждёт, а попробуй, уйди. Врагом заде́лаешься. Заставили тогда от каждого двора предоставить работника, чтобы готовить брёвна для столбов, да в землю опо́сле вкапывать их. Потом на их тенёта вешали. Это уж сами товарищи ладили, тенёта-те эти не каждому можно трогать — насмерть человека соже́гчи могут. Как всё изла́дили, давай праздновать. Из Егоршиной приезжали артисты, про новую жись показывали, как, мол, хорошо теперь стало. Тот же мужик, из товарищей, опять выступал.
— Вот, товарищи крестьяне, советская власть принесла свет деревне! Мы не будем больше ждать милостей от природы, взять их у неё — наша задача! Забудьте про лучины и керосинки, которыми по́дчевал вас царский режим! Теперь всегда будет гореть этот новый свет деревни!..
* * *
Александра и Мария уже подходили к своей избе, когда увидели в конце улицы каких-то мужиков. Похожи на товарищей, одного легко узнать и издалёка — Федя Горбатый. Верно, он. Руками в их сторону машет. Женщины поскорее забежали во двор и задвинули засов на воротах. Александра кинулась в избу.
— Тятя, к нам идут!
Илья Иванович подошёл к иконам, перекрестился, потом встал возле окошка. Авдотья отправила внуков на полати:
— Олёша, пригляди за Нюрой, да не зду́майте выглядывать, сидите тут!
Спросила Александру:
— Мария-та где?
— В огороде, стирку вешать пошла.
Мать всплеснула руками и кинулась во двор, вразумить невестку. В ворота заколотили не́честно. Зашли по-хозяйски, сразу взяли в оборот.
— Кротов Илья Иванович?
Хозяин спокойно оглядел пятерых товарищей. Соря в зелёной шапке с во́стрым верхом и с красной звездой, на плече ружьё. Один в кожанке, в фуражке, хоть и жара, на боку пистолет. Ишо двое «своих», деревенских. Тимоха Забелин — тот всегда подраться был не дурак, хоть бы с кем, всё равно, лишь бы кулаки почесать. Работать — его ишо надо поискать. Эта большая драка ему шибко к душе пришлась, повоевал сколь-то, теперь с властью ходил, порядки наводил. Костюха Кротов, дальная-роздальная родня, бедняк. Пьёт не шибко, да пошто-то всё не везёт ему, то жена захворает, то скотина падёт, робетёшек много. Пятый — Федя. С этим всё понятно.
— Здоро́во, земляки. По делу, али так зашли, про здоровье спросить?
Федя и без того уж приседал с нетерпёжу, скорей бы кинуться, а тут его про́рвало:
— Тебя, кулацкая морда, щас спросим! Про всё спросим…
Кожаный на его махнул:
— Фёдор Савватеевич, выскажетесь позднее.
Илья обратился к родственнику:
— Ты, Константин, наверно, долг принёс за подкованную кобылу, за дуги да за кадку? Дак я тебе ведь простил этот долг-от, сказано — не отдавай, тебе сгоди́тся.
Костюха отвёл глаза, а Забелин за его гаркнул:
— Сами скоро без штанов будете! Хватит, отзадава́лись!
— Тише, товарищи! — вмешался кожаный. Потом велел хозяину:
— Пригласите всех членов семьи сюда.
Но все уже и так были во дворе. Александра и Егор вышли на крыльцо, Мария со свекровью выглядывали из-за двери в огород. Кожаный достал бумажку, поке́ркал в кулак и начал читать. Эти слова, страшные и чужие, никак не укладывались в уме стройно, но на долгие годы врезались в него, как гвозди, вбитые в их жизнь, которую пришли распять: «протокол», «постановление», и числа какие-то, номера чего-то. Прочитав бумажку, кожаный поглядел на своих подельников:
— Ну что ж, товарищи, я думаю, можно приступить к голосованию. Группирование зажиточно-кулацкой части, я думаю, вполне доказано. Кто — «за»?
Тимоха и Соря подняли кверху одну руку. Кожаный кивнул и указал рукой на большие ворота. Незваные гости открыли их настежь, за ними, оказалось, уже стояло три телеги. Федя с Тимохой побежали в пригон и, матюкаясь, начали вязать верёвками коров. Красно-пёстрая Изка и рыжая Мамка упирались и мычали, стараясь поддеть чужаков рогами. Тимоха выскочил во двор и, найдя под навесом мешковину, обмотал ею рога особенно сердитой Изки. Её месячный телёнок Мизи́рко бежал за нею, жалобно пому́кивая. Мамку Макся выволок за ворота, как попало. Кормилица семьи мотала головой и старалась зацепиться ногами за землю, упала на колени.
«Зарежут», — подумала Александра, — «изломали, бедной, ноги-те». Посмотрев на мать, женщина увидела, что по лицу Авдотьи, не морша́, бегут ручьями слёзы. Тятя с Егором пошли в конюшню и вывели лошадей. Александра про себя одобрила это: нельзя, чтобы их, сироти́нушек, так же, как коров, вытянули. А ну, как вырвутся? Пристрелить могут их. Брат её вывел серую кобылу Груню, труженицу, ходившую и перед плугом, и перед телегой да санями. Потрепал по холке, погладил, надел уздечку — а то товарищи верёвкой потянут — повёл за ворота, привязал ко второй телеге.
К первой уже были привязаны коровы. Телёнок жался к матери, искал тёплое вымя. Дитё — оно и есть дитё. Мама рядом, значит всё в порядке. Разлучат теперь с мамой, поставят в общее стойло, не знамо — убранное ли, нет ли, на жиденькое колхозное пойло, а то вовсе прирежут.
Илья Иванович надевал узду на своего верного друга, тихонько что-то наговаривая ему, поглаживая длинную гриву. Серко́, стройный красавец, сильный, трепетный, чувствовал тревогу и вёл себя, как перед походом. Приплясывал, дул большими ноздрями в лицо хозяину. Прадед его носил деда Ивана воевать против турок, отец бывал в походах, и сам он не раз уходил с хозяином служить. Егор, когда маленький был, всё понять не мог, пошто это белых коней серыми зовут. Теперь вот глядел, как отец обнимает Серка́, гладит мощные скулы и ведёт за ворота. Никогда таких бабьих повадок у него не бывало, лошади в холе, в сытости, ни кнута, ни сапога не знали, но и обниманьев тоже. Чувствовал Егор, что сколько бы ни унесли теперь воры, что бы ни отняли, эта потеря всех больнее. Что такое для отца потерять Серка́, когда у него у самого комок под воротом давит!
Кожаный, видать, думал про то же, только наоборот, что это самое большое приобретение. Он даже перестал командовать и стоял, не скрывая, любовался конём. Было ясно, что Серка́ колхоз не получит. Опомнившись, главный товарищ заподгонял своих. Поволокли на телегу гусей, выгнали овечек, складывали в мешок куриц. Выкатили из сарая телегу, думали, как вывести сани. Не придумали, пришлось оставить. Из избы потащили сундуки, тюфяки, посудный шкаф, комод, подушки, посуду.
Два сундука и матрас Александры собрались грузить на реквизированную телегу. Илья Иванович подошёл к комиссару, сказал:
— Это до́черино прида́но, не с нашего хозяйства. Она отделилась от мужа, это увезла с собой.
Кожаный недовольно махнул рукой, сундуки поставили у стены. И без них работы у гостей было невпроворо́т. Всё, что вы́ковали за годы труда хозяева-кузнецы, изла́дили мастеровитый столяр Илья Иванович и смекалистый механик Егор Ильич, выткали, сшили, вышили и связали долгими зимами Авдотья и свекровь её, Надёжа, что вырастили в поле и огороде, отправлялось теперь новоявленному хозяину — колхозу. Хомуты́ и огло́бли, серпы́ и подковы, столы и грабли с лопатами, сапоги и рубахи, тулупы и пимы́, шали и штуки полотна, юбки и кофты, полотенца и вёдра, горшки и ла́дки, утюги и коромы́сла, хлеб, пшено и сено, даже морковь прошлогоднюю выгребли.
Последними из избы вынесли большие часы с боем, отмерявшие в этом доме время, почитай, пяти коле́нам. Егор эти часы всё время держал в порядке, чистил, настраивал, смазывал.
Потребовали ключи от кладово́й. «Работники» припоте́ли, таскали уже не так спо́ро. Четыре телеги и скот уже отправились от дома, только Серко́ оставался привязанным к огороду, бил копытами, ворчал и недовольно мотал головой. Кладовая пустела на глазах.
— А это что? — спросил предводитель, пиная ногой дверь малу́хи.
— Там дочь живёт, её там хозяйство, — снова сказал Илья.
— Чё-то у тебя, Илья Иванович, всё до́черино, чё ни возьми, — встрял Федя.
Товарищи шва́рили по другому, по третьему кругу в пустых уже амбаре, избе, приго́не. Егор обнимал мать, отец прямо и, вроде бы, спокойно стоял, глядя на гибнущий дом. Всхлипывания Марии перешли в завывание, она пыталась хватать и удерживать то одно, то другое. Её втолкнули в кладовую и закрыли там.
Александра молча и неподвижно, скрестив руки, смотрела на хозяйничающих пришельцев. Никто бы не догадался, о чём она думает. А она вспомнила, как в детстве плакала оттого, что мама унесла куда-то котят. Такие хорошие, а мама унесла. Как же жить-то без котят? И Авдотья ей сказала тогда: «Вот беда — котята! Вырастешь, узнаешь, какое горе-то бывает. Токо не дай Бог!» А Санке думалось: «Какое же может быть горе больше, чем потерять котят?» Гнев кипел у неё в груди. Кожаный обратил внимание на фигуру, которая всё это время молчаливо стояла, как изваяние, и наткнулся на горящий взгляд.
— Ух ты, какие глаза! Огонь. Жанна Д»Арк! — ухмыльнулся он.
Разомкнув, наконец, плотно стиснутые губы, женщина сказала:
— Александра я.
Супротивник снова ухмыльнулся:
— Защитница, стало быть. Я запомню.
— Запомни.
— Думаешь, от зайца ушла и от волка ушла? Давай, открывай своё хозяйство! Шутить с нами надумала? Открывай, говорю, свою конуру! Сама по себе она, видите ли!
— Не имеешь права. Я ни отцова, ни му́жнина. Твоя власть разрешила отделяться. Или ты сам по себе власть?
Кожаный стиснул челюсти, повёл взглядом по двору — на чём бы зло сорвать. Увидел в открытых сенцах малухи большой старый ларь, в котором лежали вытканные в эту зиму новые половики. Рявкнул:
— Это что?!
— Моё это.
— Было! Было твоё! Шевелись, выноси!
Александра медленно повернулась и пошла к сеням, стройная, спокойная. Товарищ глядел вслед, скрипя скулами, поневоле любуясь ею, раздумывая, что сделать — арестовать её за сопротивление властям или жениться на ней. А она думала, что вот сейчас он выстрелит ей в спину. Дойдя до ларя, женщина открыла его, достала стену половиков, и, взявшись за край, катнула под ноги кожаному. Разноцветная, полосатая дорожка пересекла двор. Следующая, с выкладны́м узором-«ёлочкой» взлетела и улеглась рядом. Третью у неё перехватили, но от столкновения и борьбы она тоже выскользнула и наполовину раскатилась.
Товарищи матюкались, оттолкнув Александру от ларя, сами принялись шарить в нём. Но там осталось только несколько круглых плетёных ковриков. Ещё раз зыркнув на упрямую кулачку, предводитель пообещал:
— Ещё увидимся.
Дав команду уходить, он попытался забраться на Серка́, но конь был не осёдлан, и без стремени комиссар не сразу с ним справился. Городской, видать. Разозлился ещё больше оттого, что женщина, усмехаясь, глядит на него, пнул коня. Александра подумала, что Серко, понимающий слова, не станет слушаться сапогов, а стало быть, долго ему не жить. О том же, видать, думал и Илья. Оторвавшись, наконец, от места, где стоял всё это время, он подошёл к воротам, закрыл их. Мария всё ещё о́пила в кладовой, Егор отпер жену и успокаивал. Авдотья и Александра были уже в избе, обнимали ребятишек.
Всё семейство собралось под крышей ограбленного, разорённого дома. Молча обходили комнаты, глядя на то, что осталось. В горнице стол, в комнате две лавки, кровать. Рукомойник не взяли, ухват возле печи остался. И светлый квадрат на том месте, где висели часы. Вот и остановилось время, раскололась жизнь пополам, разделилась на «до» и «после».
Илья Иванович встал на колени перед иконой в кухне, которую, слава Богу, не тронули. Остальные все увезли. Рядом опустились Авдотья и Егор. Если бы слышали товарищи эту благодарственную молитву, шибко бы диву дались. Благодарили, что все живы.
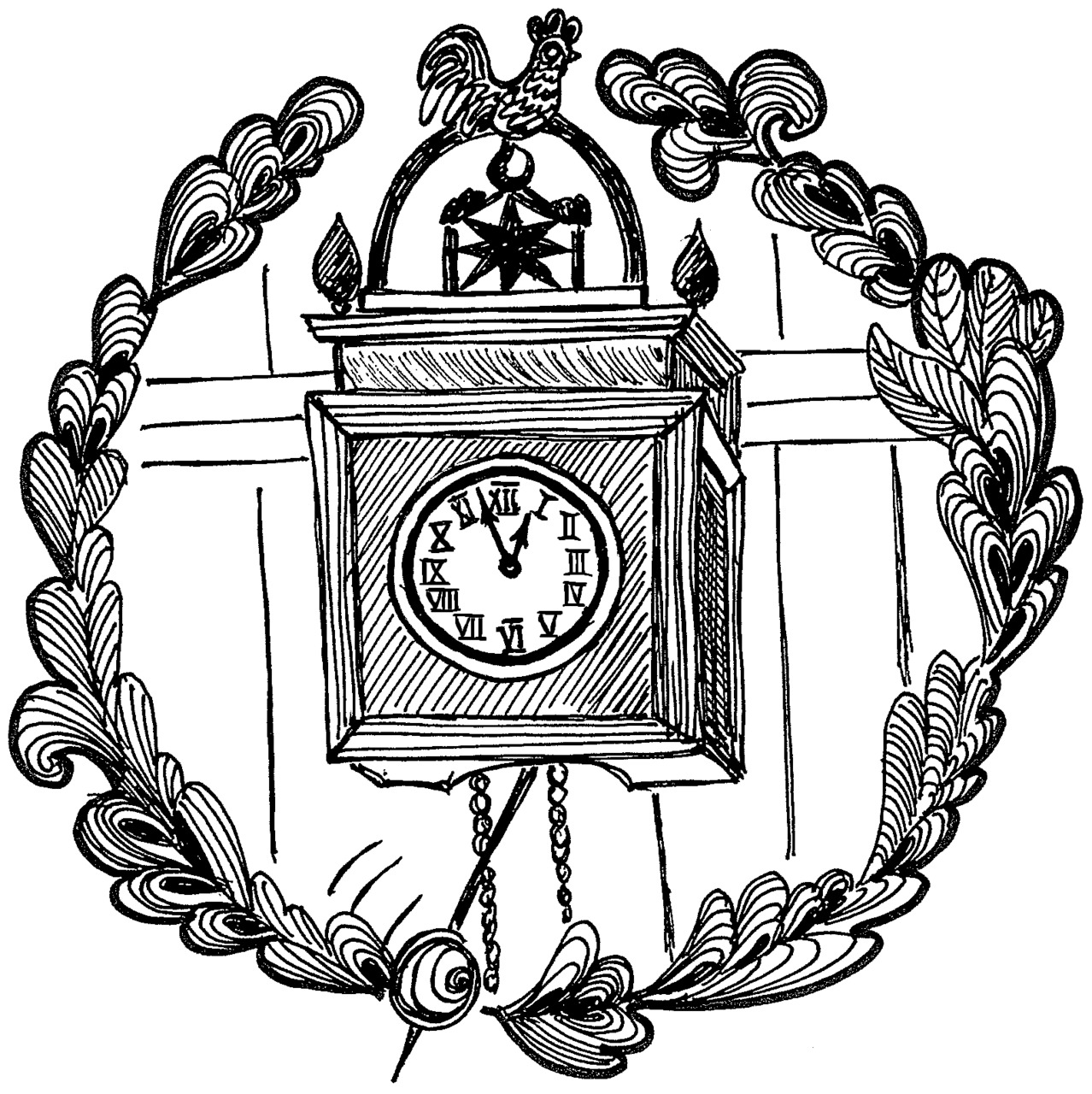
Набранного добра было так много, что не вспомнили гостеньки про подпол. От амбаров да кладовой голова кругом шла. А в подполе была у мужиков мастерская, подо всем домом тянулась, как всё равно вторая изба. Станки там — столярный да слесарный, струме́нт всякий. Из бабьего обихода чигу́нки, корзины и прочая. И главное — соленья да варенья. А ещё — потайной ход через огороды к реке.
Женщины нашли тряпок, лоха́нь, и принялись замывать пол после набега. Скатали так и не собранные с земли половики. Мужики прибирали во дворе, что ещё можно было прибрать. Как стемнялось, Авдотья сходила к соседям, Шелегины́м, выменяла коври́гу хлеба. Да заодно договорилась с ними, чтобы стаскать к ним кое-которые припасы, чтобы на другой раз их не нашли. Так и сделали. Мать и дочь, Сима и Катя, жили, как говорится, бедно да честно. Не жирова́ли, но в избе прибрано, и хлеб в печи всегда есть. Держали козочку да куричошек сколь-то. Много ли им двоим-то надо? Авдотья, правда, им помогала, когда чё дак, да и Илья плотничал, бывало, у их по-соседски. Хорошие были обе женщины, часто в гости захаживали. Да кто к Илье Ивановичу-то не захаживал? С умным да хлебосольным говорить-то — любо-дорого. Теперь, небось, никто не придёт, не жди. Забоя́тся.
Потихоньку бабы выменяли и му́чки, стали опять сами печь хлеб. Картошка ещё не копана, стали её подкапывать, да прошлогодние запасы из подполья. Одёжи доброй никакой почти не осталось, особенно зимней. Подвезло тем, что в корыте, в огороде осталось мокрое, так и не развешенное бельё. Занавеску с пола́тей ситцевую сняли, из её которо-что сшили, да у Авдотьи в бане лежали узлы, выстирать да кому-нибудь подать. Теперь сами себе подали, сгодилось. А не имели бы привычку подавать ми́лостину, во что бы оделись теперь? Те, к кому они были милостивы, ничего им не подадут. Кто со зла, а кому боязно.
Егор начал с отцом говорить сыспоти́ха, чё, мол, да́ле-то делать станем. В колхоз заставят вступать, да и придётся — как жить-то? Илья сказал:
— Пока терпит. Оне ведь пошто-то не заикну́лись об колхозе-то? Им добро наше заноза, да земля, грепте́ло попользоваться. А нас им не надо.
— А про Перфилея чё думашь, тятя? Может, ехать теперь к им?
Отец, как всегда, тихонько и спокойно ответил:
— По русским мужикам стрелять?
— Оне по нам стреляют, дак ничё.
— Это на их совести. Перед Богом пооди́нке отвечать станем, там кивать не на кого, не скажешь — оне, мол, стрелять за́чали, и я тоже, на их глядя. Ты сам-от как думашь, Бог-от каких людей-то создал? Красных али белых? Вот то́-то, все одна́кие.
— А на войне как? Ждать, ли чё ли, когда тебя убьют, ничё не делать?
— То война. Скажут, на немца идти — щас же соберусь, видали мы и́хну кана́льску породу!
— А это разве не война? Это не орда?
— Эту орду русские матери родили, русская земля взро́стила, в русской церкве крестили. Враг человеческий их задури́л, наслал на нас. А Господь то попусти́л. Против Него не пойду.
— Мы не пойдём, други́ не пойдут… А кабы все пошли, может бы отстояли прежнюю жизнь? Кабы все вместе?
— Все пойдут — все и погинут, и те, и эти. А хто в Рассее останется? Хто жить станет в Божьем мире? Ты по-другому рассуди: не кабы все пошли, а вот кабы все не пошли? Нихто бы ни на кого не пошёл — ни мы на их, ни оне на нас. Вот как надо.
— А эти, стало быть, будут распоряжаться тут?
— Будут, покуда Бог им предел не положит. Молиться за их — не ведают, что творят.
Как зиму жить, сколь ни думай — не выдумаешь. Мужики решили ехать, искать где-нибудь заработки. Голова есть, руки есть, грех жаловаться. Мастера умелые не пропадут. Александра тоже собралась с имя́. Шить, мыть, стряпать — нет того, чего баба не умеет. Авдотья с Марией останутся ребят да избу дозира́ть.
Приезжали Мариины отец с матерью, уговаривали отстать от мужа.
— Чё ты, Мариша, будешь за чужое добро страдать?
Всё ведь так в жизни-то, как пользоваться — тогда своё, а как отвечать — чужое. Хотя никто не пере́чил, сказали — смотри сама. Ей вроде бы хотелось уйти, да как знать, может, дале-то всё обойдётся? Но заподу́мывала.
В деревне новый праздник был — праздновали их раскулачивание. Не шибко, пошто-то, людный. Человек с десяток ходили по улице с гармошкой, пели про революцию, про советскую власть, ругались матерно на старый режим. Потом снаря́дчиками снаряди́лись. Скатерти домотка́ные, бордовые да жёлтые, Авдотьина работа. Сделали из их навроде облачения, крестов нашили да ходили, батюшек просме́ивали. Правду молвить, немногие так-то делали. Хотя одёжу свою на земляках раскулаченным видеть приходилось, носили те её, не стеснялись.
Весть пришла — Шабуро́вых и Максима Соколова раскулачили, из домов выселили. У баушки Антаниды весь дом разорили, семейных увезли куда-то. С ей удар через это сделался, с параличом слегла, и ходить за ей некому. Авдотья к ей потихоньку начала захаживать, в сумерках конечно. Покормит её да обихо́дит.
Стало ясно: баб одних дома оставлять нельзя, а тем более, если Мария отделится. Александра сходила в Борисову, к дяде Ивану Петровичу. Те, конечно, знали про ихну беду. Про себя сказали, что их трогать не будут, в списках нету. Записали их середняками. Как началась эта мешани́на, Иван Петрович потихоньку начал лишнее которо-что сбывать с рук, чё попро́дал, чё попрятал. Правда, деньги те потом всё одно пропали, но зато вот сами живы остались. Корову отобрали в колхоз, зерно тоже, но потом отстали. Александра взяла у борисовских телегу, лошадёшку нашла. Вечером поехала в Липину, собрали из её приданого, что осталось в малухе, всё, что можно было припрятать на пото́м, оставили самое нужное. Александра увезла ночью всё это в Борисову, вернула лошадь, и утром пешком вернулась опять в тятин дом.
Это они в аккурат успели, а вот на работу уехать не пришлось. Товарищи явились к ним через день, рано утром, уже не пятером, а восьмером. И ружей поболе, чем тот раз. Скомандовали собираться, дали десять минут. Оделись кое-как, лопоти́ны, какие оставались худенькие, что на них тогда не поза́рились, да кто что успел сохвата́ть, с тем и посадили на подво́ды и повезли.
Мария была в огороде, мужики во дворе, Егор едва успел жене туфа́йку да платок вынести.
— Где остальные? — товарищи забежали в избу. Авдотья уже под порогом, завязывала узел с чем-то, что успела собрать. Поспешила послушно выйти.
— Иду, иду, тут я.
Прямо лоб в лоб перед ней оказался тот самый распоря́дчик, что в кожанке.
— Где ещё одна? — жёстко, в упор спросил Авдотью.
— Дак нету её тут. Уехала, то ли в Егоршину, то ли в Коптелову. Вроде, взамуж там кто-то её позвал… Не отписа́ла ишшо.
Мать уверенно врала, защищая своих детей, а сама думала: «Понесу Богу ответ». Сызмале́тства привычка — следить за своей совестью. Всяк Еремей про себя разумей. И в голову не приходило сравнить себя с теми, кто заявился к ним снова, как тать ночной, вовсе не думая ни про Бога, ни про ответ Ему.
На самом деле, когда товарищи заба́рзили в ворота, Авдотья с Александрой были на кухне. Дочь доставала из подпола банки и подавала матери. Авдотья крикнула дочери: «Сиди там!», живо сдёрнула с полатей внучат и отправила туда же. Только успела перекрестить их да сказать на прощанье: «Уходите с Богом!»
Когда повозка с выселенной семьёй тронулась от избы, Александра с робетёшками бежали уже вдоль речки к лесу. День там просидели, на бруснике да на воде из ключика. Как стемня́лось, прокрались к избе Симы Шелегиной. Пустили их, Алексию с Нюрой похлёбки дали. Александра токо чаем погрелась — зачем лишнюю обузу людям делать? Сима рассказывала: «Видели, как в вашем добре нищета красуется? Я говорю: « Катю́шка, ты не зду́май чё-нибудь взять! Они идут в хорошем, да в чужом, а ты в худом, да в своём».
Беглецы переночевали, утром за́светло пошли в Борисово…
* * *
…Подво́ды тоскливо катились в сумерках. Пять телег с сидящими и лежащими в них людьми, тихими, придавленными и оглушёнными неслыханной, бесчеловечной бедой. Товарищи ехали по краям с двух сторон, верха́ми, все с оружием. Вторые сутки доходили, как выехали из Липиной, а по сю пор никто из арестованных не еда́л. Да и непонятно было, станут ли их кормить, или будут везти, пока все не перемрут. Останавливались вчерашной ночью, как уж вовсе стемня́лось, а как чуть просветлело, тронулись дальше. Дорога уже пошла незнакомая. Много поездил Илья Иванович, и в походы, и на я́рманки, а на этой дороге не бывал. Вот и привёл Бог.
По солнцу выходило, вроде, едут на восток и к северу. На третий день с утра раздали немного хлеба. Воду пили только на ночлегах, из ключика али из речки. Добавились ещё новые телеги с такими же выселенными людьми, и пока выстраивали обозы заново, тут пронеслось, что везут их в Тобольск. С Кротовыми ехали луговски́е муж с женой, молодые ещё, примерно Егору с Марией годки́. Женщины иногда тихонько начинали всхлипывать и причитать, и тогда охранники, замахиваясь на них, кричали:
— Ма-алчать! Ехать тихо!
Марию то и дело мутило, остановиться было нельзя. Раз пришлось ей слезти с телеги и потом догонять под присмотром. Авдотья, догадавшись, что сноха в тяжести, неведомо откуда извлекла какую-то травку и велела ей понемногу жевать и держать во рту.
— Я вечо́р, как остановились, приметила у дорожки, изловчилась, сорвала потихоньку. Да жалко, что один только кустик был. Помаленьку щипли́, надо́ле хватит. Дома бы сказа́лась — может, я бы сумела взять с собой.
— Думала — успею ишшо…
Так оно, кто же мог представить такое лихо? Всё думали успеть люди, каждый ладит жить, хлеб сеять, деток ро́стить. Илья Иванович за всё время не обронил ни словечка, да и семья не сколь много разговаривала — об чём? Сторожа́ и́хние наоборот держались весело, смеялись, перекрикивались. Больше-то надсмеха́лись над теми, кого гнали теперь на незна́мо какую судьбу. Особенно, когда люди молились утром да вечером, и так, когда душа просит — а она теперь криком кричала, как же без молитвы? Красные герои принимались гоготать:
— Эй, дед, гляди, вон Боженька к тебе спускается!
— Наверно, сало тебе несёт!
— Ну что, когда Он вас спасёт? Скажите, когда ждать Его, мы ружья зарядим!
Илья Иванович думал о том, что вот так же, может, даже по этой же самой дороге, в тот же Тобольск везли его государя, и жену, и деток. И так же он со смирением принял участь свою, не противился палачам. А Сам Господь? Не так же ли был терзаем и оплёван теми, кто вчера ещё восхвалял Его, кого Он исцелял, наставлял, окормлял и Словом, и хлебами? И лишь молвил: «Не ве́дают, что творят».
И эти, безумные от развязанных рук, оттого что всё позволено — бери, сколько унесёшь, бей, пока рука не устанет — опомнятся ли они когда-нибудь? Не они, дак дети их, либо их дети. Сколько верёвочке ни виться, а конец будет. Разве понимают эти весёлые мо́лодцы, что делается их руками? Сказали: «Бейте!» — они бьют. «Берите!» — они берут. Не к плугу, не к мо́лоту силу молодецкую прикладывают — к ружью да к пулемёту; не на материнских песнях возрастают — на крови человеческой, братской. Верно сказано: родила корова телка́, да не облизала.
А кабы остановились чуток да призадумались, авось бы и смекнули, что ежели один полный колос да к другому полному колосу приложить, да ещё сто таких полнёхоньких колосьев — какой сноп из их получится? Полный, тучный. Прокормит и зиму, и весной найдёт, что в землю уронить. А если вытрясти зёрна, обколотить колоски, что из таких обколо́тков выйдет? Таким пучком срамно́ и двор подмести.
Из крепких людей сложится крепкая страна. Если каждый казак силён да здоров, и весь полк будет молодец. А коли хилых да трусливых набрать — армии не сложишь. Дак кому надо стало ослабить их, разделить один по одному? Пожи́ва, конечно, для их немалая получилась, попользовались хорошо. Но это попутно, как мародёрство. Не за ради этого всё затеяно, тут задача другая. Эти вот, которые тут на их щас гавкают, не волки, а волчата. Над ими есь волки, а над теми — псари. Волчатам забава, волкам — пожива, а псарям власть. Кому вот токо это задалось? Видать тому, кому вся Россия поперёк горла стала.
Осироти́ли деревню, выгребли всё у кулаков да в одну кучу скла́ли, а да́ле что? Ежели раньше кто своего нажить не мог, чужо́ сумеет уберечь? Дай вору золотую гору — скажет: мало. Разве ж понимают теперь? Поймут, когда кушать станет нечего, а грабить больше некого. А может, эти и никогда не поймут. Поди, не из деревни, городские, а то и вовсе без роду-племени.
О многом ещё думалось, о своих, которые рядом, и которые там остались. Нельзя сказать «дома», потому что дома у них больше не было.
Авдотья насчитала десять дён, как они ехали. Ме́шкотно тянулись. Под конец никакого жилого огонёчка не видали даже издалёка, лес да дорога. Под вечер вывалили виноватый народ с телег где-то в лесу, бросили четыре топора на всю арте́ль, да пару котелков, завороти́ли огло́бли и были таковы. Поиздевались напоследок, не без этого. Мол, вари́те кашу из топора!
Нарубили сучьев, разложили костры — у кого нашлось креса́ло, у кого спички. Повалились на землю, кто как сумел. Встретив первый рассвет на новом месте, сперва́ побродили вокруг, потом — надо как-то нала́диться. Собрались с духом, совет держали, кому чего делать. И в Липиной тоже ведь когда-то поставили первый сруб в чистом поле, дак где наша не пропадала. Поплевали мужички на ладони, да пошли ладить избу. Одну на всех пока. А всех было боле четырёх десятков, и с робятёшками. Бабы обошли вокруго́м по лесу, приметили, где чего, которо-что из еды пособрали. Но разве ж это еда — без хлебушка. Авдотья травки брала, успевала.
Илья Иванович работал вместе со всеми, а думы его не оставляли. Да и другие, поди, так же, дело делают, а думу думают. Вот поставят барак. Травы бабы руками нарвали, насушили, постели изладят. Лес чего-нибудь даст, гриба́, ягоды. Зайцы есть, может, птица, ружьишка нет ни единого. Да и не шибко хто к охоте привычен, от земельки кормились. А от волков как обороняться? Как Бог даст. Петли, силки из травы опять же наделали, попалось сколь-то раз, было жарко́е. Без соли, без хлеба, без карто́ви. Как-то на козулю натака́лись. Петлёй поймали, топором бить пришлось. Речушку нашли, одно названье что речушка, так — ручеёк. Однако рыбёшка малома́льная нашлась. Мелкая, да идти далековато, но всё розоста́вок. Нашли глину, камней от реки натаскали, сложили две печурки. У кого ножик за ону́чами сберёгся, пригождался шибко.
Ежели не думать, как оно дальше, жить однем днём, так ничего вроде. Токо как не думать-то? Разве хоть один из их не думал теперь? Сёдне омману́ли голод, ночь отвели, а потом чё? Ну, дрова есть, лесу хватит. А чем кормиться зимой? С топорами на охоту ходить? Одёжа у кого какая, у кого никакой. Бабы которы и без чулок, да и мужики хто как, у кого вовсе ничем-ничего нет, врасплох супостаты застали. А захворают? Да и кабы всё бы у их было, и поись, и одеть, хто оне для России? Нашто́ их сюда свезли́, всего лишили? Вот то-то и есть. Не на жило́е их прописа́ли, а поги́нуть тут велят.
Как-то утром хвати́лись — нету пятерых, луговских-то мужа с женой да ещё троих, которы по дороге добавились. Через четыре дня скачут товарищи, и баб беглых волокут. Велели всем выстроиться, и давай орать да страща́ть. Мол, живых вас оставили, а надо было всех передавить, а не то́ко е́тих двоих. Да токо хто ишшо посмеет бежать, дак вам ето же будет! Когда уехали, бабы-то, что вернулись, сказывали, что мужья ихние схватились драться с красными-то, да те их застрелили.
Дожди́ть начало враз как-то, да лило бе́сперечь. На улицу не выйти. Голодом сидели, да закашляли многие. Авдотья ходила от одного до другого, отваром поила. У одной бабы ребёночка приняла. Малюхотной, слабосильный. Недели не по́жил, не крещён — не отпе́т, лёг в чужую земельку, в глухом лесу. Мать и не поднялась, всё лежала, иссыхала день ото дня. Авдотья думала про Марию, что вот тоже ведь вре́мё подойдёт.
Люди, бывало, начинали разговоры про свою беду, да ни к чему — так и бросали. Уговорились вроде: мужикам не роптать, бабам не реветь, чтобы друг дружке сердце не гнои́ть. Крепились, сколь могли. Да и беда крепилась, не отступала. Хуже всего робятам, примолкли пташки. Играть нету силёшек, да и понимают, что не до игры. Пова́дились возле Ильи собираться, побасёнки слушать. Когда баба-та та роди́ла, он емя́м сказывал:
— А я, па́ря, на покосе родился. Вижу — народ-от сено косит. Ну, я сразу взял грабли и пошёл сено грести.
Глазёнки округля́т, слушают. Один жалуется:
— Меня, де́до, робята дразнят.
— Вот моёва Егора тоже дразнили маленькова-то…
— А неу́ж он маленькой был?
— Был. Крото́м дразнили. «Ты крот, ты крот!» А он ему: «Ну, я крот, нас… ал тебе в рот!» С той поры отстали.
Хохочут.
— Ты, главно дело, не робей.
— Дедо, а баушка Дуня вылечит моего тятю?
— Зна́мо, вылечит. А ты знашь, кака́ она была, баушка-та Дуня? Маленькая, одна щека в саже. Я щёку-ту ей вымыл, вырастил её, потом женился.
* * *
В Липиной готовили новое правление колхоза. Трёх баб снарядили прибраться. Оне быстрёхонько управились. Не́чего прибирать-то, сказану́ли тоже: у Кротовых дом прибирать! Токо пол пришлось замыть, его уж затоптали, да набросали окурков. На воротах прибили вывеску, что мол, правление тут. В избе тоже красная тряпка — «Вся власть советам!» Ну и разная прочая, чего там полагатся, натащили.
Федя Горбатый залез на пола́ти и глядел сверху на председателя, комиссара и других товарищей. Зима наступала на пятки, дела в колхозе были не ахти́. Привычки нету, нихто ладом не знат, чё к чему.
— Фёдор Савватеевич, спускайтесь, пора начинать.
— Я говорю: как светло в Липиной-то стало, кулаков-то выселили дак! Прямо свет в деревне-то!
Перед домом ждал народ, собрание колхозников. Начальство выступало, Федя подда́кивал, Ма́кся Со́ря с ружьём своим припёрся. Народ молчал.
— Ну, что же вы, товарищи, активнее, выступайте. Что вы можете предложить по укреплению нашего колхоза?
Кто-то из мужиков в задних рядах пробубнил:
— Ага, выступайте, давайте. Довыступаете — отправят, куда Макар телят не гонял. А́ли е́нтот жа́хнет из ружа́.
Сколь-то помолчали. Потом Клавде́я, шустрая одна бабёнка, не выдержала:
— Ты мне скажи, председатель, как нам самим с ног не пасть? Мне робятёшек чем кормить скажешь? Я день-деньской на коровнике, мужик на коню́шной, а оне́ одне́ в избе. Наделают чё-нибудь себе, хто за имя́ приглядит? Домой придёшь с колхозу, дома на зуб бросить нечего. А молочко забыли, как и пахнет. Ра́не-то у худенькой вдовёнки была коровёнка, а теперь что? У меня пять куричошек было, и тех унесли.
У комиссара уже глаз не по-хорошему заблестел, чё бы было — неизвестно, да Клавдея заревела напосле́де-то. А он из тех мужиков был, которые бабьих слёз не признают. Раз, мол, ревёт — не́чё её слушать. Председатель струхану́л маленько, и скорёхонько на друго перевёл: велел Петру Забелину выступить. На его влась обнаде́ивалась — из малома́льных середняков, скотину сам привёл в колхоз. Скажи, мол, чё-нибудь про колхоз дельное. Он вышел, поглядел на народ, опну́лся.
— Сказать, говорите?.. Скажу. Хресья́нску курицу забре́ли, вся деревня заревели!
И отчаянно махнув рукой, подытожил:
— Я всё сказал.
Не оправдал, в обчем, доверия власти. И как-то собрание на нет — на нет — на нет сошло. День как-то не задался.
* * *
Александра с робятами приюти́лись у дяди, Ивана Петровича. На улицу шибко не показывалась, в избе, в ограде с хозяевами робила. Когда хто зайдёт — старалась на кухне быть. Робятёшек на улицу тоже не пускали, скажут — чьи, откуда? Никаких разговоров не вели, домашние молчат, она и подавно. Чё тут скажешь? Как понять, что делается и решить, что делать? Утром не знаешь, что днём будет, вечером неизвестно, что ночь принесёт. Что за жись настала, за что уцепиться, на что надеяться, куда идти? Сидели по домам, у кого они были, ждали, незнамо чего. За кем ещё придут, кого обнесу́т? Вот дядиных пока оставили, да в колхоз ждут, идти надо.
Да и Александре спокою нету, хотя вроде и разрешили отдельно жить, да хто их знает? Сёдне так, завтре эдак. Разве могла она когда подумать, что будет сиротой бесприютной, и не будет знать, чем детей накормить, где их положить? Лежала теперь ночи напролёт, уснуть не могла — хоть глаза сшей. Дума за думу. Сколь так-то биться? Не век по людям прятаться. Слава Богу, что борисовских не выселили, где бы она щас была! Но дальше-то куда? В город ехать, родных мест лишиться? А про тятю с мамой, про Егора думать было невмоготу, слёзы не морша́ бежали. Хорошо — в потёмках-то никто не видит.
Однако подумать было надо. Представить, что вот она насовсем осталась одна, без них, никак было нельзя. Этого быть не может, не до́лжно, это всё омман, приснилось только. Ум понимал, что происходит не её одной беда, а одна большая беда на всех. Во всех деревнях людей обобрали и выселили, и в городах тоже, и убили многих. Но душа никак не хотела с этим мириться. Как же это её любимый тятя, мудрый, сильный, где-то, может, в чистом поле без крошки хлеба? Как же мамонька родимая, мастерица и работница, не имеет, чем прикрыться от не́погоди? Братец милый не знает, куда головушку приклонить. Неуж это она попу́стит? Ведь она-то на воле, руки-ноги целы, голова на месте.
И изнуряла она так свою голову думами, вопросами, а где не хватало ответов, стала искать их, потихоньку приспра́шиваться. Перво дело, конечно, дядя, что он думает про всё это, что знает. Иван Петрович токо головой качал.
— Если бы то несоразумение было, либо ошибка, тогда можно правды поискать. А тут всё от ума делается. Задали́сь они, значит, всё это изломать-то.
— А для чего задались? А, дядя Иван?
— Видать, чтоб богатых не было… А пошто́? Пойди, пойми их. Да и не может того быть. Ежли в одном месте убыло, стало быть, где-то прибыло. А у кого прибыло? Хто забрал, у того и прибыло. У однех взять — другим отдать. Да ишо внушают — это, мол, по справедливости. Вот всё орут, мол, разруха да голод. А хто их наделал? Хто изломал? У нас нечё е́того не было, и ишо бы сто́ко не бывало. А оне вон чё наро́били, а теперь говорят: «Вон кака́ беда на нас нашла!» Сама, ли чё ли, нашла? Е́нто, к примеру, я щас избу свою запалю́, да сам и заору — мол, пожар, пожар! Беда, мол. Ладно — нет, э́дак-ту? Зду́мали жись переделывать, а нас спросили? Мы нечё переделывать не собирались. Не такая Рассея, чтобы её переделывать… Да, ишо, слышь-ко, мы же виноватые. Мы себе жили, некого́ не трогали, вдруг — нате вам! Вы, говорят, белые бандиты, всё наше хозяйство разорили. А мы, мол, сделаем — всем хорошо будет. Вон как хорошо стало, не знашь, куда бежать…
В народе только одно говорили: конец света это. По всему видать. Смертоуби́вство, голод, с ума все сошли, беспорядок, грабёж, срамота́ всякая, Бога кляну́т. Частушку сложили про это:
Навалилось на нас горе,
Видно — вышло нам пропа́сть!
Пляшут бесы на заборе:
«Наше время, наша власть!»
В конце концов, Александра поняла, что без толку обдумывать, что делается кругом, и зачем, кому это надо. Этого ей не решить. Надо ум направить на своих. Как им помочь? Если живы ещё… Об этом даже думать не надо! «Помоги, Господи!» — только и шептала. За что выселили, почему? Какую вину на них навалили? В бумаге-то, которую оне читали, ничё не поймёшь. Одно что, мол, хозяйство. Зажиточные, мол. Ну, хозяйство, дальше что? Почему им нельзя пользоваться тем, что сами изладили, вырастили, а другим и́хное отдали — тем можно пользоваться чужим. Живут люди, делают чё-нибудь, вдруг — пришли, всё забрали у их. Ну, чё это к чему? И како́ вобче-то кому дело, у кого чё есть? С чего считать-то за́чали? Люди живут, у всех чё-нибудь есть, человеку ись-пить надо, одеться-обуться, как безо всего-то жить? Хто как робит, так и имеет, как пото́пашь, так и поло́пашь. Можно грабить, ли чё ли?
Шила в мешке не утаишь, помаленьку прознали в соседях, что она тут живёт. Да и чуток обвыклась — тихо вроде пока. Начала выходить на улицу.
В Борисовой тоже было правление, общие собрания. С флагами ходили да песни пели. Прислушивалась, приглядывалась, и думала, думала. Вот так и узнала, что обвиняли кулаков, что, дескать, не сами они нажили добро, а работников держали, они спины гнули. Так она и знала, так и чувствовала, что не всё просто! Должен быть какой-то обман, фокус какой-то. Вот оно что! На вранье беду-то людям подстроили.
Гнули спины-то, ещё как гнули! И тятя с мамой, и дед Иван с баушкой Надёжей, и братец с жонкой, и свёкор со свекровкой, и муж её, и она, и робята малые, чё по силам дак. И Шабуровы, и Максим Соколов, и баушка Антанида Пахомовна — все были работники добрые. А ещё держали они у себя батраков — Серка́ с Грунею, Изку с Мамкой, славные были работники…
Оттого и Иван Петрович не мог сказать, что к чему, потому как враньё. Разве до такого додумаешься? Теперь главно дело: как всё исправить? Прежде всего, куда бежать, к кому обратиться? Должен быть всегда кто-то, кто в силе, кто главный, кто может решить любое дело. «Помоги, Господи!»
Оставила робят у родни и пошла в Егоршину, на станцию. Села в поезд и поехала в Екатеринбург.
* * *
Утра́ми по́ лесу туман плыл, потом грязь стала подмерзать. Давно начали печки подта́пливать. Дров, веток, щепы напасли, да и так, когда вёдро, ещё рубили в запас. Всё–таки не жарко было в бараке. Изба без гвоздей поставлена, травой уты́кана, глиной замазана. С едой хуже всего. Двое мужиков уж ходили искать, где кто живёт ли поблизости. Вроде бы чё-то у их припрятано было, дак на хлеб выменять. Пришли ни с чем, на просто́й. То ли правда не нашли никого, то ли доро́гой ме́ну-то съели.
Илья Иванович подозвал как-то сына пошептаться. Мужики в лесу были, на промысле. Луки изла́дили, зайцев бить. Вобче-то их нельзя ись, мягколапых, да чё тут сделашь? Да, может, где какая птаха попадёт. С тетиво́й хуже пришлось, где бабьи га́сники, где из портко́в вязки в ход пошли. Мало-мало стрелялось, да худо. Тоже, навык ведь надо иметь. Илья с Егором отстали маленько от арте́ли.
— Вот, Егор Ильич, нала́живаться станем — домой идти. Весны нам тут не видать.
— На смерть идти. Нас застрелят, баб вернут.
— А мы с Богом пойдём.
Отец понимал, что не в спор сын ему говорит, а в рассуждение.
— Как идти-то, тятя? Куда? Дома нету, дорогу не знаем… А Марие как?
Илья Иванович поглядел куда-то поверх деревьев:
— А потихоньку.
Авдотья, как услыхала, чё муж ладит делать, будто то́ко и ждала. Ум, конечно, ужа́хнулся, а в душе как просияло. Давно она приглядывалась к Илье, как он на молитве задумываться стал, ровно кого слушает. Видно положил Господь на душу — идти. Здесь всё одно пропадёшь, а так может и выгорит дело. Упал в реку, греби — и выплывешь, шевелиться не станешь — камнем на дно. Скоро снег падёт, боле ждать нечего.
Часов никто не знал тут, вставали и ложились по солнцу, дни на досочке царапали. Надо как-то было уйти до свету, но чтобы маленько розви́днелось. Как отошли от избы пода́ле, опну́лись на молитву. Господи, Матушка Пресвятая Богородица, святитель Николай, помогите нам, грешным!
Пошли в обратную сторону, туда, откуда их привезли, по про́секе. Дальше просек не было, это они изучили, пока жили тут. Видно, то их здесь и бросили, что ехать бо́ле было некуда, а то бы ещё дальше свезли.
— От Тобольска вёрст, я думаю, с полтыщи будет. До Покрова придём — нет? Навряд ли.
Разные пути выпадали казаку, а такого не было. Командиром сам себе, в полку половина — бабы, вместо карты — звёзды на небе да Ангел-Хранитель. Слава Богу, по светлу по глухим местам пробрались, к ночи из лесу на жило́е вышли. Перекрестясь, выбрали избёнку с краю, постукали в окошко. Не обрадовались, конечно, им, но пустили в сараю́шку. Овечки там, не шибко холодно. В сено зарылись, друг дружку грели, ночевали. Засветло хозяйка тихо́хоньку зашла к им, сунула пол-каравая да пару карто́вин. Велела уходить, мол, мужику своему не верю, как бы не выдал.
Пошли, благословясь, да́ле. Теперь жилого больше станет попадать, днём нельзя идти. Больше по опушкам, в поле-то наехать могут, далёко видать человека-та. Деревни по околицам обходили, кое-когда, перекрестясь, куда-нибудь шкря́бались. Кто руками машет на их, кто в окошко вкра́дче сухарей сунет и спрятатся. Раза по три пришлось сутками идти — нихто не обраде́л, не принял. В поле спать — замёрзнешь, огонь заже́гчи — увидят. Если где сено попадало, в ём прятались, пока не стемня́ется. Как-то увидали издалёка — скачут. Вон стога стоят, да не успеть зарыться-то. Бог послал овражек, кустами хорошо прикрытый. Попа́дали туда, дыхнуть боятся. Подъехали красные к стогам, да давай штыками в их тыкать. Заматерились, покрутились около, да ускакали. Помолились ходоки, благодарили Матерь Божью, что заступи́ла их, с темнотой опять отправились.
Случались попутчики, таки же бездомники. Опасливо, и те и эти друг дружку боялись, но ничё, шли до жилья, а там — всяк в свои козыри. Тоже ведь и дорогу надо вы́знать, вот которы ходки́ им и показывали. Оди́нова подвезло, кака́-та бабёнка на телеге прокатила, версты́ на четыре ноги поберегли. Другой раз мужик один середи́ дня их в возке́ провёз, каки́-то корзинки, мешки пустые у его там. Беглецы на дно в возке-то устроились, он их етим добром-то накрыл. Поду́мывалось, конечно, что вот щас возьмут да подвезут их к чеке́. Нет, всё ладо́м проходило. Авдотья всё новые имена к молитвам добавляла: «Спаси, Господи, и того, и этого, и эту, и нам помоги, грешным!»
Как-то скрывались у одних, Авдотья по воду вышла, хозяйке пособи́ть. Два шага от ворот-то, вовсе рядом. Да и сумерки. И вдруг — шум, топот, двое товарищей с ружьями четверых человек гонят. Авдотья замерла у колодца, спиной отвернулася, наклонилась, воду набирает. Ежли испугаться, кинуться во двор — подозрительно. А так — берёт баба воду, да и всё. А они возьми да остановись. Сперва солдаты с лошадей соскочили.
— Тётка, дай воды!
Вон как у товарищей-то принято — «тётка». Наш бы человек, деревенский, да в старо время сказал «мать», а то «матушка». Да какой уж спрос, когда оне с ру́жьям на людей-то!
— Пейте, мо́лодцы, на здоровье.
А в голове: «Матушка Пресвятая Богородица, пронеси!»
Напились, сели, поехали. Тут люди-то запросились у их попить. «Смилуйтесь, ради Христа, можно нам хоть губы омочить!» Ну, дозволили всё-еки. Авдотья шёпотом перемолвилась с ними. Про их. Про себя, конечно, ни гу-гу. Будто хозяйка тутошная. Така же семья, так же ушли, вот гонят их обратно.
— А у нас на днях тоже беглецы мимо шли, воду е́тта пили…
— Гиблое дело, мать. Если кто ещё придёт, пусть назад поворачивают. Всё одно — поймают.
Токо отошли пода́ле, она скорей в ворота. «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Своим обсказала про ето, хозяевам — молчок.
А потом и всем им довелось увидеть, как гонят двоих беглых. Краем леса шли, за кустами прятались, а тех по дороге гнали. Сердце зайдётся, а помолятся, да опять идут.
Бывало, денёчки тёплые вы́дадутся. Идут по дороге, и солнышко начнёт выглядывать. Помаленьку, помаленьку, красное сперва, потом вы́желтит, и уж засветит вовсю. Кажную щепочку, кажную былиночку осия́ет, не забудет. И на душе вроде потеплее делается, вроде и не было никакой беды, так токо, сон худой привиделся, да и всё. Нигде такова свету нету боле, как над деревней утрами. Никто солнышко не загораживает, разве пригорок какой, да и то ненадолго. А все — лес, поле, речка, избы — потяга́ются, подставляют на тепло свои бока, щурятся на свет, радуются ему. Жалко прятаться от такой красоты да от тепла, а приходилось.
Попалось им селение Карачино. Большое, боле Липиной-то. Зашли в один дом, Авдотье показалось — больно на свой находит. Огляделись, дак обалдели: обстановка знатная, а книг сколь! Не один шкаф, и всё в книгах. Думали: ну хто-то им попался, грамотные, сдадут — и в бобы не ворожи. А их приняли лучше лучшего, накормили, с собой дали. Ночевали беглые у их, как у своих. Грешным делом ещё подумывали в тот день-от, не будет ли всуго́нь за ими погоня. Нет, ничего, не подлые хозяева попали.
Да, правду молвить, ни одних таких не попало. В тако-то вре́мё, когда люди и куста боялись, сам не донесёшь — на тебя донесут! А тут нихто, нигде. Авдотья всё потом говорила: «Я токо через одно раскулачиванье убедилась, что Бог есть. Чё хошь скажи, а я по себе знаю».
Двадцать одне́ сутки шли. Напрямки́ да на лёгкой ме́не бы вышло, да ведь прятались, путь незнакомый, да бабы. Марие под конец совсем худо стало. Семо́й месяц ей доходил, рано бы ишшо. «Чую, мамонька, не дойду. Шибко бьётся. Чё это мы заде́лам?» А Екатеринбург уж близко был. Хотели там спрятаться, мол, народу много, перемешаться посреди людей-то. Хто-нибудь пустит, а на хлеб они уж заробят. А там в Тагил уйти.
Дотянули таки до городу, сразу к церкве вышли. Илья Иванович бывал в ей в стары годы. Как-то не закрыто оказалось, и батюшка живой, служит даже. Указали им старушку, пустила их в комнатку. Ночевали, мужики с утра сразу пошли на рынок, работу найти. И вот-вот уж у их всё сладилось, откуда ни возьмись — товарищи. Пролетарская милиция. Хто такие, почему, что? Сразу в зуботы́чки. Ну и в тюрму конечно. Вот тебе и пришли домой! Илья Иванович успел токо сыну сказать:
— Это ништо, не робей, ничё емя́м не говори. Бог-от на что!
Врозь их развели. Всё так делали, чтобы, значит, не сговаривались. А чё толку-то? Сговаривайся, не сговаривайся, так — тюрма, и ек — тюрма.
Мужики утром-то ишшо уйти не успели, как схватило Марию. Оне то́ и поспешили, мы, мол, свои дела станем ладить, а бабы свои. Да вышло — бабы-то лучше́е их поправились. Приняла Авдотья у снохи парнишечку, крохотного, слабёхотного. Ну, заревел, дак, может, оклема́ется. Положила на живот его матере-то, велела так держать всё время. Дома бы над навозом выпарили, недоношеных-то всё так выхаживают. А тут уж как придётся. Ладно, хоть молоко есь, берёт вроде, ест помаленьку, слава Богу.
Стали мужиков ждать. Ждали, ждали, все жда́ны прошли — нету и нету. Вот стемня́лось, ночевать надо, чё делать-то бо́ле. Утром Авдотья пошла искать, дошла до рынка — сказывали, что туда пойдут дак. Насилу доспроси́лась, кака́-та бабёнка сказала ей, что да как. Кинулась сразу туда, к тюрме-то, да опомнилась: а ну как и её заарестуют, куда Марие деваться? Опамятовалась, села на лавочку. Поплакала, конечно, не без этого. Ревёт да молится, молится да ревёт. Реви, не реви, иди обратно на квартиру.
Мария сразу в слёзы, да с причетом.
— Ой, девка, не реви, парнишку-то пупок надорвёшь!
Где там! Помолчит, да опять за то же. Авдотья уж сама-та держится, чтобы их не травить. Робетёнок конечно забеспокоился, ись худо стал. Вроде маленько Мария образумилась. А нет-нет, да опять затрясётся. Так и сидели в своей норе, одна ревёт, друга́ молится.
Кормиться, однако, надо как-то. Пошла Авдотья к тому же батюшке, подсказал, где можно наняться постирать да пол смыть. Так день ото́ дню тянулись. Где хозяйка подскажет работу, где кто. Мало-мало болтались. Но кака́ это жись? Надо ведь про мужиков разузнать, свидеться уж видно не придётся. Хозяйка глядела, глядела на их, видно, говорит, мне придётся сходить, жалость одна глядеть на вас. И ведь сходила, добилась как-то — пустили её к Илье. Пришла домой-то, надо, говорит, исповедаться батюшке за враньё. Чё уж она там сказала, в тюрме-то, не в какую не призналась, рукой токо махнула. Авдотья и так с первого дня за её молилась, а тут вовсе.

Передавал Илья Иванович благословленье внуку, велел Николаем назвать. В честь Николы зимнего, он их провёл всю дорогу, ему и честь. Про себя сказал: увозить обратно их, вроде, не будут, станут тут держать. Мужики, там с ими которые, говорят, что, кого ладят застрелить, дак сразу уводят. Видно, их не будут пока. Вы, мол, живите, как Бог приведёт.
Самое первое дело было — Николу окрестить. Жись вон какая, а он слабёхонек. Боязно ждать положенного срока. Батюшка пришёл на квартиру, вечером, в потёмках, помолились за узников, а утром ранёхонько парнишку покрестили, стал Николай. Батюшка засветло ушёл. Жду, говорит, вас на Литурги́ю в воскресенье. Токо не попали оне на службу-то. Пришла в пятницу хозяйка, слёзы вытирает. Увезли батюшку товарищи. Церкву закрыть пока не закрыли, да служить-то всё одно некому. Им само главно, чтобы не служили. Старухи приглядывают, да отец настоятель успел шепнуть им, чтобы иконки по домам сберегли, вот уносят потихоньку. Грозятся покойницкую в церкве-то сделать. Либо, говорят, будет клуб, чтобы молодёжь ночью там плясала, песни пела. Видно, негде им, христовым, плясать-то, церква самая та.
Что скажешь, всё уж сказано: беда одна не живёт. Завсегда следом беда за бедой тянутся. Тут хоть не ломают, в Мироновой, в Легушиной да в Деевой изломали церквы-то, всё развороти́ли, ободрали.
Ну не век чужих людей тяготи́ть, надо пробираться ближе к родным избам. Набрали на билеты, пошли на станцию, хоть с опаской, да сели в поезд. А в Егоршиной уж разошлись: Авдотья пошла к брату, в Борисову, Мария к родителям, в Госьтёву.
* * *
Александра не знала, как дождаться поезда до Егоршиной, хоть вперёд его беги! Как она, деревенская баба, нашла того, кто ответил на её вопросы, нашла в большом городе, в котором разо́чка два бывала с тятей, и то маленькая — один Бог знал. Это ей шибко трудно и не показалось. Душа горела, беда сил придавала, Господь путь указывал. Сперва в церкву, конечно, зашла, молебен отстояла. Потом тут спросила, там узнала, здесь прове́дала. От порога к порогу, от начальника к начальнику, от дверей к дверям. Ну, правду молвить, были у неё с собой взяты пара платков, полоте́нчики вышитые, серёжки стеклянные. На всякий случай.
Помогли ей. Сказали, мол, к прокурору надо, да записаться сперва́. На последний день голова уж как чигу́нка была, гу́дом гудела. Не е́вши, не пи́вши, но добилась, принял её прокурор. Сказал: надо, дескать, написать такую бумагу, что её родители работников не имели, никого не эксплуатировали, чужим трудом не пользовались. И пусть соседи эту бумагу подпишут. А про дом, говорит, пиши в Москву. На счёт собственности дело будет посурьёзней. Там, мол, в калидо́ре, деваха сидит, дак поможет тебе эти документы изла́дить. Удивился, что она, Александра, грамотная. А како́ ди́во-то?
За платочек пособи́ла ей та деваха письма оформить, осталось подписать. Александра ходила туда-сюда по платформе, сердце стучало, бумаги грудь жгли. Скоре́, скоре, в Липину! Как из Егоршиной дошагала до родимого ме́стичка — и не заметила. Темня́лось уж, когда посту́кала в окошко к Симе. Катюшка открыла воро́тца.
— Тёта Шура! Отку́дов ты?
Гостья зашла в избу, пала на табуретку, воды попросила. Хозяйка подала ей ковшик.
— Погоди, Сима, проздышу́сь маленько.
Напившись воды и переведя дух, Александра рассказала Шелегиным про своё дело. Сима сразу достала чернильный карандаш:
— Давай свои бумаги. Моя первая будет подпись! Катюшка, и ты черкни́, не ли́шно, поди, будет.
— Дай Бог тебе здоровья, Сима. Побегу дальше.
— Да ты что! Куда на ночь глядя? Охлы́нь хоть маленько, да поешь, у меня вон похлёбка осталась. За́втре пойдёшь с утра.
Да какое там с утра! Сколько она вы́ходила, сколько вытерпела, сколько пережила, а теперь вот она — Липина, вот бумага, и до утра?!
— Утром-то хто в колхоз, хто куда. А теперь все в избе.
Едва Сима успела взять платок свой да крикнуть:
— Погоди, я с тобой!
Ну, разве за один вечер управишься! Людям-то ведь тоже, поговорить охота, что да как. Которым, правда, разговаривать-то бо́язно было, но отказу ни в одном доме Александра не встретила. Все до единого подписались. Как узнавали, что всё законно делают, дак ишо смелее карандаш-от брали. Много кто и радовался даже, всё ж таки люди понимали ведь, что не по совести власть робит, не было у Кротовых никаких работников. Все да не все, конечно, Федю да Максю с Тимохой даже нихто и не считал. Федя, однако, пронюхал про ето дело, приколдыба́л к Симе.
— Чё, подкула́шница, худо тебе дома-та? За емя́м вслед захотела? Жалко, комиссар в Коптелову уехал, поглядел бы, кака́ важна пти́са к нам тут залетела. Изловить бы енту пти́су, да в клетку!
— Осади́! — сказала ему Сима. — Излови́лка ишшо не доросла.
И захлобу́чила перед ним двери. За два дня бабы управились, и вечером Александра уже шагала в Борисову. Хоть и грепти́т скорее обратно к прокурору бежать, да всё-таки робя́т надо поглядеть, и чуток самой оклема́ться. Опять, с другой стороны, пока она тут оклёмыватся, тяте с мамой кажной час до́рог. И всё-таки, будто хто-то велел ей: сходи, проведай борисовских. Как зашла в избу, и поняла, хто велел.
Наплакались с Авдотьей, наобнимались. Робятёшки тоже не знают, на матере ви́снуть бо́ле-то, или на баушке. Стоскова́лись. Как-то враз Александра почувствовала, что вроде и устала маленько, и ись охота. Пока ела, слушала материн рассказ, и сколь время ишшо потом проговорили. Едва-едва мать уговорила Александру день тут ещё пробыть.
— С ног ведь па́дашь, под глазам-то синёхонько! Поспи хоть сколь-нибудь, да поешь.
Днём посоветовались все, и с Иваном Петровичем, решили, что, раз уж сказали, что за подписи-то выпустят, дак надо всем сразу ехать, чем взад-вперёд мотаться. Ежели всё сладится, Егор один по Марию съездит. А там сделать, как Илья Иванович и сразу говорил — идти в Тагил. Это город мастеровой, кузнецу да столяру работа всегда найдётся. Не успели они тогда дойти-то до Тагила, опну́лись в губернии и попали. Ещё Боженька надумал их тогда испытать: не заро́пщут ли теперь? Не зароптали. Теперь помолились Ему, поклоны благодарственные отдали, и поехали мужиков выручать.
* * *
Тагил — город и верно мастеровой. Однако не сразу нашли работу. Сперва в комнатёшке определились, в бараке. Едва-едва тянулись. Походили по городу-то, пока нашлось мужикам место при заводе. Кажной по своему делу, Илья по столярной части, Егор по железу. Мылись хоть там после смены-то, да и Алексия вкра́дче проводили в душ, через забор перелезет и обратно так же. А бабы конечно уж дома в корыте, мало-мало пошо́ркаются. Хто теперь в их липинской баньке моется? Не банька — теремок, дед Иван ладил.
Невдалеке от ихного барака дома́ стояли двухэтажные, начальники партейные там жили. Авдотья к емям наведалась на счёт работы, взяли сперва мыть да стираться. Потом хозяйка шибко работницу хвалила, да как-то прознала, из-за чё они скитаются. Ну начальство, понятно, все ходы-выходы знают. Авдотья думала — всё, теперь погонят её. А оне наоборот, поехали летним делом на курорт, как у их водится, и надо ведь кому-то хоромы-то начальственные караулить. Тагил — он, конечно, рабочий город-от, да токо и по бандитам тоже на большой славе был. И вот хозяева велели Авдотье дом дозирать. Хозяин сказал: «Этим можно доверить, не замараются. Я эту породу знаю. Гордые». Стали четвером туда ходить сторожевать, одной боязно, хоромы не малые, богатство так же. Вот эть, ладили богатых убрать, да, видно, не так это просто. Правильно Иван Петрович сказал: раз где-то у́было, значит, где-то при́было.
Александра конду́хтором устроилась на транвае. И хозяйство на бабах-то да робята. Хозяйство, конечно, не шибко большое. Ну, дом-от не велик, а лежать-то не велит. Мало-помалу нашлась для их комнатка, получше немножко, побольше, на квартире. Начальник тот подсказал, слово за них замолвил. Тесновато восьмером-то, да не в обиде. В лесу хуже́е было. С оплатой потихоньку наладились. Пообвы́клись маленько, забываться стали, вроде так и жили. Робята токо беспокоили. Нюра ишо в Борисовой начала прика́шливать, Александра её мятой поила. А тут пока с прокурором-то тягалась, не до девки было. В Тагиле она пуще захре́дяла. В деревне сала бы нутряно́го с молоком дали, а тут где взять. На рынке нашли, да худое, прого́рклое. Ко врачам не сунешься, хоть и оправданы, а всё же бездомные, и документов ладом нету. Всё-таки нашли, дядечка один пожилой. Хороший мужик, толковый, дал порошков да питья, но сказал: поздновато, мол, пришли, каки-то там у неё подвижки уж пошли в нутре́-то.
Не уберегли Нюру. Авдотья как шибко переживала, и себя кори́ла, и жись. Не вслух, конечно. Александре, поди, не легче, а вон — зубы сжала и молчит. Поехали с тятей да с братом хоронить дитя, вернулись обратно — а там Авдотья Николу обмывает. Недопа́ренный, да животи́шко надсади́л, ревел. Наза́втре опять да снова на кладбище. Алексий до того из-за сестры убивался, уреве́лся весь. Досталось парни́шку-ту, тоже вели́к ли, а сколь горя перевида́л.
Да хто бы знал, сколь его всего-то на свете, горя-та? Переба́рывают люди судьбу, скрепляются, как против ветра ломятся, а горю всё конца краю не видно. Не знает оно ни меры, ни жалости, ни годов, ни имён не спрашивает, а давит и давит человека. А человек жилы из себя тянет, держит горе, чтобы совсем не придавило. И не заметит, как вроде полегче стало, а он уж привык и всё тянет. Вот впереди-то уж вовсе розви́днелось, а всё не верится. Страшно: ты ослабишь поводья, а оно вырвется да опять тебя хлестать начнёт.
День ото́ дню, год миновал — не заметили. Голову приклонить есь где, на хлебушек зара́бливают, нихто не захворал боле, все пока живы-здоровы. Про стару жись не поминали, друг дружку берегли. Не говорила Авдотья, как дом родимый кажной день во сне видится, молчал Илья, как ночами в уме Серка́ седлает. Говори — не говори, не вернёшь. Куда ночь, туда и сон. А встали утром, и слава Богу. Жись — она всё равно перебо́рет, переме́лет, унесёт.
Мария опять тяжела стала. Егор иногда вроде даже посмеиваться стал. По кара́хтеру он шибко весёлый был, легко с им. Ну и тут чё-нибудь пошутит. Говорит: «На квартире жить, дак и хозяйска кошка зду́мат на табуретку заскочи́ть — садитесь, пожалуйста! А ночью уж как стара́шься потише ходить, а пойдёшь пить — обязательно ковшик об ведро состу́кат».
Александра всё на транваях. Жених даже ей там нашёлся. В один конец проедет, и обратно опять с ней. Сурьёзно взялся, записаться звал, не абы как. Стихи даже про её писал, всё там обскажет, и про транвай, где, мол, её встретил, и район, где они жили. Ей забавно, да и только. Ничё ему не обломилось, до того ли. Да особенно ежли не понравился — извиняй, а подвинься.
И всё-таки, видно, судьба возле неё ходила за этим транваем. Сел в один день на какой-то остановке мужик. Липинской! На заработки приехал в Тагил. Колхозу не обраде́л, а своё хозяйство теперь нельзя вести. Сразу Александру узнал. И таких она от его вестей услыхала, что едва день дождала́. Домой бегом бежала.
— Тятя, мама! В Липиной нас искать надумали, велят воротиться. Правда ли чё ли?
Ошуме́ли, конечно, все. Страшно поверить-то: а ну, как не правда? Однако, надо как-то вы́знать, чё к чему. Рассудили, что надо съездить, потихоньку спросить. Кому ехать-то? Выходит, Авдотья самая та. Трое-то ро́бят, ежли враньё про Липину-то, зря проездят, место потеряют. Марие тоже несподру́чно.
Знал ли кто, мог ли такие слова высказать, как зашлось сердце, когда очи край родной увидали! Всё пронеслось в голове враз, и как жили, и как потом горе мыкали, как шли, как дом ей всё время виделся. Вот видит его теперь въя́ве, а не верит. Может, опять сон? Да, пожалуй, что сон. Видеть-то видит, да зайти не хочется в опоганенное гнездо.
Постучала, зна́мо дело, к Симе. Ой, радости было! Как родную мать та её увидала:
— Тёта Дуня, неу́ж ты?! Живые, слава Богу! Ой, диво, вот дак диво! Да как вы узнали? Ведь не знала, как вас искать, где. Ни адреса, ни ве́сти — ни па́вести. Все вы тут? Всем, всем домой надо! Ведь дом-от ваш опять! Из самой, сказывают, Москвы прописали зде́шному начальству, чтобы оправданным имущество воротить. Мужик отта́ль даже приезжал, говорят — полунамо́ченный, разбирался тут. Сказал, дескать, бумаги показали, что работников у их — у вас, значит — не было, молотилка на пая́х со сро́дным братом, да сын — Егор-от Ильич — мол, не отделён, хозяйство обчее, на три семьи, а с дочерью — почитай, на четыре. Цельной колхоз. А Феде да Соре сказал, что вы, мол — они, то есть — шибко влась перегнули, нельзя, дескать так. Не даром всё-еки Александра хлопотала. Да разве она вам про это не сказывала, про Москву-то? Такая она и есть, зря моло́ть не будет, пока дело не сладится. Да в колхозе е́тта не пособи́лись никак. Поднимать надо. Один угол поднимут — три падают. Работы много, работников мало, да и те… За обчее-то хозяйство не больно хто вя́жется. Дак где чё посуля́т, где страща́ют. Всех собирают, кого где найдут…
* * *
Хто когда видал, чтобы крепкий деревенский мужик, тем более казак, плакал? Здравый, рассудительный, долготерпели́вый, спокойной… Уж про Илью Ивановича никак бы не сказали, а хто бы зду́мал — не поверили. А он стоял у дому своего, где кажное брёвнышко знал, кажной гвоздо́к сам выковал, кажную ско́бочку — стоял, а слёзоньки капали на чужую рубаху, поданную добрым человеком в страшной дороге. Неуж кончилась она, неуж не во сне видится дом? Когда шёл, молился — тогда верил, а как увидал — не верится.
Зашли в дом, сразу в подпол первым делом. Авдотья успела перед выселкой, икону там зарыла. Слава Богу, не нашли её товарищи. Достали, поставили на окошко, пали на колени да клали поклоны. Было ли где ишо, чтобы так-то ушли да домой вернулись?!
Конечно, пришлось на колхоз согласиться, условие поставили дак. Тогда ведь и не подумали их звать-то в колхоз-от, сразу ограбили — и идите, помирайте. А как не управились с делом-то, дак вернитесь, ро́бьте. Илья Иванович сказал: «Теперь надо идти. Работать — не воевать, в том греха нету. А тем Бог судья». А Егор говорил: «Нас осудили — будто батраков держим, а мы для их кто теперь?» Но как отец сказал, так тому и быть.
Пошли в новое правление. Оно и в избе в другой теперь, и товарищи каки-то новые приехали. Того, ра́нешного, который их раскулачивал, где-то нету. Говорят, вызвали в Коптелову, да обратно так и не приехал. Костюха в конюшной робит. Тимоха куда-то сду́нул из Липиной-то, сказывают — сразу, как комиссара не стало, чтобы и за его не взялись. Макся всё возле начальства вьётся. Федя из доверия начал выходить. Он и ране-то частенько намока́л, а щас вовсе волю почуял. На собраниях с пьяну городит чё-нибудь, не то — не сё. Ну и не стали ему шибко доверять-то.
Вступили оправданные в колхоз — так считалось, что сами. Стали робить, Илья столяром, Егор в кузне. А кузня-та кака́ у колхоза? Откудов возьмётся? Вот то-то и есь, что одна была на всю округу, ихная. Так и робил, вроде как дома — а на чужих людей, стены свои — а записано на колхоз. Потом всё ж-таки сделали маломальную казённую, но всё одно Егору приходилось много кото́ро дома ковать. Мария телятницей пошла. Авдотья дома хозяйствовала, с помошником — с Алексием. Александра сразу из Тагила уехала в Алапаевск, устроилась там на завод. Сыну конечно в деревне-то лучше́е, и так уж намыкался по квартирам. Баушке и то с им веселее.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.