
Бесплатный фрагмент - Ребенок сердца твоего
Альманах одного поэта
В сердце каждого человека живёт ребёнок будущей души.
Свою первую книгу я подарил Евгению Евтушенко. Он взял её в руки, прочёл-пропел название «Ребёнок сердца твоего». Открыл первую страницу и так же мелодично прочёл-пропел первое стихотворение.
— «Годится!» — дело было в редакции журнала «Сибирские Истоки», редактор журнала Валерий Котов сопровождал мэтра в поездке по нефтяным городам Западной Сибири, помогал Евгению Александровичу отбирать материал для своей поэтической антологии. Слово «годится» означало, что «Ребенку Сердца» суждено жить в новой ипостаси. Но главное в этом кратком резюме для меня было не признание мэтра, а то, как Евтушенко прочел мои стихи. Как будто из самой сокровенной глубины моей души они прозвучали. Дай вам Бог тоже такого читателя, хотя бы раз в жизни.
И тогда мне захотелось переписать ещё раз набело свою книгу, которая издана в 1999 году, как «альманах одного поэта», по итогам написанного в 20-м веке. Легко сказать, да, тогда, но переписывать себя так трудно, как заново родиться, как вторую жизнь прожить, может быть… Сегодня в альманах добавлено избранное из изданного в 21-м веке. Это работы в «стихопрозе». Современные форматы электронного издания позволяют добавить к авторской работе и наиболее ценные из читательских откликов, — Спасибо Вам! — своим добрым словом Вы подарили радость этому ребёнку.
Буду рад новым читателям, особенно тем, кто видит за строкой больше, чем удалось сказать автору. Мне можно написать на электронную почту

С уважением, — Михаил Просперо
Ребенок сердца Моего
Мой музыкант негромких слов
Учитель робкого ребенка.
О чем, о чем лепечет тонко
Среди серебряных снегов
Чей колокольчик ручейков?
Мы повзрослели невзначай
Так из лесу выходят в поле
А ты все окликаешь с болью
И отвечай, не отвечай —
Соль по щекам, снег по плечам
Ребенок сердца моего
Болит, а вымолвить не может
Молитвой сонною тревожит
А не расскажет ничего
Ребенок, только и всего.
И путь молитвы в тишину
Посмею ли теперь нарушить?
Я просто отпускаю душу
Как напряженную струну
В благословенную страну
Я не заплачу, я усну
Там будет стол, там будет кров
Там не одни на белом свете
Сердец рождественские дети
Среди рябиновых костров
На музыку негромких слов
Там, на дереве
Интегральное дерево —
более чем сумма веток, листьев,
атомов и элементарных частиц.
В этом априори уверены —
многие из детей на ветках, которые отгоняют кошек,
чтоб не трогали птиц.
И, поверьте, это не профанация —
знание небесной неприкосновенности,
которое мы долго несём из жизни прошлой.
У меня в детстве была акация.
Более чем полвека спустя она приснилась мне,
значит, чувствует себя брошенной.
Интегральное дерево —
более чем сумма бесконечно малых капель дождя,
Где сижу, прижавшись к деревянной артерии,
Далеко внизу провода гудят.
Обрученные августом
…мы держимся за руки, мы словно переливаем из рук в руки среди застывшей ночной жары поток прохладный и прекрасный — тысячи ночей это снилось бы и все не устать устам моим…
Ветер, горячий ветер. Второй раз расцвела акация. Это бывает. Это к раннему приморозку, или к радуге после дождичка в четверг. Мы ведь забыли приметы дыхания земли, мы закрылись асфальтом и железобетоном, мы включили бледные лампы дневного света — бесполезно. Второй раз цветет акация.
Это август, это черный, бархатный густой ветер ночного Причерноморья. В потоке этом и морская соль, и медовый дух, и звезды падающие. Говорят, это детские души людские падают на грешную землю — верить ли?
Пыль городская не пристает к гроздьям акации, а может это дождь был, пока я спал, а может быть, я все еще сплю и не хочу просыпаться, потому что здесь мне и пятнадцати лет еще не исполнилось. Молоко горячее ходит по всему телу, до дрожи, до шума в ушах и до хруста в суставах, мощно бьётся вокруг пульсирующий ветер. Жарко мне изнутри и снаружи, все вокруг не так, не так, как вчера. Особенно они, женщины, они мерцают жемчужинами, они притягивают и уходят тут же, они…
Вчерашний жемчуг осыпается с акации, жухлые, желтоватые по краям сумочки летнего запаха, легкие и пустые — живы ли еще? Но это же сон, здесь смерти не бывает. И я иду дальше, чем вчера, и даже, если я захочу, то снова поплыву корабликом по океан-луже посреди широченной улицы Шолом-Алейхема, под высоченными кронами тропических акаций, по ручейкам босоногой радости — не хочу!
Неправда. Нельзя убежать, проскочить этот водоворот памяти, ибо боль моя и сильней и слаще детской радости, и тянет, тянет — и затягивает меня горячий августовский вечер…
…мы держимся за руки, мы словно переливаем из рук в руки посреди застывшей ночной жары поток прохладный и прекрасный — тысячи ночей это снилось бы, и все не устать устам моим лепетать нечто несвязное, ибо — неуловимое, ибо — как ты можешь уловить течение ручейка под серебром ледовым, под тонкой хрустальной защитой от постороннего сглаза? И было, было, было, все это, и — осталось навсегда. И никогда не было реальнее страсти любовной, чем это неуловимое мгновение.
Дело было на футбольном поле, на брусчатой мостовой, на углу улиц Шолом-Алейхема и Белинского, где одной штангой ворот был у нас фонарный столб, старый, дореволюционный еще. А второй штангой была совсем старая акация, на которой еще моя мама щелкала когда-то семечки с папой худого Валерки из соседнего двора, так что я вполне мог стать рыжим, как Валерка, но, слава богу, мама распорядилась иначе. Не скажу, чтоб намного удачнее, но вот именно сегодня этот экземпляр человеческой породы, который ежеутрене появляется в заспанном зеркале, сегодня мне эта личность начала даже нравиться. Под зорким женским оком это произошло, если нужны подробности.
Если нужны, ведь каждый тоже был угловатым кузнечиком, на котором вдруг лопнул серый, вытертый на локтях панцирь, и вышел оттуда кузнец-молодец — удалец-красавец. И тело его пело, как натянутая скрипка. Где-то так, но намного проще сказала сегодня об этом ответственная квартиросдатчица тетя Клава. Притом сказанула не мне, и не для моих ушей, и не в похвалу хорошему мальчику, а во дворовую ругань, да еще и за глаза, так что этому, безусловно, стоит верить.
Сначала она задала дежурную вздрючку своим восемнадцатилетним деревенским «бэгэймам» — квартиранткам. За то, что мы боролись на перинах, которые заботливо прокаливались хозяйками под августовским солнцем на крышах сараюшек. Потом моя бабка вписалась в скандал, исключительно буденновским матом обеляя свою «дытыну, котра ни пальцем не торкнула ваши кляти перыны». Но исключительно интеллигентная тетка в запале ответила такой очередью аргументов и фактов, что даже моя боевая бабуля аж отпрянула, а я сам чуть не упал с акации, откуда наблюдал за спектаклем.
Уж и красочно я был описан. От голубых глаз до твердых пяток с приостановкой на уровне вытертых джинсов. Строгая старуха моя только и порекомендовала сорокапятилетней красавице так же внимательно изучать своего мужа, как чужого внука. На что та вздохнула и сказала: «…чертив бузивок…» — и звучало это скорее нежностью, чем руганью.
Такие переливы не дает ни один язык в мире, кроме моего материнского, украинского. Где еще «бузок» — сирень — так прочно созвучно деревенски грубому «бузивок» — теленок-полубычок -?
Скандал потух. Бабка моя пообещала соседке принять меры, чтоб такового спорта на перинах более не повторялось. А я, красный как рак, тихо переполз по ветке на крышу соседнего двора и скатился в песок перед Валеркой. Облако пыли оседало плавно на его белую нейлоновую рубаху и на бриолиновый пробор, прямолинейное украшение огненно лоснящейся головы. Дружок покрыл меня матом и без промедления заехал по уху. Однако попал в плечо, потому что я выпрямил уже ноги после прыжка и росточком мой вражина оказался мне по грудь! Вот так. Мы ведь не видались месяца два, почти все каникулы. И оба были настолько ошарашены этой переменой мест, что и драться не стали. Валерка буркнул, так сказать свысока, что-то обидное про пацанят, с которыми недосуг вошкаться перед танцами. Мне тоже было не до него.
Что мне чьи-то обиды и удивления, когда я вхожу в изменившийся мир, и живые жемчуга сыплет мне под ноги дождь акациевый, и ноги сами несут меня вниз к Днепру по раскаленной булыжной мостовой, что мне -?
На мосту у судоремонтного завода я остановился. Оглянулся по сторонам на предмет милиции и легко, рыбкой перемахнул через перила, и пока мое тело летело с высоты тридцати метров, как же пела душа и смеялась — до чего легко и бездумно уходит страх! Черная вода в глубине фарватера обжигала холодом, зеленое стекло прочеркнутое линией заградительной решетки было далеко вверху, я замедленно, с наслаждением, всплывал в запретную зону.
Закат угасал, а я все сидел, сложившись, под пушкой на высокой гарпунной площадке на носу китобойца, океанского промыслового крутобокого кораблика, пропахшего и солью, и маслом, и свежей краской. По морям, по волнам — река уплывала туда, откуда пришел китобой, и оба мы были не здесь, а где-то там.
Пропечатывая шаг, прошла по пирсу военизированная охрана, ночью они могут стрелять. Береженого бог бережет. Я натянул просохшие джинсы и прыгнул ласточкой с гарпунной пушки, глубоко нырнул и, почти не двигаясь, лежал под водой долго, покуда хватило дыхания, а потом винтом вылетел на поверхность и сразу же лег на спину, только лицо и виднелось, и река еще минут двадцать в тишину меня несла, в ночное небо. И сорок сороков звезд говорили друг с другом, будто бы не для меня:
«- искать единственную — вот он смысл извечный
вращения галактик, драк на танцах,
возвышенных стихов и потных анекдотов…» — всю дорогу я крутил в уме эти три строки, но они не давались в обработку, но они отказывались продвигаться, приоткрывать завесу тайны выше уже сказанного. И они не позволяли мне потом много раз опускаться ниже, чем подсказывали самые гнусные обстоятельства, потому что я уже открыл свою единственную, и случилось это, как я уже неоднократно пытался рассказать, на углу улиц Белинского и Шолом-Алейхема, где осыпала вчерашним жемчугом дворовое футбольное поле старинная акация.
Она вдруг появилась в круге света. Они шли снизу, с набережной. Витька-Дед, Тамара, моя соседка по парте, Валерка, и — Она.
Футбольный мяч я остановил в песке прямо перед ней, я прыгнул, я успел, ведь мяч был пыльным и грязным, а на ней светилось жасминовое платьице, и нитка жемчуга белого на шее светилась, и влажная улыбка светилась, и гроночка акации светилась в руке, которую она выставила гневно перед собою, брови сдвинула чаечкою грозовою — ну прям барышня перед хулиганом.
Узнала. Удивленно брови пошли вразлет, смех зазвенел, руки мои схватила в свои, встряхнула, и все остановилось.
Было это, как ручей подо льдом, как ток талой воды под белым кружевом, как земная боль… — да ты понимаешь, ты знаешь, о чем я не могу, не смею заставить себя сказать, чтобы не отдать навсегда.
А тогда Валерка промычал завистливо: «ну ладно, хватит вам влюбляться». И дверным скрипом обрезало пение скрипок. Я повел взглядом по их компашке, я понял, что они гуляют после танцев вчетвером, что я вписался некстати, как говорится. Тома, моя соседка по парте, почему-то заерзала, высвободилась из-под дедова хозяйского обхвата, зацвела пунцово. «Ты чего»?» — улыбнулся я. По Валеркиной ничтожной зависти я понял, что «моя не его». Триумф мужского тщеславия. Это крутая такая штука. И я великодушно молвил: «ладно, гуляйте».
Лучше бы я умер тогда, Господи! Лучше бы мутный водяной вал прокатился по улице Белинского с поворотом на Шолом-Алейхема, пожар, война, что угодно — лишь бы не отрывал я рук своих от нее, но наоборот — нес бы Любовь свою и выше небесных вод и дальше земных огней…
Почему это так легко разбить и не только в первый раз? Чтоб не забыть потом? Но потом, это уже совсем другой поток из других губ и рук. Льющийся пусть даже всю оставшуюся жизнь поток — зачем — «потом»?
Пусть даже тысячу второй раз цветет акация в августе, но сух и желт вчерашний жемчуг, и если б это был не сон, я бы все же умер на мгновенье раньше, чем увидел недетскую обиду и боль в Ее глазах.
….и вспыхнула наша любовь не в тот августовский час, и сгорела много позднее, но отчего же именно этот миг случайного соединения наших рук, именно этот легкомысленный разрыв так накрепко и конкретно впаялся в цепь моей жизни?
Глядит полуголый оборванец вслед жасминовой барышне из хорошей семьи, для которой давно уже подобрали хорошую пару. Ничего не случилось. Никто не плачет по ночам.
Неужели и твоя душа обречена, обручена акацией и августом?

Похищение восхищений
1.
Был ветер. Осенний ветер.
Порывистый. Мокрый. Нервный.
А мы смеялись, как дети
От поцелуев первых
А мы расходились утром
Чтоб более не звонить
Друг друга не надо путать
Лети — паутинка-нить
Над сущей и сизой осенью
Над юной смелостью и
Над озимью, утром белёсою
Над лишней слезой любви
Лететь паутинке вечно
На тысячи километров
А слёзы..?
Да это от встречного
Осеннего нервного ветра.
2
Олений гон! — сверкая, рань
Трубит на звучный бой
Губами трепетная лань
Смеется над тобой
Ах, этот блеск! — ах этот треск
И ребер и рогов
Вогнулся в грудь нательный крест
Не выдохнуть его
О, сколь прекрасен красный снег
Зов крови, час настиг
Но, Боже? ты же человек
За что ж — подобье — бык?
О, волоокая любовь
Откликнись, оглянись
…я помню, кто всегда с тобой
Господь мой, отвернись
Прости, не знаю, что со мной
Хотелось о другом
Смешной, шальной, хмельной, чумной
Летит олений гон.
…а если б смолоду да знать, где телу дух любви догнать…
3
На темном небе кружева деревьев
Сплетает ночь, летящая с востока.
На белом платье, сброшенном невестой
Играет свет танцующей свечи.
На ветках затихают птицы счастья.
Еще не спим, еще любовь сплетает
Ночные кружева.
4
Луна
Тризубчатое стило
Как в тихий омут острогу
На паутинке опустила
Там смерть рассеянно косила
Ромашки в голубом логу
И путник
Спящий при дороге
Кипящей серебром излучин
Захвачен был в хмельные стоги
Целован в губы, руки, ноги
Скрипичной проволокой скручен
— Токкаты —
Бесовы отродья, нагромождения души
Грохочут при громах мелодий
При восхищениях вершин
— Токката-
Ты невыносима
Из сердца тянешь острогу
И купиной неопалимой
Сверкаешь в августа мозгу
Я больше не могу
— Токката —
Метелью кружевного сада
Бегу, и не страшусь расплаты
И под косой не дрогну взглядом
Я, райских яблок смертный вор
Под сердцем космоса костер
Токкаты-фуги ре-минор
Два такта
5
Гулко падали яблоки в старом саду
Тихо плакала, может быть, мама
Так легко убегалось в горячем бреду
За иною любовью упрямой
И брала меня теплая южная ночь
Соловьиная роща взрывалась
И лукавая телом лилейная дочь
Моим сердцем играла-смеялась
И я знал, что меня никогда не простит
Ни судьба, ни мольба за порогом
Ибо мать не умеет иначе любить
Отпускать — то доступно лишь Богу
А дороги до Бога — с полвека еще
Я пришел целовать твои руки
Сединой защищен, или все же прощен?
…пусть поищут по яблочку внуки
ГЕНЕЗИС НА РАЗ-ДВА-ТРИ
или
Евангелие от Евы — фрагмент 2
Когда б я стала совершенной, Меня б никто не смог терпеть,
Или прозвали бы блаженной, да постарались запереть…
Подальше с глаз, за двери рая, чтоб я могла там постигать,
Грехов людских не замечая, как жизнь планеты сохранять…
Когда б я стала совершенной, сама б я не смогла стерпеть
Убогость жизни откровенной, я б постаралась улететь…
Когда б смогла я излечиться, от недостатков, что во мне,
То в тот же миг смогла б открыться гармонии, родной стране.
И остаюсь несовершенной, но гармоничною внутри,
Мир откликается волшебно — заря! Свершилось, посмотри!
/Белоснежка Ф./
…Я был на высокой горе, и узрел великого человека и рядом маленького, и услыхал громовой голос, и приблизился, чтобы расслышать глаголемое. И он изрёк: «Я — ты, и ты — Я, и где ты, там и Я, и Я во всём, и где бы ты ни пожелал, собираешь ты Меня и, собирая Меня, собираешь и себя…
(св. Епифаний: Haer. XXVI,3)
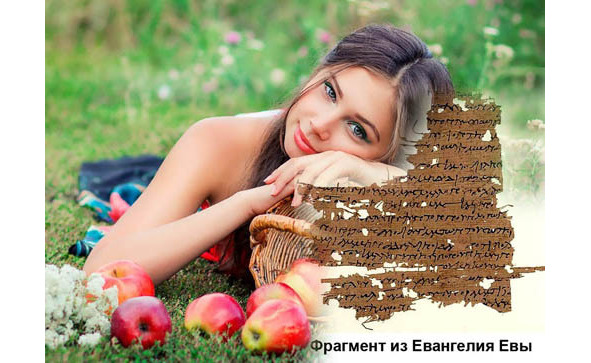
…почему я должна писать в мужском роде? Мысль неуместная, но интересная, как будто после дождя падают с веток яблочного дерева — уже не неизвестно откуда! — падают легкие и прохладные капли-слова: нежность; мягкость; слабополость; гинекизм; фемининность.
А я сижу у окна и ем яблоко. Пишу диктант. Но пишется совсем не то, что диктует учёный ангел. Вернее не совсем то, я не спорю с учителем от Бога, но просто добавляю к морфологической информации некую женственность.
Адам, мой партнер по парте, от морфологической информации легко впадает в состояние «объятий Морфея», то есть пишет автоматическим письмом диктант, находясь в полусне.
Ангел громко сказал «Искуситель» — и это существительное от слова кусать, да? Кусаю яблоко. Кислое. Скулы сводит, так сильно, сильно так, как от поцелуя, тянет до низа живота прямо-таки. Но если поцелуй технически легко объяснить, это вакуумный эффект, необходимый для включения процесса клонирования подобных Богу, ангел говорил ещё много непонятного и не приятного, но если съесть просто это кислое, то потом ощущение сладкое в послевкусии. Кусаю яблоко.
Очень кисло. Думаю, доза велика для одного существа, хочется это с кем-нибудь обсудить, ну, ты, сонная тетеря, слизни капельку яблочного сока с моих пальцев.
Не надо на меня так пялиться!
Хочешь ещё яблока? Но я уже съела, остался только сок на моих губах, слизни…
…далее поперёк листа стихи другим почерком:
спас ли был яблочный?
или метель
холоду ночи стелила постель?
спал я?
иль смел наяву говорить
как я хотел научиться любить…?
Вопрос для самопроверки: Как пробудить плодотворность?
Варианты ответов (нужное подчеркнуть)
— Желанием Красоты
/Рерих/
— «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты»
/Пушкин/
— «И дерево средь Рая, багряное, на снедь, растет — тела сжигая, и жжет — чтобы гореть. Менять уж невозможно, цвети, кто раньше цвел. Адам сказал неложно, что это женский пол.»
/Бальмонт)
ОХОТНИЦЫ ЗА ЯБЛОКАМИ
или из Рецензий на «Евангелие от Евы — фрагмент 2»
Две девы — и нельзя сказать, что девы.
Не страсть, а боль определяет пол.
Одна похожа на Адама впол-
оборота, но прическа — Евы. /И. Бродский/
…заржавевшим ключом всё стучишь монотонное по` столу
Отомстив вдохновеньем сполна
Если много мужчин собрало`сь, они, видно, апостолы
Или просто случилась война*
Месяц строит насмешливо времени острые рожки,
Ну а то, в свою очередь, прячет тесак.
Если много собра`лось матрон, они, видно, матрёшки,
Или что-то случилось не так
А потом поползут по полям самоходные гаубицы
Слышишь, чибис вопит свой извечный вопрос
Вряд ли с осенью кто-нибудь силою справится
На антоновку только к весне поднимается спрос
У огня не четыре угла, а четырнадцать прочерков
И бумага дымит, и клубится белёсый туман
мы и сами себя понимаем не очень-то
Что тогда говорить о сошедших из рая/с ума…
/Елена Евгеньева 22.04.2019/
…вполоборота обормот похож на Бродского.
Конечно, если не взирать на пол,
Который даст трансферт на превосходство,
На теми, кто…
Нет. Лист порвать. Под стол.
…вполголоса читаю Юсси Ольсена
«Охоту на фазанов», «Женщин в клетке».
А вот в раю к охотнику опоссум
Слезает сам. Индейская эклектика.
В Большом Вигваме тишина, но давка,
И девок ни одной среди индейцев.
Ну — так всегда на распродаже томагавков,
Здесь всяким скво нема на шо надеяться.
Тем паче если месяц строит рожки,
То это типа «Разумов обмен»
Когда Зе Краггаш обещает трошки,
Но даст хоть крошку? Да уж, Ка-Вэ-Эн…
Убийцы, гаубицы, девы-голубицы,
Матрешки трех матрон в микромакрон…
Чи чибис тож не знат, в кого влюбиться?
Полнейший половой оксюморон.
В том смысле, что кого ни выбираем,
По демороликам клиента супер-патрио,
Что нас-сыщает сумачечим раем,
С чумой какой-то в 25-м кадре.
…вполросчерка бы просчитал по почерку,
Вживую если бы был с человеком.
Но это роскошь из другого века.
Да, — *мы и сами себя понимаем не очень-то»,
А, милые да-мы?
Amor fati

…час пробужденья белыми ночами достаточен.
И чуткостью томим.
И в чисто человеческое пламя
Переливаем.
Светообратим.
…ты в поезде, ты точка на штрих-пунктирной линии посреди ямальской тундры, где-то между Новым Уренгоем и Надымом. Весенний паводок превратил землю в водные зеркала Надземья. Вода на несколько сантиметров выше железнодорожной насыпи, поезд идёт по воде между небом и землёй. Ты свободен, отделён от дома, от близких, и даже от случайных людей, которым могла бы помешать обеспокоенная этим белым свечением полусонная птица души, которая кружит над зеркалами Надземья, и это её глазами ты видишь себя точкой белой ночи.
Птице души мало просто выпорхнуть, ей хочется выдохнуть, избавиться от тяжести земного, от состояния зависимости от другого человека, которое уходит корнями в случайно потревоженную землю. Но рассказать, это значит определить место и время, как бы прикрепить фотографию к стене того, кого хочется забыть. Что может быть хуже этого? Может быть — неспособность переносить неопределенность? Читаю Фрейда. Старик так уверенно говорит: «Тайна человеческой души заключена в психических драмах детства. Докопайтесь до этих драм, и исцеление придет.»
Детство как детство. Счастливое, бездумное. Но почему-то запомнился эпизод с фарфоровой куклой сестры, дорогой и любимой куклы, которую она так бережно и нежно подала мне в руки, но как-то немного нехотя, не как ребенка дают, а ногами вперёд. И я как-то рассердился, импульсивно схватил куклу за ноги и ударил головой об камень. Сестра рыдала, я хохотал и не мог остановиться, меня, кажется, водой облили дождевой из бочки, которая стояла у входа в старый деревянный дом ещё дореволюционной постройки. Когда я попросил у сестры прощения за этот идиотский смех, она очень удивилась:
— Ты не можешь этого помнить, тебе полтора года всего было. Тебе мама рассказала, может быть?
Нет. Я рассказал ей в деталях, как всё произошло, мамы рядом не было, она не могла этого видеть. То есть я запомнил всё, до мельчайших подробностей. Только имя фарфоровой девицы, потерявшей голову в моих руках, я никак не мог выговорить и сейчас, почти 61 год спустя. Сестра смеётся:
— Конечно, тебе трудно. Ты и сейчас тормозишь, когда «р» выговариваешь. Её звали, конечно же не Анна, а Маргарита!
— По семейной легенде ты в пять лет уже читала Толстого, я плохо помню, так ты и Булгакова читала?
— Ты же знаешь, как скучно читать только одну книжку. Тем более у меня Толстого забирали, как не по возрасту чтение. И я прятала Анну Каренину под столом, а Маргариту Николаевну держала в резерве, под кроватью. В каждой книге вместо закладки лежала своя кукла. Я любила фарфоровую Марго больше, чем Анну, та была глиняная, тяжелая и действительно похожа на белку. На злую белку. Ещё у меня была Бальбина тряпичная. С глупым личиком, я сама нарисовала и пыталась тебе подсунуть, вместо Маргоши, но ты орал, отпихивал. Так вот откуда у тебя мания на Маргариту, чувство детской вины, если по Фрейду.
— Ну, Фрейда-то мы тогда точно не читали, слава богу, как говорится, — улыбнулся я. И мы продолжали беседовать ни о чём уже, потому что о чём-то говорить было трудно, мы сидели за столом вдвоём, все гости ушли, поминальная трапеза по маме закончилась с полчаса назад, до ночного поезда на Одессу было еще часов пять, не меньше. Мы уже поплакали. И было как-то легко, как в детстве, когда прятались от дождя…
И у меня сейчас дождь
Он живее бесшумного снега
Он говорит, говорит, говорит без умолку
И не уснешь
И не выйдешь по улицам бегать —
Раннее-раннее утро.
И пусть это длится так долго
Как ожидалось.
И чувствуют пальцы раскрытой руки
Белых движенье жемчужин
Касанье небесной реки
Ещё я тогда попытался рассказать сестре о том, как не приехал хоронить своего учителя, Мастера Лео. Потому что… Она перебила меня:
— Да, тебе лучше подальше от этого процесса. Когда с папой прощались, ты всё время хватал его за руку, у тебя забирал дед, очень сердился, а ты вроде бы как не понимал. А ведь восемь лет уже было тебе. Такая обида была. Ты мне сказал: «Почему дед сердится на меня, а не на папу? Он же ушёл. Это нехорошо. Почему на меня, за что? Как он поймёт меня, если не смотрит? Я всегда, когда надо было, тянул его за руку, и он отвечал».
— Я помню. Нас отодвинули в сторону, священнику надо было пройти. Ты тогда мне сказала: «Не трогай больше, ему и так неспокойно».
— Странная беседа получается. Мы говорим друг другу то, что другой сказал, как будто самим нельзя об этом говорить ещё раз. А что у тебя получилось с Учителем Лео?
— А, да. Я тогда уже уехал на Ямал, оставил всю нашу чертову труппу погорелого театра, пошел работать строителем, продолжал писать, начал печататься, перешёл в профессиональные журналисты. Прощай, богема. Хотя, у нас свой бомонд, свои «взбрыки» от избытка нереализованных претензий. Все гении, а пишем на один день в завтрашнем номере газеты. Но всё равно это реальнее театра. И я начал решительно вычеркивать всё, что говорил Мастер Лео, единственное, что оставил от уроков «короля эпизодов», так это умение зеркально воспроизводить именно тот фрагмент. Это естественно: даже по учебнику актёрский взгляд «изнутри» спектакля по определению не может разработать образное решение «за всех», за спектакль, будь ты хоть примадонна, но — ты внутри. А требуется творческий взгляд «извне», — режиссёра и художника-сценографа, — в газете — это редактора взгляд. Когда я был редактором, то сам не мог писать, разве что старые наброски ставила ответственный секретарь по своему усмотрению. Я опять слишком увлёкся, да? В общем она мне прислала вторую телеграмму уже через месяц после похорон Мастера Лео.
— Кто она?
— Да эта самая чертова кукла, Маргарита.
— Фарфоровая?
— Очень похоже. По крайней мере при первой встрече так её и увидал.
Она — как будто из фарфора,
Из настоящего, который звенит так легко,
Словно впитал гончара с любимой женой разговоры
О том, что нельзя волноваться, что может пропасть молоко.
Она — как будто из не времени,
Из настоящего, которое ещё не успело родиться,
Словно сама ещё не уверена и не хочется быть беременной,
И если желтая роза к разлуке, то пусть примета не пригодится.
Она — как бутон полураскрытый,
Из настоящего сада, который уже не Эдем,
Слова застывают на каплях дождя ожерельем небесной амриты.
…так вы говорите, настоящий фарфор должен светиться и в темноте?
…мы уже не одни за столиком уличного кафе «Тавричанка». Вернее — я не один. Сестры ведь уж третий год как нет, но говорить с ней теперь стало проще, даже об очень глубоко личном. Наверно, я вслух заговорил, громко, потому что Елена, она была за соседним кофейным столиком, сказала:
— Есть и у меня фарфоровая история. у моей крестной мамы была коллекция фарфоровых птиц. на разборной стене (которую выносили в случае свадеб или похорон, но при этом она не казалась шаткой или временной, нормальная прочная стена) были прибиты полочки, на которых жили эти птицы. зима, метель, на улицу не пускают. старший кузен мастерит рогатку и расстреливает птиц. потом им всем приклеивали головы суперклеем. они и сейчас такие живут — со шрамами на шеях.
— Этого мальчишку тоже привлекла хрупкость фарфора, тоже радовала одержимость возможностью разбить. Как и моего героя. Это же не обо мне, я лирический журналист, литератор, пишу, проговариваю то, что пишу. А хоть не страшно получается?
— Чуть-чуть страшно…
— Да мне тоже, в неведомое когда пытаешься — как минимум холодок.
— И всё-таки хочется дальше, да.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.