
Бесплатный фрагмент - Рассказы, воспоминания, очерки

Немного о себе, авторе
Родился в Москве, в 1939 году. Отец, инженер-химик, был призван в начале 1941 года на военные испытания под Псковом и погиб там в начале июля 1941 года. Я его не помню…
В конце декабря 1941 года мы с мамой эвакуировались сначала в Андижан, потом в Омск и вернулись в Москву в середине 1944 года. По рассказу мамы, когда мы пришли на свою прежнюю квартиру, оказалось, что там проживал безногий инвалид войны, который предложил маме «катиться в свой Ташкент». И мы покатили… В течение пяти следующих лет ютились у своих родных, в частности, три года у дедушки с бабушкой со стороны матери в подмосковном городке «Перловская», в народоречии — Перловка. Дедушка, Юдель Янкович Финкельштейн, был человеком религиозным, уважаемым среди евреев Перловки, и в его доме я впервые узнал о Боге, впервые праздновал Шабат, впервые узнал, что я еврей… До самой смерти деда в 1961 году наша семья в том или ином составе собиралась в его доме встречать Шабат. Я пропустил много суббот, никто не заставлял меня ехать к деду, но почему-то в каждый приезд испытывал стыдливое волнение, ловя на себе печальный дедов взгляд. Несмотря на разочарование, он любил меня, своего старшего внука…
Я помню старый дом в Перловке —
пять соток сад, пять тысяч бед,
меж двух осинок две верёвки
и однодверный туалет.
Скамья под яблоней корявой,
овчарка грустная Рубин
и поздней осени кораллы
двух шатких, тоненьких рябин.
Я помню, как легко парили
над домом пух, молитвы, дым,
как пахли бабкины перины
и деда стёртые тфилин.
Я помню скатерть в светлых пятнах,
что, взвив крахмальные крыла,
ложилась в каждую из пятниц
на круг огромного стола.
И зажигала бабка свечи,
и затихал усталый сад,
и в дверь распахнутую вечер
вплывал с царицею Шабат.
Мой дед садился в кресло; справа —
садились важные дядья,
а слева — тётушки с оравой
шумливых чад своих, и я.
Красны, как спелая малина,
в сторонке бабка с мамой ждут,
когда окончится молитва,
когда их с пищей призовут.
И вот великий миг еврея —
нам и вздохнуть разрешено,
и пригубить, благоговея,
благословенное вино.
А фаршированная рыба
Уже в тарелках… Что за вкус!
И даже дед мой, неулыба,
смеясь, пощипывает ус.
И… тишина, восторга паче,
Когда слова отбросив прочь,
от чувства сладостного плачет
изголодавшаяся плоть.
За рыбой вкатывались «латки»,
и с ними — Боже! — сам барон:
в медалях жира, светлый, сладкий
куриный бабушкин бульон.
Чуть отдохнув, мы тёти Цили
(А вы не пробовали? Нет?!)
вкушали знаменитый цимес,
А это вам не винегрет!
Наш цимес — это смесь моркови,
любви, восторга и огня.
Поверьте, что его готовить
могла лишь тётушка моя.
Мы разговариваем плавно,
отрешены от буден, бед,
у нас сегодня вечер главный,
у нас — Суббота, мы и дед.
Мой дед… Наш дед…
Смешные крошки,
как птички, в белой бороде.
Наш дед не ведал эту пошлость
Как доставать, почём и где.
Наш дед парил, красив и важен,
в мирах, где правил Авраам.
Я не уверен, знал ли даже
он внуков всех по именам.
Мой дед парил — он правил Седер,
он вторил Господу, пока
неутолённою беседой
из деда жизнь не утекла…
И он ушёл, себя развеяв
по нашим душам…
Двадцать лет
я был немножечко евреем,
лишь потому, что жив был дед.
…Мы всё испили, всё поели
И мы на станцию плывём,
но пролетит всего неделя,
и мы вернёмся в вечный дом,
вернёмся все — пусть страх иль буря,
пусть перегружен скарбом воз…
…Нам обещал Господь, что будет
нас, как песчинок или звёзд…
…И только в 1949 году мы с мамой обосновались в затопляемой, полуподвальной, но своей однокомнатной квартире в подмосковном городе Мытищи. Никогда не забуду, как приехал к нам крысолов с собакой. Опустил её в наш подвал. Через несколько минут раздался страшный собачий крик, и крысолов вытащил дёргавшегося в предсмертных конвульсиях пса с разорванной мордой.
Дальнейшие наши квартирные перемещения и связанные с этим мучительные смены школ, могли бы до слёз разжалобить чувствительного читателя, посему этот тоскливый период моей жизни я опускаю. Да и помню его плохо — калейдоскоп печали…
В Москву мы перебрались только в январе 1953 года — родной брат мамы, незабвенный дядя Коля, заменивший мне отца, переселил нас к себе. Перебрались перед самым началом «дела врачей». В разгар «дела врачей» в классе именно я был выбран «врачом» и лениво побит. Подробно об этом рассказано в рассказе «Эсфирь Львовна».
Из своих «серьёзных» литературных достижений того времени, могу отметить напечатанное в феврале 1953 года в газете «Пионерская правда», увы, в сокращённом виде, стихотворение, посвящённое дорогому и всеми любимому палачу тов. И. В. Сталину. Я был несколько дней во славе. Посему битиё меня во время «дела врачей» по сегодняшний день считаю высшей несправедливостью, что и послужило полному неприятию мною Советской власти.
В 1957 году поступил в Московский институт тонкой химической технологии, который окончил в 1963 году. Был распределён в «почтовый ящик», — так в СССР назывались предприятия оборонной промышленности, — где занимался очисткой промышленных сточных вод химических комбинатов. Хотя друзья и поддразнивали меня «ассенизатором», профессию свою я по-настоящему любил — мне казалось, что я спасал российские реки от нечистот химических производств.
Еврейское окружение, феерическая Шестидневная война, ввод советских войск в Прагу в августе 1968 года — «три источника и три составных части» — решили мою судьбу, и в декабре 1971 года мы с мамой подали документы на выезд в Израиль, а в апреле 1972 года получили «отказ» с формулировкой «по режимным соображениям».
Разумеется, имелся ввиду я.
Но жизнь продолжалась, и в 1973 году я очень удачно женился на очаровательной девушке по имени Ада.
И лишь в марте 1988 года мы всей семьёй — моя мама, я, жена и две дочери — прибыли в Израиль. Дядя Коля, увы, к этому времени умер…
Почти семнадцать лет, проведённых в «отказе», стали одними их самых ярких в моей жизни. Женитьба, рождение дочерей, обретение новых друзей, людей, мною невиданных раньше, обретение себя, первое проявление, пусть и неяркого, но всё-таки мужества, чтение «других» книг, знакомство с еврейской историей, начало захватывающего нелегального творчества, томительное чувство любви к сотворённому твоим воображением Израилю и многое, многое другое — нетленное богатство тех лет… Две моих книги, — «О тех, кого люблю, о тех, кого никогда не забуду» и «И возвратились сыны в пределы свои» — два толстых тома интервью с выдающимися «отказниками» и «узниками» Сиона — свидетельство той незабвенной жизни, свидетельство моей любви и уважения к удивительным людям, героям, и — не побоюсь этих слов — творцам истории, бесстрашным борцам за справедливость, за человеческое достоинство, очень вовремя и очень сильно приложившим руку к развалу злобной советской империи.

В марте 1988 года я прибыл в Израиль и уже в ноябре 1988 года, с помощью друзей поступил на работу во Всеизраильский Институт стандартов, где с великим удовольствием проработал в должности инженера-химика до самой пенсии. Институт стандартов стал моим учебником иврита, «моими университетами», моим министерством абсорбции, моей великой благодарностью Израилю, моим нежным воспоминанием…
О моей удивительно лёгкой абсорбции, чему я обязан благословению свыше и моим закадычным друзьям, я подробно рассказал в книге «Рассказы о Щасливкинде».
А началась моя писательская деятельность в Центре абсорбции города Реховот, эдаком маленьком «гетто», в липкой атмосфере воспоминаний о «той» жизни, тоскливых рассказов о поисках работы, нытья о безнадежности и, конечно, безденежье… И печальные глаза дочерей. И трудно дающийся иврит. Находясь не в самом радужном настроении, я начал писать почему-то весёлые рассказы об «отказной» жизни. К моему удивлению, они все до единого были благосклонно приняты русскоязычными газетами, после чего, прослышав о конкурсе на лучшее произведение писателей-олим, я собрал эти рассказы в одну книгу и отослал на конкурс. Представьте себе, я занял призовое место, и Министерство абсорбции за свой счёт издало мою первую книжку под названием «Из отказника в оле». Мало того, эта книжка имела определённый успех и разошлась чуть ли не за неделю. После этого феерического успеха я, вообразив себя писателем, написал ещё 8 книг, изданных, правда, уже за свой счёт и имевших успех уже несколько меньший.
Страшно подумать, что почти за тридцать лет своего пребывания в Израиле, мною написано 9 книг, три из которых, увы, не имеют электронной версии, но большую часть их содержания я перетащил в другие 6 книг, электронную версию имеющих. Не пропадать же добру…
Наверное, нельзя выговаривать такое, но я, кажется, счастлив. У меня молодая, красивая жена, две красивые, образованные, хорошо устроенные дочери; у дочерей, не знаю, красивые ли, но очень образованные, устроенные мужья; шесть внуков — от каждой по три…
В общем, я — натуральный Щасливкинд. Щасливкинд — от слова счастье…
Одно скверно — с какой-то злобной скоростью летят года. Я бы непрерывно орал: «Остановись мгновенье…», но кто меня услышит?..
«Отказные воспоминания»
О днях работы обивщиком в фирме «Заря»
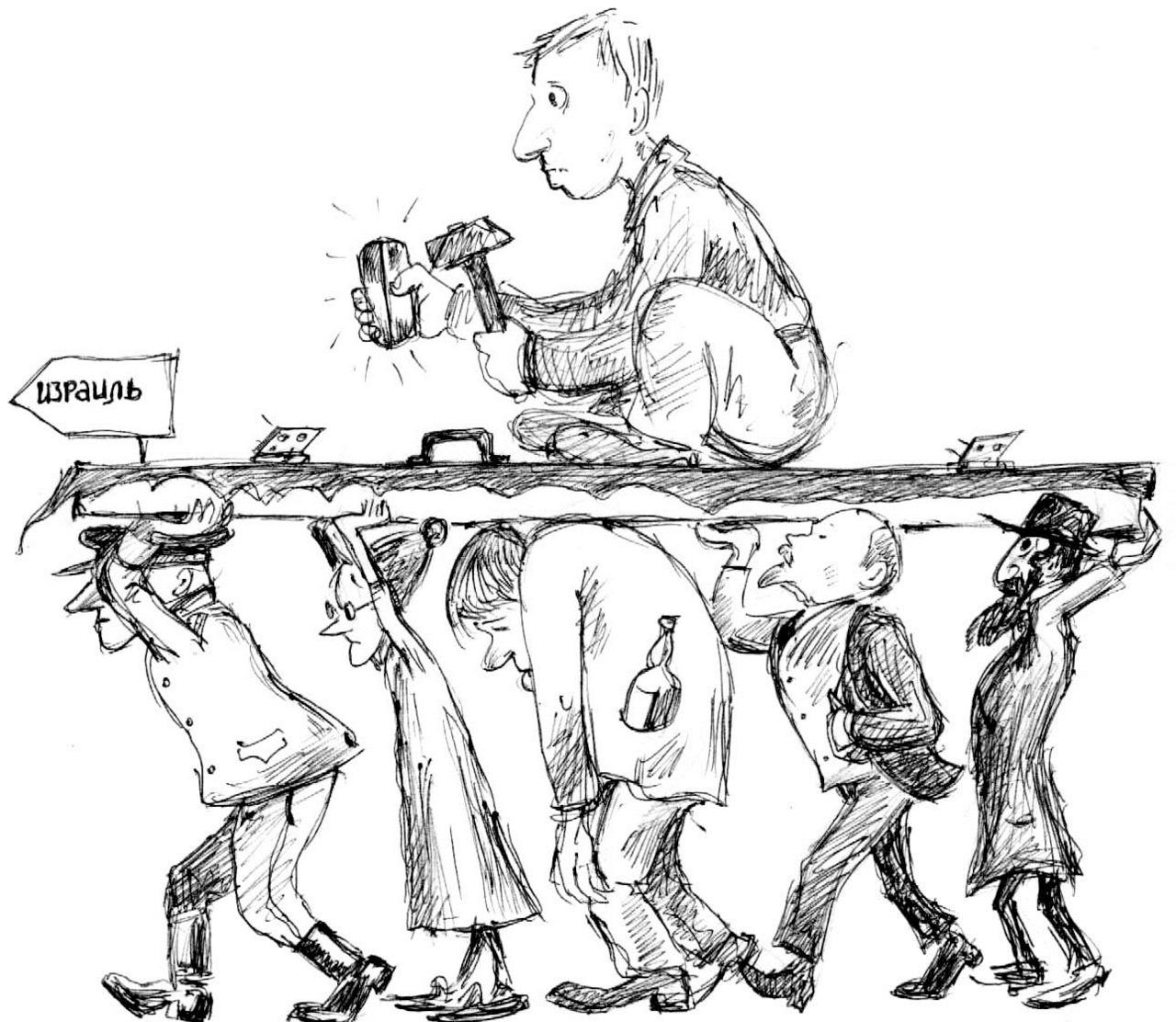
В фирму «Заря», занимавшуюся обивкой дверей, вставлением замков и циклёвкой полов в квартирах, я устроился как ни странно, сам, по объявлению. Научился обивать двери очень быстро, так как был молод, ловок и к столярному делу приучен ещё с детства, благодаря укатившему в Америку родному брату моего отца дяде Шуре…
В доме Гамзатова
Я шёл обивать дверь самому Гамзатову и твердил себе — расскажу Расулу Гамзатовичу всё о своём «отказе», о бедственном положении «отказников». Попрошу помощи. Или совета. Не может великий дагестанский поэт, член Президиума Верховного Совета, не помню уж точно, четырех или пяти союзных республик, отказать, пусть малому, но собрату по перу и тоже из числа нацменьшинств.
Пришёл я как раз к обеду. Дверь открыла хозяйка — в точности моложавая Долорес Ибаррури. Мой длинный нос втянул запахи сразу трех национальных кухонь, по ушам прокатился долгий звон хрусталя, потом наступила священная пауза, потом — радостный стон, и, наконец, зычный кавказский говор наполнил квартиру.
— Работать будете там! — приказала Долорес Ибарури.
Я бодро пошел за ней и, точно по закону академика Павлова, дважды терял сознание: в первый раз — проходя мимо настежь открытой кухни, во второй раз — проходя мимо полуотверстой двери в столовую, в которой буйствовало застолье.
— Здесь!
И я вошел в огромный кабинет поэта.
Ленин — вот, кто встретил меня в этой священной келье. Ленин — в огромных, с полу до потолка застеклённых шкафах, Ленин — во всех мыслимых и немыслимых сочетаниях красок, Ленин — на всех языках мира: от строгой немецкой готики до чарующей арабской вязи, от древнеегипетской клинописи до черной паутины китайских иероглифов. Не было только иврита, и единственное, что оправдывало Израиль — это отсутствие квалифицированных переводчиков.
Дверь, которую, прогибаясь от тяжести, я втащил в кабинет, покорно распласталась на двух табуретах. Я был строг и подтянут. Я творил. Я делал шаг к ней и два шага назад, любуясь точной и одновременно вдохновенной обивкой.
И ждал поэта…
Дверь кабинета скрипнула. Я замер. Показалось миловидное восточное личико.
— Кушать будете?
— После работы с удовольствием.
Спустя несколько минут дверь снова скрипнула. Показался огромный загорелый нос, который втянул за собой бритое, лоснящееся, веселое лицо.
— Коньяк хочешь?
— После работы с великим удовольствием.
— Умница! А какой мастер, вах! Сколько имеешь в день?
Я промолчал.
— Умница! — лицо засветилось в понимающей улыбке и исчезло.
Дверь кабинета открывалась еще несколько раз, внося разнообразные лица и предложения. Я чувствовал себя в состоянии официальной двухчасовой голодовки.
Но поэта не было.
Я нарочито медленно вешал обитую дверь, собирал инструменты; в слезах прощался с Лениным, с тоской проверял точно по наряду отсчитанные деньги и что-то уныло объяснял Долорес Ибаррури относительно замка.
Ни еды, ни коньяка, ни чаевых, ни поэта…
У молодожёнов
Прихожу к клиентам. Работа обещает быть лёгкой — новая стандартная дверь в новом доме; хозяева — красивая, рослая пара с несомненной наклонностью давать чаевые; чудесный весенний день… Мыча популярные мелодии классического репертуара, я начал работать.
Моя наиприятнейшая пара покрутилась около меня, повздыхала и… ушла в спальню.
Я немного занервничал.
С появлением первых всхлипов я резко замедлил темп работы.
Всхлипы начали перемежаться со стонами. В стоны постепенно входило протяжное «аааа». Резко усилилось прерывистое дыхание и вскоре достигло мощности дыхания десяти лесорубов. Кровать, очевидно деревянная, сначала исполнявшая партию скрипки, теперь визжала всеми народными инструментами.
Молоток бил только по моим пальцам. Дважды я поймал себя на том, что не работаю, а изнемогаю, прижавшись раскаленным лбом к прохладному дерматину.
В спальне орали.
Я чувствовал приближение высшей точки, и, чтобы не оказаться в положении толстовского отца Сергия, решил немедленно повесить на место обитую дверь. Я рывком поднял с табуреток мое «детище» и через мгновение с ужасом понял, что несу его в спальню. От двери спальни меня оттолкнул такой вопль, такой крик восторга, такая песня победы, такой вздох свершения, что у меня не осталось более никакого сомнения в правоте решения Евы откусить от яблока.
Он появился, когда я уже собрал инструменты.
— Красиво, — проговорил он, позевывая.
И сдачу не взял…
Родственники
Не помню, кто из великих рассказчиков часто начинал словами: «Врать не буду…» Так вот, врать не буду — в домах членов политбюро не бывал. До сих пор меня мучает вопрос, кто обивал им двери, менял замки, циклевал паркетные полы, вешал полки? Живые ведь были люди! Не всё же заседания и великие решения!
Но в домах партработников, разряда этак третьего–четвертого, бывал.
Дома эти очень важны. И черные «Волги». И даже дети. А уж консьержки!..
Едва входишь в квартиру такого дома, тебе немедленно дают понять, что визиту твоему рады, но будут рады еще более, когда ты отсюда выметешься.
Мебель в этих квартирах массивная и темная. Телевизор, как правило, марки «Sony». Множество книг в роскошных шкафах, и обязательно половина из них — на иностранных языках. И всегда так убрано, так сверкает паркет, что каждая соринка, исходящая от тебя, — а попробуй не сорить при нашей работе, — кажется святотатством.
Никогда не видел хозяев квартир. Только хозяек. Это всегда были средних лет, красивые, строгие, недоступные и почему–то высокие женщины, наверняка с высшим образованием. И очень редко видел стариков. Куда их девают? И дети в этих квартирах шумели как–то не так, как–то очень по–деловому, да и шум этот доносился из такой дальней комнаты, что — ни приведи, Господи! — случись что-нибудь с ребенком, и добежать не успеешь…
О чаевых я и говорить не буду. Какие чаевые от настоящих большевиков?
Порог такой квартиры я и переступил однажды, чтобы вставить роскошный шведский замок в величественную дверь огромного хозяйского кабинета. И первое, что увидел над письменным столом — здоровенное цветное фото Арафата, улыбающегося, самодовольного. Вокруг Арафата висели многочисленные фотографии упитанных ближневосточных шейхов, грустное, наверное, последнее фото Насера, фото Хафеза Асада, короля Хусейна и прочих.
Из чрева книжного шкафа сверкали цветастые корешки книг, украшенные арабской вязью. Было ясно, что хозяин — деятель ближневосточного ведомства.
В полной тишине я весело ковырялся стамеской в дубовой двери, как вдруг появился старичок. Маленький, чернявый, взъерошенный, курносый, с озорными глазами, и очень небритый. На редкость очаровательный, несуразный старичок. Он прошмыгнул мимо меня в кабинет, сел в темное кожаное кресло, при этом ножки его болтались в воздухе; точно как шкодливый первоклассник, подмигнул мне и высоким голосом приказал не обращать на него никакого внимания и продолжать работать.
Работа спорилась, старичок был прелесть, настроение — превосходное, и, скорчив лицо идиота, я спросил, ткнув пальцем в фотографию Арафата:
— А это ваш родственник?
— Что?!
Старичок взвизгнул, сжался, а потом, запрокинув голову, так захохотал, что в кабинет одновременно ворвались перепуганная хозяйка и почтенная краснолицая дама в фартуке.
— Ты слышишь… Клава, — визжал в перерывах хохота старичок, — он… решил… что этот… с полотенцем… мой…
Старичка нежно понесли из кабинета. Он дрыгал ножками и вопил:
— Умираю! Родственник! Послушайте, мастер, — голос уже слышался издали, — остальные, которые в полотенцах, с откормленными харями, — все, все мои племянники… Ха–ха–ха…
Простились со мной сухо, и приглашения бывать ещё не последовало…
«Уголовник»
Вхожу в квартиру и вижу мрачного дядю. Мне становится страшновато.
— А ведь я только вчера из тюрьмы. По первому разу, веришь?
— Конечно, — угодливо сообщаю я.
— Рюмашку примешь?
— Нет, нет, мне до обивки нельзя…
— Понял. Ну, а я чуток.
Он выпил увесистую рюмку и просветлел.
— Опохмеляюсь. Вчера, от радости, что домой вернулся, перебрал немного. Ну, и сколько, ты думаешь, я отсидел?
Молчу.
— Пятнадцать суток!
Страх мой улетучился мгновенно — убийц и бандитов в тогдашней России на пятнадцать суток не сажали.
— А расскажу, за что сел — не поверишь!
Из приведенного ниже монолога моего клиента я убрал только мат.
— Ну, вот. Было это в пятницу. Шел себе с работы — я слесарничаю на Калининском, в больших домах, — шел в метро «Библиотека Ленина», шел себе нормально, ну, грамм триста принял, не больше, погода была потрясная, подхожу и вдруг вижу толпу и автобус. И «мусоров» (милиционеров) до черта.
Подхожу ближе. И вот, что наблюдаю — каких–то людей выводят из приёмной Верховного (Приёмная Верховного Совета СССР). Знаешь эту приёмную?
— Знаю (кто ж из «отказников» не знал её?).
— Ну вот, выводят «мусора» оттуда людей: баб, мужиков, кого силой, кого, кто не сопротивляется, вежливо, под локоток, и запихивают в автобус. Ну, я подошёл ещё поближе. Гляжу: одну женщину за руки волокут, а жопа её по асфальту тащится! Туфля с одной ноги слетела, юбка сползать начинает. И орёт она: «Фашисты!» Ну, огонь баба и из себя ничего. А мужики, которых выводят, к ней рвутся, тоже орут чего–то, а их давай скручивать — ну, точно, как по телевизору Южную Африку показывают! Я прямо обалдел, — ну, не могу я, когда баб бьют, — легонько так сквозь «мусоров» проскользнул и к рыжему, вроде, подумал, главному, злому такому, подхожу и говорю: «Ребята, за что вы её так? Баба ведь!» И тут рыжий — здоровый гад! — меня за руку ловко так крутанул, и швырь к автобусу; тут и другой подскочил — пинком под зад, и я влетел внутрь. А за мной и бабу эту впихнули.
— Закрывай автобус! — заорал кто–то.
И я… поехал. Ну, кино! А в автобусе все сидят и хохочут. И даже баба эта, которую волокли! Я тихонько присел и оглянулся. Первое, что понял, что хохочут надо мной. Второе, что все они евреи! Веришь?! Все до единого — евреи! На каждой морде написано! Я громко спрашиваю: «Ребята, что происходит?» А мне один, маленький такой, лысоватый, вытерев слёзы, что у него, гада, по щекам со смеха текли, сквозь хохот — слышь, всего автобуса, — отвечает: «Мы с вами едем в Израиль! Мы, наконец, добились своего!» Шутка шуткой, а мне что–то не по себе стало. А охранник — я его и не заметил в угаре — кричит: «Щаранский, прекратите ваши дурацкие шутки!» А он ему в ответ: «Как, опять обманули? Мы не в Тель–Авив едем?» А охранник ему: «Увидите скоро, в какой Тель–Авив вы едете».
Тут опять такие шуточки пошли, что и не знаешь, есть советская власть или её уже нет? А эта, которую волокли, подошла ко мне и говорит: «Когда я вижу таких, как вы, я начинаю верить в грядщую Россию!»
Скучно мне стало. Черноватый я, да и триста грамм так сразу из себя не вычеркнешь, вот и доказывай, что не верблюд. А тут еще один с бородкой подошел ко мне и говорит: «Не переживайте, приедете в Израиль героем». И представляешь, я, при моем умении пошутить, не нашёл, что этому гаду ответить…
Привезли нас в вытрезвитель на Войковской.
Согнали, значит, в одну комнату с решёточкой. И опять надо мной шуточки начались. Тут я и сломался. Кулаками в дверь, и ору: «Не еврей я! Не хочу в Израиль! Я — случайный! Русский я человек!» «Мусор» дверь открыл, я в коридор вывалился, а он мне, сука такая, ещё и врезал. Тут мои триста грамм и сыграли — я на него… и пятнадцать суток. Слышь, обидное что самое — я, пока с одним алкашом в соседней камере торчал, да улицу подметал, узнал, что евреев–то всех в тот же вечер выпустили. Вот так, за них можно сказать, отмучился…
После обивки мы с ним немного «приняли», тем более тост им был произнесён просто замечательный: «за евреев!»
Клад
Страшная это штука — снимать с огромной, столетней давности двери старую, полуистлевшую обивку. Грязь, пыль; ржавые здоровенные гвозди; вата — сгнившая, дурно пахнущая, битком набитая останками древних насекомых.
И вот однажды, с остервенением сдирая эти реликты, я увидел под слоем ваты металлическую коробочку величиною с хороший кулак, мертво привинченную к основе двери прямо сквозь крышку двумя крупными, проржавевшими шурупами с расплющенными шлицами. Забыл сказать, что дверь была филенчатая, с глубокими впадинами — упрятать в ней можно было и годовалого телёнка. Мое сердце, вконец издерганное борьбой за отъезд, с огромным напряжением выдержало внутреннюю борьбу, которая, впрочем, продолжалась лишь несколько секунд.
После первой же попытки я понял, что имеющимися у меня инструментами свинтить шурупы будет чрезвычайно трудно. Я накрыл коробочку еще не сорванным куском старого дерматина, лихорадочно соображая, как извлечь клад из двери. На мое горе, хозяйка попалась болтливая и любопытная, почти не отходила от меня, рассказывая о невзгодах своей жизни со времен Гражданской войны. Вот и сейчас она двигалась ко мне, искренне думая, что её отсутствие пагубно отразится на моем здоровье. Внутренний монолог мой в эти секунды я воспроизводить не буду.
Телефон! Затрещал мой спаситель! Хозяйка бросилась к нему, я схватил отвертку и, действуя ею, как рычагом, стал бешено отрывать коробку от двери. Отвертка согнулась; дерево трещало; изувеченный рычаг дважды срывался, кроша мои пальцы, сдирая с них кожу; ноги дрожали от напряжения, спина взмокла от пота — и шурупы, наконец, поддалась.
Но по полу снова зашаркали подагрические ноги хозяйки. Я успел прикрыть дерматином свое злодеяние и продолжал работать, как дефективный ухаживая за каждым выдранным гвоздем, вытирая вековую грязь своими истерзанными пальцами, аккуратно складывая на полу комочки вонючей ваты… Восторженному удивлению хозяйки не было предела.
И тогда я попросил её приготовить мне чай. Она послушно пошла на кухню, и именно в это, её последнее отсутствие, уже полумертвый от усталости, я оторвал, кажется, зубами проклятые ржавые винты и швырнул их вместе с коробочкой в свою рабочую сумку. Сдирал остатки обивки и обивал заново дверь я уже в полуобморочном состоянии. Но класс есть класс. Смутно помню, что хозяйка выразила свой восторг, щедро одарила чаевыми, и домой я поехал на такси.
Я немного мазохист, поэтому сначала принял ванну, перебинтовал пальцы, поел, посмотрел по телевизору футбол, отправил детей спать, затем удобно расположился с инструментом на кухне, позвал жену и в одну минуту вскрыл коробочку.
Там лежала пожелтевшая записка:
«Здравствуй, нехороший ты человек! Зачем взял чужое? Всё, что в квартире хозяина — это хозяйское. Подумай о душе своей.
Обивщик Савушкин. Март 1956 г.»
У меня хватило чувство юмора, чтобы не выброситься из окна.
Через неделю я всадил эту коробочку с ещё более мощными шурупами в огромную филенчатую дверь дома на улице Горького.
Вас интересует, какую записку я вложил в коробочку? Да ту же самую, ибо мало верю, что натура обивщиков дверей даже в далёком будущем может измениться к лучшему…
Обида
Едва выйдя из лифта, я понял, что за «моей» дверью в разгаре гульба.
Позвонил. Дверь распахнула молодая, растрёпанная, полупьяная бабёнка. Из крошечной передней хорошо была видна комната со столом, заставленным снедью и бутылками, за которым сидели человек десять.
Гульба была в том хорошо известном в России состоянии, когда граница между весельем и пьяным безумием становится неразличимой и никем не охраняемой.
— Обивщик! — завопила хозяйка. — Ой, я и забыла отменить заказ! Извини, дорогой…
— Так, я лучше завтра…
— А если завтра война? — раздался хамский бас. — Обивай сейчас! Только прими на душу сначала!
Ко мне двигался здоровенный детина со стаканом, наполовину занятым водкой в левой руке и тарелкой с капустой, солёным огурцом и хлебом — в правой. Я понял, что если выпью это, то не то что не обобью дверь, но и не найду её.
— Спасибо! Но только после работы.
— Пей!
— Лёша, не надо, — заныла хозяйка.
За столом захихикали. Мне стало холодно. Я смотрел в пьяные Лёшины глаза.
— Я не хочу пить. И обивать приду завтра.
Рванулся к двери, но могучая рука схватила мой рюкзак, и я, как марионетка, был втянут обратно.
— Пей… Очень прошу тебя… Или с русским народом западло пить, а?!
И меня не стало. Я выдул всё, что было в стакане. Под хохот гостей и протестующий крик хозяйки. Схватил с тарелки огурец и пошел к двери. Меня уже никто не держал.
Я шел по улице и, как говорится, «размазывал по щекам пьяные слезы». Потрясающие картины одна за другой вставали перед моими глазами…
…Вот я резко бью Лёшу в солнечное сплетение, он сгибается, и тогда мощным ударом по затылку я укладываю его на пол. Вот я выплескиваю водку в ненавистную рожу, разбиваю о стенку стакан и с осколком в руке иду убивать эту гадину. Вот я бью ногой ниже его живота, он с воплем сгибается, я спокойно делаю несколько глотков из стакана и выливаю остальное ему за шиворот.
Домой я добрался благополучно.
Ночью мне снились бои с палестинцами, которых я сотнями косил из огромного, хорошо скрытого в засаде пулемета…

О днях работы в ресторане «Баку»
Два года моей «отказной» жизни, благодаря незабвенному дяде Коле, я проработал плотником в ресторане «Баку»…
Официанты и работники кухни покидали ресторан около часа ночи. Вместе с ними покидало ресторан огромное количество мяса, рыбы, фруктов, овощей, специй и недопитых клиентами вина и водки. Случалось, что ресторан покидала даже чёрная икра. Никакие милиционеры и бывшие служащие КГБ не помогли.
И директор обратился за помощью к нам, работникам ресторана. Он объявил, что отныне дежурство будет осуществляться силами самих работников ресторана. Я, плотник, оказался в списке дежурств под номером три.
Как прошли первые два дежурства, не знаю, но в назначенный день, в 0 часов 30 минут я занял свое место. Ровно в 1 час 00 минут появился первый официант. Коридор перед выходной дверью был узкий, поэтому свою огромную сумку он тащил обеими руками впереди себя, подталкивая её коленками. Когда он поравнялся со мной и опустил сумку на пол, я встал и открыл возмущённый рот. И он немедленно наполнился куском мягчайшей, ароматной, ещё теплой бастурмы. В то же мгновенье в нагрудный карман пиджака с хрустом опустилась трёхрублёвая ассигнация. Бастурма во мне и спина официанта в проёме двери растворились одновременно.
У следовавшей за ним официантки рюкзак был размером уже с автомобиль «Жигули». Из него просто–таки несло бараниной. На этот раз мой рот был выключен поцелуем, трёшкой и чем–то мягким, завёрнутым в целлофановый пакет.
И я обнаглел.
Через пятнадцать минут я перевел содержимое нагрудного кармана в бумажник. Бутылки аккуратно складывал в сумку. Целовался так, что перестал думать о жене и детях. Хлопал официанток по задам. Угодливо тащил их сумки. Дважды бегал за такси. Накричал на официанта, который ничего не выносил. Когда могучими рядами пошли работники кухни — пожилые, злые, крепко сколоченные женщины, — я стал брать только свежей бараниной.
Домой я ехал на частнике. В моем бумажнике была полумесячная зарплата. Выпивки — на месяц. Уже дома на дне сумки я обнаружил несколько яблок, два соленых огурца, отгрызенный кусок колбасы и пучок укропа. Я понял, что не брезговал ничем.
***
Клиент ущипнул официантку за попу и немедленно получил от нее по морде. Случай в ресторане беспрецедентный. Бить клиента по мордам? И какого клиента — заказавшего икру, шашлык из осетрины и коньяк! Правда, однако, и в том, что щипание официанток за задницу в меню не входит. Но от официанток требуется некоторое терпение. Это же ресторан все–таки, а не академическая столовая.
А клиент к тому же накатал «телегу», где было заявлено, что никого он не щипал, а только «хотел снять с задницы официантки таракана, которыми кишмя кишит этот ресторан». Самое неприятное, что насчет тараканов — чистая правда. И что теперь делать?
Поэтому в кабинете директора ресторана шла унылая беседа. Директор стоял около плачущей официантки и тоскливо покачивал головой.
— Ты что, Красная Шапочка, а? Потерпеть не можешь?
— Никакая я не Красная Шапочка. Но он же больно ущипнул, гад такой. Поэтому я и врезала…
— Что делать будем?
— Не знаю, Ратмакуил Алабетисович…
— Ну, иди. Я подумаю.
Официантка встала, оправила передник и повернулась к двери. И директор лениво, по привычке ущипнул ее за многострадальную задницу. Она обернулась, и директор, видимо вспомнив, что сотворила его подопечная в почти аналогичной ситуации, отскочил от нее метра на два, как настоящий джигит.
— Да вы то что, Ратмакуил Алабетисович?.. — ласково спросила девушка.
— Фу ты… совсем очумел… Боюсь теперь, Красная Шапочка.
Официантка вытерла слезы и, успокоенная, выскользнула из директорского кабинета.
О днях работы в Театральном училиЩе им. Щукина («Щукинка»)

После Олимпийских игр 1980 года в Москве меня из ресторана «Баку» выгнали, ибо по закону Азербайджанской ССР работать плотником, имея высшее образование, нельзя. И однажды я пошел по объявлению устраиваться плотником в Театральное училище им. Щукина, в театральном обиходе — «Щукинку».
Уверенный в безнадежности своего предприятия, я, назло всему, надел свои лучшие одежды, чисто выбрился и выглядел оттого столь чуждым славному плотничьему клану, что проректор по хозяйственной части, молодой самоуверенный коммунист, увидев меня, расхохотался:
— Вы?! Плотником?! Ну, что ж, я подумаю. Посоветуюсь. Подожди… прошу прошения, подождите меня в коридоре. И забрав мою трудовую книжку, исчез в своём кабинете.
И я отправился гулять по коридору театрального училища.
Как раз в этот момент началась перемена, и мне показалось, что я попал не в коридор, а оказался в середине феерического, радостного спектакля, исполняемым юными дарованиями. Фигуры, лица, позы, жесты и одежды студентов были так молоды, так красивы, элегантны, разнообразны и раскованы, что у меня просто–таки заныло сердце от желания работать в этом храме богемы. И всё, составляющее сей храм, двигалось, гудело, смеялось, хохотало, кричало, целовалось, и я не мог оторвать глаз от этой вакханалии молодости и красоты. А в самом конце перемены ко мне подошёл красивый юноша и уставившись на меня круглыми, изумлёнными глазами, спросил:
— Понимаете, мучаюсь с кроссвордом. Может вы знаете: столица социалистического государства, шесть букв, первая буква — «м», третья букв — «с», оканчивается на букву «а». Не знаете?
Совершенно обалдевший, не чуя подвоха, отвечаю:
— Может быть… Москва?
— Я тоже так подумал, но почему тогда «социалистического», а?
И вежливо попрощавшись со мной, исчез…
Перемена, к моему огорчению, скоро кончилась, дверь проректорского кабинета распахнулась, вышел «сам» и, весело улыбаясь, заявил:
— Мне сказали, что плотником вас взять можно.
До сих пор слова эти переполняют меня гордостью. Так и вижу седого генерала, рубанувшего воздух своей трудовой с 1937 года ладонью и бросившего в черную телефонную трубку моему проректору:
— Ладно! Бери его! Но следи! Если что — помогу. Проверь только, не вооружен ли…
***
Любимейший профессор училища, блистательный Владимир Георгиевич Шлезингер.
Величественно спускается с лестницы. Как всегда, элегантный, чисто выбритый, пахнущий отличным одеколоном, в неизменной черной водолазке, в строгом, отлично сшитом тёмно-сером костюме. Одна рука в кармане брюк, другая, белая, холеная, аристократичная, картинно свисает вдоль тела. С ящиком инструментов поднимаюсь ему навстречу.
Нависая надо мной:
— Эээ, любезный… вы новый плотник, не так ли? У меня что–то не очень получается с замком в четырнадцатой аудитории.
И, продолжая шествие вниз, уже за моей спиной, не оборачивая головы:
— Я был бы очень вам признателен… очень… очень…
Немедленно привожу замок в порядок. На следующий день, на той же лестнице, при том же взаимном расположении тел:
— Большое человеческое спасибо. А я приготовился ждать результата только через месяц. Замечательно удивлен. Вы не инопланетянин?
И вдруг, спустившись на пару ступенек вниз и поравнявшись со мной, наклоняется к моему уху и шепчет:
— Вы знаете, я убежден, что мы оба инопланетяне.
И, подмигнув, продолжает свой царственный спуск по лестнице.
…Собрание, посвященное аварийному состоянию нашего училища, вызванное, во многом, попросту хулиганским отношением студентов к своей альмаматер. Унылые выступления с неизменными «бороться», «искать пути», «наказывать», «призывать» и так далее. И, наконец, слово получает профессор Шлезингер:
— Традиция наших студентов превращать училище в отхожее место принесла свои замечательные плоды. Мне, например, было противно находиться в сверкающей чистотой театральной школе Вены. Изувеченные капиталистической системой воспитания студенты этой школы фанатично оберегают её здание, которому уже без малого 200 лет. Самое отвратительное во всем этом, что за обучение искусству лицедея они платят деньги, и немалые. Наши же студенты, напротив, получают деньги, правда, малые. Таким образом, исходя из формальной логики, можно заключить, что одни платят деньги за право сохранить свою альмаматер, а другие получают деньги за право уничтожить её. И только резкое увеличение стипендий нашим студентам позволит, на мой взгляд, в кратчайшие сроки решить эту благородную задачу. И последнее. Есть понятие более страшное, чем хулиганство. Это — неинтеллигентность. Так вот, неинтеллигентный актер еще сумеет прокричать несколько фраз из репертуара разрешенной драматургии. Но не более. Пока не поздно, подумайте об этом на досуге, господа.
Последнее слово он произнес с таким презрением к своей аудитории, что в зале даже не раздалось аплодисментов.
***
Главной работой партийной ячейки училища было вывешивание на стенах училища огромных стендов к беспрерывным юбилеям коммунистических режимов и проходимцев, возглавляющих эти режимы. От увешанных гранатами Кастро и Ортеги до лощеного Хонекера и свиноподобного на азиатский манер Ким Ир Сена. Речи трёх сменявших друг друга советских старцев тиражировались в каждом коридоре, и единственно пустым, то есть чистым от этого хлама местом, была святая стена с портретом первого, всеми чтимого ректора училища, профессора Бориса Евгеньевича Захавы, руководившего училищем с 1925 по 1976 годы.
Склеиванием, мазанием, рисованием, подбором материалов для этих красочных безумств занимались десятки бедных первокурсников, свободных от занятий — уже со второго курса охотников делать эти стенды найти было невозможно. А я постоянно снимал, вешал, перевешивал эти многотонные свидетельства «успехов» социализма. А также менял на них истерзанные петли.
И всем этим руководила Ася Михайловна, маленькая, невероятно умная, поразительно эрудированная женщина с печальными еврейскими глазами. Страсть, с которой она отдавалась этим стендам, была для меня совершенно необъяснимой. Иногда я с ужасом думал, что она действительно любит их… как детей, которых не было у нее, да и не предвиделось. По грубым мужским меркам, она не вызывала особенных эмоций…
Однажды, вешая очередное чудовище, посвященное чему–то на Кубе, я обратил её внимание на то, как огромен Кастро по сравнению с крошечными под ним фотографиями счастливого кубинского народа.
— Ася Михайловна, почему так непропорционально велик Кастро? Знаете, без лупы и не рассмотреть народ его…
— А разве народ имеет какоенибудь значение? Участник мизансцены, не более…
Обрадованный её ответом, я попытался спросить еще о чем–то «эдаком», но получил резкий ответ:
— Марк, не надо задавать вопросы, ответы на которые очевидны.
И добавила:
— Каждый проживает свою жизнь.
Больше я к ней душу не лез.
***
Профессор, специалист по западноевропейской культуре, Ю. А. Бродский.
Чиню у него дома дверь (я не чурался «халтурки»). Он всё знает обо мне (с моих слов) и бубнит — я запомнил некоторые из его перлов:
«Судьба нашего народа — диаспора. Бог швырнул нас в этот поганый мир, чтобы было ему, чем заниматься».
«Россия без евреев? Это невозможно себе представить. Чушь какая–то. Трехсотлетними узами перевязаны наши истории. Между Мечниковым и мною — легион великих умов и легион придурков, включая моего дядю чекиста, уничтожавшего русских интеллигентов».
«И что же, если я не уеду, меня посадят в зоопарк? Черт с ним, лишь бы давали немного еды, книги и хотя бы одного слушателя».
«Студенты — идиоты. Они думают, что можно играть только личность. Не понимают, болваны, что каждый жест, каждая фраза существуют в рамках той эпохи, которой принадлежит эта личность. Поэтому у нас француженки Мольера топают по сцене, как Людмила Зыкина; Гамлет фехтует, как спортсмен, а ДонЖуан лапает донну Лауру, как дядя Вася тётю Валю. Училище ставит милую мольеровскую шутку „Смешные жеманницы“, я приготовил, в связи с этим, роскошную лекцию о парижских салонах, где в то время главенствовала мода на претенциозность, рождённая из претенциозной литературы. А на лекцию пришло… десять человек. Будут искать образы в глубинах текста и в Большой Советской Энциклопедии… Впрочем, если ваш кумир Высоцкий играл Гамлета с гитарой в руке, то зачем вообще культура актеру? Может быть, действительно достаточно нутряного, звериного, что ли, чутья? Кстати, если вам интересно, я думаю, что Высоцкий был, прежде всего, гениальным бардом и лишь потом актером. Много потом… Невозможно везде и всюду играть самого себя…»
Или вдруг потрясает меня следующим монологом:
— Почти все наши режиссёры творят под себя, под свои концепции, забывая об эпохе, в которой происходит действие, о нравах этой эпохи, о характерах… Возьмите «Отелло»… Вам интересно слушать меня? Ну, замечательно. Так вот, поделюсь с вами некоторыми из моих знаний. Сюжет «Отелло» почти полностью взят Шекспиром из написанной знаменитым в своё время итальянцем Джиральди Чинтио в году, кажется, 1566–ом, новеллы «Венецианский мавр» и, что весьма примечательно, переведённой на английский лишь в восемнадцатом веке. А наш дорогой Шекспир написал «Отелло» в 1604 году! При этом достоверно известно, что он ни слова не знал по–итальянски! Отсюда следует, что полуграмотный поставщик сукна Шекспир никак не мог написать «Отелло», как и вообще он ничего не мог написать!
У меня волосы встают дыбом на голове. Шекспир — полуграмотный… не писал никаких пьес… господи, да что же это?
— Ах, Марк, оставим эту тему, она требует колоссальных исследований, талантливейших и непредвзятых литературоведов, блестящих знатоков старого английского языка, да надо ещё преодолеть тысячи и тысячи докторов наук, защитивших на Шекспире свои словоблудия, не об этом сейчас речь. Так вот, герой новеллы Джиральди Чинтио Отелло — мавр, добившись больших успехов в военном деле, стал весьма знаменитым, и его полюбила белая девушка Дездемона, и они, несмотря на сопротивление родителей Дездемоны, поженились. В это время синьория Венецианской республики назначила Отелло начальником гарнизона на Кипре, куда он и отправился со своей женой. И был в его отряде некий прапорщик — в пьесе он фигурирует под именем Яго, — который влюбился в Дездемону. Отвергнутый ею, он решил отомстить. Дальше вы всё знаете, но самое главное состоит в том, что этот прапорщик уговорил обезумевшего от ревности Отелло убить Дездемону чулком, набитым песком (!), а чтобы скрыть следы преступления, обрушить на труп крышу дома, где жили Отелло и Дездемона. И Отелло согласился! Как вам этот благородный мавр?! Но не он сам так по–звериному убил Дездемону, а вызвавшийся «совершить правосудие» сам прапорщик (он боялся, что Отелло в последний момент дрогнет), на что получил немедленное согласие своего подлого и трусливого начальника! Паскудный мавр! Потом они рассорились, прапорщик обо всём донёс, скрыв, что убийцей был именно он. Ему не поверили, допросили с пристрастием, при этом страшно изувечили и скоро он умер. Вызван был на допрос и мавр. Он всё отрицал, но был разжалован, сослан в дальний гарнизон, где его нашли и убили родственники Дездемоны. И поделом! Вот подлинная история! Вот характер века, в котором жили герои этой трагедии! Вот характеры героев этого века! И поэтому меня тошнит от остужевского и бондарчуковского мавров! Никто из них не увидел в Отелло зверя, воистину мавра, глупца, не давшего себе труд разобраться в этих идиотских платочках, в примитивной лжи Яго. А почему? Они не ведали эпохи, они не читали нужных книг, они играли так называемую попранную честь, поруганную любовь, ревность, примеров которых в те годы было не так уж много, а всё больше крови, рабской привязанности и железных поясов верности на нежных животах несчастных жён…
Да что там Остужев и Бондарчук! Сам Пушкин, и тот заявил, что «Отелло от природы не ревнив — напротив: он доверчив». Но у Пушкина, увы, было оправдание: он сам обладал безумно ревнивым и вспыльчивым нравом — потомок арапа! Можно только догадываться о глубине внутренних переживаний Пушкина, когда он замечал знаки внимания, оказываемые своей красавице супруге Николаем I, или унижавшие его ухаживания за его женой со стороны светской молодежи. Кто для неё был Пушкин? Неудачливый картёжник да рифмоплёт…
…Много лет спустя, уже в Израиле, я прочёл замечательную книгу Ильи Галилова «Игра об Уильяме Шекспире, или тайна великого феникса», в которой блистательно доказано, что все пьесы Шекспира написал никакой не Шекспир, а… Кто? Книга, увы, не даёт однозначного ответа, хотя предполагаемые авторы и указываются.
…Только евреи и запомнились мне из профессорско–преподавательского состава училища. Ах, какие это были яркие личности! Да, я субъективен! Более того, я смею думать, что мы — великая нация! А объективность — это всего лишь констатация того факта, что мы составляли один процент населения России… И только.
Странно другое — среди студентов училища почти не было евреев! Такое ощущение, что после убийства Михоэлса евреев как отрезало от сцены…
***
Грустный профессор В. С. Гурвич. Кафедра русской литературы и истории русского театра. Он, что называется, «прочитал» меня после первого же разговора, хотя говорили мы всего лишь об оконных стеклах училища, которые студенты выбивали с необыкновенным упорством. Он грустно вещал мне, в то время как я вставлял замок в дверь его уютной квартиры:
— Это когда–то я возмущался, слыша за своей спиной: «Почему это русскую литературу преподают евреи?» А сейчас — нет. Я понимаю русских. Это пробуждение самосознания. Ощущение гордости, независимости. Пришло их время. Как бы отнеслись в Иерусалиме к преподаванию Торы арабом? Они уже могут обойтись без нас. Россия на пороге больших перемен. На пороге пира славянофилов… Езжайте, бегите и постарайтесь быть счастливым. А я счастлив тем, что у меня есть место на еврейском кладбище.
Глаза его вдруг становятся круглыми:
— А русскую литературу вы будете там читать?
— Постараюсь, — растерянно отвечаю ему.
— Как можно без русской литературы?.. А мне сейчас так тяжко, так муторно: должен рассказывать студентам о «Бесах» Достоевского. Вы читали, разумеется?
Глаза его стали такими строгими, что я вздрогнул. Не сомневаясь в ответе, он продолжал:
— Рассказывать… Да не рассказывать, а выворачивать себе язык… поганить совесть свою ложью…
И добавлял с тоской:
— Черт бы побрал этих студентов… Дались им эти «Бесы»! («Бесов» ставить студентам так и не разрешили).
И вдруг, озираясь, прошептал:
— Знаете, я совершенно уверен, что Ленин не читал «Бесов», иначе… Вы меня понимаете?
И после паузы:
— Да, что там говорить, я боюсь сказать студентам, что Чехов ненавидел русских интеллигентов, презирал их, понимал, что именно они доведут Россию до точки…
И, сгорбленный, отправился готовить мне кофе…
***
…Профессор Эйземан. Упитанный, хитрющий. Блестящий знаток Вахтанговского театра, отличный педагог, весельчак, острослов, большой любитель женского пола, язвительнейший критик, всегда задолго раньше ветра знающий, куда тот изволит подуть.
Халтурю у него дома. Профессор в отличном расположении духа:
— Голубчик, я тебя угощу сейчас таким анекдотом! Слушай! Разговаривают два грузина (переходит на утрированный грузинский акцент):
— Гиви, дорогой, что такой печальный?
— Не понимаю, что происходит… Маме её купил «Мерседес», папу устроил в министерство, брата — в посольство, сестру выдал за народного судью–миллионера, ей купил четвертый по величине в мире бриллиант, третий раз вожу её на пароходе «Шота Руставели» вокруг света в каюте «Люкс», а она не отдаётся!
— Что ты говоришь? И чем мотивирует?
Он радостно хохочет. Я молчу.
— Дойдет! Дойдет! — кричит он. — Гениальная же штука!
Это из тех «театральных» анекдотов, которые смешны не блистательной остротой в конце его, а той обыденностью, которая равна абсурду. Представьте себе как следует ситуацию, и это интеллигентное «чем мотивирует» в устах дельца–грузина, и воистину непонятная мотивация упрямой девицы, и вам станет смешно. И даже очень. Меня анекдот «взял» в конце работы, и я потом похохатывал до отхода ко сну. А профессор не унимался:
— Ты Гриценко помнишь? Ох, это был актёрище! Но пил жутко. Играл он однажды в какойто хреновине знатного комбайнера, коммуниста, отличного семьянина и притом знатока Ленина, Маркса и Канта, коих читал, разумеется, в подлиннике. И была там сцена, — профессор засмеялся булькающим смехом, — в которой этот герой после пахоты должен произнести гневный монолог в лицо председателю: что–то там не то пахать его заставили. Очень, знаешь, интересная тема. А наш Коля Гриценко — да будет земля ему пухом! — перед этой сценой принял грамм, если не ошибаюсь, триста. И все слова забыл начисто. И вместо эпохального монолога схватил председателя–орденоносца за лацканы пиджачка, приподнял и давай его трясти со всей своей богатырской силой! И орать:
— Я тебе, сука, покажу, как к колхозному движению относиться надо!
Зал вопит от восторга, головка председателя, как колокольчик степной, во все стороны болтается, медали звенят, рабочие сцены, тоже поддатые, от хохота попадали… Ужас! Рубен Николаевич Симонов отстающих колхозников на сцену еле выгнал спасать председателя. Тот потом от месткома путевку бесплатную в дом отдыха выбил. А пресса (профессор аж повизгивает от восторга) кричала на следующий день, что это лучшая сцена спектакля! Самая искренняя! Шекспировской силы! Никого потом на роль председателя найти не могли. Редко кто из студентов старшекурсников соглашался. С большими перерывами шел спектакль.
Утирая слезы, профессор удаляется.
Через минуту прибегает:
— Марк, голуба, ты любишь путешествия и секс?
— Д–д–да, — осторожно отвечаю я.
— Так иди на …!
Оба навзрыд хохочем.
После окончания работы сидим, закусываем, и профессор вдруг совершенно серьезно, без патетики, без актерства говорит мне:
— Только три вещи есть в жизни: театр, женщины и анекдоты. И я жалею тех, кто не ощутил воедино эту прекрасную триаду. А все остальное — это …!
И мы звонко чокнулись.
***
…Профессор Пинский. Блестящий режиссер, один из любимейших педагогов училища. Страстно преданный своей работе. Бледный, больной, тяжело дышащий человек с горящими глазами. Его постановка в училище «Смерти Тарелкина» Сухово–Кобылина явилась таким беспощадным зеркалом жестокого, блудливо-лживого советского режима, что после окончания спектакля весь зал встал и подарил счастливому постановщику такие несколько секунд тишины, которая любой овации паче. И лишь потом разразилась буря аплодисментов. Это было первое и последнее представление спектакля.
Однажды, я всего за полчаса до начала уж не помню какого спектакля, работая, как бешеный, успел восстановить внезапно рухнувшую декорацию. Помню, что счастливый и опустошенный, сидел я после этого «трудового подвига» на полу темного задника сцены и отдыхал. Профессор Пинский тихо приблизился ко мне, провел ладонью по моим еще влажным волосам и с характерной своей хрипотцой произнес:
— Спасибо, милый. Век не забуду.
Помолчал.
— Я мечтаю поставить «Мастера и Маргариту». И мне нужна атмосфера Иерусалима. Я всегда должен подышать тем, что потом будет на сцене. И я обязательно побываю в Иерусалиме… но только в другой жизни… Спасибо, милый, спасибо тебе.
Это был мой единственный «разговор» с выдающимся режиссером, профессором Пинским.
***
…Молодое и уже звенящее на многих московских сценах дарование — режиссер Черняховский. Едкий, остроумный, худой, неожиданный человек. Первое же обращение ко мне:
— Шалом! Как дела? Скажите мне, пожалуйста, просьбы тех евреев, которые не хотят ехать в Израиль, вы исполняете?
Вместо ответа, спрашиваю:
— Неужели на моем лице написано, что я еду в Израиль?
— Дорогой мой, на вашем лице написано, что вам не разрешают уехать в Израиль.
Все его просьбы я исполнял с удовольствием.
***
Сенсация!! Наше училище посетила делегация студентов Школы искусств из Лос-Анджелеса. Я описал это событие в приводимом ниже рифмованном репортаже:
Посещение «Щукинки американскими студентами в мае 1987 года
Отменили репетиции, отменили танцы —
— В Щукинском училище — американцы!
Власть ещё советская, а такое чудо:
В системе Станиславского — система Голливуда!
Их сопровождает человек из органов,
Но не тот, что прежде — в макинтоше, с орденом,
А вальяжный, ласковый, с благородным ликом,
С манерами, у лорда как, да с английским Диккенса.
Ректорыпроректоры, обычно очень грозные,
Стали от волнения тихие, розовые;
Топчутся, тыкают пальчиком, потея,
В засиженные мухами портреты корифеев.
Щукинцы пылают, как протуберанцы:
— Отпустите, ректоры, к нам американцев!
Наконецто! Вот они! Из дверей ободранных
Выплывают ректоры, Америка и органы.
Ах, как взвыла Щукинка: не верится даже —
Америка, Америка не из репортажей,
Не из телевидения, не из «Крокодила»,
Америка, Америка в Щукинку входила!
Их руководительница вышла к рампе — грация! —
И порусски выдохнула: — Здравствуйте, собратья!
А потом, как колокол, по сердцам, по стенам:
— Господи, дай мира нам, дай нам сцену!
Вырви, Боже, плевелы! Посади нам мирт!
Мир отдать бы молодости — и настал бы мир!
И нельзя друг другу нам
ложем быть Прокрустовым —
Одна идеология, коль истинно искусство!
Одна любовь великая! Душа — одна! И исповедь…
И она заплакала, не стыдясь — актриса ведь…
И застыла, Щукинка, Вахтанговская студия:
Отличает сердца крик она от словоблудия.
Окончились речи, выступили музы,
Выкатились гении, как шарики из лузы.
Как всё одинаково — что игра, что темы.
Кто же это выдумал соц да капсистемы?..
Но одна нашлась у них — гибкая, как щука,
С такой роскошной грудью, что стонала Щукинка.
В трико свое затянута, металась,
как искусанная…
«Танцем» называлось это рейганоискусство.
Отгремели музы, начались вопросы,
Веселые, ехидные, кусачие, как осы.
Хохотали, охали… Щукинка бурлила,
А этот, что из органов, — трудился, регулировал.
И время наше мчалось, как в славную попойку…
…Досталось нам общаться всего часок какойто,
Чтоб возвратиться снова
под сень ракетной стражи,
Газетных фельетонов и телерепортажей…
Этот «шедевр» под девизом «Восторженный» был послан потом мною на поэтический конкурс. Стихотворение провисело на стенде вместе с другими (на мой взгляд, на редкость бездарными) около трех недель. Оно, несомненно, нравилось студентам, и они, (по результатам голосования) дали ему в итоге первое место. Но когда пришло время раскрыть девиз, я этого не сделал. Трезвый плотник, обожающий театр, спорящий со студентами, ведущий беседы с профессорами, и так был достаточно одиозной фигурой в училище. Но плотник, ещё и получающий призы на поэтическом конкурсе — это уж было слишком. Да и приз–то был — два билета на какой-то серый спектакль в Театре им. Вахтангова, куда я и так имел практически свободный доступ.
Мое авторство сохранилось в тайне.
Меня искали, но не нашли…
Но не хватило у меня мужества отметить в стихотворении, что блистательная руководительница американских студентов носила на своей груди сияющий, из серебра и изумруда сотворённый магендавид…
***
Вставляю замок в дверь нового ректора — блестящего, характерного комика Владимира Этуша.
Но в жизни он был серьезнейшим, даже суровым человеком, всегда элегантно одетым, с неизменной кожаной папкой в левой руке. Высокий, красивый, крутоносый, густобровый, он своим видом и поведением будто оправдывался за сыгранные им роли проходимцев, дураков и негодяев.
…Итак, вставляю себе замок, очень собою доволен, всё ладится, всё поёт. Профессор трудится в своем кабинете, поэтому моя работа требует тишины и даже элегантности. Дверь — гигантское дубовое сооружение конца девятнадцатого века — одной своей стороной в кабинете Этуша, другой — в секретариате, где властвует старая театральная дева Симона Вахтанговна, страстно влюбляющаяся в каждого нового ректора училища. В кабинете, изредка поглядывая на профессора и стараясь при этом не рассмеяться, работу я закончил и теперь тружусь по другую сторону двери, в секретариате, повернувшись, естественно, к хозяйке задом, который и находится под пристальным её наблюдением. Время от времени раздается её шипение;
— Не так громко, любезный! Профессор работает!
Или:
— Боже мой, сколько сора! Ужас! Неужели нельзя было эту работу проделать вечером?
— Вы думаете, вечером было бы меньше сора?
Мадемуазель ищет валокордин.
Но все это нисколько мне не мешает, а даже наоборот, подчеркивает важность и даже величие этих минут.
И вдруг в замке что–то щелкнуло. Холодея, я понял, что от моих ударов сорвался предохранитель. И теперь вернуть его в прежнее положение, другими словами, открыть дверь, можно только со стороны профессорского кабинета — ключи от замка к этому хитрющему предохранителю не имели никакого отношения. Но красивая круглая ручка, предназначенная для снятия с предохранителя и, соответственно, открытия двери, находилась у меня, и, таким образом, чтобы открыть дверь, надо было переправить ректору эту ручку, что было совершенно исключено при закрытой двери. Единственное, что можно было сделать — протащить под дверью отвёртку, которую выдающийся актер должен был вставить в специальную прорезь замка, маленькую и глубокую, и повернуть… Заставить Этуша проделать все эти манипуляции?!
Оттого, что наступили, видимо, последние минуты моего пребывания в училище, меня охватило веселие отчаяния. И я забарабанил в профессорскую, мною же обитую бордовым дерматином, дверь. Я обивал, я и барабанил. Охваченный «радостью бездны на краю».
— Он сошел с ума! — умирая, прокричала Ульяна Турандотовна (я так и не смог запомнить её имя и отчество; знал только, что они намертво связаны с Вахтанговским театром).
Лет сорока с хвостиком, тоже фанатичка театра, машинистка Манечка помчалась за водой.
Я избивал дверь. Наконец из глубины ректорского кабинета послышался придушенный обивкой, но всё еще львиный рык:
— В чем дело?
— Профессор, — завопил я, — мне нужна ваша помощь!
Рубена Симоновна шумно пила воду под шепот Манечки:
— Успокойтесь, милая! Поберегите себя!
В замочную скважину прорвался свежий голос Этуша:
— Что, собственно, произошло?
— Владимир Абрамович, замок захлопнулся. Вы взаперти. И только вы можете освободить себя. Иначе придётся ломать дверь, а, значит, и училище!
— Интересно…
Я продолжал четко рапортовать:
— Владимир Абрамович, я просуну под дверь отвертку. Вы возьмете её, вставите в углубление замка, которое находится в самом его центре, — не найти его невозможно, — и повернете налево, всего один раз!
— Вперед! — скомандовал ректор.
Я с бешеной силой, кромсая дверь, вбивал между нею и паркетным полом отвертку.
— Ну?! — орал я.
— Ещё!! — орал профессор.
— Ну?!
— Капельку ещё… Так… Есть!!
Профессор, чуть кряхтя, вытащил из–под двери отвертку. Я ликовал.
— Я забыл, что делать дальше! — прогремел его голос.
— Вставьте отвёртку острой её частью в прорезь в центре замка!
— Вставил!
— Поворачивайте налево!
Пыхтение.
— Представьте себе, не поворачивается!
Это был конец. Как светлая дорога, которая вдруг кончается безнадежным обрывом.
— Ну?! — профессорский голос поднялся до угрожающих высот.
— Он его замучает!! — прорыдала Труфальдина Молчановна.
— Я долго буду стоять, как идиот, с вашей отверткой, вставленной в прорезь замка? — донесся до меня жуткий голос следователя сталинских времен из пьесы по роману Чингиза Айтматова «И дольше года длится день».
И тут меня осенило (было что–то в этих следователях, было!):
— Если я говорю «налево», то с вашей стороны это значит «направо»!
И, сам себе ужаснувшись, добавил: — Соображать надо!
Тело Евгении Багратионовны мягко стукнулось об пол.
Дверь распахнулась. Надо мной, как памятник Петру Первому над несчастным Евгением, вздымалась фигура Владимира Этуша. И указав рукой на открытую дверь, он изрек:
— Вот так надо работать!
Подмигнул мне и сунув отвертку в нагрудный карман моего халата, величественно удалился вглубь кабинета.
Ульяна Борисовна улыбалась мне, лежа на полу.
Вот и все мои воспоминания о профессоре Этуше.
Рассказы
О любви
Это было на втором курсе. Влюбился я вдруг, после летних каникул, когда она, загорелая, похорошевшая, с «туманом в глазах», вернулась с юга, с моря, где в составе группы аквалангистов тренировалась перед соревнованиями. Она была фанатиком подводного плавания и имела высокий по нему спортивный разряд. А надо сказать, что я не то что в подводном, но и в надводном плавании был так себе… Но не об этом речь, а о любви…
Я сразу определил свою любовь как безнадежную. Что, как ни странно, развязало мне язык. Я иронизировал, кокетничал, писал ей стихи по любому поводу и однажды легко, естественно, признался в любви на пятом курсе.
На самом деле я не знал её. Совершенно не знал. Она была увлечена подводным плаванием. Каждое лето она укатывала со своими подводниками и возвращалась загорелая, печальная, настолько чужая, что я боялся подходить к ней. Однажды я провожал её на сборы. И увидел всю группу. Мускулистые парни, стройные, крепкие девушки, все спокойные, красивые, с огромными рюкзаками. Альпинисты, скалолазы, подводники — в общем, клиентура Владимира Высоцкого. Романтики. Знакомые мне только по песням о них. В жизни я их не знал и боялся. Они презирали этот мир, плевали на него с высот своих или из своих глубин. Один из них легко взял её за талию и увёл. Она даже не обернулась. Она не любила меня. Но привыкла к моей любви, и ей не хотелось терять её. Подводники были в этом плане ненадёжны. Надёжны они были только под водой.
В конце пятого курса я сделал ей предложение. И оно было принято. Безрадостно, спокойно. А я смотрел в её глаза и пытался увидеть хоть отголосок ответного чувства. Ничего… кроме морских волн и несмываемой печали. Я предполагал, что с одним из подводников у неё был несчастный роман. Однажды я увидел его в институте. Он ждал её. Брови его были белыми, глаза синими, плечи прямыми, как будто на них висел акваланг, а под тонкой рубашкой перекатывались мускулы. Она подошла к нему, и они ушли. Гляделись они великолепно — высокая, стройная, русская пара…

Итак, моё предложение было принято. Мама плакала всю ночь. Дядя Коля, мамин брат, у которого мы тогда жили, сказал просто: «Идиот! Они же тебя с салом сожрут!». Он был грубоват и любил меня.
Отец моей невесты, суровый, высокий, седой, импозантный, работал в каком–то главке. Узнав, что мой отец погиб на войне, сказал: «Это очень хорошо! А то ведь ваши не оченьто в войну отличились, а? Но твой — молодец!»
Много позже я написал:
Спасибо, что погиб ты, папа!
Я понял — гибель на войне
Была твоей отцовской платой
За снисходительность ко мне…
Что знал я тогда о евреях–героях, что вообще знал я тогда о своём народе? И по сей день мне стыдно, что ничего по существу не мог ответить русскому патриоту, надо сказать, честно прошедшему войну от лейтенанта до подполковника. Я видел его ордена и медали. А что не любил евреев — кто ему поставит это в вину? Кто ж их любит? Обычное дело, господа.
Мать её, крашенная, с вечной папироской хриплая дама, занимавшая какой–то важный пост в Министерстве химической промышленности, любила повторять: «Теперь у нас все национальности есть! Можно открывать выставку международной солидарности!».
Но самое страшное предстояло впереди — объяснение со своей роднёй.
В одну из пятниц, вечером — значит, по еврейскому закону уже в субботу, — как обычно, семья собралась в доме деда. Под Москвой, в тогдашнем полуеврейском местечке Перловская. Дед вернулся из синагоги в отличном настроении. Упоительно пахло фаршированной рыбой. Раскрасневшиеся тётки и мама ловко расставляли тарелки и рюмки. Укрытая белой салфеткой, ждала своего часа пышная субботняя хала.
И я вдруг с ужасом понял, что мне надо уходить из этого мира. Что буду пить водку с тестем. И закусывать ветчиной. Потом я представил своих будущих родственников за дедовым столом и почувствовал, что теряю сознание. Но я был влюблён…
— Дед, я женюсь.
— Мазал тов! Она из хорошей семьи?
— Да… Но она… русская.
— Гойка, значит?
Лицо деда по–детски покраснело, он стал щипать бороду.
— А еврейских девушек уже нет?
— Так получилось…
Ну и тишина настала… Дед тяжело встал из–за стола, подошёл ко мне, положил руки на мои плечи и смотря на меня потемневшими глазами, прошептал:
— И ты всё это бросишь? Шабес теперь будет без тебя?
И не дождавшись ответа, правой рукой дал мне тихую пощёчину. Но у меня из глаз брызнули слёзы.
Я схватил портфель и убежал. И всю дорогу до железнодорожной станции отчаянно ревел.
Как решался мой вопрос в небесной канцелярии, никто, кроме деда, конечно, не ведал…
Меня отправили на месяц в военный лагерь. Я вернулся из лагеря лейтенантом и позвонил ей с вокзала. К телефону подошла младшая сестра. Она всегда смотрела на меня с жалостью.
— Знаете, не звоните ей больше… Она уехала жить к Сергею…
— Какому Сергею? — я терял сознание.
— А вы разве не знаете его?
Я, конечно, знал Сергея… Кошмар произошедшего был сгущён тем, что Сергей не был подводником… Ушла бы к подводнику — я бы понял… Боже мой, я ничего не знал о жизни своей «невесты»…
…Нет, нет, попытки самоубийства не было. Мама плакала от счастья и готовила умопомрачительные котлеты. А дядя Коля говорил: «Везунчик!! С твоим счастьем ты можешь быть директором продуктового магазина!» Он знал, что говорил. У него были в это время большие неприятности.
Дед с солнечной улыбкой поглаживал бороду.
Я вернулся в дом, где праздновали субботу.
В семье к этой теме больше никогда не возвращались.
Много ушло времени, чтобы выздороветь. Вновь я увидел её лишь через двадцать пять лет! Через четверть века! На проводах или, лучше, пьянке, устроенной моими институтскими друзьями по поводу получения ими разрешения на выезд в Израиль, точнее, в Америку…
Бывшая моя невеста, уже почти пятидесятилетняя, выглядела равнодушной ко всему происходящему. Лицо было попрежнему красивым, но постаревшим на четверть века. Голос — хриплый. Глаза потухли. На груди, на грубой цепочке висел крест с распятым Иисусом Христом. Она просидела, как мне показалось, безучастно почти весь вечер. Когда пьянка, прошедшая неожиданно очень весело, со многими шутливыми, доброжелательными — на их дворе была «перестройка» — пожеланиями в адрес уезжавших, кончилась, я, несмотря на колючий взгляд жены, пошёл провожать её до такси.
— Что ты всё об Израиле да об отъезде, — прервала она меня, — о душе подумай…
— Я не совсем понимаю, о чём ты…
— Не понимаешь… А всё просто: что ответишь ему? Чем отплатишь ему за муки его, и во имя тебя им принятые?
Она со слезами на глазах смотрела на весёлый полумесяц.
— По правде говоря, я не просил его об этом…
— Я предполагала, что ты ответишь что–нибудь в этом роде.
Я остановил такси, жестом пригласил её внутрь, захлопнул за ней дверцу и пошёл, почти счастливый, за женой в квартиру моих друзей, в предпоследнюю их ночь на земле моей бывшей невесты.
И знаете, что самое интересное? На следующей неделе я получил разрешение на выезд в Израиль…
История одной фамилии
Случилось это безобразие потому, что отец новорождённого по паспорту был Сруль, а отец Сруля — старый Лейб, ортодокс упрямый, сказал, что если внуку не дадут имя Пейсах, то Срулю, отцу Пейсаха, как ушей своих не видать денег, которые дедушка таки сумел накопить, несмотря на долгие годы Советской власти.
— Самодур! — сказала на это жена Сруля.
Но делать было нечего, и в метрике новорожденного появилось «Пейсах Срулевич», что в переводе на русский язык означало Петр Александрович. А в детстве, естественно, просто Петя.
Кому нужно смотреть в метрику? Совсем другое дело — паспорт. И за два месяца до Петиного шестнадцатилетия — упрямого деда к тому времени уже не стало — Сруль Лейбович, а по–русски, значит, Александр Львович, сидел в кабинете начальника паспортного стола.
Было чудесное осеннее утро, и капитан мужественно боролся с общим недомоганием после вчерашнего.
— Вот такая история, — закончил рассказывать Сруль Лейбович.
— Уииммда… — глубокомысленно икнул капитан.
— И нужно ли страдать мальчику? — заискивающе спросил Сруль Лейбович.
— Не нужно! — доброжелательно ответил капитан. И чуть заискивающим тоном спросил:
— Вот было бы смешно, если бы у вас в портфеле вдруг оказалось пиво! А?
— Кефир, — сказал Петр Срулевич.
— Не то, — мучительно сглотнув, ответил капитан. — Ммда… очень сложная у вас просьба. Это — как воровство, понимаете?
— Понимаю, — сказал любящий отец и нежно вытащил из портфеля конверт.
— Ну и задали вы мне работу! — озабоченно, но приподнято сказал капитан и быстро оценив содержимое конверта, ловко сбросил его в автоматически приоткрывшийся ящик стола.
— Надо помочь мальчику, товарищ капитан. У него должно быть светлое будущее.
— И оно будет у него, как и у всех наших детей.
Взволнованный начальник паспортного стола встал, протянул Срулю Лейбовичу руку и добавил:
— Поэтапно. Сначала Пейсах на Петр, а потом — Срулевич, простите, на Александрович.
— А сразу нельзя?
— Сразу даже не произошла революция тысяча девятьсот семнадцатого года. И соды нет? Черт возьми, неужели трудно носить с собой соду?
— Но содержимое конверта было мною рассчитано как раз на два этапа, — продолжал настаивать Пётр Срулевич.
— А его едва хватит даже на один. Вы удивляете меня, Сруль Лейбович!
— Так дорого? — не столько спросил, сколько пофилософствовал Сруль.
Но капитан ласково, хотя и несколько нетерпеливо, уже выпроваживал чуть упиравшегося отца Пейсаха.
А сержант Ивакин помчался за пивом.
Надо сказать, что Сруль Лейбович, простите, Александр Львович, в те дни редко произносил слово «дорого», ибо занимался разбавлением потрясающей сметаны потрясающим кефиром, и выработанный таким образом продукт, получавший, естественно, в зависимости от количества добавленного кефира, звания сметаны первого, второго или третьего сорта, с великой радостью раскупался жителями одной из окраин Москвы. Кормились этим физико–химическим процессом очень многие — от честнейших ревизоров и постовых милиционеров до самых дальних родственников. Никто из большого клана Новиковых не сомневался, что дядя Шура (Сруль Лейбович) когда–нибудь сядет, но жилось с ним весело и сытно, и увещевания родных кончались, как правило, с началом очередного застолья.
Едал на правах близкого к дяде Шуре родственника и я. И, в частности, сметану. До разбавления. Нож стоял в ней, как…
И прошел месяц. Ничего не изменилось в кабинете капитана, если не считать, что на голове Ф. Э. Дзержинского, портрет которого являлся единственным украшением кабинета, прибавилось несколько седых волосков.
Капитан был в превосходном настроении:
— Имя сделано. Берёмся за отчество.
И тихо добавил:
— Теряем паспорт. Но теряем, как следует, потому что мы будем упорно искать его. Понятно?
Капитан задумчиво листал Петин паспорт и вдруг жарким шепотом произнес:
— Петр Александрович Новиков… а?
— Что «а»?
— Так ведь получается чисто русское сочетание, черт возьми! Русского сынишку хотите? Чтоб в МГУ… Он способный?
— Страшно сказать!
— Делаем?
— А что же с родителями? С нами…
— А ничего. Останетесь евреями. Не могу же я всех, в самом деле!
— А если проверят?
— Да кому в голову придёт? Не в КГБ же ему работать!
— Не дай Бог!
— Нос у него ваш?
— Нет, товарищ капитан, к счастью, мамин! Почти курносый!
— Ну, так и проблем больше не вижу.
— Сколько на раздумье?
— Неделя.
— Понял. Золотой вы человек. А сколько, если «да»?
— Вполне в пределах ваших возможностей. Вы ведь в торговой точке трудитесь?
Глаза капитана были необыкновенно доброжелательны…
Дядя Зяма, старший брат Сруля Лейбовича, работник склада, сказал:
— Дойти до такого!
Дядя Фима, младший брат и младший научный сотрудник, сказал:
— Шура, ты уничтожишь нашу семью. Твой Петя приведет в дом гойку, и ты проклянешь тот день, когда решил затеять это святотатство.
— Петя, — в великой тоске спросил Сруль Лейбович, — а ты что скажешь?
— Хочу в МГУ.
Петина мама, Сарра Яковлевна, очень практичная женщина, сказала:
— Что за проблемы? Не дай Бог, что-нибудь окажется не так, мы потеряем его гойский паспорт и возвратим мальчика в иудаизм, согласно моей и Сруливой метрике.
Было грустно. Не бодрили ни икорка, ни коньяк. Ко всему этому, до сих пор молчавшая тетя Рита, младшая, незамужняя сестра трех братьев, беззаветно любившая Петю и оттого прозванная им «мамой номер два», выпустила кольцо дыма в дорогую хрустальную люстру и произнесла:
— Пейсах, Петечка, мне сейчас так же тошно, как и в день, когда хоронили папу, твоего дедушку.
— Ну, знаешь! — сказал Сруль Лейбович.
И все начали ругаться.
— А когда мы из Новаков мы стали Новиковыми?
— Но Тору на Евангелие папа не поменял!
— И не боялся требовать, чтобы твоего сына назвали Пейсахом!
— А чего ему было бояться? Он, что ли, поступал в МГУ?
— Что бы гои ни написали в его паспорте, еврей всегда остается евреем!
— Глупости! Это всё равно, что разбить на кусочки вот эту чашу китайского фарфора и объявить им ту же цену, что и целой!
— Но если хорошо вспомнить, то твой Сережа…
— Не тыкай в меня ошибками молодости! — в слезах крикнула Рита. Разошлись, громко хлопая дверьми.
— Давай, капитан, — сказал на следующее утро Сруль Лейбович, — сделай мне русского парня. В стране победившего социализма в этом качестве ему будет намного легче строить коммунизм.
— Ой, не нравится мне твой тон! — ответил капитан. — И ты совершенно не прав, хотя я понимаю твои чувства. Но вспомни, что лучшие представители вашего народа боролись именно за такое общество и не щадили ни своих, ни чужих жизней. И ты — достойный продолжатель их дела, Сруль! Я могу теперь называть тебя просто по имени?
И толстый конверт, почти не издав звука, прокатился по полированному капитанскому столу и мягко шлепнулся в предварительно приоткрытый ящик.
Петя, хотя и не без трудностей, поступил в МГУ, который благополучно окончил через пять с половиной лет. К тому времени, в самый разгар «перестройки», вернулся из тюрьмы и папа, Сруль Лейбович, поседевший, помятый и давший семье слово навсегда забыть об уголовной коммерции. Отсидел он вместо полученных пяти только три года, и, несмотря на жуткий аппетит следователя и адвоката, финансовое положение семьи почти не пошатнулось.
Едва только все вздохнули, как пришел дядя Зяма и сказал:
— Хватит! Едем в Израиль! Я не хочу иметь русского племянника и не верю, что ты прекратишь свои делишки, от которых мы все сойдем с ума. И не хочу слышать от тебя ни единого довода против.
— Какие доводы? Но почему именно в Израиль?
— О, это другой разговор!
То был самый яркий, самый задушевный ужин за всю историю семьи Новиковых.
— Ах, — плача говорила тетя Рита, — если бы жив был папа!
Начальник паспортного стола нисколько не изменился к худшему. Кабинет — тоже. Только вместо Ф. Э. Дзержинского висел М. С. Горбачев. Совершенно без пятна на высоком, красивом лбу. Ящик стола был, как и всегда при встречах со Срулем Лейбовичем, чуть приоткрыт.
— Сруль Лейбович! Дорогой! Поседел… постарел… Понимаю, не на курорте был… Но, я слышал, относительно легко отделался. Верно?
— Не дай вам Бог, товарищ майор!
— И сейчас ты, конечно, честный труженик.
— Табачный киоск! Ну, может быть что–нибудь чище?
— Вот и я думаю: с чего там быть навару, а?
— Абсолютно не с чего!
— Так с чем пришел, Сруль Лейбович?
— Да вот, товарищ майор, дядя, наконец, отыскался. В Израиле.
— Какое счастье! Поздравляю!
— Спасибо. Воссоединиться нам хочется…
— Понял, Сруль Лейбович, понял!
Майор подошел к двери и щелкнул предохранителем замка.
— Значит, так, Сруль ты мой Лейбович, из Пети в Пейсаха будет стоить…
Отец Пети застонал.
— Это первый этап. Из Александровича в Срулевича…
Глаза Новикова наполнились слезами.
— А третий этап — возвращение в еврейство, практически, убийство талантливого русского юноши, будет стоить…
И тогда Сруль Лейбович, согласно древней еврейской традиции, рассмеялся.
— И никакие из этапов, конечно, нельзя объединить? — успокоившись, спросил он.
— Нет! — радостно ответил майор. — Перестройка на дворе!
А через год после описываемых событий я вертел в руках письмо из Америки, не сразу сообразив, кто это такой Питер Новак, чьи имя и фамилия были так красиво выведены на обратной стороне конверта…
И сочинилось:
Привычные швыряя стулья,
Из щелей, окон, и дверей,
Из Александров снова в Срули
Бежит восторженный еврей…
Эсфирь Львовна
1
Эту фантастическую историю об «убийстве» Сталина Семён слышал непосредственно от «убийцы», так что, никаких оснований для сомнений в правдивости услышанного у него не было. У Сёмы вообще был счастливый характер — он верил почти всему, что ему рассказывали. Именно поэтому с лица его не исчезало выражение изумления.
Но всё по порядку…
…Утро 13 января 1953 года было солнечным и морозным. Дядя Коля, родной брат Сёминой мамы, у которого они тогда жили, весело мурлыча себе под нос, пошел за газетой, вытащил её из почтового ящика и вдруг затих, да так страшно, что мама с криком «Коля, что случилось?» выскочила в коридор и тоже затихла… А Сёма подумал, что пришла телеграмма о чудесном возвращении погибшего в войну отца. Он часто фантазировал на эту тему. Оказывалось, что отец вернулся со специального задания. Во всех видениях отец был без определенного лица, ибо Сёма не помнил его, погиб он в сорок первом, когда Сёме было только два года.
И он тоже бросился в коридор и увидел бледных, испуганных, маленьких маму и дядю Колю, впившихся глазами в газету «Правда».
— Я не пущу его в школу! — в тоске прошептала мама.
— Этим ты сделаешь ему только хуже.
— Его изобьют!
Они увидели Сёму, хотели отвести газету в сторону, но он успел вцепиться в нее и прочел: «Арест группы врачей–вредителей. Некоторое время тому назад органами Государственной безопасности…» Дядя Коля неожиданно отпустил газету, и перед Сёмой замелькали еврейские фамилии… одна за другой… одна за другой…
Ему было тогда 14 лет. Хороший советский мальчик. Писал стихи. Один из них, посвященный Сталину, был напечатан даже в «Пионерской правде» и посему целый месяц украшал школьную стенгазету. И Сёма был уверен, что этот стих защитит его сегодня, в день 13 января 1953 года, что этот стих — безусловное доказательство его лояльности великой Родине и её Кормчему.
Но ладони были мокрыми от страха.
Класс начинал свой обычный день. Гремели крышки парт, хлопали двери, кто–то кричал, кто–то свистел… Через весь класс пролетел изжеванный портфель, потом обратно — привычный предзвонковый гул, и только один раз Сёма поймал обращенный на него злобно–насмешливый взгляд.
Сёма тоже изображал из себя беснующегося семиклассника, но озноб не отпускал… Он видел, как пытался вжаться в парту крошечный Лёвочка Гинзбург, как белый–белый, неподвижно сидел несгибаемый и оттого ненавидимый шпаной Витя Перельман… Их было трое в этом классе.
Сёма сразу же ощутил, что этот утренний бедлам совсем не такой, как обычно — были в нем не присущие ему ранее истеричность, предвкушение, затаённая, с великим нетерпением ждущая своей минуты вырваться наружу злобная радость. И он вдруг с ужасом понял, в чем дело: первым уроком была история, которую вела Эсфирь Львовна, маленькая, черноволосая, еще молодая женщина с прекрасными глазами и перебитым носом. Ученики побаивались ее — Эсфирь была беспощадна в оценках, остроумна и не боялась даже Антонова, вечного второгодника, державшего в страхе весь класс…
Звонок на урок почему–то не прозвенел, а прохрипел. Класс мгновенно затих и горящим взглядом впился в дверь. Первой в ней появилась классная руководительница, учительница русского языка и литературы Лидия Николаевна, молодая, энергичная, ногастая женщина, общая любимица, прекрасно знавшая свою женскую власть над прыщавыми от бушующих соков подростками. За ней вошла Эсфирь Львовна…
И поплыл над классом низкий, волнующий голос Лидии Николаевны:
— Я уверена, что вы все слышали о разоблаченной банде врачей–вредителей. В этой банде есть лица еврейской национальности. Но это вовсе не значит, что остальные лица еврейской национальности в ответе за предателей. Союз национальностей нерушим, и никому не будет позволено посягнуть на него!
Национальность… национальность… национальность… Сёма и не знал, какое это змеиное, ядовитое слово…
— Всем ясно?!
— Всееем!
Победно помахивая задом, Лидия Николаевна вышла. Эсфирь Львовна, спокойно оглядев класс, вытащила из сумки свою маленькую указку, затем журнал, раскрыла его и, опустив глаза, произнесла:
— Вам было задано…
— А расскажите, пожалуйста, нам про убийц в белых халатах! — голос маленького патриота был вежлив, и в тоне сквозила искренняя жажда знаний.
— Итак, вам было задано…
По классу прошел недовольный ропот.
— Держи карман шире — расскажет она.
— А если я не успел прочитать газету?
— То–то моя прабабушка никак не выйдет из больницы…
Судя по взрыву хохота, ничего более остроумного 7А класс школы номер 123 Советского района города Москвы никогда не слышал. Какой там хохот — визжала, лаяла, давилась свора собак, наконецто загнавшая своего зверя.
Сёма первый раз видел беспощадную на язык Эсфирь Львовну, фронтовичку, такой жалкой, беспомощной. Коротко всхлипнув, она швырнула в сумку журнал и указку и выбежала из класса.
И три еврейчика решили, что настал их черед. Может, так бы оно и случилось, но Лидия Николаевна, словно почуяв беду, быстрокрылым ангелом влетела в орущий класс.
— Итак, — ворожил ее изумительный голос, — Чацкий и Молчалин, борец и приспособленец…
Школьный день покатился по заведенному порядку. Стучал указкой по доске угрюмый физик, орала географичка, учитель математики — поговаривали, что он еврей, но твёрдых доказательств тому не было — неожиданно устроил классу тяжеленую контрольную, потом немецкий… Ненарушаемость порядка, непонятное отсутствие интереса учителей к произошедшему несколько охладили пыл юных патриотов, и на переменах никто евреев не трогал. Но когда заканчивался последний урок, который вновь вела Лидия Николаевна, Сёма получил записку: «После уроков стыкнёмся. И не вздумай смотаться, сука!»
Сёма обмер. Ну, конечно, это был Стручок, маленький, плюгавый, подлейший малый, безнаказанно вытворявший всё, что рождалось его гнусной, изощренной фантазией. Безнаказанно, ибо находился под особым покровительством самого Антонова.
Это жаркое, жадное «сука» повергло Сёму в такой ужас, что он… заплакал, да, да, заплакал прямо на уроке, заплакал от страха, от усталости, от обиды, от жуткого напряжения этого проклятого дня… Заплакал, может быть, в глубине сердца уповая на снисхождение к нему Антонова, которого он не раз выручал во время диктантов и классных изложений. Сёма с надеждой глянул на него — увы, на каменной, сытой роже было лишь подобие усмешки.
И, как всегда, на помощь пришла любимая «училка» Лидия Николаевна:
— Семён, забирай вещи — и домой! Я вижу, ты заболел. И быстро, не мешай мне вести урок!
…О, великая, самая красивая на свете училка!..
Сёма был уже одной ногой в раздевалке, когда раздался звонок, и толпа в тысячи ног с грохотом революционных матросов бросилась вниз по лестнице. Он не видел, но знал, что первым мчался Стручок.
Маленькие негодяи, они почему-то всегда первые…
О, проклятые рукава! О, проклятые пуговицы! О, проклятый мешок, из которого не вылезают калоши! О, проклятая калоша, соскочившая с одного из ботинков, проклятая, старая калоша, которая так легко сваливается и почему-то с таким трудом надевается!
Стручок и еще четверо Антоновских холуев — самого «босса» не было — догнали его почти у самого дома. Из великой мужской гордости Сёма замедлил шаг.
— Бздишь стыкнуться?
Он не ответил, и тотчас последовал несильный, ленивый удар ноги по его заду.
Нельзя сказать, что Сёма был совсем уж законченным трусом. Нет, иногда он дрался; распсиховавшись, мог проявить в драке даже некоторую доблесть. Но в этот день тихий еврейский мальчик, ещё не принятый в ряды комсомола, оказался совершенно беспомощным, ибо нес на себе великую, очевидную для всех и, в первую очередь, для самого себя вину.
В него уже давно вдавили раба.
Зареванный, обсопливленный, он плелся домой, сопровождаемый унизительными ударами. При этом Стручок что–то приговаривал, остальные смеялись, но когда Сёма свернул во двор, компания преследователей отстала. Стручок на прощание прокричал какую–то угрозу, и Сёма с ужасом, близким к обмороку, подумал, что завтра снова надо идти в школу.
Но в школу он попал только через месяц — судьба сжалилась над ним и наградила двусторонним воспалением легких. Участковый врач, молодая еврейка с всегда холодными, нежными ладонями, посмотрев в полные отчаяния, заплаканные мамины глаза, перестала настаивать на больнице, и он остался дома. Несколько раз его навещала Лидия Николаевна, — Сёма был любимым её учеником, — наполняла комнату «духами и туманами», посвящала в школьные события, в частности, рассказала, что директор прошелся по всем классам и сообщил, что каждый, кто проявит самоуправство, будет иметь дело лично с ним, — а вся школа знала, как крут директор, — так что всё хорошо и спокойно, и исчезала, оставляя Сёму в состоянии вдохновенного стихотворчества. Причем почти все стихи посвящались ей и ни одного — Сталину.
В школе на его возвращение почти никто не обратил внимания: Антонов ушел в ремесленное училище, Стручок, естественно, стал обычным стручком, а Эсфирь Львовна исчезла, и лишь много лет спустя Сёма узнал из её уст, — ничего в нижеследующем рассказе им не выдумано! — что произошло с маленькой учительницей истории после того памятного начала ее несостоявшегося урока 13 января 1953 года…
2
…Эсфирь Львовна добежала до учительской и остановилась перед закрытой дверью. Вытерла слезы, поправила прическу — она носила высокий пучок темнокаштановых, с черным отливом волос, заколотый огненной, янтарной булавкой, казавшейся почти булавой на ее маленькой, всегда вызывающе поднятой голове; потом привычно погладила впадину на носу — результат перелома после удара кулака следователя на допросе в 1939 году.
…Когда ей становилось плохо, она с мазохистским наслаждением вспоминала тот допрос и, главное, горячие, темносиние глаза молодого лейтенанта, — ах, как хотел он её… как хотел!.. Из него просто пёрло бешеное мужское желание, и она не без удовольствия ощущала его, несмотря на страх. Ах, она была тогда такой хорошенькой!.. Сколько мужских глаз останавливалось на ней!..
А лейтенант вдруг заорал, вложив в крик обуревавшее его чувство:
— Дороховская подстилка!
И в ответ она весело плюнула следователю в лицо и попала прямо в его пухлые, чувственные губы.
На нее находило такое — тихая, интеллигентная еврейская девочка, она в высшие минуты своей жизни, не отдавая себе отчета, не рассуждая, становилась отчаянной, даже буйной.
«Отец, вылитый отец!» — причитала мать, находясь в перманентном страхе от поступков дочери.
…С каким упоением Эсфирь Львовна ходила на домашние семинары своего любимого профессора, блестящего историка Дорохова, хотя многие умные люди предупреждали, чем это чревато. Мало того, влюбилась в молодого профессора и, счастливая, носила на себе самые невероятные слухи об их отношениях. Ах, а ведь ничего на самом деле не было… Ничего!..
Лейтенант так опешил от плевка, что на мгновение застыл, потом тыльной стороной левой ладони вытер рот и лишь потом резким, тренированным ударом правой перебил ей нос. Она чуть не захлебнулась от хлынувшей крови, лейтенант растерялся, отчаянно нажимал кнопку на столе, наконец, прибежали двое солдат, потащили ее в санчасть, и на следующее утро она уже была дома. Больше ее не трогали, хотя профессор Дорохов был арестован, и с того дня никто его на воле не видел.
Спас её мертвый отец — герой Гражданской войны, погибший в 1921–м году под копытами лошадей отчаянной лесной банды, в засаду которой попал его чекистский отряд. Ей было тогда всего три года.
Будь отец жив, их, скорей всего, уничтожили бы обоих. Но мертвые тогда были в большой силе. Ей позволили окончить университет и взяли в 1941 году после многочисленных её просьб на фронт. Блестяще знавшая немецкий язык, свои четыре года войны она прослужила переводчицей сначала в штабе полка, была даже ранена в колено осколком фугаса, а после возвращения из госпиталя служила переводчицей уже в штабе дивизии.
Удар похотливого лейтенанта дорого обошелся Эсфирь Львовне. Это иных мужчин переломанные носы украшают, но уж никак не маленьких еврейских женщин. На нее уже смотрели совсем другим взглядом, и только на фронте поползновения пьяных офицеров напоминали ей, что она еще считается женщиной. А ведь нисколько не изменились ни ее ладная фигурка, ни ее прекрасные, зеленые, опасно глубокие, втягивающие в себя глаза…
И она осталась одна с мамой, незаметной актрисой Еврейского театра, в огромной комнате общей квартиры огромного дома в центре Москвы, и каждый день, кроме воскресенья, учила детей «истории», как в насмешку над ее любимой наукой, как надругательство над памятью её любимого учителя Дорохова, называлась лживая бредятина, выдуманная пролетарскими «специалистами» и учеными рабами. Нельзя сказать, что она не пыталась оживить уроки — пыталась, искала в глазах мальчишек искорки после осторожно рассказанных, известных немногим в те проклятые времена историй о российских царях, о великих русских людях. А мальчишки продавали ее. В первый раз Эсфирь Львовну вызвали на педсовет только пожурить, во второй раз — уже кричали, а в третий раз неподдельная грусть, появившаяся в глазах коллег, ясно дала ей понять, что край пропасти — совсем рядом…
Иных же путей к сердцу учеников она и не искала, быстро сообразив, что некрасивость есть главный недостаток всякой учительницы. Получи она свою яму на носу по блатному делу, могла бы стать любимицей школы, но не лгать же, в самом деле; а рассказать этим Павликам Морозовым правду было не только опасно, но и противно.
И всё было бы серо и безнадежно в ее жизни, если бы не одна захватившая всё её существо, яростная, всё нарастающая ненависть — вы не поверите, к кому! — к Сталину!!
О, как это возвышало ее над другими! Буд–то она одна владела великой, никому не доступной тайной. Она ненавидела сознательно, могла бы перечислить по пунктам весь обвинительный акт тирану, и каждое его преступление было достойно смертной казни: и позорная гибель многих соратников отца, «признавшихся» во всех мыслимых и немыслимых преступлениях, и до сего дня кровоточащие рана — уничтожение профессора Дорохова, и позорное, кровавое бегство огромной армии до Москвы, и убийство обожаемого Михоэлса… Да был ли кто в этой несчастной стране, кого бы смертным холодом не коснулась волосатая рука этого страшного человека, может быть, безумца?
И вот сегодня начало еще одного кровавого пира…
Когда такое знакомое, такое волнующее чувство ненависти к Сталину поднялось в ней до самого сердца, она открыла дверь в кабинет директора. Там никого не было, и глубоко вздохнув, Эсфирь Львовна подняла глаза на портрет ненавистного вождя. И прокляла — в голос, почти безумная в этот миг, с потемневшими до черноты глазами… Ведьма, натуральная ведьма…
— Умри, сволочь!
…Сталин потянулся за первой утренней трубкой, и вдруг резкая, перекатившая от сердца к плечу и потом схватившая всю левую руку боль остановила его движение. Он застыл, взмокнув от страха, боясь крикнуть, боясь даже моргнуть. Боль скоро ушла, но осталась слабость, пугающая, потная, не отпускавшая ни на мгновение слабость. И он со смертельной тоской подумал, что лучшие из врачей уже превращены в подвалах Лубянки в полутрупы…
…А по скромному портрету его быстрой волной прокатилась судорога. И она увидела это!
Эсфирь Львовну, Эстерку, охватило такое чувство радости, такое чувство победы, что она в голос запела и даже крутанулась на каблучках. О, она бы сейчас не только плюнула в губы лейтенанту, она бы задушила этого похотливого гадёныша!
И в это время в кабинет вошёл директор школы.
Степан Ильич, пожилой, мудрый учитель математики, доблестно прошедший войну, — его грудь украшала обширная, в два ряда орденская планка, — с самого утра был взвинчен сверх всякой меры. Мало было ошеломившего и испугавшего его сообщения о «врачах–вредителях», едва он переступил порог школы, на него набросилась уборщица с жалобой, что в мужском туалете говном на свежепобеленной стене начертано: «Бей жидов, спасай Россию!»
«Самое интересное, — промелькнуло в голове директора, — что этого энтузиаста, даже поймав, нельзя будет наказать, ибо патриоты по определению неподсудны. Виноват ли бедный мальчик, что у него под рукой не оказалось куска угля? Каков порыв! Какое чувство дня! Интересно, собственное ли это было говно? Его не только не наказать — наградить надо! Более того, вырезать этот кусок стены и послать в „музей подарков товарищу Сталину“. Это вам не казахский Левша, десять лет за немалую плату царапавший на хлебном зернышке поэму о Сталине. Это — экстаз! Вдохновение! Истинный подарок товарищу Сталину!»
…Вы думаете, что не было таких директоров школ в 1953 году?
А уборщица, это аполитичное существо, продолжала буйствовать:
— Не буду говно со стен соскребать! Я на это не нанималась!
Тогда директор, пожилой, мудрый учитель математики, схватил совок и мощно, вместе со слоем побелки, стер со стены туалета лозунг своего времени.
«Митрич завтра побелит, — успокоил он себя. — А вдруг эдак, да каждое утро? — похолодел он. — И везде — на полу, на стенах, на окнах, на спинах моих несчастных учителей–евреев?»
Он обожал их. «Они же прирожденные учителя. У них это в крови — от пророков, Христа, раввинов…»
Правдами и неправдами он немало набрал их в свою школу и не зря набрал — знамёна и грамоты не покидали ее, а отсюда и деньги на ремонт, на строительство спортивного зала, на покупку нового оборудования…
Тщательно вымыв руки, он вернулся в кабинет и увидел Эсфирь Львовну. Немедленно поняв, о чём пойдёт речь, растянулся в огромном кожаном кресле и молча начал приготовление к первой папиросе…
Эсфирь Львовна подошла к директорскому столу, ни слова не говоря, вытащила из стопки лист бумаги и трофейной авторучкой с золотым пером — бережно хранимым подарком начдива — начертала:
«Директору школы… Прошу освободить меня от занимаемой должности в связи с тем, что я еврейка.
Подпись…»
Директор прочитал и спокойно, не поднимая глаз на посетительницу, разорвал лист на мелкие кусочки, сложил их в огромную пепельницу и зажег спичку,
— Поверни ключ в двери! — приказал он Эсфирь Львовне. Та послушно исполнила требование старого конспиратора. Костер в пепельнице запылал, и директор огромным каменным пальцем сгонял к центру пожарища непослушный, рвущийся на волю пепел.
— Ты сейчас никуда не устроишься.
— Уборщицей возьмут.
— Из тебя уборщица, как из меня гимнаст.
— Не беспокойтесь. Научусь. Войну прошла.
— Я заберу тебя из этого класса. Пойдешь к пятиклассникам на «древнюю».
— А в древней истории он тоже самый главный.
— Ты можешь чуть потише?
— Дайте мне написать заявление!
— Иди домой и успокойся. Или всё это пройдет, как дым, или вы все обречены. Не лезь в петлю раньше времени. Это истерика. Заболей, в конце концов.
— Степан Ильич, — она заговорила шепотом, — я не хочу больше учительствовать. Я вернусь в школу, когда его не станет. И это случится очень скоро! — последние слова она произнесла, склонившись к лицу директора. — Прощайте, самый хороший в мире директор!
И неожиданно для самой себя, перегнувшись через директорский стол, горячими ладошками обхватила его голову и поворачивая ее то в одну, то в другую сторону, поцеловала в обе щеки, а потом и в губы.
Стоявшая, она была ростом точно с сидящим Степаном Ильичом. Ах, было в нем что-то от Дорохова! Было…
Закончив таким эффектным манером сцену, Эсфирь Львовна направилась к двери, но вдруг обернулась и заявила:
— Степан Ильич, а заявление об увольнении я пришлю вам по почте! Не будем более портить столь роскошную пепельницу!
Быть дочерью актрисы, пусть и второстепенной, ко многому обязывало.
А директор долго еще чувствовал на своих губах вкус номады и долго, в великой тоске, возился с пепельницей и столом, очищая их от пепла.
3
Ах, какое же солнце было в тот день — 13 января 1953 года! Что означала эта улыбка небес — преддверие великой весны или полное её равнодушие к происходящему?..
…В зашторенном, черном кабинете, в огромном черном кресле сидел смертельно напуганный недавней болью Сталин, так и не закуривший свою первую утреннюю трубку…
…А на захарканном, заблеванном, окровавленном, холодном бетонном полу тюремныхх камер корчились истерзанные старики профессора; в школах бесновались ученики–патриоты; во многих домах Москвы сновали по нужным квартирам сообразительные домоуправы, сообщая нетерпеливым хозяевам о скором высвобождении соседних еврейских квартир; писатель, имевший несчастье родиться евреем, писал разоблачительную, полную пафоса статью и плакал от презрения к самому себе…
…А солнце в такой треклятый день сияло себе в небесах, мириадами искр отражаясь в тогда еще белом московском снегу.
Как можно было соединить в себе и отчаянную безнадежность, и отчаянную красоту этого дня?
…«Евреи, изумитесь, исколотите меня, закидайте камнями, мне весело! Мне весело, ибо я предчувствую весну! Это такой день, который понять дано только мне! Но разве верят провидцам? А я хочу рассказать вам, евреи, что не воля убийцы породила этот день, а воля Истории. Да! Да! История обладает волей, всесильной волей, порожденной, может быть, самим Божьим замыслом! Так учил меня милый, бесстрашный профессор Дорохов, вечная ему память! И я, сумасшедшая, маленькая, никому не известная еврейка, призвана по воле Истории совершить суд над палачом! Я переполнена ненавистью! Ничего не боюсь! Я такая счастливая в такой страшный день!.. Мне ясно, мне совершенно ясно, что Сталину не нужны врачи, виновные разве в том, что лечили его и его банду, — ему нужно уничтожить всех евреев империи! Вот на что замахнулся параноик! И вот что погубит его, как погубило Гитлера!»
Ей было ослепительно ясно, что это последняя судорога изувера.
Ей было ослепительно ясно, что она спасительница своего народа.
Ей было ослепительно ясно, что она сошла с ума, но почему–то от мысли этой становилось необыкновенно весело.
Улицу Горького она признавала только от Пушкинской площади с её любимым кинотеатром «Центральный» до площади Маяковского с её любимым Залом им. Чайковского. Этот привычный, всегда волнующий её маршрут она называла «прогулкой в себя». И когда от своего дома, расположенного на улице Чехова, она добиралась до памятника Пушкину, чтобы начать прогулку, то всегда останавливалась, здоровалась с поэтом, потом зажигала папиросу, делала первую глубокую затяжку, поправляла прическу и начинала шествие. Никакая толпа не мешала ей, наоборот, толкаясь, протискиваясь, она после одиночества школьных часов чувствовала себя вовлеченной в жизнь, равной другим и, самое главное, не врущей скучающим детям. А уж сегодняшняя прогулка была совершенно особенной, и угнетало её только то, что она не может поделиться своей великой тайной с многочисленными прохожими.
Она ожидала музыки, непременно Баха. Она ожидала еще людей, вовлеченных в круг, избранных Историей. О, она бы узнала их по глазам, по особенно счастливым улыбкам, по какимнибудь тайным знакам, обращенным только к ней, как главному действующему лицу.
Потом стали приходить мысли попроще… Ладно, с деньгами на первое время поможет дядя Зяма… О, Господи, сегодня же день его рождения! Надо купить подарок!.. На месяц–другой уеду в АлмаАту, к тете Фане. Два месяца, надеюсь, хватит, чтобы подохнуть этой сволочи? Значит, всё в порядке! Всё отлично!
И когда вполне различимы стали черты площади имени Маяковского, она подпрыгнула от восторга. Ее зимние, стертые ботиночки даже с некоторым изяществом оторвались от земли, краткое мгновение пробыли в воздухе, а вот приземлились крайне неудачно: правый резко скользнул по припорошенному снежком льду вперед, левый же поехал назад и заставил Эсфирь Львовну всем телом упасть на тотчас хрустнувшее, еще с войны испорченное осколком левое колено.
И от боли, яростно пронзившей её, потеряла сознание.
Толпа собралась мгновенно и так как нелепо распластанное на снегу тело не подавало признаков жизни, страшно разволновалась. Посыпались советы, примчался, просверлив воздух оглушительной трелью свистка, милиционер, быстро всё понял и убежал звонить в «Скорую помощь».
Очнувшись, она стала безучастно наблюдать за суетой. Ноющая боль в колене подкатывала к сердцу, шерстяной чулок промок, юбка задралась, прическа рассылалась, а на кокетливую котиковую шапочку — подарок дяди Зямы — успели основательно наступить, превратив её в мертвое тельце какого–то маленького несчастного животного…
Кто–то предложил перенести ее в подъезд дома. Двое мужчин подошли, наклонились, обсуждая, как удобнее взяться за дело, но она, собравшись с силами, так рявкнула на них, что бедняги в смущении отскочили в сторону.
— Вы же простудитесь!
— Оставьте меня в покое! — глаза её в бешенстве сверкнули.
— Да она сумасшедшая!
— Совершенно верно! Сошла с ума от страха, что лечить её будут её же соплеменники.
— Это же историчка из сто двадцать третьей! Эсфирь!
Голос юного прогульщика был так звонок и искренен, что толпа сразу ему поверила и стала съеживаться от естественного страха оказать в этот опасный день слишком большое внимание еврейке, к тому же странной, но мало похожей на сумасшедшую.
Наконец раздался вой машины «Скорой помощи». Из белого «ЗИС–101» выскочили два крепких санитара, ловко уложили Эсфирь Львовну со всеми разбросанными деталями ее одежды и содержимым раскрытой сумочки на грязносерые носилки, понесли, четко, как по команде, швырнули свой груз в чрево машины, затем и сами нырнули за ним, хлопнули дверьми, и «Скорая», обдав толпу вонючим дымом и оглушив леденящей душу сиреной, умчалась в больницу,
Ее привезли и покатили на носилках с визжащими колесиками по бесконечным коридорам, тоннелям, потом подняли на лифте и снова покатили по трассе людского несчастья, мимо застывших белых патлатых старух, мимо людей, скачущих на костылях, ковыляющих с палками, сидящих на засаленных диванах, читающих или жадно жующих лакомства, доставленные им из дома.
В воспаленном мозгу маленькой учительницы серые эти лица превратились в дикие видения, точь–в–точь как в американском альбоме Босха, подарке дядизяминого друга, художника, уничтоженного за карикатурный, карандашный набросок лица Сталина… Как в кривых зеркалах, то вытягиваясь, то сжимаясь, то наклоняясь над ней, то отшатываясь от нее в ужасе, прыгали, кривлялись лица, то все вдруг похожие на усатого упыря Сталина, то на измученного пытками профессора Дорохова… И не было конца этому коридору чистилища.
А тупая пульсирующая боль докатывала до плеча, клещами сжимала затылок, потом отпускала на короткое мгновение, чтобы снова взяться за палаческое свое дело.
Казавшийся бесконечным коридор, наконец, кончился, ее вкатили в маленькую комнатку и ловко скинули с носилок на стол, покрытый морковного цвета клеенкой, прохладной и влажной. Укол вернул её к сознанию, боли почти не стало, и она, совершенно счастливая от этого, лучезарно улыбнулась склонившейся над ней очкастой физиономии, украшенной длинным, унылым, совершенно еврейским носом. Увидев, что пациентка очнулась, он подмигнул ей, вытер салфеткой её горячий мокрый лоб, нежно убрал с него слипшиеся волосы и спросил:
— Ну, а вы оперироваться у меня не испугаетесь?
— Только у вас, доктор, только у вас, — горячо зашептала она. — Я прошу вас, помогите мне… И я очень надеюсь, что эта усатая сволочь не успеет добраться до нас.
— О чём это вы? О, Господи!.. Милая моя, — взмолился он, — тише, пожалуйста! — он тыльной стороной ладони погладил её щеку. — Не волнуйтесь, я вылечу вас.
И тотчас понизил голос до шёпота:
— Только молчите. Молчите — и всё. Травматическая афазия, понятно? Это — как полная идиотка. Иначе, дорогая, вас заберут отсюда туда, где только один метод лечения от всех болезней. Договорились?
Эсфирь Львовна в ответ даже попыталась кокетливо улыбнуться ему. И что–то промелькнуло в глазах хирурга. Честное слово, что–то промелькнуло в его печальных, удивленных глазах, причудливо менявших свой цвет за стеклами роговых очков…
…Он чинил изуродованное колено Эсфирь Львовны с таким восторгом, с таким вдохновением, будто ваял его. Кажется, всё уже видавшая старшая хирургическая сестра после операции поцеловала ему руку. И это в день 13 января 1953 года!
А он, опустошенный, усталый — операция продолжалась три часа! — уселся в свое кресло и заявил:
— А действительно, Анна Сергеевна, я был сейчас почти, как Рихтер!
И застыл, снова и снова вспоминая это кошмарное сегодняшнее утро…
…Жена, пробежав глазами газету, вздохнула и сказала:
— Ну, знаешь, ваши перешли уже все границы.
И это после двадцати лет супружеской жизни! И, уже убегая на работу, добавила, без сочувствия, так, бросила:
— Представляю, каково тебе сегодня будет в больнице!
Плохо было ему в больнице, очень плохо… Истерично отказалась оперироваться у него, несмотря на долгие увещевания главврача, пожилая, толстая, с переломанной ключицей антисемитка. Вторая пациентка, интеллигентная старушка со сломанной рукой, увидев его, широко улыбнулась и сострила:
— Надеюсь, мне нечего опасаться, я же не член Политбюро!
После остроумной старушки пришел главврач и предложил ему отправиться домой. Он отказался:
— Ты думаешь, завтра будет лучше, чем сегодня?
А потом — как внимателен к еврейским бедам наш Бог! — привезли эту бесстрашную, чокнутую маленькую еврейку…
После операции Эсфирь Львовна была помещена в четырехместную палату, в коей и очнулась на сыроватой постели, с вздернутой посредством гирь и блоков, чуть не до пупа замурованной в еще теплый гипс, однообразно ноющей, горячей ногой.
Вскоре хирург навестил ее, прослушал пульс на руке — пальцы его были так прохладны и так нежны, что она чуть не застонала от наслаждения, — и пробурчал:
— Дней пять пробудете здесь и месяца два дома. Кстати, вы не помните имени–отчества костоправа, лечившего вас после ранения? Я хотел бы знать, какое медицинское учреждение дали ему окончить?
Она благодарно улыбнулась. Хлопнула ему своими роскошными ресницами и прошептала:
— Я прошу вас позвонить моей маме. Телефон…
Он записал.
— Я позвоню…
— Доктор, а вы можете починить мне нос?
— Увы, это не мой профиль. Но он вас совершенно не портит. Совершенно!
И подмигнул ей…
Но едва он ушел, маленькая учительница залилась горючими слезами, проклиная этот день, проклиная свои стертые ботики и ленивых московских дворников.
Вошла старшая сестра, приказала готовиться к обеду и вдруг с весёлой угрозой добавила:
— И чтоб вечером без номеров мне! Иначе всех в коридор выселю!
Как только сестра вышла, лежащая напротив Эсфирь Львовны пожилая женщина, рука и плечо которой были связаны сложной металлической конструкцией, хрипло спросила:
— Эй, новенькая, пьешь?
Эсфирь Львовна вопросу изумилась, но радостно закивала в ответ.
— Так вот, после ужина мы всей палатой встречаем старый Новый год. Приглашаем. Но если продашь, подготовим тебе еще одну ножку под гипс. Ясно?
— А домашненького пожевать тебе принесут? — включилась в беседу молоденькая соседка справа, без видимых признаков какой–либо травмы. И сама себе уверенно ответила:
— Принесут! У вас семьи крепкие, пропойц мало. Да ты не тушуйся, если что надо, намекни, я–то уже на выходе. Помочь могу, без этого здесь не обойтись, рублей и трешек на сестер не оберешься. Поссать хочешь?
Страшно покраснев, Эсфирь Львовна виновато кивнула.
Девушка откинула одеяло, винтом крутанулась на постели, схватила костыли — вместо левой ноги, чуть ниже колена, болтался розовый обрубок — и ловко скакнула к сжавшейся от ужаса учительнице.
После окончания мучительной процедуры она так благодарно, такими блестящими от слез глазами посмотрела на свою спасительницу, что та растрогалась:
— Ну и глазищи у тебя — как нецелованные!
И с «уткой» поскакала к раковине.
Нахлебницей предстоящего пиршества Эсфирь Львовна не стала, ибо сразу же после обеда в палату стремительно ворвалась мама, страшно взволнованная, с тюком еды, с мокрым от слёз носом, с совершенно разрушенной прической.
Тысяча вопросов, ни один из которых не нуждался в ответе, обрушились на улыбавшуюся дочь. Одновременно с этим, из тюка, устроенного из нескольких слоев шерстяных платков, выплывали: бульон с клецками, куриные ножки, нежно поджаренные пончики с изюмом и пирожки с капустой.
— Ты думаешь, это я успела сделать для тебя? Как бы не так! Ты забыла, что сегодня день рождения Зямы? Эстерка, ты забыла?
И Эстерка расплакалась. Это так несправедливо торчать в больничной палате вместо того, чтобы сидеть в чудной дядизяминой квартире, пить вишневую наливку, есть фаршированную рыбу, хихикать от дядизяминых шуток и анекдотов, обмениваться печальными, понимающими взглядами и репликами с немногочисленными гостями, членами так любимой ею, на четверть уничтоженной Сталиным, на четверть войной, еврейской семьи, крошечного оазиса любви и доверия…
— Доченька, почему ты молчишь?
И тогда, пригнув голову матери, почти прижавшись горячим ртом к ее виску, она зашептала на идише страстно и отчетливо:
— Я знаю, конец его близок!
Со стороны казалось, что дочь застыла в объятиях матери. А несчастная мама, трясясь от ужаса, тем временем шептала:
— Перестань, умоляю тебя! Я чуть не умерла в том, тридцать девятом, когда забрали тебя, потом в сорок восьмом, когда убили Соломона… Я подобного больше не выдержу… Я умоляю тебя… Сколько можно терять?.. Зачем папа не взял меня с собой?.. Я… хочешь, я встану на колени? Может, это от боли?.. Солнышко мое, единственная моя… Где болит тебе?
— Хватит, мамочка, хватит… Я больше не буду…
Эстерка гладила ее пушистые волосы, целовала в висок, и вспомнился ей тот жуткий телефонный звонок, пять лет тому назад, вечером 14 января 1948 года…
…Голос, как потом рассказала мама, нарочито хриплый, явно, чтобы не быть узнанным, без «здравствуйте», без всякого вступления, вымолвил:
— Михоэлса сбила машина… Сбила машина…
Мама, совсем по–старушечьи стала перекладывать телефонную трубку от одного уха к другому, лихорадочно убирать якобы мешающие ей волосы и, вдруг побледнев так, будто вышла из нее вся кровь, спросила, тоже почему–то хрипло:
— И где он лежит?
В трубке, то ли разозлившись на глупость вопроса, то ли таково было настроение позвонившего, прозвучало кратко и зло:
— В гробу, Роза, в гробу!
— Что?! — завопила мама. — Что вы сказали?!
Но из трубки были слышны только равнодушные гудки отбоя… И тогда мама завыла, закричала, безумными глазами глядя на дочь и не видя ее:
— Соломончик мертв! Соломончика нет! Соломончика задавили! Соломончика убили!!!
Какая это была истерика!
Эсфирь Львовна страшно испугалась. Ничто не помогало. Мать отбрасывала в сторону и воду, и валерьянку, царапалась, пыталась схватить кухонный нож… И лишь когда примчался дядя Зяма и отхлестал сестру но щекам, и пригрозил, что вызовет «скорую помощь», Роза успокоилась…
Великого артиста мама знала с 1920 года, они оба начинали в студии Грановского. Начинали… Это она начинала, а он родился гением, и Роза, с трудом перебираясь от одной незначительной роли к другой, уже через год поняла, что ее истинное театральное счастье — хотя бы мгновение просуществовать на сцене с этим человеком, переброситься с ним репликой, замирать в восторге от его импровизаций на репетициях. Она была влюблена в него, она была переполнена им… Это была удивительная любовь, где место страсти занял восторг, а место ревности — поклонение… Впрочем, в восторженном сердце актрисы, увы, лишенной Божьего дара, всё могло и перепутаться… А муж? Ее храбрый коммунист с чистыми руками и горячим сердцем вечно был в таинственных отлучках.
— Где Лев? — спрашивали ее.
— Раскулачивает кого–нибудь, — спокойно отвечала Роза, но однажды добавила:
— Убивает. Такая у него мужская профессия.
Где только могла, она оставляла крошечную Эстерку, чтобы и дня не пропустить в студии. А потом стала брать ее с собой. Актеры обожали пухлую, зеленоглазую, избалованную шалунью. Она с радостью исполняла их маленькие поручения и даже несколько раз играла в спектаклях…
После гибели мужа к Розе, как говорили, пришла одухотворенность, и несколько сыгранных ею ролей, уже в ГОСЕТе, еврейском театре, возглавляемом Михоэлсом, были благосклонно приняты и публикой, и прессой… Но дальше этого не пошло. Да черт с ним! Не всем же дано быть Ермоловой. Главное — он! Главное — его успехи! После премьеры «Короля Лира» она не могла спать, всю ночь металась, смеялась, плакала… Потом села на маленькую табуретку около постели дочери и, думая, что та спит, зашептала:
— Я самая счастливая женщина на свете! Я не только видела, как он сыграл Лира, я видела, я знаю, как он шел к Лиру. Страшно сказать, но Соломон поднялся выше Шекспира! У Шекспира Лир умирает, а у Соломона — рождается! Я думала, что не досмотрю спектакль, что умру от разрыва сердца… Боже, как он сказал:
Что это, слёзы на твоих щеках?
Дай я потрогаю. Да, это слёзы.
Не плачь! Дай яду мне. Я отравлюсь.
Я знаю, ты меня не любишь…
Ой–ёй–ёй… Я не знаю, кто поселился в сердце Соломончика — Бог или Сатана… Мне просто страшно! Я никогда не понимала, почему он на сцене в два раза выше, чем в жизни. А жесты… Нет, какой–то король обязательно переспал с его прапрабабушкой, прости меня, Боженька, за такие речи! Ну, действительно, как можно знать королевские жесты, никогда не видя королей? Что, в его Двинск когда-нибудь заезжал король? Но если бы какой–нибудь король увидел его игру, то уже на следующий день повторил бы жесты Соломончика, и все бы думали: «Ах, какие прекрасные новые жесты у нашего короля!» Мне страшно, какой он гений… Да, Эстерка, жизнь моя, ты так плакала… Ты так поняла! Знаешь, что я скажу тебе? Такого артиста не было еще на свете и больше никогда не будет! А Зускин! Зускин! Какой дурак назвал его «тенью Михоэлса»! Я хочу знать, кого было бы видно в такой тени, кроме Венички Зускина! Ах, Эстерка, солнышко мое…
И стала напевать что–то, и слёзы, тогда еще счастливые слёзы, текли по щекам матери.
Это было так прекрасно, что Эстерка боялась даже дышать, только б не разрушить этого мгновения, только б не спугнуть изумительно сыгранный монолог, первый раз сотворенный в жизни её матери воедино слившимися сердцем, воображением и актерским мастерством…
И еще вспомнилось, как в том проклятом тридцать девятом, когда пришла она в театр, Соломон Михайлович подошел к ней, погладил по волосам, нежно провел указательным пальцем по её изуродованному носу и, озорно подмигнув, прошептал:
— Теперь все будут думать, что я твой папа, а? Такая схожесть носов — уму непостижимо!
После войны — Эсфирь Львовна вернулась домой только в августе сорок пятого, работала в комендатуре Берлина, — её, еще в форме, звенящую медалями, не отдышавшуюся от дороги, восторгов, встреч, совершенно сумасшедшая от счастья мать потащила в театр на премьеру «Фрейлахс». Ах, как ее встретили! Зацеловали, затискали! Какие говорили слова! А Зускин, изумительно, одним только жестом изобразив Гитлера, комично бросился бежать от нее, причитая:
— Спасите! Эта женщина прибьет меня! Ой, куда мне, такой сволочи, деваться от нее!
Потом был «Фрейлахс», и слово «спектакль» мало подходило к тому, что вытворяли на сцене пьяные от победы над Гитлером актеры. Всё, что угодно, но не спектакль… Танец Победы… Гимн солнцу… Крик надежды…
Мама Роза отплясывала на сцене, как молодая, отплясывала для своей доченьки, своей Эстерки, для всего еврейского народа, для великого Соломона Михоэлса…
А через два с половиной года раздался тот телефонный звонок.
И всё стало падать, разбиваться, превращаться в осколки, исчезать…
В декабре прямо из больницы забрали больного Зускина.
— О, это такой шпион! — шептала пересохшими губами ставшая старухой Роза. — Такой шпион, что его надо было брать только из постели, пока он не успел вытащить автомат и всех их перестрелять… Веня… Он же сразу умрет… Мы прокляты… Мы забыли Бога… Соломончика убили, Веню убьют… Обязательно убьют! Если убивают солнце, тень может остаться в живых?
Один Бог знает, почему она не сошла с ума…
… — Всё! Всё!
И Роза, отстранив от себя дочь, вскочила, схватила освобожденную от платков мисочку с пирожками и помчалась оделять ими неподвижно лежащих женщин. Вернулась к дочери и громко заявила:
— Не волнуйся, у тебя всё будет в порядке. Твой доктор очень хороший врач!
— Естественно, к своим–то они все хороши!
Реплику подала еще не знакомая Эсфирь Львовне женщина с огромным гипсовым воротником, охватившим левую ключицу и шею до подбородка.
Мать тотчас сжалась, почернела, стала нелепой, суетливой, и лишь одно чувство наполнило ее всю без остатка — страх, отчаянный страх за доченьку. Ах, разреши ей, она бы осталась под этой кроватью, жила бы себе, как маленькая смирная собачонка. Но не дай Бог кому-нибудь дотронуться до ее сокровища! Не дай Бог! О, сволочи, вы не знаете, что это такое еврейская мама!
Неловкую тишину разрубил зычный голос заглянувшей в палату сестры:
— Мамаша, закругляйтесь, пожалуйста!
Мать склонилась к дочери. Четыре глаза заглянули в самую глубину друг друга. Страх, любовь, отчаяние и, конечно же, проклятие палачу образовали такой мощный, такой направленный поток никем еще не изведанной энергии, что не подвластные никакому пространству волны её достиглитаки трона Всевышнего. И Всевышний, удовлетворенно хмыкнув, прошептал что–то нужное, и в Сталина снова, но уже куда с большим остервенением, вонзилась страшная утренняя боль… Поскребышев подскочил к нему, дрожащими пальцами расстегнул верхние пуговицы кителя, помог добраться до дивана и бросился вызывать врачей.
И мать медленно поплелась к выходу…
— Ах, доченька, чуть не забыла — дядя Зяма завтра навестит тебя…
— Девочки, — баском произнесла пожилая, со сложной конструкцией на плече, женщина, — если мы будем сучиться, выяснять, кто какой нации, то житья у нас не будет. А ты, интеллигентная, вчера еще Самсонычу руку целовала, а сегодня в землю вкопать готова. Падлюка, забыла, как он шею твою по косточкам собрал!
— Я не говорю конкретно об упоминаемом вами хирурге. Я говорю вообще о сложившейся в стране напряженной обстановке.
— Обстановка — это на фронте! А в миру жить надо по сердцу, ясно?
— Прекратите! — взмолилась безногая. И добавила:
— А я б легла под Самсоныча, как ни под кого! Ну чем еще могу я отблагодарить его, спасителя своего?
Женщины еще немного побазарили, и чуткое ухо Эсфирь Львовны с удовлетворением отметило, что антисемитка с собранной по косточкам шеей явно снизила тональность, а потом и совсем замолчала, сраженная последней фразой пожилой:
— Тебе, я слышала, еще одна операция нужна? Вот и откажись от Самсоныча! Патриотка — так до конца! Останься кривой! Помнишь, главврач говорил, что, кроме Самсоныча, тебя никто не поправит? Зато всю жизнь будешь гордиться, что от жидовского врача отказалась!
Наступила блаженная тишина. Сморенные обедом и спором, женщины заснули. И только маленькая учительница истории, страдая от тягучей неотступной боли в колене, от невозможности погладить его, от невыполнимого и оттого до сумасшествия навязчивого желания повернуться на бок, никак не могла забыться даже плохоньким, даже самым коротким сном. Но какие–то мгновенные, бредовые видения не отпускали. То она застывала в страстном объятии хирурга, то стреляла в Сталина, то ползала на коленях перед всем классом, умоляя простить её, неизвестно за что… И без конца поскальзывалась на льду… вскакивала, крича от ужаса, и снова поскальзывалась… а мама стояла в стороне, тянула к ней руки, кричала, но ничем не могла помочь… Вдруг она увидела склоненный над ней огромный гипсовый воротник, увенчанный страдающим, бледным лицом. Потом появилась рука с влажной салфеткой и вытерла ею пылающий мокрый лоб Эсфирь Львовны.
К счастью, глаза маленькой учительницы умели благодарить куда красноречивей слов.
— Какими же очами наградил евреев Господь Бог! Надеюсь, вы не обиделись на меня? Я сама себе иногда бываю противна. Самое смешное, что единственный человек, которого я люблю и за которого готова отдать жизнь, — еврей. Господи, но кому я нужна теперь? Хотите яблоко? Оно из Грузии, целебное…
Эсфирь Львовна жестом показала, что отказывается, но очень, очень признательна.
Женщина вздохнула и осторожно, держась за спинки кроватей, отправилась на свое место.
Вдруг всё стало меняться к лучшему. Пришла сестра и сделала обезболивающий укол. Пришла нянечка и принесла дополнительную подушку — стало много легче лежать. Заглянул дежурный хирург — молодой веселый парень, раздал каждой по шутке, а Эсфирь Львовне доверительно сообщил, что рентгеновские снимки ее колена до операции и после смотрел сам — он восторженно закатил глаза — Вишневский!
— Ваше колено станет гордостью отечественной медицины! Никому не давайте гладить его — оно принадлежит стране!
Эсфирь Львовна наградила балагура сияющей улыбкой. Ах, черт возьми, даже в такие минуты она не забывала о своем переломанном носе, убежденная, что он превращает улыбку в гримасу. Она могла видеть себя только в зеркале и, несмотря на свои тридцать пять, мало верила, что существуют люди, добрее зеркал. Потом, сразу же после коллективного отказа от унылого ужина и прощального, уже безнадёжного увещевания старшей сестры, началось действо совершенно фантастическое — подготовка к празднованию старого Нового года.
Все, кроме Эсфирь Львовны, встали со своих постелей и, охая и матерясь, показывая чудеса владения своими искалеченными телами, в считанные минуты превратили большую центральную тумбочку в праздничный стол, на котором тонкие ломтики нежнейшей розовой ветчины соседствовали с подёрнутым слезой сыром; маленькие огурчики особого домашнего посола — с домашнего посола капустой, пересыпанной вызывающе красной клюквой; темная, понастоящему копченая колбаса — с трясущимся от свежести студнем и, конечно же, уже названные, принесённые мамой куриные ножки, нежно поджаренные пончики с изюмом и пирожки с капустой. И лишь надменные мандарины, наполнившие палату ароматом, как тогда говорили, «солнечной Грузии», презрительно посматривали на грубую жратву, всем своим спелым, налитым желтокрасным видом подчеркивая очевидную разницу между плебейским статусом «закусона» и аристократическим статусом «десерта».
Потом — Эсфирь Львовна чуть не вскрикнула — из–под угловой кровати костылем была вытащена намертво заткнутая резиновой пробкой, на четверть наполненная сияющей, прозрачной, подвижной жидкостью, обычная больничная «утка», поднятая затем, вытертая от пыли и поставленная в центр стола с такой нежностью, что не осталось никаких сомнений в высочайшем назначении этого сосуда.
— Не бойсь, — проворковала пожилая, — мыто–перемыто. Да и что в водке не сдохнет, кроме печалей наших…
Общими усилиями устроили маленькой учительнице при помощи подушек положение почти сидячее, разлили водку, разнесли закуску, притихли…
— Девочки, за выздоровление, за возвращение к бабским делам нашим… C Богом… да с Новым годом!
И в великой тишине забулькала водка — великая целительница российских бед, таких страшных, бесконечных, что и сама целительница давным–давно превратилась в ужасную, уже ничем не излечимую беду.
О, Эсфирь Львовна умела пить! За четыре фронтовых года переводчица в штабе полка, а потом и дивизии, вполне освоила не только водку, но и неразбавленный спирт. Более того, младший лейтенант Вольпина, выпив, могла так матюгнуться, так послать распоясавшегося ухажера, так сочно рассказать байку, что и матерые боевые офицеры уважительно, хотя и не без иронии, называли ее меж собой «огненной Фирочкой».
Женщины говорили, говорили, жаловались, плакали, а после запели.
И «Синий платочек» совершенно окутал ее сознание… Она пыталась подпевать, но слова спутались, мысли растеклись.
И она провалилась в глубокий пьяный сон…
4
Через пять дней, как и сказал хирург, её выписали из больницы…
— Вот и вся история этого дня — самого великого дня моей жизни! А потом валялась дома, прыгала на костылях и ездила раз в две недели на рентген в больницу…
Она счастливо улыбнулась:
— А первого марта я поняла, что победила. В десять утра вдруг прервали передачу и сообщили, что у «дорогого товарища Сталина» появилось дыхание Чейн–Стокса. О, это такое дыхание, когда уже и не дышат почти! И полилась дивная, печальная музыка — Бах, Бетховен, Шопен… О, какая это великая музыка! Я не жила в эти дни, я ждала… Каждый день объявляли о состоянии его здоровья. Каждый день Левитан деловито сообщал, что великая сволочь еще жив. Конца не было моему нетерпению! Пятого марта я поехала в больницу на очередной рентген и в суете не слышала утреннего радио… И вот, лежу после рентгена на топчане, дверь открывается, входит мой хирург, на ходу рассматривая снимки, и, как бы невзначай, говорит:
— Милая, ваш пациент благополучно отдал Богу душу… А у вас всё отлично!
И я полетела… полетела… И увидела, как он мучился, как сдох… Как последние три дня своей проклятой жизни он, брошенный по чьему–то повелению не только врачами, но и обслугой, валялся один, в собственном дерьме, задыхаясь от смертного страха, ненависти, бессилия…
… — Я очнулась от прикосновения его пальцев. Нежно, как только умеют хирурги, он вытирал мои слезы.
И она замолчала…
— Простите, — решился Сёма на мучивший его вопрос, — а с хирургом вы…
— Да, я соблазнила его… Еще будучи в гипсе… Встречались у меня дома, как воры… Он приносил цветы, вино и любимый мамин торт «Киевский»… Мы выпивали, болтали, и мама вдруг вспоминала о неотложных делах и убегала… Она давно умерла… И мой хирург умер… Всего через два года после смерти Сталина… Инфаркт… На всё Господь назначил свою цену… Ах, какой это был печальный человек! Какой гениальный хирург! И, представляешь, любил меня… с таким–то вот носом! Дочь у меня от него…
…Слёзы текли и текли по ее щекам, и она даже не пыталась вытереть их. Видно, сладкими были эти слёзы великой разделенной любви…
А знаете, как Сёма встретился с Эсфирь Львовной?
Ехал он себе в автобусе в 1978 году, будучи в глубоком «отказе», ехал себе и ехал, и вдруг вошла на остановке женщина, маленькая, седая, с перебитым носом и такими глазами, глазищами, что он тотчас вспомнил. Всё–таки два года учился у нее. Автобус был полупустой, и, преодолев смущение, Сёма подсел к Эсфирь Львовне.
— Простите, вы не преподавали историю в сто двадцать третьей школе в тысяча…
— Так ты учился тогда в том классе? Ты меня прости, если я не буду притворяться, что узнаю тебя?
— Вы не вернулись в нашу школу…
— Я вообще перестала преподавать. Библиотекаршей стала.
Тон ее был довольно сух. Ну, хорошо, подсел, а дальше что? О чем, собственно, говорить? Пауза затягивалась и грозила перейти в медленную казнь. И вдруг выскочило из Сёмы:
— А я вот уже семь лет в «отказе»… Не пускают меня в Израиль…
Так попасть в точку ему не удавалось еще ни разу в жизни! Эсфирь Львовна обернулась, засияла, всплеснула руками:
— А мы через три дня уезжаем! Получили разрешение без всяких осложнений!
— И куда едете?
В те годы многие катили по маршруту Москва — Рим — НьюЙорк.
— Как это «куда»? — глаза ее стали много больше лица. — В Израиль! Мой зять — ужасный сионист. Она вздохнула:
— Но мне–то что там делать? Разве в Израиле оценят, что я уничтожила Сталина?
И расхохоталась, посмотрев на Сёмину физиономию, сильно перекошенную её вопросом.
— Вот что, господин «отказник», если есть у тебя время, айда к нам, и я попотчую тебя чаем с подробностями. А может, и передать нужно туда что-нибудь сионистское, тайное, судьбоносное?
Она почти касалась губами его уха.
— Нам можно доверить все!
Ну и глаза были у этой женщины!
Они сидели в почти пустой квартире — главные вещи уже уехали на таможню — и пили чай. И она рассказывала, рассказывала…
— Ты действительно не считаешь меня сумасшедшей от того, что я так верую в мою победу над Сталиным?
— Напротив, надо быть сумасшедшей, чтобы НЕ веровать в это!
Ответ Сёмы ей страшно понравился.
И очень скоро к ним ворвалась компания, состоящая из двух сорванцов, бородатого сиониста и молодой женщины, ах, какой, братцы, женщины! Награжденной Богом всем лучшим, что было в Эсфирь Львовне и ее печальном хирурге…
И, конечно же, сочинилось у Сёмы немедленно после прощания со счастливцами:
Не суд тебя отыщет строгий,
Навеки проклятый упырь,
Тебя казнит веленьем Бога
Прекрасноокая Эсфирь…
О концерте Майкла Джексона
Это произошло давно, в начале нашего пребывания в Израиле, в те времена, когда мобильных телефонов у широкой общественности ещё не было…
Был час ночи. Я ледоколом шел против могучего потока полуживых детей. Их лица, изуродованные желтым светом уличных фонарей, выражали смертельную усталость и совершенное равнодушие к жизни.
И ни на мгновение не утихал истеричный гвалт. Как выстрелы, рвались в воздухе имена; со стороны шоссе водители автобусов выкрикивали названия городов; полицейские мегафоны призывали к порядку; очумевшие, еще не нашедшие своих чад папы и мамы орали друг на друга; взбесившимися саксофонами вспыхивали и гасли клаксоны бесчисленных автомобилей…
Огромная детская толпа создавала впечатление неземного события, космического катаклизма.
По обочинам, на тротуарах, на любом клочке земли, доступном человеческой заднице, сидели тысячи детей, многие, утопив голову в скрещенные руки, сложенные на острых, высоко поднятых коленках. Они ждали мам и пап — застывшие фигурки сумасшедшего ваятеля.
— Автобус на Холон!
Часть толпы, как выброшенная лопатой, бросилась к длинному автобусу, и я с ужасом наблюдал, как несколько долгих секунд никто не мог влезть в три распахнутые двери, пока напор задних и беспощадная работа полицейских не вдавили передних в чрево автобуса, как пластилин в бутылку. Через мгновение он был полон, и обезумевшие от усталости полицейские, словно ножом, срезали висевших на подножках и уцепившихся за поручни…
«Я не найду их, я никогда не найду моих девочек».
Меня захлестнула истерика.
Встречный напор, чем ближе я подбирался к назначенному месту встречи, становился все гуще, всё сильнее. Я расталкивал бесчувственные создания, протискивался ужом, наталкиваясь на острые детские грудки, костистые плечики, срывая бретельки маек, раня их своей проклятой, перекинутой через плечо сумкой, в которой лежали давно превратившиеся в месиво бутерброды.
Отчаяние порождает прежде всего усталость, безнадежную усталость, от которой трясутся и подкашиваются ноги, заплывают внутренним клеем руки, и сердце колотится уже в самом горле.
Я шел только на волевом усилии. Вздернутая реклама нужной мне бензоколонки не приближалась, а парила в свободном от людей небе, издеваясь над несчастным отцом, над бесчисленными муравьями, кишащими внизу, не знающими, как добраться до своих норок.
Бензоколонка выросла передо мной вдруг, как оазис, в который скатывается с песчаной гряды полумертвый от жажды путник. Бешено втиснувшись в середину её, задыхаясь в тисках могучих тел израильтян, ждущих или ищущих своих детей, я в отчаянии осознал, что мне, при моём росте, никогда не увидеть своих дочек… или увидеть, но только утром, истерзанных, не могущих от усталости даже плакать… И понесу их по одной до машины, оставленной за километр от этого проклятого места.
Я несколько раз по всем направлениям пропахал бензоколонку — девочек не было. Ночь становилась всё глубже. Как ни странно, дети расползались. Их заглатывали автобусы, разбирали родители, кто–то уходил сам, кто–то находил удобный кусок земли и жадно засыпал на теплой, доброй траве.
Появились островки асфальта, обозначились тротуары. К двум часам ночи на территории бензоколонки валялось всего несколько десятков детей. Но моих дочек среди них не было.
Показался полицейский. Черный от усталости, пошатываясь, он то и дело прикладывался к мобильнику.
— Ты знаешь, у кого есть список покалеченных? — в отчаянии обратился я к нему.
— Иди прямо, — он рукой показал направление, — придёшь туда, где был концерт, там стоит полицейский фургон, у них есть все…
— И много их… покалеченных?
— Твоих там нет.
— Откуда ты знаешь?
— Знаю, и всё!
Полицейский вдруг задорно засмеялся и похлопал меня по плечу:
— Ты знаешь, сколько их еще крутится здесь? Иди в направлении эстрады, вон туда, — он указал рукой, — и ты увидишь сотни этих щенят.
И я пошел. Это был бесконечный путь в мир иной. Повсюду были дети — лежащие, сидящие, бродящие, как лунатики — дурной фильм о человечестве после атомной войны. Двое совсем юных страстно целовались, привалившись к стволу дерева. Чем дальше, тем целующихся становилось больше. Кошмарная усталость детей переходила в неосознанную, бесстыдную страсть, не предъявлявшую требований ни к месту, ни ко времени, ни к рассудку, ни к качеству партнера. Короткая, яростная случка мутантов, подстегнутая загадочной женственностью их поюще–танцующего кумира.
Наконец, протиснувшись через щель еще не разобранного заграждения, я очутился в неожиданно огромном, под светом немногих фонарей грязно–зеленом котловане, усыпанном пластиковыми бутылками и бутылочками, обертками от конфет и жвачек, обрывками туалетной бумаги и салфеток, огрызками пит, хлеба. Здесь тоже бродили одинокие дети, некоторые из них что–то искали, разгребая ветками мусор.
Вдалеке призывно мигал синий фонарь полицейской машины; около нее виднелась небольшая кучка людей, и я на дрожащих ногах поплелся туда, изнывая от страха увидеть имена дочерей в списке искалеченных великим искусством.
Ужас происходящего усугублялся тишиной — ни гудков машин, ни голосов человеческих, только бормотание обрывков бумаги, их беседа с прохладным ветром, прилетевшим с моря поглазеть на происходящее. Картина была бы неполной без ослепительно звездного, насмешливо мигающего неба: будто ангелы, перелетая с места на место и подмигивая друг другу, перекидывались язвительными замечаниями относительно юного поколения избранного народа.
Я совершенно сознательно оттягивал момент встречи с полицейской машиной и поэтому шел медленно, мучаясь от того, что, несмотря на мои усилия и немалое расстояние, цель придвигалась неотвратимо.
Вдруг я споткнулся обо что–то живое. На земле лежал мальчишка лет двенадцати, лицом к звездам, и меланхолично жевал жвачку.
— Что ты делаешь здесь?
— Жду папу.
— А где он?
— Пьет пиво.
Действительно, вдалеке были видны огоньки нескольких торговых точек.
— Он найдет тебя?
— Найдет…
— Тебя же почти не видно.
— Найдет…
— И давно ты здесь?
— С трех.
«Как и мои», — подумал я.
— Хорошо рассмотрел своего Джексона?
— Вообще не видел.
— Как это?!
— Его видели только первые ряды. А там были те, кто с утра пришел или ночевал здесь.
— Так что же ты видел?
— Он на экране был. Как в кино.
— И ты с трех часов на ногах? Девять часов на ногах?
— Ну и что?
— Понравилось?
— Ничего…
Мальчишка снова отвел глаза к небу, и я отправился дальше. Не успел я сунуть дрожащее лицо в окно кабины полицейского «форда», как сидевшая внутри женщина просипела:
— Фамилия!
Я назвал. Женщина долго искала в смятой тетрадке и, наконец, произнесла:
— Твоих нет.
— Тогда где же они?! — почти радостно прозвенел я.
— Объявить по радио, что ты ждешь их здесь?
— Не надо… Им не добраться сюда.
— Ты прав. Ищи. Найдутся. И не давай им больше денег на такие мероприятия.
«Доченьки мои, — говорил я сам с собой на обратном пути, — я был часто несправедлив к вам. Да, я зануда. Я старомоден. Я люблю Моцарта, Эдит Пиаф и Азнавура. Меня раздражает, когда вы садитесь в новых джинсах на грязную лестницу, вспарываете их на коленях и уходите на „месибат пижама“ (ночные посиделки израильских школьников) … Доченьки мои, но если я найду вас, то стану другим. Я вместе с вами пойду на Мадонну. Где вы, девочки? Пусть грязные и оборванные, пусть застывшие в поцелуе…»
Я даже остановился, ибо это не очень подходило к тринадцатилетней младшенькой, и я немедленно отменил эту часть монолога: «…пусть спящие на грязном, в масле асфальте бензоколонки…»
И вдруг я представил себе, да так отчетливо, что даже вскрикнул, что я возвращаюсь домой без детей… Жена открывает дверь… Быстро покончив с последовавшей затем сценой, я перешел к другой, к той, которую всё время гнал прочь от себя: девочки поймали тремп. Все варианты, связанные с этим, походили своим кошмаром один на другой, как голливудские триллеры на эту тему, и чтобы не потерять сознание, я на несколько секунд остановился, прижавшись спиной к дереву, молитвенно обратив очи к сверкающим небесам.
Погруженный в свои видения, я и не заметил, как снова очутился на ярко освещенной бензоколонке. Детей там почти уже не было. Я еще раз обошел ее, заглядывая даже в мусорные бачки, и уже совершенно без чувств, без сил сел на бордюр тротуара и заплакал.
Нежное прикосновение рук младшенькой, обвивших мою шею, я воспринял знаком отлета в мир иной…
Собственно, пересказывать дальнейшее, полное слёз, воплей, поцелуев, гневных тирад, сбивчивых рассказов, взаимного вытирания слёз и так далее, совершенно бессмысленно, ибо поди расскажи о счастье… Именно тогда я дал свое, ставшее потом знаменитым определение: «Счастье — это обнимать поздней ночью детей своих на исторической Родине».
Любил я мыслить глобально.
О, это была картина: я –– идущий, прямой и сильный; на плечах моих сладко спящая младшенькая и рядом старшенькая, босиком, снявшая ненавистные новые туфли, держащая в своей ладони мою надежную отцовскую руку.
…Я лежал в постели, вольно раскинув свои измученные конечности, слушал счастливый шепот жены и девочек, шелест листвы за окном, редкие в этот глубоко ночной час и оттого пронзительные гудки автомобилей… Потом перед моим мысленным взором прошла вся эта кошмарная ночь, но уже окрашенная моим мужественным поведением, счастливой, почти романтической концовкой, и поэтому легко сочинилось:
Нет, не услышим Божий глас,
Нет, не увидим Божьих жестов,
Коль правит душами не ШАС, (партия ортодоксов)
А светлокожий Майкл Джексон.
И меня не стало…
Жара
Взбешённое вялой, нерешительной весной, солнце разогнало бледные, немощные тучки и ошпарило землю. Двигаться становилось всё труднее, и мысли, ещё ворочавшиеся в голове, постепенно размывались, теряли конец, а то и начало, и одна за другой погружались в образованную ими кашу. Зонт над ним был диаметра столь малого, что при каждом движении к «клиенту» его тело выходило за пределы образованной им жалкой тени, и тотчас возникало ощущение, что на руки выливается тарелка горячего супа. Но посетителей «кеньона» (крупный торговый центр) было ещё мало. В основном мамы или няньки, для которых уютная прохлада «кеньона» была единственной возможностью выгулять своих беспокойных чад. Проверка содержимого их сумок и талий — строго говоря, женские талии проверять было запрещено: кто знал, какое влияние могла оказать попискивающая чёрная палка на таинственное содержимое прекрасного женского тела, — было явно пустой формальностью: взрываться с крошечными детьми террористкам ещё не приходило в голову. По-видимому, рай для младенцев выглядел не столь конкретным, как для их мужей, отцов и старших братьев. Не было ещё хорошей разработки.
Новый напарник Ефима, стоящий от него в трёх метрах молодой эфиоп, жадно разглядывал немногочисленных, мало одетых, по случаю жары, женщин. Особенное возбуждение вызывали у него их груди, хорошо видные в те мгновения, когда женщины наклонялись к ребёнку или доставали сумку, расположенную внизу, на сетке детской коляски, и он в эти замечательные мгновения изо всех сил выкручивался, стараясь занять наиболее выгодную позицию. Ибо не всегда женщины склонялись прямо перед ним, иногда особенно зловредные склонялись куда-то вбок. После особенно удачного разглядывания он обращал к Ефиму круглые, коричневые глаза, победно скалился и подмигивал. Ефим и сам не прочь был позабавиться таким образом, не так уж он был и стар. Но если напарнику это доставляло бесконечное наслаждение, то Ефиму столь не соответствующее занимаемой должности занятие очень скоро надоело, тем более, одна из женщин, заметив его нездоровый интерес к своим грудям, обдала его таким взглядом, что он немедленно ощутил свой возраст и представил себе свою внешность. Надо сказать, что у него ещё со вчерашнего вечера не прошло тяжёлое возбуждение, вызванное увиденным по телевизору фильмом об императоре Нероне. Фильм средний, старый, но сцены совокупления юного Нерона со своей матерью возбуждали так, что кровь стучала в висках. Грязное и, наверное, недостойное порядочного человека чувство, но, поди, прикажи себе! Он даже изменил позу на диване и с опаской поглядывал на жену — не заметила ли она его нездорового возбуждения. Рожа-то наверняка была красной…

«Старый грязный идиот» — мысленно обозвал он себя, но успокоения это не принесло. Он давно заметил, что чем грязнее на экране секс, тем он действеннее. Какими бы откровенными не были позы совершенно голых, роскошных молодых тел в американских блокбастерах, у него ничего, кроме скуки, это не вызывало. Но зато мелькнувшая в каком–то фильме сцена изнасилования пожилой женщины до сих пор во всех деталях вставала перед глазами, и он смаковал её, удивляясь своей испорченности. Впрочем, при осторожном расспросе друзей выяснилось, что почти у всех всё одинаково. Тоска, в общем…
Он терпеть не мог свою работу охранника. Но приносимые ею почти три тысячи, да плюс уже заработанная пенсия, да плюс зарплата ещё работающей жены позволяли не только прилично существовать, но даже ездить раз в год за границу. Нелюбовь к работе обуславливалась не только едва переносимой скукой и восьмичасовой с небольшими перерывами необходимостью стоять на ногах, но и совершенной, с его точки зрения, бессмысленностью. Естественно, он был наслышан о подвигах охранников, о спасённых ими жизнях, но трактовал бессмысленность своей работы только по отношению к себе, честно полагая, что он–то точно никого и ничего спасти не сможет. Даже при наличии у него пистолета. С его телосложением, нерешительностью, с его — это слово он произносил так глубоко внутри себя, что и сам еле слышал его, — трусостью… Сцены прохождения террориста сквозь себя он представлял часто и в самых разных вариантах. Террорист может отпихнуть его и беспрепятственно ворваться внутрь «кеньона», может проткнуть его ножом, может, в конце концов, грубо оскорбить его, а в случае оскорбления Ефим просто застывал, — и так было всю жизнь, — не зная, что предпринять. А если он и остановит террориста, так что? Тот просто взорвёт себя, уносясь к своим райским девственницам, захватив с собой десятки жизней, ибо, конечно же, эта сволочь выберет момент, когда у входа будет толпа… Единственная надежда оставалась на то, что, увидев Фиму издалека, самоубийца тотчас поймёт, что дело его пропащее, вернётся к своему хамасскому начальству и заявит, что наличие Фимы есть конец палестинской революции…
Господи, как жарко! А впереди — целое лето…
Вдруг эфиоп зычно расхохотался, проверяя сумку очаровательной соотечественницы с пышной грудью, которая что–то верещала ему почти в ухо. «Хорошая штука молодость», — пришло Ефиму на ум, но и эта нестандартная мысль, не найдя продолжения, утонула в мякине остальных.
«А не оскорбительно ли называть человека „эфиопом“? Если бы нашёлся в Израиле работающий охранником „оле хадаш“ из Америки, разумеется, северной, то, назвав его „американцем“, разве мы обидели бы его? Так почему „эфиоп“ звучит обидно, а „американец“ совсем даже наоборот? Все мы, выходцы из СССР — расисты».
Он успокоился и стал ждать новых мыслей. Но явно наметилась пауза.
Приятно охладили несколько глотков воды. Потом он вступил в осточертевший спор с очередным русскоязычным хамом, считавшим, что проверка его наплечной сумки есть прямое оскорбление его личности, более того, его патриотизма. Он поставил сумку на столик и, яростно открывая молнию за молнией, шипел, что надо знать, кого проверять, что ставят здесь всяких, что, небось, когда появится действительно террорист… Правда, добавил при этом «хас вехалила!» (не дай Бог!)
Подполз полдень. На небольшой площади перед входом в «кеньон» не было ни души. Он включил радио. Последние новости он слушал только на иврите. Русскоязычное радио раздражало. Оно опускало его на уровень «олимовской» толпы, что унижало его, старожила с двадцатилетним стажем пребывания в стране. И он не изменял своему принципу даже тогда, когда половину услышанного на иврите не понимал. Однако ж, вообще существовать без русского радио не мог. И слушал его, уподобляясь Васисуалию Лоханкину — только тогда, когда никого рядом не было. Кроме жены, естественно…
По радио, конечно же, бубнили о мирном процессе. А Ефим не любил мирный процесс, о чём и доложил вчера в лесу перед разгорячёнными собутыльниками:
— Спасти нас может только их ненависть. И я очень надеюсь, что эта ненависть сорвёт мирный процесс, и мы продолжим существовать, пусть в осаде, в войнах, во взрывах, но существовать! Их ненависть — вот залог нашего существования!
И все, по завету незабвенного Венички, немедленно выпили.
…Хорошо было. Субботние вылазки с друзьями в лес были главными событиями недели. Ритуал… Ах, эти разговоры, эти споры и переругивания, но не одержимые, а, наоборот даже — ласковые, c нарочитым вниманием к словам оппонента, ибо ничто не должно было испортить несколько долгожданных субботних часов, сопровождаемых чмоканием открываемых баночек, тихим, но нетерпеливым бульканьем водки и вина, криками снующих под ногами внуков… А над тобой тихая, ласковая листва редкого и оттого столь ценимого, любимого леса, а чуть вдали — небольшая поляна, в нежной зелени которой разбросаны красные фонарики то ли маков, то ли «колонниёт», и даже дети не позволяют себе рвать их — в кровь и плоть израильтянина с раннего детства вводят, словно лекарство, иммунитет на уничтожение диких цветов леса, что, правда, нисколько не ограничивает этого же израильтянина на разведение помоек и свалок по всей стране.
…Подошли четверо юношей–ешиботников (учащихся ешивы — религиозного учебного заведения) в строгих чёрных костюмах, широкополых шляпах, каждый с пакетом святых книг. Им совершенно было наплевать на жару — шли они быстро, уверенно, о чём-то оживлённо переговариваясь. Фима прошёлся своим металлодетектором по их задам и даже не стал спрашивать, есть ли у них оружие. Следом за ними, буквально через пару минут, появился ещё один ешиботник. Он направился к стойке эфиопа, но вдруг передумал и двинулся к Фиме.
Фима провёл по его заду металлодетектором, и… тот вдруг отчаянно заверещал. Фима остолбенел, уставился на прибор, но он уже замолчал, ибо чёрная фигурка юноши резво удалилась от него, через мгновение проскочила в стеклянную дверь «кеньона» и растворилась…
Фима ощутил столь сильное сердцебиение, что вынужден был облокотиться на железную перекладину перил. Придя в себя, стал соображать, стараясь оставаться вменяемым и даже рассудительным.
«Если я помчусь за ним, то вызову панику, а, значит, и столпотворение на выходе, и это может кончиться многими трупами. Сообщить начальнику охраны — и мне конец. Даже если этот „ешиботник“, скорее всего, никакой не террорист… Выгонит меня, как собаку. С волчьим билетом… Он ненавидит меня. Остаётся только самому найти рыжего. Ну, найду… И что дальше? Броситься на него, подмять под себя и таким образом спасти множество людей? Меня не хватит на это… Или, если хватит, буду лежать на нём, а никакого взрыва не будет. Не с чего. Я стану выдающимся общественным посмешищем, меня и в этом случае с треском выгонят с работы. Господи, да что же это я стою?»
Он вдруг почувствовал себя совсем нехорошо. Руки стали трястись, из горла помимо воли исходил тихий стон… Он не заметил, женщина прошла мимо него в этот момент или мужчина, а, может, и вообще никто не проходил…
…Взрыв раздался вдруг. Из страшной густоты его, сначала отчаянный, а потом всё более безнадёжный, бессильный, умирающий и совершенно одинокий, вытек красивый, словно музыка, женский крик. Фима сжался, зажмурился, а когда открыл глаза, увидел, что напарник его, в такт мелодии, тихо льющейся из маленького радиоприёмника, легко и изящно двигает плечами и шеей и подпевает чистым женским голосом…
«В моей ситуации лучший выход из положения — сойти с ума. Но раз этого всё-таки не произошло, я пойду внутрь. Я пойду внутрь и разберусь во всём сам. Тем более, что времени уже прошло достаточно, и мне совершенно ясно, что это был всего лишь милый, абсолютно свой, родной ешиботник, у которого на спине около задницы висят ключи от его ешивы. А что вообще делать верующим в „кеньоне“? Что они могут там купить? Господи, да они ж в туалет пошли!» Он резко хлопнул дверцей своего прохода, крикнул напарнику, что отлучается на несколько минут, и бросился к дверям «кеньона».
Чем больше проходило времени, тем спокойней и ироничней становился Фима. И по дороге в туалет, в тот, который находился на первом этаже, он шёл, уже напевая.
Того, кого он искал, там не было. В туалете на втором этаже — тоже. Он немного занервничал. Стал быстро обходить многочисленные магазины второго этажа. Ничего. Спустился на первый этаж. Снова магазины, затем забегаловки, но уже без всякой надежды найти его — не будет же ешиботник вкушать изыски итальянских, таиландских и прочих кухонь. Потом он вдруг понял, что вообще занимается тупейшим занятием — ищет в громаде «кеньона» одного человека, пусть даже нестандартно одетого. Да он мог, облегчившись, уже выйти из других дверей! Наконец, отправиться на центральную автобусную станцию, устроенную под «каньоном». Да мало ли, где он мог находиться?! И на кой чёрт он нужен ему, если никакого взрыва нет и не будет?!
Фима ощутил, что теряет себя, как личность. Он вдруг понял, что, несмотря на здравые рассуждения, продолжает бессмысленно ходить по магазинам, вновь, незаметно для самого себя, поднявшись на второй этаж. Он бросился вниз по лестнице, быстро добрался до своего поста. Спросил у эфиопа, не выходил ли из «каньона» рыжеватый «ешиботник». Не выходил. Впрочем, как эфиоп мог запомнить? Выход не вход, хотя и находился в непосредственной близости к нему. Ну, и слава Богу. Прошло уж минут пятнадцать… Надо бы забыть об этой ерунде…
И в это время четверо знакомых «ешиботников» выпорхнули из дверей «кеньона». Пятого, того, с длинными, красивыми, рыжеватыми пейсами, среди них не было. Фима захлопнул дверцу своего прохода, догнал юношей, неловко остановился перед ними и, задыхаясь, волнуясь, — а иврит его в такие минуты становился ужасным, — спросил, не с ними ли был ещё один… такой же… ну, в общем, товарищ их, с рыжеватыми пейсами… из той же школы… Обалдевшие «ешиботники» смотрели на него, как на идиота, но, наконец, поняв, о чём идёт речь, отрицательно покачали головами, осторожно обошли Фиму, ускорили шаг, несколько раз оглянулись и скоро исчезли из виду. А Фима почувствовал, что ему снова становится нехорошо. Он вернулся на пост. Напарник спросил, не случилось ли чего. Нет, всё в порядке. Он сделал несколько глотков воды. Но легче не стало. В ушах появился звон… И, сопровождаемый холодком, снизу, от кончиков пальцев ног, медленно, но уверенно, не оставляя свободной ни единую клетку тела, стал подниматься в нём страх, точно такой же незабываемый страх, который довелось ему испытать дважды в своей жизни — первый раз в пионерском лагере, в проклятом 1953-м году, уже летом, после смерти вампира, после «оправдания» врачей, когда после вечернего отбоя подошли к нему четверо пионеров, и один из них произнёс: «Решено тёмную тебе устроить, сука еврейская!», и он не сопротивлялся, не кричал, а только умирал от страха, и его долго, до почти полного провала в сознании, душили подушками… И второй раз, в 1980-м году, когда друзья потащили его, вяло сопротивлявшегося, на демонстрацию евреев, протестующих против отказа им в праве выезда в Израиль, — он к этому времени уже два года как находился в «отказе», — и его схватили милиционеры, бросили в автобус, привезли в какое–то отделение милиции и там оставили на несколько бесконечных часов одного в вонючей, со скользкими стенами камере, где он второй раз в жизни умирал от этого проклятого страха…
Он вытащил «мобильник» и медленно стал набирать номер начальника охраны «кеньона»… Но на последней цифре остановился, потому что увидел стремительно приближающихся двух полицейских. Почти бегом они проскочили через проход, охраняемый эфиопом, быстро и, как показалось Фиме, многозначительно взглянули на него и исчезли в дверях.
И глаза Фимы наполнились горячими слезами. «В конце концов, я не обучен профессии охранника. Я пожилой человек, скромный инженер. Что я здесь делаю? Ради поездок за границу? Но зачем мне это? Всё равно я ничего не запоминаю! Я даже не помню, в каком году где был! Я нервный, восприимчивый человек, трус, любитель поговорить и выпить. Я не охранник. Я не умею охранять. Я ненавижу выходящие из–под контроля ситуации. Я завтра же уволюсь! Ещё один такой случай, и я умру от разрыва сердца».
Неожиданно он вспомнил, как прошлым летом к нему подбежала взволнованная женщина и сообщила, что видела в припаркованной машине кричащего ребёнка. Он бросился с ней к машине, увидел в детском кресле ребёнка, уже бессильно склонившего головку, немедленно позвонил начальнику охраны, потом в полицию, и услышал, как полицейский заорал ему в трубку: «Бей стёкла! Я отвечаю! Бей!!» Всё в нём кипело от восторга. Вдвоём с ещё одним подоспевшим охранником, на виду уже собравшейся толпы, они яростно разбили камнями стекло передней дверцы, изнутри открыли заднюю и под истеричные вопли машины вытащили терявшего сознание ребёнка. Кто-то догадался облить его минеральной водой из бутылки. Малыш открыл глаза и заревел. Здоровым, хорошим рёвом. Примчались полицейские, потом обезумевшая мать, которая всё пыталась поцеловать Фимину руку. Это был красивый случай. Описанный даже в местной газете, правда, без указания фамилий главных действующих лиц. Но всего один за уже трёхлетнюю его службу в охране. Всё остальное время — скука, тоска… И вот на тебе…
И вдруг ему всё стало безразлично. Он продолжал осматривать сумки и водить «галаем» (металлоискатель) по спинам и задницам, но бессознательно. Он потерял сознание, оставаясь на ногах и продолжая выполнять свою работу.
…Когда «ешиботник» с рыжеватыми пейсами прошёл мимо него, держа в руке красивый пакет, видимо, с обувью, Фима не бросился за ним, не стал выяснять, почему спина юноша набита металлом. Он просто заплакал. Да ещё из носа потекло. Фима захлопнул дверцу своего прохода и бросился в туалет. Облегчившись, умывшись, он вернулся на свой пост и всё оставшееся до конца смены время благодарил Бога, что ни одна живая душа никогда не узнает, что приключилось с ним за эти проклятые двадцать минут… Да, да — всего за двадцать минут.
Аллергия
— Я ему всегда говорю — не покупай старьё! Нет, не послушался…
Она рассмеялась, прижав руки к груди, чуть наклонилась, и я с трудом отвёл глаза от картины, приоткрывшейся перед моими глазами.
Чёрт знает, что с модой происходит! Многие женщины открыли свои груди так, что ходишь по улицам, не замечая реклам магазинов! Позавчера я дважды прошёл мимо банка! Открываешь для себя поразительные вещи! Во-первых — невероятное разнообразие форм грудей! Во-вторых — чем более открыты груди, тем более привлекательно лицо их носительницы! В-третьих…
…Я обожал приезжать к ним. Их мошав, недалеко от Тверии, совсем близко к городку Пария, находится в десяти минутах ходьбы от невысокой — менее метра — бетонной стены, отделяющей мир от пропасти, несущейся почти вертикально вниз, в Кинерет. И ты, навалившись грудью на эту бетонную стену, повисаешь над озером, над всем великим озером. Над его сияющей голубизной. Над его тайной. Поднявшись над озером, не ощущаешь себя победителем. А, скорее, счастливцем, избранником, сподобившимся увидеть такое. Смотри и молчи. Впитывай красоту. Это вода твоей страны.
Она работала медсестрой в местной больнице; муж, коренной израильтянин, рыбачил. Брак их был вполне счастливым — трёх детишек несчастливые не рожают. Она примчалась в Израиль из Витебска. Одна, через два года после Чернобыля. Родители её, работники несчастной атомной станции, из российской больницы не вышли. Металась по стране, пока ей не предложили работу в этой больнице.
… — До Тверии — продолжала она — нам езды–то всего минут двадцать, да всё вниз. А обратно — ползём. Но ничего, добирались. Да и нужно нам в город раз–два в неделю, а иногда и того реже. Слава Богу — почти всё, что надо, под рукой. Беда у нас только с мороженым. Нет выбора. А дети, однажды слопав в Тверии какое-то особое шоколадное, заболели им, и попробуй хоть раз в неделю не привези им его! И тогда оно и случилось. Мы заметили, что когда везём домой это, будь оно неладно, шоколадное, мороженое, машина примерно за два километра до дома глохнет. А когда возвращаемся из Тверии без мороженого — никаких проблем. Ладно б раз случилось или два, а то всё время одно и тоже: с мороженым — глохнет, без мороженого — нет! Однажды мы проделали такой эксперимент: купили мороженое и по дороге домой остановились, заглушили машину и стали ждать кого-нибудь, кто, как и мы, возвращается из Тверии. Дождались, перегрузили им мороженое, и добрались до дома, как новенькие! И стало нам ясно — у нашей «Тойоты» аллергия на шоколадное мороженое! Только на шоколадное! Потому что однажды мы купили ванильное мороженое и добрались с ним до дома без всяких приключений! Ты слышал такое?! Натан (муж моей очаровательной собеседницы) звонит в компанию, где мы купили машину, рассказывает, в чём дело, над ним смеются, но присылают своего техника — молодого парнишку, милого, доверчивого, которому что угодно в голову втюхать можно. Ну, мы и проделали с машиной в его присутствии всё, что надо. С шоколадным мороженым и без. С шоколадным мороженым и ванильным. Он потом часа два в двигателе копался, что-то там обнаружил, потом — не поверишь! — попросил шарик шоколадного мороженого и давай им водить под открытым капотом. И представляешь — машина заглохла! Как тебе такая история? Уехал от нас парнишка с выпученными глазами. В документе мы так и потребовали записать: «Аллергия на шоколадное мороженое». Из компании потом звонили и кричали, что они постараются, чтобы весь Израиль над нами смеялся, и велели немедленно пригнать машину. Через день мы получили её обратно, совершенно от «аллергии» излеченную.
Она вновь рассмеялась. Можете мне поверить, что и комната в этот момент посветлела. Волшебная сила счастливой женщины. Потом склонила чуть набок голову и с жалостью на меня посмотрела. Что она не врала про машину — это точно. Она просто не умела врать.
— Что же было с машиной на самом деле?
— А ты не догадываешься?
— Нет…
— Эх, еврейские головы… Что с вами стало? Я, женщина, и то догадалась! За мороженым этим шоколадным никогда не было очереди. Понимаешь?
— Нет…
— Ну, мы и не глушили поэтому машину. Не давали ей отдохнуть, старенькой. Вот она и глохла по дороге. А за ванильным всегда толпа была, да и за другими покупками, вот мы и глушили машину. Она отдыхала и благополучно добиралась домой. Старость — она на что угодно аллергик…
— Погоди, а когда механик этот крутил шоколадным мороженым под капотом?..
— Так мы только из города приехали, потом он с мотором возился, а тут ещё и… шоколадное мороженое… Вот машина и не выдержала. Что она, лошадь, что ли?
И она сладко рассмеялась…
…Ну почему не дано мне вот так радоваться жизни?
Около больницы
Рядом с будкой охранника, у самых ворот больницы остановилась видавшая виды машина. Из неё неловко вылез средних лет человек, помятый, весь в чёрном, с жидкой чёрной бородёнкой, бледный, растерянный, в шляпе, из-под которой свисали длинные, пейсы–пружинки. Обошёл машину, сунул голову в окно, что-то сказал спутнице — молодой, замученной женщине с огромным животом, на котором лежали её чуть подрагивающие белые худые руки, — и направился к охраннику. Охранник, полная противоположность описанному выше человеку, — молодая кровь с молоком, веснушчатая физиономия, пышные рыжие кудри и бьющая в глаза, полная независимость от Бога — с интересом осматривал осторожно приближавшегося к нему человека. Наконец, тот добрался до охранника, внимательно посмотрел на него, вздохнул и спросил:
— Ты говоришь на иврите?
— Конечно!
— Понимаешь… Короче, я хочу знать, есть ли при больнице «шабатный гой» (нееврей, нанимаемый для работы в субботу)?
— «Шабатный гой»? А, понял… А зачем он тебе?
— Моя жена, с помощью Бога, вот-вот родит. И если это случится в субботу, то я заведу машину и привезу её сюда. Это мне разрешено, это «пикуах нефеш» (помощь человеку, жизни которого угрожает опасность), понимаешь?
— Понимаю…
— Но когда я уже привезу, то кто мне выключит машину? Я не могу этого делать, это уже не «пикуах нефеш»… Суббота, понимаешь?
Глаза рыжего охранника становились всё больше и больше.
— Так попросишь кого-нибудь…
— Что ты говоришь? Я буду еврея просить сделать такое в субботу?
— А как ты доберёшься домой?
— Пешком. Зачем ты спрашиваешь такие вещи?
— Ну, хорошо… Я выключу машину…
— Так ты не еврей?
— Еврей!
— И ты, значит, опять не понимаешь, о чём я тебе говорю?
— Теперь понимаю… Подожди, я начальнику охраны позвоню.
Он набрал телефон и, неотрывно глядя на «ешиботника», стал по–русски объяснять своему начальнику суть проблемы. Судя по выражению его лица, начальник ответил ему очень простыми и доходчивыми словами. Рыжий в полной растерянности положил трубку на рычаг.
— Говорит, что нет у нас никакого «шабатного гоя». Знаешь, позвони лучше главному врачу. Он замечательный человек. Он всё знает…
Охранник вытащил из стопки синий квадратик бумаги, записал на нём номер телефона и протянул печальному еврею.
— А от тебя я могу позвонить?
— Нет, это только телефон охраны…
— Хорошо, спасибо… Я позвоню из дома… Но чтобы не было «шабатного гоя»?..
Дело
Поздним вечером Фима поставил последнюю точку в капризном, постоянно ускользавшем от него рассказе, и, усталый и отрешенный, лежал с широко открытыми глазами, вслушиваясь в шелест апельсиновой рощи, вдыхая запах апельсинового цветения. И самые разнообразные мысли витали, витали, витали…
…Когда, запыхавшись, он подлетел к телефону, тот буквально кипел от негодования.
— Алё! Алё! Да, я! Кто? Валера?! Ты откуда звонишь? Из Америки?! Приезжаешь?! К нам?! Когда? В эту пятницу?! Важное дело? Что-нибудь со здоровьем? Нет? И слава Богу! Валера, я балдею… Валера, родной! Уррра! Номер рейса… так… записываю… Какая гостиница?! У меня, конечно! Жду! Встречу! Целую!
Всё в Фиме запело от неожиданно свалившегося на него счастья. Валера… Великий комбинатор, талантливейший пройдоха, близкий, бескорыстный друг, уже пять лет делающий в Америке свой первый миллион. Валера…
Фима прослезился и стал ждать пятницы.
В доме деятельно готовились к встрече высокого американского гостя. Дочери грезили подарками. Жена, обожавшая Валеру, просто-таки помолодела, и Фима не без удивления отметил, что спутница его жизни, когда хочет, может обладать высокой грудью, круглым задом и точёными ножками.
Был куплен виски «Шивас». И редкие фрукты. И обожаемая Валерой селедочка. И, конечно, «национальная гордость» — хумус и пита. Кстати, за ними Фиму в четверг вечером погнали аж в Яффо, к великому продавцу этой «национальной гордости» — Абулафия.
Когда в пространстве встречающих, куда, словно гайки с конвейера, высыпали прибывшие пассажиры, показался поразительно не изменившийся, поразительно тот же широколицый, улыбающийся Валера, Фима едва не задохнулся от приступа рыдания.
Сентиментальность мучила его ужасно…
Страшны первые минуты после долгой разлуки. Ни междометиями, ни хлопаньем по разным частям тела не убить первоначальную отчужденность. И надо скорее к столу, к выпивке, закуске, и говорить, говорить, перебивая друг друга, узнавая, вспоминая, оттаивая, пока из прошлого не придет блаженное чувство прежней близости и когда станет жутко при мысли о неизбежности новой разлуки на черт его знает, сколько лет…
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.