
В мире поэзии всегда дует ветер, мир прозы уютен и привычен. Я говорю не о стихах и прозе, как возможных формах текста, а об образной составляющей, о «форме сло-ва», творящей параллельную, магическую, поэтическую реальность.
«Если мы захотим создать определение «поэтического» и вообще «художественного» восприятия, то, несомненно, натолкнемся на определение: «художественное» вос-приятие — это такое восприятие, при котором переживается форма»1. (Шкловский В. Б. Гамбургский счёт: ствтьи — воспоминания — эссе 1914 — 1933, М., Советский писатель, 1990, С. 34)
Переживание формы возможно только «на ветру», там, где она ещё не устоялась, не покрылась «панцирем повседневности», где мы прямо сейчас читаем, смотрим и слушаем, а не узнаём знакомое и не вспоминаем известное.
Миры поэзии и прозы разделяет стена. Это стена нашего дома. В ней есть двери. Мы выходим через них и каждой клеточкой своей чувствуем ветер, и солнце, и звуки, и запахи. Мы заходим обратно, и с закрытыми глазами находим ложку и смотрим телевизор.
Миры внутри и снаружи ничем не отличаются друг от друга, однако нам представляется, будто мы знаем один из них очень хорошо и можем быть уверены в его незыблемости.
То и другое — суть один огромный волшебный мир. Здесь и там — одни законы.
«Слово, теряя форму, совершает непреложный путь от поэзии к прозе»2. (Потебня А. А., Из записок по теории словесности. Цит. по Шкловский В. Б. Гамбургский счёт: статьи — воспоминания — эссе 1914 — 1933, С. 35)
Путь этот тысячекратно пройден. От восторженных молодой верой песен о «древлем израиле, веселыми ногами пешешествующем» до солидного и стандартного «Бог в помощь», в котором кажется не осталось ничего от Того-Кто-Есть-Любовь. Но что-то сдвигается в Мире, когда этой фразой случайный грибник приветствует в лесу влюблённую парочку.
В. Филимонов
Автор выражает глубокую благодарность Льву Хабарову за понимание, чутьё и интуицию, а также Сергею Воробьеву, Олегу Мильдеру и Дмитрию Тарасову за помощь в подготовке книги.
Профессиональные танцы
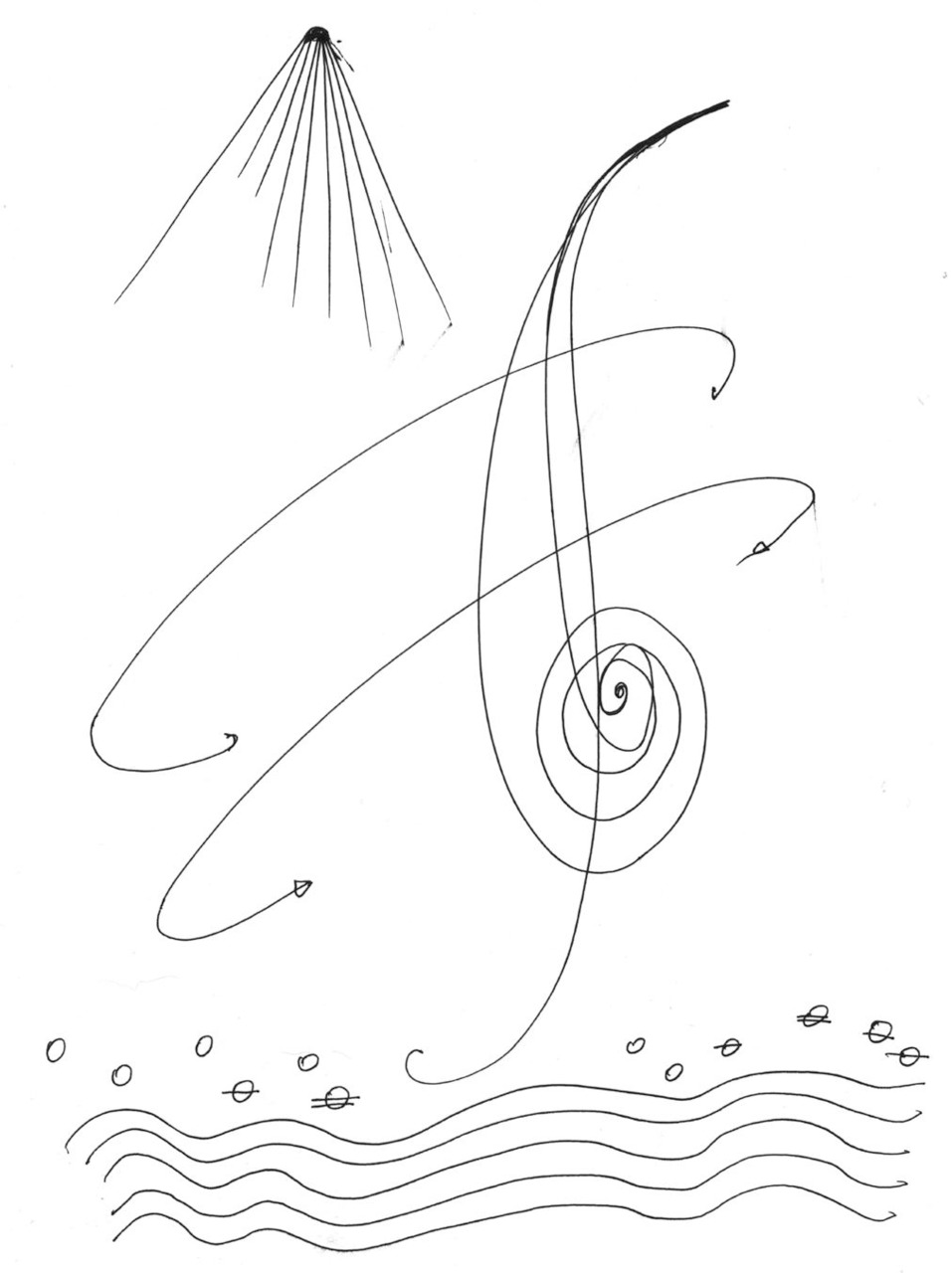
Танец первый
Тёмное синее небо над синим таинственным лесом.
Огромные жёлтые звёзды. Много звёзд и Луна жёлтым сыром дырявым над серым болотным туманом висит себе. Ей хорошо.
Тепло. Тихо. Ни звука, ни ветра, ни вздоха кикимор. Всё спит.
Птица ночная огромная чёрная из темноты в темноту, подобно колибри с цветка на цветок, порхает бесшумно — сама темнота.
Чу! Между синих холмов, тёмных корявых фантазий болотных туманов, случайного блеска воды в лунном свете, ужиком жмётся к земле, вьётся серебряной лентой, дождиком ёлочным новогодним, дорога. Железная. Рельсы сияют холодным, спокойным, разумным.
Медленно движется поезд, мягко по рельсам ступая, стуком колёс не вторгаясь в таинственный сон естества — расписание дело серьёзное.
Машинист напряжённо глядит в темноту, словно ждёт прихода оттуда ответа на главный вопрос. Какой — неизвестно, но главный.
Кочегар застыл неподвижно. Рот открыт и глаза — он не здесь, он слушает музыку топки.
Мерным гуденьем огонь поёт свою песню о вечном мгновении.
Вот оно!
Оба приходят в движение.
Машинист что-то крутит и тычет куда-то руками, и рычаги какие-то тянет.
Кочегар лопату хватает
И бросает, бросает, бросает
Уголь в топку, и в топку, от нетерпения топая.
Машинист включает гудок. Звук огромный ревёт и рвёт сонные грёзы в лохмотья.
Птица чёрная крыльями хлопает. Кикиморы воют, к гудку паровозному терции строят сверху и снизу, и кварты, и сексты, и прочие интервалы.
Рельсы стонут протяжно. Из леса Некрасов кричит про стоны и песни. Поезд мчится быстрее, быстрее, из трубы вырывается пламя, оранжево-жёлтое знамя.
Жёлтые звёзды мохнатые, синее небо горбатое.
Машинист вытирает фуражкой лицо, рука — на плече кочегара.
Кочегар вытирает лопатой живот, рука — на плече машиниста.
Серьёзная радость на лицах.
Стоя боком друг к другу, рука на плече у другого, смотрят вперёд, в темноту.
И начинается танец.
Правой ногой налево, левой ногой направо.
Так повторяют снова и снова, справа — налево, слева — направо.
На левой ноге приседают, правую в сторону тянут. Потом приседают на правой, левую в сторону тянут.
Пяткой по полу стучат каждый раз и кричат радостно, яростно, зычно.
Колёса стучат ритмично. Гудок поёт мелодично. Кикиморы строят прилично.
Звук, отражаясь от синего леса, в синее небо возносится, сверкающей пылью и звоном хрустальным на звёзды расходится.
Тише и тише поёт, но не стихает совсем.
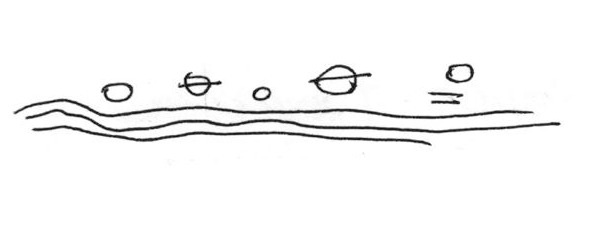
Танец второй
Бухгалтерия выдаёт зарплату три дня, причём в первый день — после часа дня.
А деньги привозят утром.
Их привозят в бронированной машине. Полную машину.
В мешках.
Инкассаторы машину разгружают и несут деньги в бухгалтерию.
А все бухгалтера стоят по стенкам и облизываются.
А главный бухгалтер сидит на стуле, и к его ногам инкассаторы приносят деньги.
Мешками.
Целую машину.
Инкассаторы уходят.
Запирают двери.
Бухгалтера высыпают деньги из мешков. Главный бухгалтер встаёт на стул и с него ныряет в кучу денег.
И все бухгалтера тоже ныряют в деньги, и кувыркаются там, и танцуют, и разбрасывают деньги по комнате, и подбрасывают их до потолка, и подставляют счастливые лица под летящие с неба купюры.
А на самом верху денежной кучи лежит кассир, улыбается и дрыгает ногами.
Часы бьют полдень.
Главный бухгалтер садится на стул. Остальные берут веники, и сметают разбросанные деньги обратно в кучу, и садятся за свои столы.
Счастливые улыбки уходят с лиц.
На лицах — материальная ответствен-ность.
Часы бьют час дня. Кассир выдаёт зарплату.
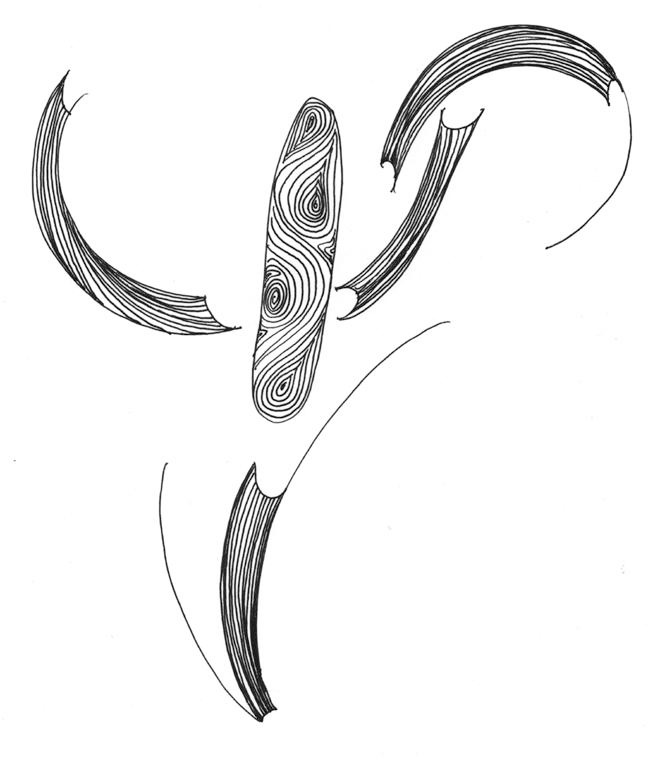
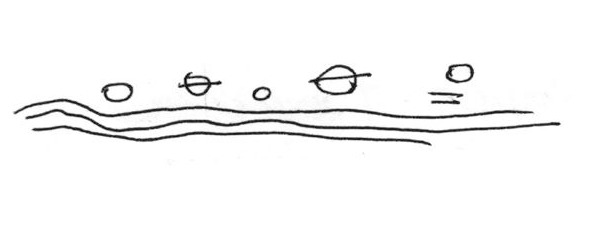
Танец третий
Девушка работала в цветочном магазине. В большом и красивом.
Там продавались цветы.
Там, да-да, продавались цветы.
Ах! продавались цветы.
Девушка с ними разговаривала. Она знала язык цветов. Это опьяняло. Она разговаривала с цветами на языке цветов, а с покупателями она тоже разговаривала на языке цветов.
Каждый день ровно в полдень, когда Солнце, влекомое силой космического порядка, достигало высшей точки своей на сияющем небосклоне, когда все люди, очнувшись от утренней неги и не достигнув ещё неги вечерней, соединялись в трудовом экстазе, забыв друг о друге как о друге и подруге, когда цветы во всём мире, оставив целомудрие, раскрывали свои прелестные лепестки, обнажая самое сокровенное, что есть у них, и источая ароматы, с которыми всё прекрасное, что есть во Вселенной, может лишь сравняться, девушка наслаждалась покоем в прохладе своего магазина среди растений, которым неведомы радости скоротечности. Люди, забывшие друг о друге, забыли и о цветах, поэтому покупателей не было и можно было наслаждаться.
Но, чу! Что это? Что за странное и чудесное чувство, это томление, это ожидание, когда нет сил для покоя, когда хочется бежать куда-то, воздев руки горе, когда ноги сами начинают сгибаться и разгибаться, словно живя своей особенной, отдельной от всего остального жизнью! Что это за музыка звучит в ушах! во всём теле! во всей душе! во всём мире! Что! За Музыка!
Девушка встала с ложа, усыпанного лепестками ландышей, сняла ботиночки и сделала несколько осторожных шагов, словно не доверяя отбившимся от рук ногам. Прохладный каменный пол вселил уверенность. Девушка шагнула смелее. Ещё смелее. И ещё. Ноги несли её прямо к раскинувшимся широким ковром растениям. Она встала на этот ковёр, замерла на миг, потом подняла вверх свои руки и начала танец, притопывая и сжимая и разжимая кулачки, сначала медленно, потом всё быстрее и быстрее.
Растения, на которые она ступала, ласкали своими листьями её пяточки, цветы орошали её своим благоухающим нектаром и устилали своими лепестками подножие ног её, деревья протягивали свои ветви, приветствуя её, и оберегая её, и преклоняясь красоте танца её. И целовали руки её ели и ёлки её.
Девушка кружилась в танце.
Был стан её лианногибок.
Глаза, устремлённые в небо,
Сияли земными цветами.
Руки ласкали листья.
Волосы развевались.
Волосы ветром играли.
Волосы сплетались с травою.
Глаза устремляются в небо.
Девушка лежала среди цветов, не знающих радости скоротечности, и смотрела в небо, прикрытое потолком.
Потом она встала, припудрила носик и улыбнулась.
Наступил вечер, люди вспомнили, что среди них есть мужчины и женщины, и пошли покупать цветы.
Танец четвёртый
Время течёт расплавленным
Стеклом течёт время
Медленно
Диакон машет кадилом.
Бросает в кадило ладан.
Ладана благоухание
Поднимается к небу высокому.
В небе высоком — ангелы.
Белые-белые ангелы.
Нюхают небо ангелы.
И поют, поют ангелы.
Осанна, — поют, — ин эксельсис.
Хоры поют стихиры.
Услыши, — поют, — мя, Господи.
Очень хочется в рай.
Священник нюхает воздух.
Присутствие Духа вне всяких Сомнений, то вера движет
Горами.
Горы движутся медленно.
Совсем почти незаметно.
Им не хочется двигаться.
Но заставляет вера.
Она кого хочешь заставит.
Священник нюхает воздух
Диакон подходит ближе.
Машет кадилом диакон.
Машет, и машет, и машет.
Диакон, диакон, диакон.
Священник, священник, священник.
Нюхает, нюхает, нюхает.
Носом водит налево.
Слева водит направо.
Вослед за кадилом водит.
И нюхает, нюхает, нюхает.
Стопы своя направляет
Вослед движениям носа,
Подобно фреске египетской,
И нюхает, нюхает, нюхает.
Стопы своя направляет
И осторожно притопывает,
Стопами своими притопывает,
Носа крылами похлопывает.
Диакон кадилом помахивает,
Паства мошною потряхивает.
Ангелы кружа'т-кру'жатся,
Осанна, — поют, поднатуживаются.
Диакон кадилом машет.
Священник стопами пляшет.
Стопами о пол шлёпает.
Носом по воздуху ляпает.
Небеса разверзаются.
Дождик начинается.
Танец пятый
Сидя в позе трудолюбья,
Много силы тратя разом,
Воспарить желая к музам,
Напрягая мощный разум,
Заводя крест накрест очи,
От усилья смежив вежды,
Тайн бытийствующих в ночи
Разгадать имел надежду.
Ноги длинные ступали
Под столом нога на ногу.
Руки ловкие лежали,
Шевеляся понемногу.
Головы большая тыква
На носу стоит в тетрадке.
Там написанные буквы
Пребывают в беспорядке.
Где ты, где ты, озаренье!
Где вы, музы и пегасы!
Интеллекта приключенье,
Улетание в пампасы!
Где высокой выше вышки
Вдохновения накал!
Я вскочил, сорвал манишку
И вприсядку танцевал.
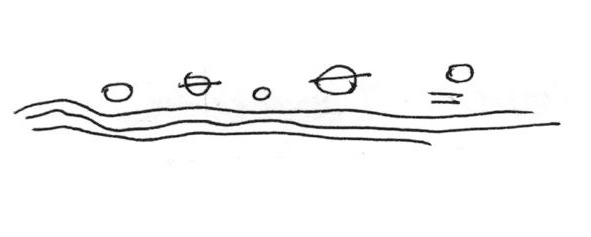
Танец шестой
Медсёстры ставят уколы.
В вену, и в руку, и в мышцу.
Мышцу делят на части
И в верхнюю левую ставят,
Или в верхнюю правую.
Главный врач ходит кругами
Смотрит на мышцы народа.
Зрелище интригует.
Медсёстры шприцами машут.
С размаху иглы втыкают
Во многострадальные мышцы.
Главврач круги ускоряет
И совершает пассы,
Как будто втыкает в мышцы
Иголки очень большие,
Размером примерно с сардельку.
И ходит, и ходит кругами.
Медсёстры едва успевают,
Едва успевают за главным.
Кругами за ним успевают.
Бегут и втыкают иголки.
Поток наконец иссякает.
Кончаются вены и руки,
Кончаются круглые мышцы,
Кончаются даже лопатки,
Уж эти могли бы сдержаться.
Медсёстры вприпрыжку за главным
Несутся и делают пассы
Как будто втыкают в мышцы
Иголки такого размера,
Что главврачу и не снились.
Вприпрыжку кругами несутся.
Впереди всегда самый главный.
Чапаев верхом на картошке
Размахивает сарделькой.
Да, пора пообедать.
А после обеда снова
Вены, и руки, и мышцы.
И так без конца и без края.
Здоровье заботу любит.
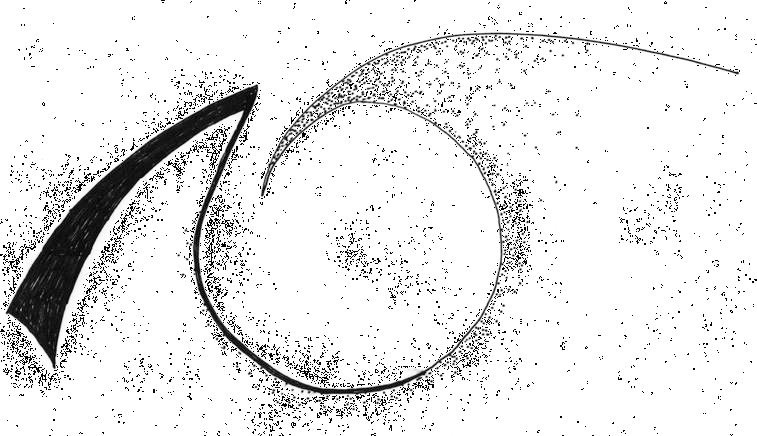
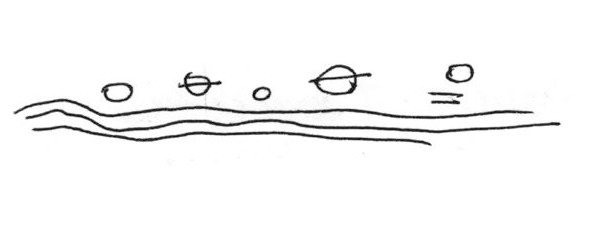
Танец седьмой
Свет небольшой, но не полумрак. Звуки слышны, будто сквозь воду, глуховатые, невнятные. Нет! Не так! Сквозь воду только голоса. Прочие звуки, напротив, отчётливые, высокочастотные. Звон рюмок, тарелок и вилок, скрип стульев. Блики от ёлочных гирлянд на столовом стекле и серебре яр-кие, цветные, острые. Серые фигуры людей будто в тумане. Лиц не видно, голоса сквозь воду.
Появляется музыка. Достаточно громкая чтоб танцевать. Звук чистый, идёт не отсюда.
Оттуда.
Это «Айсберг», песня из репертуара А. Пугачёвой, музыка И. Николаева, слова Л. Козловой.
Голос не Пугачёвой. Мужской, хриплый, интонирует чисто, нарочито манерный:
«Ледянуой горуой уайсберг из тумауна выраустайет…»
С первыми нотами из-за стола медленно и синхронно встают два человека, сидевшие рядом. Оба мужчины, худы, высоки и прямы. Их лица серьёзны. Голова одного чрез-вычайно кругла, другого — весьма волосата. Встают и идут на эстраду. Касаясь плечами, немного наваливаясь друг на друга и подпирая друг друга, похожие вместе на букву «Л» прописную, большую, с двумя головами, круглой и волосатой, соединившись ушами, слитыми в песне.
Шагают, как и вставали, медленно и синхронно. Сначала ногами средними, потом, соответственно, крайними. Обходят стулья, столы. Замысловатым и сложным путём идут на эстраду.
Расклеивши уши, берутся за руки. Шаг в сторону крайней ногой, взмах в ту же сторону средней. Свободной рукой бьют по верхней ноге в районе лодыжки. Лица серьёзные, смотрят всё время туда, куда машут.
Спружинив рукопожатьем, бросаются к центру, и сталкиваются животами. Оба высокие, стройные, выпячивая живот, прогибают спину, откидывают назад голову, круглую и волосатую, и крайнюю ногу, согнутую в колене. Свободной рукой махом вверх, и назад, и вниз касаются поднятой пятки.
Крайние ноги навстречу друг другу стремятся и сталкиваются в аплодисменте. Так же свободные руки.
Снова шаг в сторону крайней ногой. Всё повторяют сначала.
И снова, и снова, и снова. Подобно тому, как вода совершает коловращенье в природе. Бурным потоком стремится с горы, наполняя моря и плантации риса. И поднимается к небу, палимая яростным Солнцем, чтобы затихнуть на миг на сияющем снегом Олимпе и Килиманджаро, и снова низринуться в бездну.
Годы, века и эоны.
«Айяа про всё на свиэте с тоубоую забывуайю…!»
Вихрем врывается женщина.
Стройная, кареглазая, длинношеяя. Нос её тонкий, горбатый, спортивный тянется вверх и вперёд, к месту соединенья стены с потолком.
Взгляд кумулятивной гранаты
направлен в головы, круглую и волосатую.
Сразу.
Декадентские плечи. Руки с тонкими пальцами исполняют призывные жесты: следом за носом спортивным тянутся вверх и вперёд, ладони открыты Солнцу, Луне и манне небесной.
Бег её лёгок. Голень при каждом движеньи захлёстывает вверх и назад, обнажаясь опять же призывно, но отрешённо, безадресно, неспецифично.
Мужчины танцуют. Сосредоточенны и ритмичны.
Смотрят туда, куда машут ногами: в стороны — внутрь, в стороны — внутрь, за горизонт — друг на друга.
Женщина, руки ломая, делает жест отверженья, дескать не надо ей ни того, ни другого. А жалко.
На полном скаку развернувшись, женщина руку назад в направленьи мужчин выставляет и так замирает на долю секунды, на музыкальную долю. Локоть натянут, запястье изогнуто пальцами вверх и ладонью к мужчинам. Другая рука тыльной частью запястья прижата ко лбу. Лицо повёрнуто к небу, глаза страдальчески полуприкрыты. Прямая спина образует единую линию с ближней к мужчинам ногой, нарушается, правда, линия призывным бугром ягодицы. Другая нога, в колене согнувшись, опору даёт всей конструкции.
«А яа в любоувь как в моуре бросауюси са голоуой…!»
Грудью своей встречный поток раздвигая, женщина вихрем несётся к мужчинам. Руки прямые назад, растопырены пальцы, кверху лицо, кверху носом, а подбородком вперёд.
Те продолжают своё. Машут ногами, расходятся, сходятся, сталкиваются животами. Сцилла с Харибдой.
Женщина вихрем несётся к мужчинам, мужчины несутся навстречу друг другу, влекомые рукопожатьем.
Замерла публика. Звон тарелок и рюмок, невнятное бормотанье — всё стихло.
Женщина — вихрем,
мужчины — навстречу, все трое сошлись в единую точку пространства.
И времени. Нулевой интервал между
ними.
«А ты такоуй холоудыный…»
Носа ударом спортивным мужчин развернуло. Рукопожатье разорвано, среднее сделалось крайним, а крайнее средним.
«Женщина между мужчинами как бриллиант на помойке», — сказал Зороастр волосатый.
«Сверкает», — добавил круглоголовый Платон.
«Как айсберг в океуауне…»
Снова берутся за руки, женщина посередине.
Все трое синхронно и музыке в такт левой ногой машут вперёд. Пятка вперёд, кверху носок, нога строго горизонтальна. Левой ногой шаг назад, и удар назад уже правой. Правой ногой шаг вперёд, и всё повторяют сначала.
И снова, и снова, и снова. Солнце восходит, лаская природу розовым прикосновеньем, стремится к Зениту палящей расплавленной медью, и утекает на Запад огненной хризантемой.
Годы, века и эоны.
«И высе твои печуаули…»
Мужчины, касаясь ушами, немного наваливаясь друг на друга, и подпирая друг друга, снова становятся домиком с женщиной посередине, внутри. Плечи касаются женских ушей, нос задаёт направленье.
По прихотливой кривой все трое уходят с эстрады, садятся на место.
Звон рюмок, тарелок и вилок, скрип стульев, блики от ёлочных гирлянд. Фигуры людей будто в тумане. Голоса сквозь воду. Лиц не видно.
«Под тёмноюу водуой!»
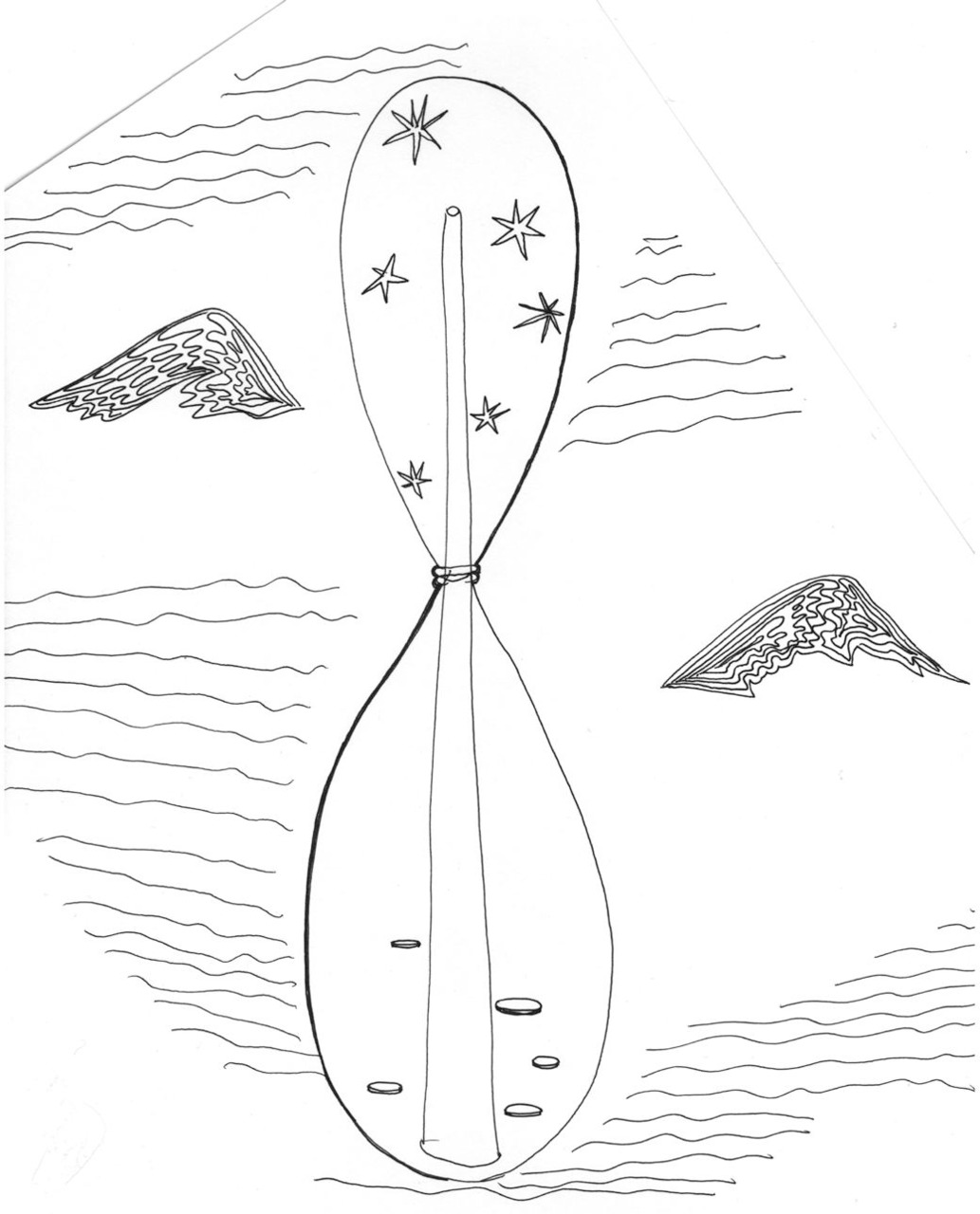
Небо
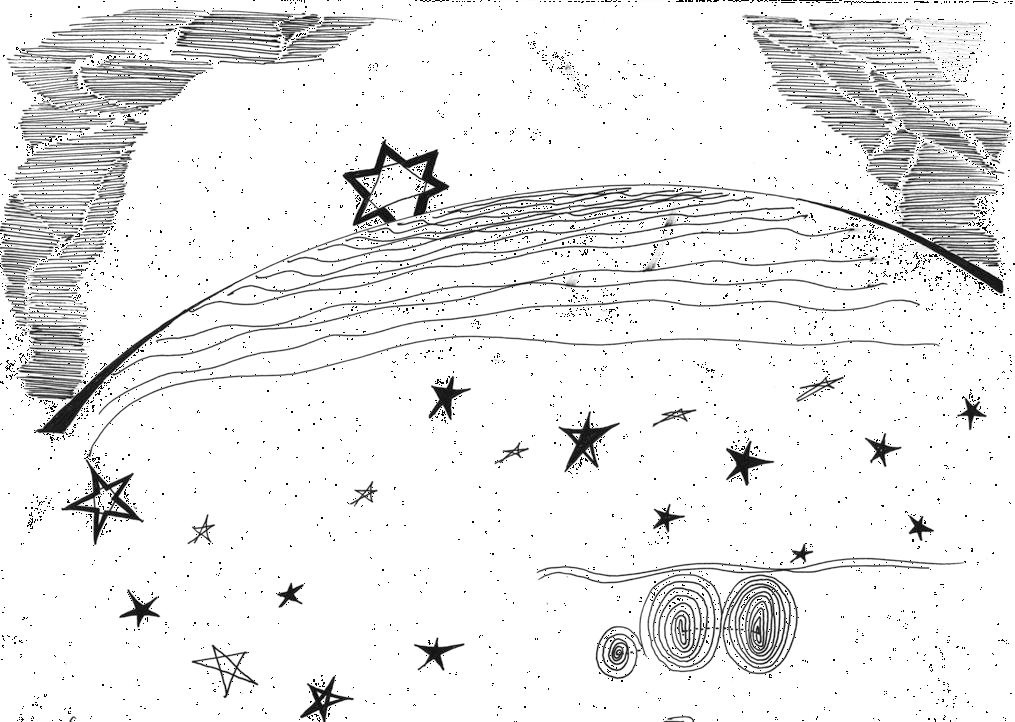
Январь
Чёрное небо становится незаметно-синим, тёмно-тёмно синим. И звёзды, мерцавшие ночью самоцветами, делаются чуть-чуть бледнее, теряя свои краски. Медные Марс и Бетельгейзе, голубая Вега и бриллиантовый Сириус становятся серебристыми снежинками в свете уличных фонарей. Небо светлеет, приобретает глубину. Синий становится ярче, понятнее, и на юго-востоке появляется розовая кайма с фиолетовыми краями, как будто капля ежевичного сока на белой рубашке бледнеет, розовеет, но никак не отстирывается, и мама сердится, а ты стоишь ви-новато и смотришь на волшебные переходы от чёрно-фиолетового через ярко-голубой к бледно-розовому слабому, еле заметному, но стойкому, словно вера в Деда Мороза.
Огромная капля ежевики во всё небо, чистое белее белого небо, и мама отстирывает только маленькую полоску на юго-восточном крае.
Если внимательно смотреть туда в бледно-розовое зарево, когда звёзды начинают гаснуть, то можно, если очень повезёт, увидеть одну звезду. Она ярко-синяя. Она одна такая. Её цвет — цвет синих цветов в середине лета, цвет первой мудрости, цвет знания, хранящего страсть и тепло тела.
Одна Звезда проходит через Неведомое, и только на короткий миг появляется низко над горизонтом там, где небо розовое. Невозможно проследить её путь. Она не за-ходит за горизонт, не теряется, когда восход расцвечивает небо всеми цветами от тёмного лазурита до нагло-зелёного и огненно-жёлтого — куда там радуге! Она приходит вместе с лёгким и ласкающим первым предутренним движением просыпающегося воздуха и уходит за ткань неба, когда Солнце, очертив золотом розово-голубые переливы, придаёт твёрдость лёгким фантомам, жившим лишь намёками на самих себя на фоне ежевичных разводов.
Можно ждать её, часами вглядываться в чёрное небо, — нельзя дождаться. Можно увидеть много звёзд ярких, бледнеющих, предсказуемых. Но всё это обычные звёзды, их путь по небу просчитан ещё древними Майя. Синей Звезды нет в календарях. Её путь не поддаётся расчетам. Небо — вопло-щение высшего закона — не удерживает её, она сама себе закон, и является лишь тем, кто готов её увидеть, кто бросает всё: дом, привычки, свою прошлую жизнь, — и идёт в свой Вифлеем, чтобы сохранить в себе младенца Христа.
Она является.
Если, увидев её, продолжать смотреть, любоваться переливами удивительного синего цвета, то она пропадёт, уйдёт за небо и оставит тоску такую, с которой не жить.
И если не умрёшь от этой тоски, то поймёшь, что чем выше восторг, тем глубже боль, и тем больше человек.
А можно бросить на неё один единственный взгляд, опустить глаза и посмотреть по сторонам. Тогда увидишь Одного Человека и почувствуешь Одну Звезду в своём сердце.
Тёмный лазурит и ежевика остаются на севере. И светло-серые обычно дома становятся золотисто-розовыми. Правы древние художники, сработавшие небо на своих фресках самой синей в мире краской. На таком фоне всё кажется лёгким и близким, и удивлённые лица апостолов, ставших свидетелями древнего чуда, и огромные розовые дома, увидевшие новый рассвет.

Февраль
Снег хрустит под ногами. Зимние деревья стоят без намёка на жизнь. Широко раскрытые глаза, видят, как что-то меняется, и не видят, что именно.
Серо-фиолетовое безоблачное небо наполнено светом, ещё не проявившимся, не набравшим тугую весеннюю силу, но, несомненно, существующим. Рождающимся в этот самый момент.
Невидимый свет пропитал воздух. Невидимый, но заметный. И беззвучное потрескивание, гудящая энергия, до поры скрытая, но готовая взорваться новой жизнью.
Правильно делают китайцы — Новый год нужно праздновать именно в начале февраля, когда невидимый свет пропитал воздух.
Ещё вчера было темно, и была зима, и короткий день осторожно прибывал, пытался выбраться из тёмного подземелья. Рождался. А сегодня невидимый свет пропитал воздух.
Над горизонтом со всех сторон широкая буро-фиолетовая полоса сплошных туч. Выше — пустое серо-фиолетовое небо. Граница ровная, идеально очерченная, похожая на очень далёкое и очень высокое горное плато. Неведомый мир, населённый древними расами. Трёхглазыми гигантами, миллионнолетними, мудрыми, неподвижно глядящими в белый огонь нирваны.
Там, где должно быть Солнце, — чистый нестерпимый свет. Два месяца он тайно рос в каких-то невозможных глубинах, и вот вырвался, наконец, пробился сквозь лёгкую светло-стальную завесу, и разлился на добрую четверть неба. Металл, раскалённый неведомой, беспредельной силой, взорвал сосуд, в котором был заперт, и разметался белой хризантемой во все стороны сразу, не зная ещё и не думая о том, куда ему нужно течь на самом деле, пробуя на вкус новую свободу и силу. Его сияние, ничем не ограниченное, расходится волнами блестящих белой сталью иголок, вторгается, впитывается в прозрачную толщину высокого небесного свода.
Свет, пропитавший воздух, ощущается не зрением, а гораздо более древним обонянием. Глазам не дано видеть такой свет, но можно чувствовать его как настроение, как неуловимый запах арбуза, как покалывающее тепло, слегка обжигающее лицо на холодном воздухе. Как знание. Весть о том, что в мир пришёл Свет Невечерний.
Граница между небом и тучами похожа и на линию морского горизонта, поднятую в небо. Солнце плывёт по ней, как воздушный шарик по воде, слегка касаясь, не погружаясь. Это не тучи. Это небо, вывернутое наизнанку, невидимое, ставшее видимым. К двум мирам, горнему и дольнему, добавлен третий, он опоясывает их буро-фиолетовым кольцом, тёмным и плотным. Солнце вечно плывёт по его поверхности, совершая свой суточный круг.
Трёхглазые великаны совместными усилиями творят в темноте недоступное пониманию. Хромые бородатые кузнецы в глубине гор беззвучно куют что-то, наверное, огненный меч, побеждающий тьму.
Приходит время, и вместо меча из-за неба высовывается конопатая рожа мальчишки Хорса. Он смотрит вниз и щурится от им же разлитого в воздухе сияния.
Март
Плотный слежавшийся снег, просевшие, твёрдые, как камень, сугробы. Ветер не сильный, но ледяной, пронизывающий. На тротуарах плотный лёд врос в асфальт, ка-жется, ничто и никогда не сможет его одолеть. Лёд не скользкий, шершавый, наполненный вмёрзшей пылью, армированный, превратившийся в бетон.
Днём на солнце снег подтаивает, оседает, на дорогах сочится водой, вечером — каменеет и кажется холоднее, твёрже, враждебнее зимнего. Нет, не враждебный, он неумест-ный, он — пережиток, чужой, древнее исчадие, вторгшееся в череду радостных намёков на новое тепло. Медведь в теремке.
Морозное небо. На западе у самого горизонта, там, где только что зашло Солнце, блестит узкая жёлтая полоска, над ней — нежная зелень, такая бывает только глубокой зимой. Зелень теряется среди рваных туч, оставшихся после дневных сражений, когда небо меняется с бешеной скоростью. Только что его полностью закрывали тяжёлые тёмные тучи, низкие, свисающие к земле туманными щупальцами каких-то угрюмых чудовищ, пытавшихся пожрать Солнце. И тут же в них появляются пятна яркого пастельного голубого, будто нарисованые прямо поверху, или понизу, — как там правиль-но, — прямо по тучам. Голубые пятна быстро растут, сливаются, и в несколько минут небо становится чистым и светлым, без намёка на эпический кошмар. И тут же снова набегает серая армада с передовыми частями, едущими на лохматых баранах — излюбленном транспорте глобалистов.
Битва продолжается весь день и к вечеру затихает. Враждующие армии поднимают свои штандарты, и небо вспыхивает желтым и зелёным. Потом армии расходятся, и в прорехах туч появляются звёзды, одинокие, бледные на быстро чернеющем небе.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
