
Бесплатный фрагмент - Присоединились к большинству...
Устные рассказы Леонида Хаита, занесённые на бумагу
Книга Леонида Хаита написана о «примкнувших к большинству», потому что большая часть его героев отмечена этим невесёлым определением. Но главное — эта книга о людях, застрявших в живой жизни благодаря своему таланту.
Работа самого Хаита всегда была чудом сказки и праздником одновременно. Его спектакли в обычном кукольном театре и новаторские поиски в созданном им коллективе «Люди и куклы» — форпосты сопротивления тоске и мраку российского застоя тех лет.
О поисках себя в новой стране он пишет без раздражения и усталости, спасаясь по древнему еврейскому обычаю за ширмой юмора.
— Папа, мне сказали в школе, что я еврей. Это правда?
— Конечно, я тоже еврей. И мама тоже.
— Ну а что же мне делать с моим языком? Он же у меня русский… — и я высунул свой язык.
Прочтите книгу Хаита. Это печальная и весёлая книга. Книга об интереснейших событиях и замечательных людях. О нашем прошлом и, очень может быть, о нашем будущем.
Есть в ней сила художественного осмысления и сила документа. Есть магия спора и диспута. Наверное, потому, что Хаит написал очень добрую и искреннюю книгу.
Из статьи Аркадия Красильщикова
«Печаль, полная жизни»
Моим ушедшим друзьям и главным женщинам моей жизни: маме Роне, жене Асе, дочери Елене.
Самая сердечная благодарность
моим дорогим друзьям Леночке и Лёне
Гинчерманам, оказавшим мне бесценное
дружеское участие в создании этой книги.
Умирает старый ребе. Над ним склонились ученики
Ученики: Подождите, учитель! Не уходите! Не оставляйте нас!
Вы ещё не сказали нам, что есть жизнь…
Ребе: Жизнь — это фонтан…
Ученики: Почему фонтан, ребе? Почему фонтан?
Ребе: Так не фонтан…
В самом начале двадцатого века, точнее 9 января 1900 года, журнал «Русское слово» поместил большую фотографию Жюля Верна и его обращение к русскому читателю, в котором прославленный фантаст поздравлял их с началом нового века и предсказал, что наступившее столетие будет эрой электричества.
Многое, очень многое из того, что нас окружает, было предсказано фантастами девятнадцатого века с удивительной точностью.
Освоение космоса, полёт на луну, телевидение, компьютеры, развитие наземного, подземного и воздушного транспорта подробно были описаны писателями далёкого прошлого.
Скажем, Бульвер Литтон описал будущее открытие радия с такой точностью, словно сам при этом присутствовал. Он назвал это таинственное вещество «вриль». С помощью вриля освещаются дороги и дома, излечиваются недуги. Вриль откроет человечеству дорогу в космос.
Этот фантаст описал и разрушительную силу вриля. Крохотное количество этого вещества может разрушить в несколько минут многомиллионный город.
Кстати, другой фантаст, Владимир Никольский, даже указал точную дату взрыва такой бомбы — 1945 год.
В романе А. Робида, переведённом в 1894 году на русский язык, «Двадцатое столетие. Электрическая жизнь», так подробно описано телевидение, многообразие программ — развлекательных, учебных, новостей и т. д., — что создаётся полное впечатление, что автор романа много лет проработал директором телекомпании.
В конце семидесятых годов, по заказу Центральной студии научно-популярных фильмов, я вместе с Зиновием Сагаловым написал сценарий фильма о том, как люди девятнадцатого века представляли себе двадцатый век. Фильм был снят и вышел на экраны. Работа над этим сценарием дала мне возможность перечитать горы научно-фантастической литературы прошлого века.
Конечно, самыми популярными авторами были Жюль Верн и Уэллс. Подсчитано, что из 108 фантастических идей, предсказанных Жюлем Верном, неосуществимыми остались только 10. Из 86 идей Уэллса — 9.
Чудеса, казавшиеся несбыточными жителю девятнадцатого века, реализованы сегодня даже в гораздо большем объёме.
Описывая путешествие на Луну, плавая в своих фантазиях по водам мирового океана, Жюль Верн не высказывал своих предположений о социальном устройстве будущего века. У его читателей сложилось прочное убеждение, что социально-экономическое будущее общества писателя не интересовало.
Но вот недавно французское издательство «Ашетт», владеющее всеми правами на жюль-верновское наследие, раскопало в рукописях писателя неизвестный доселе роман Жюля Верна «Париж сто лет спустя». Кроме традиционных для Жюля Верна научно-технических предвидений, а их немало: от автомобиля с двигателем внутреннего сгорания до электромузыкальных инструментов и факсов, — в романе представлена мрачная картина будущего. Увлечённость писателя грандиозными возможностями науки и техники на этот раз уступила место скептическому отношению к будущему обществу, оснащённому современной техникой. Он предсказал упадок искусства, литературы, падение нравов и бездуховность, а будущую государственную систему описывает так, как будто сам был очевидцем сталинско-брежневских методов слежки за своими гражданами.
Единственную надежду фантаст связывает с тем, что оружие массового уничтожения (появление которого он тоже предугадал) станет для будущего общества сдерживающим фактором и в результате в мире не будет ни войн, ни армий.
Свой первый политический прогноз я сделал 22 июня 1941 года, стоя на полукруглом балконе третьего этажа краснокирпичного пятиэтажного дома номер 23 по улице Рымарской (Клары Цеткин) города Харькова.
Мои военно-политические предсказания внимательно слушали две девочки — двоюродные сёстры Монины: Люда, двенадцати лет, и Валя — одиннадцати.
Точности моего прогнозирования мешал не только мой тринадцатилетний возраст, но и прочно вдолбленный лозунг о том, что воевать мы будем только на чужой территории. Кроме того, в мозгу засели строчки исполняемой по радио песни: «Нас не трогай — мы не тронем, а затронешь — спуску не дадим. И в воде мы не утонем, и в огне мы не горим…»
Одним словом, как пелось уже в другой песне: «Киев бомбили, нам объявили, что началася война».
Стараниями мамы я научился читать в пять лет. А в шесть свободно читал любые тексты. Читать же газеты меня научил папа. Он выписывал много центральных газет, а мне — «Пионерскую правду». Я прочитывал её ежедневно от корки до корки. Мало что помню из этого фундаментального издания, но хорошо запомнил фотографию Риббентропа с букетом белых роз, которые ему доставили из Берлина, чтобы он мог подарить их Улановой. Он присутствовал на балете в Большом театре.
Не могу судить, как жили харьковчане в эти предвоенные годы. Моя жизнь была безоблачной. Небольшими облачками я мог считать только частые болезни. Мама же считала все эти гланды, аденоиды, бронхоадениты главным злом моей, да и своей жизни. И я навсегда запомнил еврейские фамилии профессоров медицины, которых мама систематически поддерживала материально: Яхнис, Цеткин, Файнштейн, Дайхес, Прошкин и многие другие. В остальном мою жизнь заполняла школа, драматический кружок Дворца пионеров и библиотека, в которую мама записала меня в памятном для меня 1934 году. С этого времени книги заменили мне игры со сверстниками, прогулки, мяч и всё такое прочее.
Довоенный Харьков гордился по крайней мере четырьмя вещами: Госпромом (Дом Государственной промышленности — памятник конструктивизма тридцатых годов), многофигурным памятником Тарасу Шевченко (скульптору позировали актёры украинского театра), площадью Дзержинского (харьковчане были убеждены, что большей по величине площади нет во всей Европе) и первым в стране Дворцом пионеров.
До 1934 года Харьков был столицей Украины. Это её первому секретарю партии Петру Постышеву пришла в голову идея организации такого Дворца. Для этого было избрано здание бывшего Дворянского собрания на площади Тевелева (сейчас она, конечно, носит другое название). По бокам центрального входа стояли две чугунные пушки, в здании был роскошный зимний сад. В многочисленных комнатах расположились разные кружки, а драматические, театральные и танцевальные коллективы имели большой зал с настоящей оборудованной сценой.
62-я средняя школа, в которой я учился, находилась на главной улице города — Сумской (она же Карла Либкнехта), напротив знаменитого памятника Шевченко. Но все мои воспоминания связаны не с ней, а с Дворцом пионеров, где мне было куда интересней и веселей. Не помню уже, кто мне рассказал, что сейчас на одном из стендов выставлена моя фотография.
Довоенный Харьков был городом, в котором процент интеллигенции был достаточно велик. В городе было 21 высшее учебное заведение, включая университет, начавший работать ещё в 1805 году, большущий политехнический институт, юридический, медицинский, химический, авиационный, ветеринарный, сельскохозяйственный, автодорожный, фармацевтический и многие другие. Работало более 10 театров. Была консерватория, филармония. Издавалось много газет и журналов. Переезд столицы в Киев освободил город от множества чиновников и партийных функционеров. Ну а жизнь — жизнь была, как и везде в стране, советской.
Мои родители поселились в Харькове в 1925 году. Не знаю, каким образом, но они получили ордер на первую в их совместной жизни комнату в коммунальной квартире по упомянутому мною адресу: Рымарская, 23, квартира 8.
Комната, в которую они въехали, была пустой, мебели в ней не было. На полу валялась бумага, обрывки верёвок, гвозди и другие следы поспешного отъезда бывших хозяев.
Единственным оставленным предметом была чёрная чугунная настольная лампа, изображавшая мопса, стоящего на задних лапах. В его голову была вкручена лампочка, прикрытая зелёным стеклянным абажуром.
Родители были бедны, и комната обставлялась мебелью медленно. Один из маминых братьев подарил диван. Затем были куплены буфет и небольшой письменный стол. На стол поставили лампу. Когда её подключили, родители вдруг обратили внимание на то, что голова у собаки откручивается. Внутри лампы родители обнаружили десять золотых десяток. Этот капитал был ими быстро реализован. Это был правильный поступок. Потому что государство рабочих и крестьян продолжило насильственное изъятие золота.
На два этажа выше, также в коммунальной квартире, получила комнату и родная мамина сестра с мужем.
В первых числах августа 1928 года, в один день и час, сестёр отвезли в родильный дом, где при содействии доктора Попандополо 5-го появился на свет я, а 7-го — мой брат Миша. В семейном архиве долго хранилась мамина записка, адресованная папе, которую мама написала на другой день после моего рождения: «Абрашенька, родной! Должна огорчить и подготовить: у нас родился очень уродливый сын…» Как мне кажется, со временем мама резко изменила своё мнение о моей внешности.
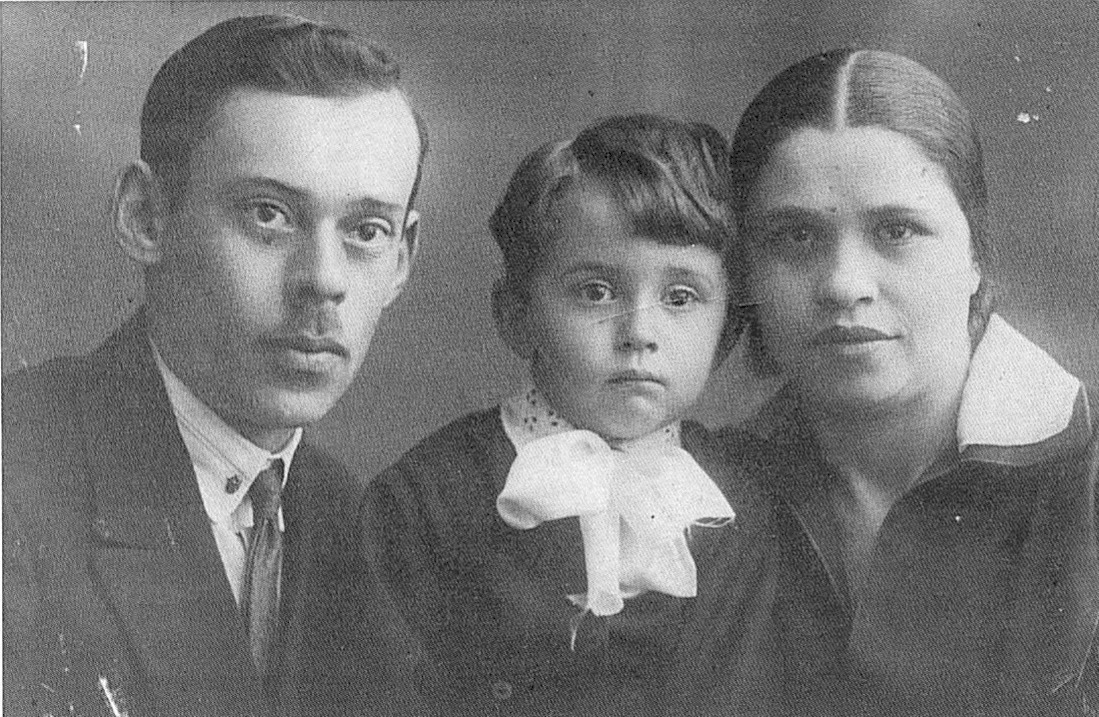
13 августа, на восьмой день моего рождения, мои родители тайком отнесли меня на окраину Харькова, где мне благополучно была произведена брит-мила, единственному из моих многочисленных двоюродных братьев. Так я стал полноценным евреем.
Я благодарен родителям за этот поступок. Во-первых, они проявили известную смелость. В те времена они могли иметь множество самых серьёзных неприятностей и бед. И, во-вторых, пошли против уже укрепившегося большевистского мировоззрения.
И сейчас, задумываясь над своей практически прожитой жизнью, я нахожу многочисленные связи с тем поступком, на который пошли мои папа и мама.
А моё еврейское совершеннолетие мы не праздновали — началась война. «…А война была. Четыре года. Долгая была война…» Поэт имел в виду четыре года кровопролития, невиданное доселе число жертв, крови, горя и слез.
Однако в 1945 году война не была окончена. Впереди ещё была Япония. Были Хиросима и Нагасаки — первое применение атомных бомб.
Горячая война перешла в холодную. Уже в 1946 году появился анекдот:
Вопрос: «Будет ли новая война?»
Ответ: «Нет, войны не будет. Но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется».
Противостояние Востока и Запада вступило в новое качество. Оно продолжается и сегодня. Но с момента распада Советской империи можно говорить об окончании той, долгой войны и начале совсем другой эпохи.
Ценой невероятных усилий, беспримерных, часто напрасных, жертв Россия обуздала германскую военную машину. Но парадокс заключался в том, что победительницей она не стала. Экономическое, социальное и политическое устройство СССР не могло справиться с Европой. Очень скоро поверженная Германия стала самой мощной, богатой, развитой державой на континенте. А Союз Советских Социалистических Республик был повержен, прекратил своё существование. Голод, разруха, беспредел стали его характеризующими. Государство, победившее разум.
В своём обращении к народу Сталин заявил: «Три года назад Гитлер всенародно провозгласил, что в его задачу входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей…»
Сегодня можно говорить, что задача, которую когда-то поставил перед собой Гитлер, выполнена.
В 1995 году Российская армия покинула Германию.
Когда-то Пётр Великий отправился в Париж — как сказали бы сейчас, на встречу на высшем уровне. Как известно, Пётр отличался непосредственностью и любовью к спиртным напиткам. Нарушая всякий этикет, подвыпивший монарх, к изумлению всех присутствующих, предложил семилетнему Людовику XV покататься, сидя на царской спине.
В 1995 году Б. Ельцин, тоже отличавшийся непосредственностью, во время своего визита в Берлин по поводу ухода войск из Германии, выйдя на площадь после «вкушения», шатаясь, выхватил у дирижёра палочку и самолично продирижировал военным оркестром, поставив музыкальную точку в этой далеко не музыкальной истории.
Первые бомбы упали на Харьков в июле 1941 года. Две попали на городское кладбище, переворотив могилы и разрушив здание крематория, недавно построенное. Третья бомба разорвалась возле трёхэтажного дома на Московском проспекте, рядом с Рыбным мостом.
Ещё не зная страха, я ездил смотреть на это зрелище. От взрыва наружная стена дома рухнула на улицу и обнажённый дом был как бы в разрезе. На внутренней стене висели фотографии, на верёвке — натянутое бельё. Скрытый ранее быт коммунальных квартир был открыт, как в театре.
Начали заклеивать полосками бумаги оконные стёкла крест-накрест. Жильцы домов дежурили на крышах на тот случай, если упадут зажигательные бомбы. Организовали бомбоубежища.
Наша Рымарская улица начиналась у тыльной стороны площади Тевелева, шла параллельно главной улице города — Сумской, делая в конце её поворот, выходивший на неё же. Большинство домов ранее принадлежало страховой компании «Саламандра». Превращённый после 1917 года в коммунальный муравейник, наш дом с одной стороны граничил с Оперным театром, а другой выходил к городскому парку, в котором стоял знаменитый памятник Шевченко.
Дом имел не только центральный вход, но и тяжёлые узорчатые ворота, которые вели во двор. Возле ворот, с внутренней стороны, был флигелёк — сторожка, в которой жил дворник Василий Васильевич. Как и полагалось в то время, в белом фартуке с большой бляхой на груди. Жил он с дочерью — молодой девушкой лет восемнадцати. Была она изумительно красивой. Во всяком случае, так утверждали все наши соседи. Василий Васильевич представлял советскую власть на её, так сказать, нижнем звене, и его все боялись. В его функции входило поддержание не только чистоты, но и порядка. Он обязательно провожал тех жильцов, которых увозил «чёрный ворон», и вселял новых жильцов.
Во дворе дома в самом начале войны был, уж не знаю кем, обнаружен вход в подземелье, в катакомбы, которые, как говорили, петляли под всем городом. Значительную часть их очистили, провели электричество и превратили в бомбоубежище, в котором во время налётов пряталась половина улицы.
Буквально за день до войны папа и мама взяли меня с собой в театр. В помещении Оперного театра, как я уже говорил, соседствующего с нашим домом, шли гастроли Московского государственного еврейского театра, которым руководил знаменитый Михоэлс.
Я думаю, что мама часто водила меня в театр. Однако из увиденного я запомнил только «Евгения Онегина» в опере и, довольно смутно, спектакль в Театре юного глядача (зрителя) — «Сузгирья Гончих Псив» («Созвездие Гончих Псов»).
«Блуждающие звёзды» по Шолом-Алейхему я запомнил на всю жизнь.
Я помню все мизансцены, каждого актёра, помню каждый костюм. Особенно почему-то запомнил клетчатый костюм Альберта Щупака. До сих пор помню впечатление от сцены пожара. Навсегда запомнил песню «Кум, кум цу мир». Потрясающего Зускина в роли Гоцмаха, его кашель, то, как уговаривал он молодого Лейбла Рафаловича уехать с театром. Одним словом, этот спектакль — самое сильное театральное впечатление. Первое театральное потрясение в жизни.
И надо же такому случиться! Теперь я живу в одном доме, четырьмя этажами выше, с той артисткой, которая в этом спектакле играла молодую Рейзл — Этель Ковенской.
Я хорошо запомнил лица актёров этого спектакля ещё и потому, что, когда начиналась бомбежка, они прятались в том же самом бомбоубежище, что и мы. И у меня была возможность рассмотреть каждого.
Было лето. Занятий в школе не было, а свободного времени — хоть отбавляй. Когда удавалось улизнуть от мамы, я бегал в сад смотреть на зенитные установки, расположившиеся над обрывом. А вечерами следил за перечёркивающими небо лучами прожекторов. Иногда в их лучах появлялся самолёт и вокруг него рассыпались белые облака взрывов снарядов зенитных орудий. На площади Дзержинского выставили подбитый немецкий самолёт.
Фронт приближался. Началась эвакуация. Никто не отвечал на вопрос, как могло случиться, что «непобедимая и легендарная» так стремительно отступает, что так много городов уже занято немцами.
Сворачивались и уезжали заводы. А в Харькове их было много. Причём гиганты. Тракторный, турбинный, электромеханический, «Серп и молот».
Уезжали институты — проектные, научные, исследовательские.
Город покидали люди.
В нашей квартире проживали Ратнеры, старики Шур, Дубнов — работник коммунального хозяйства, Мисевры, она учительница украинского языка, он — инженер, их дочь Галя, только что закончившая школу, большая семья Мониных, Давыдовых, ну и наша.
Неожиданно выяснилось, что, кроме семьи Мисевры, все остальные жильцы — евреи.
Для меня это было открытием.
Как ни странно, но эта многолюдная квартира жила мирно. Естественно, что у каждой семьи был свой счётчик электроэнергии, свой звонок на дверях, свое «седалище» в туалете и свой кухонный столик в большой, но почему-то тёмной кухне. Общий балкон был увешан бельём. В ванной комнате стояла невероятно большая, но ржавая ванна. В ней никто не купался. Размеры её позволяли ставить в неё корытца, тазики и в них производить омовение. Очереди в туалет были естественными. Жильцы ходили друг к другу в гости, пили чай, одалживали деньги «до получки».
Мы уезжали последние. Впрочем, не уезжали, а уходили. Чья-то мудрая власть бросила папу, он был инженером-строителем, на восстановление разрушенных объектов.
Восстанавливать их было незачем, так как другие инженерные части взрывали подобные объекты по приказу того же начальства.
Сталин издал приказ, по которому врагу не должно было ничего достаться. Поэтому взорвали даже Дворец пионеров.
Муж учительницы Мисевры, не помню его имени, носил краги. Я всегда с некоторой завистью и любопытством засматривался на это коричневое кожаное изделие с пряжками по бокам, хоть видел их на нём ежедневно — ничего другого он не носил. В первые годы войны все искали шпионов и диверсантов, подающих немецким самолётам сигналы. Ведь в городе было введено затемнение. Мисевра со своими крагами был идеальной находкой для харьковских пионеров. В качестве немецкого шпиона его приводили в милицию по несколько раз в день. Через пару месяцев, отчаявшись, он поменял обувь и стал простым смертным. Причём смертным в прямом смысле этого слова. Перед самой оккупацией Харькова он пошёл в село менять вещи на продукты, был взят немцами в качестве заложника и расстрелян.
Для дочери Мисевры, Гали, 1941 год был годом окончания школы и началом первой любви. Полюбила она своего одноклассника, которого, конечно, в первые годы войны призвали в армию. Перед его уходом на фронт они расписались в ЗАГСе, который находился как раз напротив нашего дома, по другую сторону улицы. Помню, что с мальчишками я совершал экскурсии в это учреждение и запомнил, что стену зала, где, собственно говоря, и совершался акт бракосочетания, занимала огромная картина, изображавшая Семёна Михайловича Будённого, принимавшего парад Первой конной армии.
С моей мамой Мисевра была беспредельно доверительна. Не смущаясь, переполненная эмоциями, она говорила:
— Пускай мэнэ Бог покарае, Роня Давыдовна, но що угодно, тильки нэ еврэй. Богу молю: пусть вин загынэ, пусть тильки нэ вэртаеться. Нэ можу я, нэ можу. Вы тилькы пробачтэ мэнэ, Роня Давыдовна, я вам як завжды — тильки правду.
Возможно, искупая свою откровенность, а может быть, в связи со своими возникшими еврейскими связями Мисевра совершила в наш адрес благородный поступок.
Когда мы покидали город, немцы были уже рядом. Перед самым уходом у папы резко обострилась его двусторонняя паховая грыжа. Тяжестей он поднимать не мог, еле передвигал ноги. И, кроме того, в доме совсем не было денег. Те, кто выплачивал папе зарплату, уже уехали, а никаких сбережений у нас не было.
Как я уже говорил, мы покидали квартиру последние. Мисевра оставалась. Естественно, она без особого труда овладевала имуществом всех уехавших евреев. Никто не препятствовал ей опустошить и нашу комнату. Тем более что с собой мы взяли только по маленькому рюкзачку, да у меня через плечо висел подаренный мне ко дню рождения фотоаппарат «Фотокор».
Но, узнав о полном отсутствии у нас денег, Мисевра стала приобретать наши вещи, когда мы уже практически стояли в дверях. Конечно, за бесценок, чисто символически, она рассчитывалась с мамой за покрывало, постельное бельё и прочие тряпки. Таким образом родители получили хоть малую толику денег.
Я об этом не забыл. И вот вспоминаю со словами благодарности.
Что такое настоящая война, что такое настоящий ужас, страх, человеческое горе, мы узнали очень скоро, добравшись до станции Балаклея.
Издалека пылало зарево. Станцию только что жестоко бомбили. Горели интендантские склады, почти примыкавшие к станционным строениям. Пролетело два штурмовика, поливая из пулемётов скопление людей у вокзала и на платформах. Горел разрушенный состав, только прибывший в Балаклею. Валялось множество трупов. Стоял смрад, дым, вопли. Охрана отстреливалась от мародёров, лезших на склады. Другие грабители копошились на платформах, вытряхивая содержимое чемоданов в свои мешки, обыскивая убитых.
Из шока нас вывел крик о том, что остался один-единственный неразрушенный путь, с которого срочно отправляется состав. Мы бросились туда. Толпа, штурмовавшая несколько вагонов, сорвала у всех троих наши рюкзачки. Фотоаппарат я выбросил сам. Буквально чудом мы оказались в одном товарном вагоне, стиснутые людской массой орущих людей. Поезд тронулся. Куда — этого не знал никто.
Доехали мы до станции Красный Лиман. Там нас заставили освободить вагоны. Начался долгий, мучительный путь в эвакуацию, в Сибирь.
Пока мы двигались на восток, мои будущие товарищи, друзья, учителя и наставники уезжали в другую сторону. На запад.
Боря Милявский, Лёва Лившиц, Арон Каневский, Шура Светов, Саша Хазин попали в сформированную в Харькове фронтовую газету 18-й армии. Политруком её был Леонид Ильич Брежнев. Главным редактором был назначен кадровый журналист Верховский.
Лёва и Боря были выпускниками филологического факультета Харьковского университета. Арон учился в автодорожном. Шура и Саша работали в газете. Мы встретились, познакомились, подружились в 1945-м, после войны.
Что есть прошлое? Что есть будущее? Когда начинается прошлое? Когда начинается будущее? «Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь». Неужели только миг соединяет эти категории в физическом и философском смысле?
Прошлое осмысливают, в будущее — смотрят. Фантасты многих веков, засматривая в будущее, мечтали о машине времени, дабы отправиться в путешествие в минувшие века.
А рядом с ними, независимо от них, человечество создало такие машины.
Это книги. Мириады книг. Вот я могу снять со своей полки стихи Гумилёва и очутиться в Серебряной эпохе начала прошлого века. А возьми я томик Мигеля де Сервантеса Сааведры — и окажусь в далёкой и старой Испании. Хочу ещё дальше? Пожалуйста: Вергилий — I век до нашей эры.
Книги — память человечества. Это про свою жизнь можно забыть, припоминать не самое существенное, а так, пустяки.
Общая память человечества прочно упрятана в толстые и тонкие тома.
С детства я испытывал благоговение перед библиотеками. Четыре из них — сладчайшее воспоминание, истинное наслаждение, великие часы, проведённые в залах: Библиотека им. Короленко (Харьков), Ленинка и Историческая библиотека (Москва) и Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.
Приведённая в строгий порядок, память человечества стоит на их полках.
С будущим сложнее. Может быть, самое обидное в человеческой смерти, смерти конкретного человека, то, что он не узнает, что же произошло на самом деле. Как справилось человечество с постоянно возникающими перед ним сложнейшими задачами. Ты, ты сам?
За кого вышла замуж твоя внучка? Кем стали её дети? Сможет ли она по-русски прочесть без перевода то, что здесь написано? И, главное, захочет ли?
Сохранится ли Израиль в наступающем веке? Посетит ли благоденствие Россию? Кто победит в противостоянии мусульманской и христианской цивилизаций?
Вопросы, вопросы, загадки. Ответ неизвестен.
Техника и наука в быту будущего века во многом предсказуемы. На Марс полетят уже в нынешнем столетии. Успехи науки будут фантастичны. Электроника проникнет во все сферы жизни. Информатика станет главной характеризующей времени. Это ясно. А человек? Каким будет человек наступившего века? Справится ли он с гениальными техническими открытиями XXI века?
Это очень серьёзный вопрос. Очень.
С развитием человека рос и его мозг. На прибавку одного грамма мозга у наших предков уходило по одному — по два тысячелетия. По сорок — восемьдесят поколений!
Питекантроп обладал мозгом в 950 кубических сантиметров. А у неандертальца стотысячелетней давности мозг был крупнее, чем у нас. Но неандерталец не был умнее нас. В данном случае количество не определяло качество.
Наука давно установила, что в среднем мозг нормального человека сегодняшней цивилизации весит 1375 грамм. Бывает больше, бывает меньше. У многих великих людей вес мозга измеряли. У Анатоля Франса мозг весил 1017 грамм, а у Тургенева тянул на 2017. А, скажем, Менделеев имел 1571 грамм серого вещества. У Ленина всего 1340.
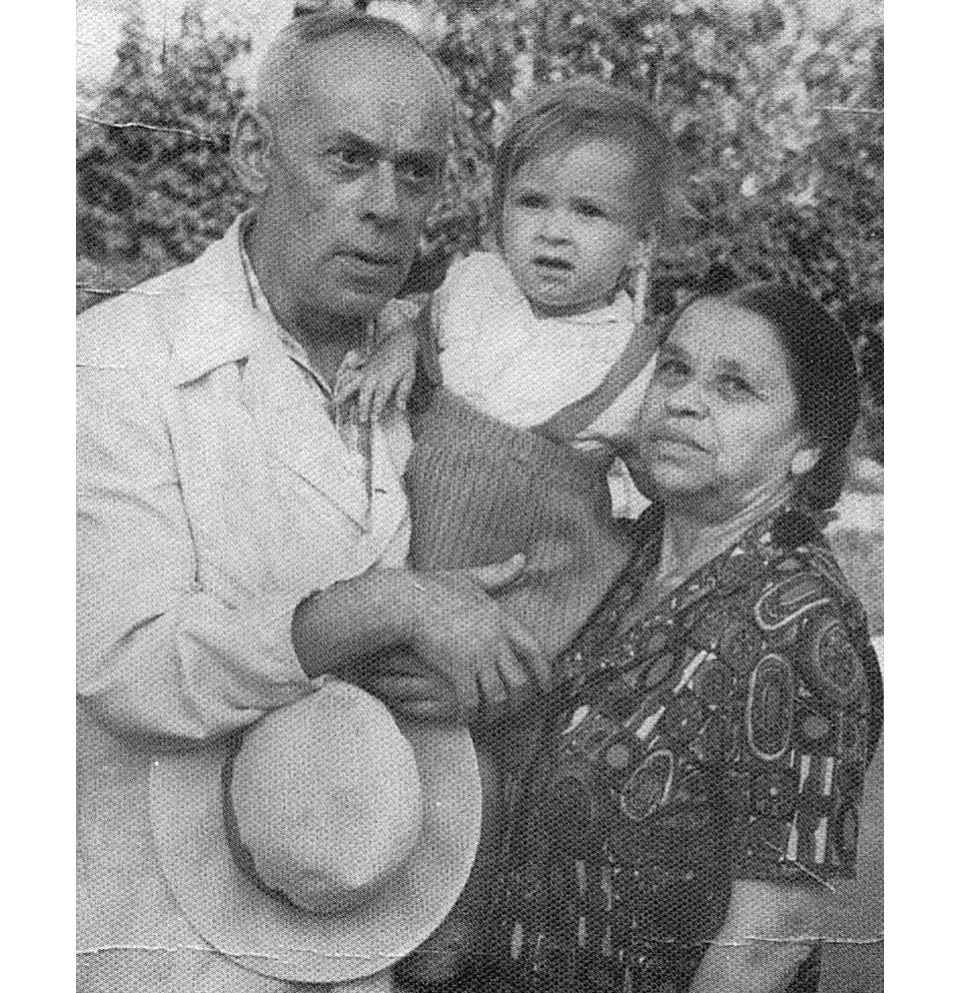

Мозг рос и развивался почти два миллиона лет. И всё это время человечество уже пользовалось «открытиями науки и техники»: сначала камнем и палками, попавшими под руку, потом специально запасёнными, потом специально изготовленными.
Мозг рос — улучшались орудия.
И тут возникает принципиальный вопрос: что же развилось быстрее — мозг или то, что он придумал?
Вначале мозг развивался с той же скоростью, с которой развивалась техника. Иногда даже опережал «технические открытия». Потом техника труда уже еле поспевала за развитием мозга. Ну а потом орудия труда улучшаются уже куда быстрее, чем это происходит с мозгом. На пути от питекантропа к неандертальцу орудия улучшаются впятеро быстрее, чем мозг.
Ну а, скажем, через сорок тысяч лет и вовсе перестал улучшаться. А орудия? Ого-го!
Таким образом, с того времени мы умнее не стали. Но стали другими.
В чём? Почему? Об этом размышления дальше. В этом попытка представить себе человека наступающего века, а может быть, и далее.
Сегодня рядовой читатель уже плохо представляет себе, какой доселе невиданной популярностью, даже у обывателя, далёкого от науки, пользовался Альберт Эйнштейн. Его знаменитая теория относительности превратила его в суперзвезду. Этому не мешало даже то обстоятельство, что большинство людей понятия не имело, что это за теория и с чем её едят.
Ходил даже анекдот.
Один еврей видит в поезде, который едет из, скажем, Москвы в Токио, другого еврея, читающего газету, в которой крупным шрифтом заголовок: «Теория относительности Эйнштейна».
— Скажите, что это за теория?
— Ну как вам объяснить. Представьте, что вы сели голым задом на плиту. Прошла всего секунда, а вам кажется, что целая вечность.
— И что? С этими хохмочками вы едете в Токио?
Но тем не менее импресарио с мировым именем предлагали Эйнштейну лекционные турне по всему свету. Были выпущены сигары, названные его именем. Его портреты, фотографии, на которых Эйнштейн вызывающе показывал язык, продавались тысячами.
И это на протяжении всего одного века.
В английском Альберт-холле собралось более пяти тысяч человек. Выступавший до этого Элтон Джон собрал меньшую кассу. Толпа оцепила зал задолго до появления новой суперзвезды, нового кумира — физика.
Молодая жена выкатила на сцену инвалидную коляску, на которой сидел парализованный пятидесятилетний Стивен Хокинг.
Только что его книга «Краткая история времени» разошлась в количестве 25 миллионов экземпляров.
Немногим более месяца, может быть двух, Хокинг поразил мир заявлением, что теоретически возможны путешествия во времени — вспять. Потрясение вызвала не столько сама новая теория, сколько её противоречие авторитету Эйнштейна.
«Господь Бог не играет в кости», — утверждал Эйнштейн, когда он столкнулся с интерпретацией некоторых положений квантовой механики. Эта фраза Эйнштейна стала лозунгом детерминизма физических законов.
Сегодня Хокинг утверждает, что Бог не только играет в кости, но и «не всегда знает, куда их кидает».
В конце века парализованный Хокинг зачёркивает, и не без доказательств, принципы великого Эйнштейна.
Современная наука основана на постулате о том, что Вселенная управляется чёткими законами. Отсюда вытекает, что раскрытие этих законов позволит предсказывать будущее. Вопрос, поставленный Хокингом, так и звучал: «Можем ли мы предсказывать будущее, если даже ежедневный прогноз погоды, основанный, по-видимому, на законах термодинамики и на знании периодических атмосферных процессов, весьма далёк от точности?»
Ответ Хокинга: предсказание будущего — дело невозможное. Мир подчиняется законам теории вероятности. Это, впрочем, не новость по отношению к объектам квантовой механики.
«Эйнштейн, при всём моём уважении к нему, ошибался, — утверждает Хокинг, — когда не признавал вероятностной основы физических законов».
Многие богословы и учёные резко критиковали Хокинга за ссылки на Бога. Первые — считая, что Хокинг не понимает, что это такое. Вторые — потому, что, по их мнению, это выходит за пределы компетенции науки. Ни тех ни других Хокинг всерьёз не принимал.
Доказательства его взглядов, в сжатом виде, основываются на двух достижениях физики: квантовой теории и явлении чёрных дыр. По словам Хокинга, понимание скрытой природы чёрных дыр, ставшее возможным в самое последнее время, опровергает взгляды Эйнштейна.
Чёрные дыры — до предела сжатое вещество, оставшееся от состарившихся звёзд, — обладают столь сильным гравитационным полем, что притягивают всё, находящееся вблизи. До недавнего времени принято было считать, что чёрные дыры вечны, так же как вечна их «начинка».
«Положение изменилось, когда я выяснил, что они не такие уж чёрные», — рассказывает Хокинг. Он открыл, что чёрные дыры постоянно излучают в пространство вещество и энергию. Это открытие удивило самого учёного, ведь оно означало, что их масса уменьшается и в конце концов они должны исчезнуть. А вместе с ними исчезнет и вся информация, ими накопленная.
«Потеря этой информации только доказывает, — утверждает Хокинг, — что мы в состоянии предвидеть ещё меньше, чем позволяет вероятностный подход квантовой механики. Кроме того, это последнее доказательство ошибки Эйнштейна, который отказывался поверить, что Господь играет в кости. Мы не только с уверенностью можем заявить, что Всевышний играет в кости, но и знаем теперь, что он бросает их туда, где они навсегда исчезнут».
И далее: «Нам остаётся только рассчитывать вероятности. Однако никто не может с уверенностью сказать, что произойдёт завтра. Нельзя сбрасывать со счетов, что у Бога ещё много карт в рукаве».
«Мы верим» — так называется недавно вышедшая книга, в которой 53 крупных американских учёных, среди которых немало лауреатов Нобелевской премии в области физики, химии, биологии, заявляют о своей вере в существование Бога. На основе современных научных открытий они полностью развенчивают теорию Дарвина о происхождении человека.
Ничем не доказано происхождение человека от обезьяны. До сих пор не обнаружено ни одной переходной формы между ними. Найденные останки древнейших людей оказывались впоследствии подделками. Не поддающиеся объяснению упорядоченность и согласованность строения человека и Вселенной приводят многих учёных к вере в Создателя. Труд сделал из обезьяны усталую обезьяну.
Тогда вернёмся к прошлому. К замечательному свойству человеческой памяти, которое называется воспоминанием. Воспоминание как наука называется историей.
История. Мы учим её в школе и изучаем на примере собственной жизни. «История учит…» — говорят нам с трибун и кафедр, с телевизионных экранов и из газетных статей. Ничему она не учит. Мы немедленно забываем её уроки, как самые нерадивые ученики. История учит тому, что она ничему не учит. Это уже банальность.
Шло время. Человеческий мозг научился связывать то, что он видел, с тем, что он слышал. Научился соединять краски и звуки. Он научился понимать, что такое глубина и что такое расстояния. Затем возникла речь. А там уже мозг научился связывать несвязываемое — то есть научился ассоциативному мышлению, и постепенно человек получил возможность стать поэтом и учёным. Настал момент, когда человек стал человеком. И теперь его мозг остановился в своём развитии. Человеку предстояло не столько умнеть, сколько приспосабливаться к себе подобным. И возникло понятие уживчивости, а затем и взаимопомощи — а иначе не выживешь. Возникло удивительное человеческое свойство — сострадание.
Археологи, раскапывая могилы своих далёких предков, обнаружили бесконечное множество искалеченных людей, долгие годы проживших с полученными травмами. Понятно, не душевными, а физическими. Но потом они ещё долго жили на нашей земле, так как нашлись им подобные которые не съели их, не бросили в лесах и пещерах, а заботились о них, ухаживали за ними. Возникло понятие, которое много веков спустя назовут нравственностью.
Одним из его признаков являются могилы. Желание сохранить память об усопшем. Знаменитая формула о том, что «он присоединился к большинству», возникла много веков после погребений, когда ещё живых было больше, чем умерших. И один за другим возникали на нашей планете памятники отошедшим в иной, поначалу непонятный, мир.
А затем человечество стало пересматривать возникшие на его заре нормы нравственности: памятники стали не только создавать, но и уничтожать. Сколько их, снесённых с пьедестала, превращённых в пепел, низвергнутых, сровненных с землёй, давно поросших травой, застроенных другими памятниками новых эпох!
Могильные холмы сметены с лица земли не только ветром, но и забвением.
Из истории вырывают страницы в надежде на то, что пропажу никто не заметит.
И летят в воздух творения художников и памятники эпохи.
Когда-то давно мне довелось побывать в Каунасе. Друзья повезли меня за город смотреть Пажайслисский монастырь. Он оказался закрытым на реставрацию. Пока мои гиды пошли договариваться о возможности проникнуть за запертые ворота, я бродил вокруг монастырской стены среди трав и строительного мусора. И вот случайно наткнулся на две заброшенные, заросшие бурьяном могильные плиты. С трудом прочитал надписи на них:
Действительный тайный советник Алексей Фёдорович Львов. Композитор народного гимна «Боже, царя храни!». Родился 25 мая 1798 года. Скончался 16 декабря 1870 года.
А на другой плите:
Вдова тайного советника Прасковья Агеевна Львова, урождённая Абаза.
Упомянутый «народный гимн» пели после смерти автора ещё довольно долго.
Интересно, у какой монастырской стены будут погребены Михалков и Эль-Регистан?
В 1833 году скрипач и композитор Алексей Фёдорович Львов, после одобрения своего сочинения шефом корпуса жандармов Александром Бенкендорфом, пригласил Николая I прослушать написанный им гимн на слова Василия Андреевича Жуковского «Молитва русского народа» — официальное название гимна «Боже, царя храни!». Государь, прослушав сочинение четыре раза, со словами: «Спасибо, спасибо, прелестно, ты совершенно понял меня», — обнял и расцеловал композитора.
Богиня памяти Мнелюзина тоже похоронена давным-давно.
В 1524 году князь Василий основал в Москве Новодевичий монастырь, чудом уцелевший до нашего времени. Множество событий русской истории связано с этим памятником. С каждым годом события эти тускнеют, уходят из учебников истории и вычёркиваются из утверждённых свыше информаций экскурсоводов.
Воспетый поэтами и историками царь Пётр I вступил на российский престол в десятилетнем возрасте. Правление страной ребёнком вызвало многочисленные внутрисемейные распри. Его мать Наталья Нарышкина находилась с родственниками своего мужа от первого брака боярами Милославскими во взаимоотношениях коммунальной квартиры. Примерно так же, как сегодня, в ход шли любые средства, лишь бы опекунство взяла на себя царевна Софья.
Во внутрисемейной вражде Софья была побеждена. И упрятали её в тот самый Новодевичий монастырь, в который возят сегодня иностранных туристов. Но тогда, три века тому назад, в нём была заточена опальная царевна и под окнами её кельи были повешены, по приказу Петра, трое из 799 опальных стрельцов.
Софья смотрела на их казнь сквозь узкую щель Смоленского собора.
А там, где были казнены мятежные стрельцы, вздумавшие восстать против государя, воздвигнуто государственное кладбище.
Чтобы быть похороненным на нём, необходимо специальное разрешение городского совета.
На кладбище лежат руководители государства, которым не нашлось места в Кремлёвской стене. Над останками генералов и маршалов воздвигнуты каменные фигуры в натуральную величину… На так называемой коммунистической аллее покоятся многочисленные члены РСДРП, бывшие народовольцы, весь клан Аллилуевых, брат Владимира Ильича. Даже Вера Фигнер, умудрившаяся дожить до 1948 года, покоится на этой аллее.
Невдалеке — мхатовцы и их кумир А. П. Чехов. Перенесли сюда и прах Гоголя. Камень, который выкопали из его прежней могилы, теперь служит памятником Михаилу Булгакову.
Целая история государства.
И те, кто стрелял, и те, в кого стреляли, — покоятся рядом.
Вот, например, под этой плитой лежит В. Ульрих — председатель всех знаменитых процессов тридцать седьмого. А это… Впрочем, каждая могила здесь — страница истории и пересказывать её нет смысла.
В студенческие годы у нас была игра, целиком построенная на знании романов Ильфа и Петрова. Мы собирались вместе и устраивали друг другу испытания: надо было точно процитировать авторов, ответить на самые каверзные вопросы: «Какое доказательство привёл Остап Бендер в споре с ксендзами, убедившее Адама Козлевича в том, что Бога нет?» Или, скажем: «Какого цвета носки были на Васисуалии Лоханкине?»
Кроме того, мы писали шуточные диссертации. Помню, что «защищал» их дважды. Одна из них называлась «Вопросы любви и брака в романах Ильфа и Петрова», другая — «Уголовно-правовые воззрения Остапа Бендера». Темы этих диссертаций точно соответствовали содержаниям лекций в Харьковском юридическом институте, где я в то время учился.
Между прочим, институт этот носил имя Лазаря Моисеевича Кагановича. Потом ему присвоили имя Феликса Эдмундовича Дзержинского. Но это так, вскользь, к проблеме памятников. Какое имя он носит сегодня — не знаю.
Итак, мы увлеклись Ильфом и Петровым.
Наверное, поэтому, как только начал работать в театре — предложил инсценировать «Двенадцать стульев».
Впрочем, мои первые воспоминания связаны с другим спектаклем. В пьесе, написанной местным инспектором Управления культуры Зоей Чириковой «Золотой орех», я создавал образ Лошадки. Моя героиня дважды за весь спектакль пробегала из одной кулисы в другую с ржанием, над которым режиссёр спектакля работал достаточно тщательно. Через несколько дней после премьеры я впервые в жизни прочитал свою фамилию в газетной рецензии: «Лошадка (артист Хаит) — не выразительна».
Спектакль «Двенадцать стульев» имел успех. Роль Воробьянинова, которого я играл в спектакле, вызывает и теперь сладкие воспоминания.

Именно в этот период работы над спектаклем пришла счастливая мысль организовать в театре выставку, посвящённую Ильфу и Петрову.
В те годы произведения этих авторов не начинали ещё переиздавать и поколение, чья юность пришлась на военные и послевоенные годы, открывало для себя этих авторов впервые.
Ещё до работы в театре несколько лет ушло на поиски всякого рода материалов о жизни и творчестве этих писателей, и, если бы хватило сил и новые увлечения не увели в сторону, наверное, написал бы о них книжку. В результате этих трудов, навсегда оставшихся в памяти встреч фойе театра превратилось в музей. Десятки стендов, сотни фотографий, тщательно составленная биография, которую я впоследствии подарил Публичной библиотеке имени Короленко, — всё, от первого до последнего издания, рассказывало о писателях.
С нетерпением спешил я в театр, чтобы за час до спектакля проводить зрителя от стенда к стенду, рассказывая взахлёб об их жизни, вообще о сатире тридцатых годов.
Собирая эту выставку, я часто ездил в Москву, чтобы поработать в архиве, встретиться с друзьями писателей, которые тогда ещё почти все были живы. Сейчас мне даже трудно самому поверить, что от Катаева я шёл к Олеше, от него к Эрлиху и Вольпину, встречался с Сельвинским, Кирсановым, много раз бывал у Черемных, первого иллюстратора «Двенадцати стульев» в журнале «30 дней», изводил Кручёных, начавшего собирать альбом об Ильфе и Петрове ещё при их жизни. В этом альбоме, хранящемся сейчас в ЦГАЛИ, куда Кручёных продал своё «хобби» в дни нужды, многие современники оставили свои шутливые записи и рисунки.
До войны, особенно в южных городах, прямо на улице под зонтиками, сидели пожилые люди, зарабатывающие себе на жизнь вырезываниями профиля любого прохожего из чёрной плотной бумаги, в которую заворачивают фотобумагу. Мгновенно, несколько раз взглянув на вас, такой художник на ваших глазах, ножницами вырезал ваш профиль и наклеивал его на белую бумагу. И за какую-то мелочь вы уносили с собой своё черное изображение.
Талантом такого вырезальщика обладал Виктор Ефимович Ардов, друживший с Ильфом и Петровым долгие годы, написавший о них воспоминания — может быть, самые интересные из всех прочитанных или услышанных мною.
В альбоме Кручёных были силуэты Ильфа и Петрова, которые автор сделал при жизни и собственноручно вклеил в этот альбом.
Мы подружились с Виктором Ефимовичем. Я много раз был у него дома, слушал его рассказы о писателях, о многочисленных юмористических журналах того времени. В одном из них Ардов заведовал отделом театральных рецензий. Отдел назывался «Деньги обратно!».
Когда я уезжал, Ардов присылал мне шутливые открытки, в которых серьёзно пытался вовлечь в работу «Крокодила». Из этого, впрочем, ничего не вышло.
В один из последних визитов к Ардову той поры я решил его пофотографировать, сделать портрет для выставки и взять у него старые фотографии, которые он обещал мне подарить.
Помню, что пришёл к нему утром. Он позировал вместе со своей маленькой и очень симпатичной собачкой. Не знаю, чем я, молодой провинциальный парень, мог интересовать Ардова. Но каждое моё посещение его дома затягивалось на много часов.
В тот день, когда я уже собирался уходить, гостеприимный хозяин начал настоятельно уговаривать меня остаться у него обедать. В качестве дополнительной приманки он добавил, что ждёт к обеду одну даму, с которой мне будет интересно познакомиться.
— Если вы ждёте даму, — галантно заявил я, — то мне, наверное, лучше удалиться.
— Нет, молодой человек, с этой дамой не хочется оставаться наедине — ею хочется делиться.
Я воспринял это заявление как очередную шутку хозяина. У меня было полно всяких дел, но Ардов уговаривал, да и, честно говоря, хотелось кушать. Я остался.
Довольно скоро появилась и ожидаемая гостья. Увидев её, я твёрдо решил, что стал жертвой очередного ардовского розыгрыша.
Грузная и в то же время величественная старуха протянула мне руку, невнятно пробормотав своё имя.
Мы сели обедать. За столом разговор шёл на какие-то бытовые темы, совсем меня не интересовавшие. Что-то такое про квартиру, исполком, домоуправление.
В разговоре я, естественно, не участвовал и, насытившись, подумывал о том, как бы поскорее уйти.
Старуха ко мне не обращалась, и только когда Ардов меня представлял, переспросила:
— Вы из Харькова? У меня там есть друзья. Супруги Ролл.
Я ответил, что знаю их, так как, будучи студентом Технологического института, слушал их лекции по химии, естественно ничего из них не запомнив.
Когда, уходя, я стал складывать свои фотопринадлежности, ещё раз предложил сделать общую фотографию. Старуха категорически отказалась. Я не настаивал.
Провожая меня на лестничную клетку, Ардов, распираемый иронией, спросил:
— Молодой человек, а вы знаете, с кем вы сидели за одним столом? Неужели не знаете? Тогда запомните на всю жизнь: вы сидели рядом с Анной Андреевной Ахматовой.
Кому-то из хорошо знавших Ахматову принадлежит фраза: «Глядя на неё, перестаёшь бояться старости».
Однажды Анна Андреевна посетила поликлинику Литфонда. Заполняя карточку, врач спросил у неё:
— Вы кто? Мать писателя или сами пишете?
Известно, что Ахматова не любила август. В августе расстреляли Гумилёва. В августе арестовали сына. В августе навсегда увели последнего мужа — Пунина. В августе вышло постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград».
В августе 1980 года я побывал на кладбище в Комарово, под Ленинградом. Там похоронен мой товарищ Александр Абрамович Хазин. Волею Жданова его имя было поставлено в упомянутом постановлении рядом с именами Ахматовой и Зощенко. Я не думаю, чтобы Саша Хазин приятельствовал при жизни с Анной Андреевной. Во всяком случае, мне он ничего такого не рассказывал. Но после смерти, теперь уже волею случая, они похоронены рядом.
На могиле Ахматовой большой, суровый кованый чёрный крест с чеканкой Спасителя, серокаменная стена и барельеф поэтессы, выдолбленный в камне по знаменитому портрету Модильяни. Красота женщины приковывает. На могиле ни слова, ни даты. Ни фамилии, ни имени.
Между прочим, место на кладбище в Комарово выбрали Иосиф Бродский и сын Виктора Ефимовича Ардова, Миша, с которым я впоследствии долго жил в Москве в одном подъезде дома по улице Черняховского.
Постановление «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» знаменовало собой новое наступление на интеллигенцию, искалечившее жизнь десяткам тысяч людей, а многих лишило и самой жизни.
Я не видел Хазина в тот день, когда дежуривший по харьковской газете «Красное знамя» мой ближайший друг Шура Светов получил ночью текст знаменитого ждановского выступления. Он рассказывал мне потом, что лицо Хазина, к которому он в ту же ночь примчался, покрылось на глазах красными струпьями.
Решение, которое было принято, казалось единственно правильным. На нём настоял Светов, «профессиональный каторжник», как все мы его называли. Хазин уехал. Уехал из Харькова, бросил всё и тем спасся. И уехал не куда-нибудь, а в Ленинград. В тот самый город, где, согласно постановлению, с его писательской деятельностью была связана «откровенная пошлость и неприкрытая ложь на советское общество». «Спрятал» его Аркадий Райкин, устроив Сашу к себе в театр заведующим литературной частью.
Он успел написать хорошую книгу, много стихов, пьесу. В Ленинграде он проболел свою начинающуюся старость. В Ленинграде он и умер.
По разным городам разбросаны могилы моих друзей. Лёва Лившиц лежит в Харькове, Шура Светов — в Риге, Саша Хазин — под Ленинградом, Арон Каневский — в Нью-Йорке.
У Бориса Слуцкого есть строки:
…Умирают мои старики
И гореть за себя поручают.
Орденов не дождались они —
Сразу памятники получают.
Мои родители умерли, папа в 1975, а мама в 1984 году.
Родился папа в первый месяц наступившего двадцатого — 29 января 1900 года в городе Бахмуте, впоследствии переименованном большевиками в Артёмовск.
В городе существовала фирма братьев Лейферовых, которая торговала готовой одеждой. Несколько портных шили у себя на дому брюки, сюртуки, платья для этой фирмы. Одним из таких портных был папин отец, мой дед — Израиль Хаят. Его фамилия точно соответствовала его профессии: Хаят в переводе с иврита — «портной».
Не знаю, на какие деньги и каким образом, но научился он портновскому делу в Париже, что значительно повысило его реноме в маленьком городе.
От первой жены у него родилась в 1989 году дочь Мария, в 1900-м — папа, а в 1901-м — Лейб — сын, которого ласково называли Лёля.
В 1902 году бабушка умерла.
По еврейской традиции Израиль женился на её младшей сестре Вере, у которой от уже умершего мужа был сын Мирон.
В 1904 и 1908 году у папы появились сводные братья — Мойше (Мишель) и Наум (Нёня).
Сегодня уже никого из них нет в живых. Каждый прожил свою жизнь. Каждый заслуживает подробного рассказа.
Хватит ли у меня на это сил?!
К сожалению, вторая жена деда оказалась классической мачехой, множество раз описанной в литературе всех времён и народов. Дети в семье сразу резко были разделены на своих и чужих. Мне даже не хочется заносить на бумагу все собранные мной подробности того периода. Ограничусь тем, что папе и маме было нелегко.
Когда папе исполнилось 15 лет, он уехал в Горловку, где поступил учиться в Горное училище, проработав перед этим на одной из угольных шахт.
В 1918 году, когда началась Гражданская война и в Донбассе побывали войска Центральной рады, деникинцы, немцы, отряды Красной армии и другие борцы за народное счастье, папа вернулся в Бахмут.
В августе 1919 года в город вошли войска Деникина. В конце года Красная армия начала мощное наступление и деникинцы объявили всеобщую мобилизацию.
Перепуганный дед отвёл папу на мобилизационный пункт.
Новобранцев построили в шеренгу.
— Евреи, шаг вперёд, — прозвучала команда.
То ли еврейские юноши решили в той ситуации не выделяться, то ли по другой причине, никто этого шага не сделал.
Так папа стал солдатом деникинской армии.
Под натиском Красной армии белые отряды откатывались к Кавказу. И в первые месяцы 1920 года поражение деникинцев было безусловным.
Папа, отстав от своего отряда, получил контузию, добрался, уже сам, до Владикавказа. У него не было ни документов, ни денег, ни тёплой одежды.
Во Владикавказе папа пошёл в местную синагогу. И поступил правильно: еврейская община снабдила его документами, в которых ничего не значилось о службе в белой армии, дала ему денег на дорогу и тёплую одежду. Заполняя документы, писарь, или как там его называли, случайно изменил одну букву в фамилии, и с этого момента папа перестал быть Хаятом и стал Хаитом.
В Бахмут папа добрался без особых приключений.
А в это время в Бахмут, к своему старшему брату Моте Залесскому и его жене Гисе, приехала погостить двадцатилетняя Роня, в будущем моя мама.
И вот тогда, в 1920 году, встретились впервые мои родители. Возник роман.
Через много лет мама рассказывала, как мучился папа, приходя к ней на свидания. Кроме вручённой ему во Владикавказе одежды, у него ничего не было. Из туфель вылезали пальцы. Однажды он пришёл к ней в бархатной куртке, которую выпросил у Мишеля, младшего сводного брата. Но через некоторое время Мишель передумал и пришёл к месту свидания, чтобы куртку забрать.
С момента возвращения в Бахмут в папиной душе, во всём его существе поселился страх. Что могло быть страшнее в долгие годы советского государства, чем служба в белой армии?
С этим пожирающим человека чувством и отправился он в Москву учиться в Горной академии. С мамой были связаны все жизненные планы, и она обещала ждать его возвращения.
Лишённый какой-нибудь материальной поддержки, папа днём учился, а по ночам работал сторожем на Московской сельскохозяйственной выставке. В трудовой книжке, которая тогда появилась, об этом сделана соответствующая запись.
Так прошло четыре года.
То ли в конце 1924, то ли в начале 1925 года в отдел кадров академии пришло письмо из Артёмовска (Бахмута). Советские органы уведомляли администрацию академии… нет, не о службе в белой армии, а о том, что его отец, Израиль Хаят, имел до революции наёмных рабочих и тем самым является чуждым для советского государства элементом и, следовательно, его сын не может быть студентом высшего учебного заведения. И папа, с соответствующей формулировкой, был отчислен.
Маму он нашёл в Харькове. 5 июня 1925 года они зарегистрировали свой брак.
4 апреля 1975 года папа умер, не дожив двух месяцев до золотой свадьбы.
Папа умирал несколько раз.
Мы вернулись в Харьков с мамой после эвакуации в Сибирь 4 июня 1944 года. Папа работал в Харькове со дня освобождения. Застали мы его в ужасающем состоянии. Он никогда не был полным, а тут… Худющий, заросший, сгибающийся вдвое от боли в животе. Муки от грыжи в паху. Часть дома была разрушена бомбой. Сантехника не работала. Жильцы ходили оправляться в развалины.
Оставалось загадкой, как папа дожил до нашего приезда. Собственно, не нашего, а маминого. От меня было мало прока, а мама бросилась его спасать.
Работал папа много. Транспорта не было. Приходилось пешком преодолевать огромные расстояния. О диете, естественно, никто даже не заикался.
В результате осенью 1945 года у папы случился первый инфаркт и, не долечив его, он получил прободение желудка в результате язвы двенадцатиперстной кишки. И хоть сердце не позволяло — экстренно лёг на операционный стол. Надежды выжить практически не было.
Мама, не отходившая от папы ни на шаг, попросила меня дать телеграмму в Киев, дяде Мишелю, тому самому, который когда-то пожалел для папы свою куртку.
Мишель в папиной семье был фигурой более чем значительной. Он занимал достаточно высокий пост сначала в ГПУ (Главное политическое управление), потом в прокуратуре республики, потом, естественно, с изменением структуры, в НКВД, КГБ и т. д.
В семье все его смертельно боялись. Виделись с ним чрезвычайно редко. В гости он ни к кому не ходил. Иногда звал к себе по очень большим праздникам. Когда столица Украины переехала в Киев, переехал и он туда же вместе со своей семьёй и связь с ним почти прекратилась.
Натура у него была чрезвычайно властная, обладал громоподобным голосом, не терпел возражений. Одним словом, был классическим служакой печально известных организаций.
Приехал он на следующий день после папиной операции, привёз мешок продуктов.
Отлично помню, как я сидел на скамейке у входа в больницу, как он вышел из дверей заплаканный и сел рядом со мной.
— Чем я могу быть тебе полезным?
Я пожал плечами.
— Учёбой доволен?
— Нет.
И я рассказал, что попал в Химико-технологический институт строительных материалов случайно, так как окончил подготовительные курсы при этом институте, и вот теперь вынужден стать черт знает кем, тогда как мечтаю о юридическом образовании.
— Запомни телефон, — сказал Мишель, — через три дня позвонишь по нему. Ответит капитан Альзицер. Назовёшь свою фамилию.
На этом моя беседа и окончилась. В тот день он уехал.
К всеобщему потрясению, папа стал поправляться. Впереди его ожидали новые инфаркты, новые операции, но тогда, благодаря маминым заботам, любви, полнейшей самоотдаче и ещё чему-то, папа поднялся с постели.
А я позвонил по названному телефону.
— Капитан Альзицер слушает.
— Моя фамилия Хаит, — сказал я.
— Завтра с документами явитесь в отдел кадров Юридического института. Назовёте свою фамилию. Желаю удачи.
Никогда больше я не слышал этой фамилии, никогда не увидел этого капитана в лицо, никогда не узнал о нём ни малейшей подробности.
А студентом Юридического института я стал. В течение двух дней приказом по институту я был переведён на учёбу из одного института в другой, несмотря на то, что первый семестр уже окончился.
Мне предстояло сдать экзамены сразу за второй и первый. Что я и сделал. Опыт у меня был. Весной 1945 года я меньше чем за год сдал экзамены за 8-й, 9-й и 10-й классы.
В апреле 1975 года я поехал на театральную конференцию в город Магнитогорск. 4 апреля, утром, был мой доклад. Когда я стоял на трибуне, ко мне подошла директриса магнитогорского театра и, прервав меня, прошептала:
— Вас срочно вызывает Москва. Трубку просили не класть. Идёмте ко мне в кабинет.
Я сразу понял, что случилось что-то из ряда вон выходящее. Извинившись перед аудиторией, я бросился к телефону. Услышал голос моей жены Аси:
— Скорее вылетай. Папе очень плохо. Он в больнице.
Через несколько часов я был уже в Москве. Начал звонить в больницу — тщетно. Нашёл знакомого врача, Серёгу Сегеди, работавшего в этой же больнице. Он связался с отделением. Ему и сообщили: папа умер.
Я так мало с ним переговорил. А вот теперь отсчитываю время: сейчас бы ему было столько-то, тогда столько-то. Этого он не узнал, это не увидел, это не пережил, не разделил со мной удачи, успеха, невзгод.
Теперь я постоянно его вспоминаю, думаю о нём. Память выхватывает то одно, то другое. До войны, по праздникам, он брал меня смотреть на военный парад. Собственно, на сам парад на площади Дзержинского попасть было для нас невозможным. Мы спускались с папой по Мордвиновскому спуску на Клочковскую. По ней возвращались в казармы красноармейцы, грохотали танки, орудия, другая военная техника тех лет.
Не помню его нежностей, поцелуев. А вот руки помню хорошо. На всю жизнь осталось их ощущение.
Па-па. Я никогда не называл его иначе, даже говоря о нём с другими.
Мы с Асей перевезли родителей в Москву 15 декабря 1974 года.
Эти несколько месяцев московской жизни он простоял у окна, глядя на стройку дома во дворе. О чём он думал? Что вспоминал?
Умер он без меня. Махнул рукой, когда его уносили.
Когда приехала скорая помощь, её бригада оказалась абсолютно неподготовленной. Врач не мог сделать внутривенное вливание, облил себя папиной кровью. Это не помешало ему, отмываясь в ванной, украсть только что появившиеся колготки.
Носилок тоже не оказалось. И папу несли к машине на одеяле. Мужских рук тоже не хватило, и Ася бросилась за нашим соседом Лёвой Николаевым, редактором телевизионной передачи «Очевидное — невероятное», а теперь программы «Цивилизация».
Я увидел папу мёртвым, заплатив заранее за бальзамирование. Он лежал красивее, моложе, здоровее, чем я привык его видеть.
Никогда я не сказал ему, как его люблю, как уважаю его неприспособленность, отсутствие практицизма, его неумение разговаривать с начальством…
В жизненных, обыденных ситуациях он был скромен, почти незаметен, немногословен, очень ироничен. При этом я много раз слышал, что он был незаменим в компаниях, в застолье.
Иногда он мурлыкал себе под нос песни на идиш, обрывки молитвенных песнопений. Это к нему я пришёл с вопросом:
— Папа, мне сказали в школе, что я еврей. Это правда?
— Конечно. Я тоже еврей. И мама тоже.
— Ну а что же мне делать с моим языком? Он же у меня русский? — и я высунул свой язык.
Становлюсь похожим на деда
И давно похож на отца…
<…>
Сквозь глобальность и рациональность,
Сквозь одежд современный покрой
Вдруг проступит национальность,
Заиграет отцовская кровь.
Все, что тушевалось, тупилось
В быстротечной сумятице дней —
Незатейливость, тихость, терпимость, —
Выступает ясней и ясней.
И о деде я слышал всё то, что,
Чем мне памятен мой отец.
Вдруг доходит, как старая почта,
Мне доставленная наконец.
Это стихи Бориса Абрамовича Слуцкого, возникшего зримо в самой моей юности. По сей день я произношу его стихи, вижу его перед собой.
Не очень помню, как это произошло. Мне кажется, что я встретил его впервые в доме профессора Яхниса. До войны к этому профессору, тратя немалые деньги, мама водила меня, чтобы избавить от бронхоаденита, бронхиальной астмы. После войны я снова попал в профессорский дом, но уже не в качестве пациента, а как кавалер.
В семье Бориса Львовича, так звали профессора, жила их воспитуемая племянница Нора. Она в те времена училась в 10-м классе 17-й школы. Обучение мальчиков и девочек тогда было раздельным.
В одном с ней классе училась моя приятельница ещё по квартире на Рымарской — Женя Бомар (Давыдова). Она познакомила меня с Норой, моим первым, серьёзным увлечением.
При всех внешних признаках свободы, независимости, даже некоторой развязности, я был юношей очень робким, стыдливым, крайне закомплексованным. Наши отношения определялись, как когда-то говорилось, «он с ней ходит». И мы действительно ходили вместе. Обнять я её не решался. Способ ухаживания я избрал, так скажем, небанальный. У Норы часто собирались её одноклассницы, 5–6 девочек. Я уже был студентом. Девочки усаживались, доставали тетрадки, и я… начинал им читать лекции о французских просветителях XVIII века. Мои бредни они тщательно конспектировали.
Мне кажется, что именно в доме у Норы я и встретил только что демобилизовавшегося из армии после Победы Бориса Слуцкого.
Нора сейчас живёт в Филадельфии. Я много раз виделся с ней и каждый раз забывал спросить её о Борисе.
Но, так или иначе, наша дружба с Норой оборвалась, а со Слуцким возникла, и я смело могу отнести его к первым своим учителям. И в области литературы и в части своей национальной идентификации.
У Абрама, Исака и Якова
Сохранилось немного от
Авраама,
Исаака,
Иакова —
Почитаемых всюду господ.
Уважают везде Авраама —
Прародителя и мудреца,
Обижают повсюду Абрама
Как вредителя и подлеца.
У нас со Слуцким было одно отчество. И нельзя забыть, что эти стихи Борис написал в январе 1953 года: шло «дело врачей».
В то время я знал на память все его стихи.
— По отчеству, — учил Смирнов Василий,
— Их распознать возможно без усилий!
Фамилии — сплошные псевдонимы,
А имена — ни охнуть, ни вздохнуть,
И только в отчествах одних хранимы
Их подоплёка, подлинность и суть.
Действительно: со Слуцкими князьями
Делю фамилию, а Годунов —
Мой тёзка, и, ходите ходуном,
Бориса Слуцкого не уличить в изъяне.
Но отчество Абрамович, Абрам —
Отец, Абрам Наумович, бедняга.
Но он — отец, и отчество, однако,
Я, как отечество, не выдам, не отдам.
Борис «не выдал, не отдал» отечество. Он прошёл всю войну мужественно и достойно. Боевых орденов и медалей у него было больше, чем у очень многих, во всяком случае из тех, кого я хорошо знал.
В последние дни войны, буквально 7 мая 1945 года, он, находясь в составе 3-го Украинского фронта, был офицером отдела разложения войск противника. Было это в Австрии. Выполняя приказ, Борис подполз к расположению противника и в 400 метрах от него начал в упор выкрикивать приказ о капитуляции. Немцам прекрасно была видна худая фигура Слуцкого. Подползший к нему боец передал приказ повторить текст ещё два раза.
Борис подробно описал всё это в своей единственной прозе — «Записках о войне», кстати до сих пор не изданных.
Послевоенная жизнь Слуцкого была нелёгкой. Он вернулся переполненный войной, главной темой всего его творчества. А печатать перестали. Из трёх вышедших книжечек удалили всё лучшее. А потом и вовсе перестали печатать. После его смерти трудами и заботами друга и душеприказчика на свет появилось множество его стихов. Все были потрясены тем, как много написал Борис в те годы, абсолютно не рассчитывая на публикацию.
О своём отношении к женщинам, семье он отлично написал в своём известном стихотворении «Ключ от комнаты».
Он жил бобылём и вдруг полюбил. Полюбил, как говорят, насмерть. Именно так. Потому что её преждевременная смерть от рака была и причиной его смерти. Что он только ни делал, чтобы спасти её. Всё было тщетно.
Второй причиной его гибели было нелепое, безумное, неоправдываемое выступление на секретариате Союза писателей, в котором он осудил Бориса Пастернака в период глумления над гениальным поэтом. И хоть в речи Слуцкого, одноминутной, коротенькой и невнятной, не было привычных тогда помоев, Борис произнёс слова обвинения в адрес поэта за издание его романа «Доктор Живаго» на Западе.
Он, не боявшийся подойти к вооруженным немцам на расстояние пистолетного выстрела, подчинился приказу секретаря парткома.
Совершив этот поступок, Борис начал потихоньку сходить с ума. Перестал писать. Скрылся от всех. И в 1968 году умер.
К рассказу о нём я ещё вернусь.
Среди неожиданностей, подстерегавших меня в Израиле, было и такое. Первые годы новой жизни прошли на съёмной квартире в районе северного Тель-Авива, на маленькой улочке, упиравшейся в бульвар Нордау.
Прочитав на уличном указателе это имя, я остановился, подошёл поближе, чтобы убедиться в том, что я не ошибаюсь. Нет, так и есть — Макс Нордау.
Позднее я убедился, что в Израиле нет ни одного населённого пункта, в котором не было бы улицы имени Нордау, сменившего на этот псевдоним свою истинную фамилию Зюдфельд.
Надо сказать, что израильтяне, с которыми мне довелось разговаривать, сидя с собачкой на скамейке бульвара Нордау, понятия не имели, в честь кого назван усаженный высокими деревьями бульвар в центральной части города.
— А бог его знает! Сионист, наверное, какой-то.
— Нордау? Это кафе. Вот тут, неподалеку.
Одним словом, посетители бульвара проявляли качества, которые Макса Нордау должны были бы удовлетворить.
Я познакомился с ними где-то в начале 1946 года в Харьковской библиотеке имени Короленко.
Из Малой советской энциклопедии я узнал, что библиотека эта по своей величине третья в Союзе. Я посещал её почти ежедневно. И красивое большое здание в переулке Короленко, которое пощадила война, стало моим домом, любимым местом. В библиотеке меня знали все сотрудники, отогревая замерзающего юношу в холодном, почти не отапливаемом зале своим участием и книгами, кои несли мне с большой охотой.
Библиотеки, в то время как организация идеологическая, занимались не только сбором книг, выдачей их читателям, заполнявшим читальные залы, но и уничтожением. Администрация библиотеки постоянно получала строжайшие инструкции в госхран: такие-то категорически не выдавать.
В библиотеке работал один старый, древний еврей, безумно, почти на грани помешательства любивший книгу как таковую. Описать его глаза, руки, передающуюся окружающим внутреннюю дрожь, нежность, благоговение, когда он брал книгу в руки, просто невозможно.
Книги из библиотеки он крал беспрерывно. И, как говорят, не корысти ради, а исключительно с целью их сохранности. Не задумываясь о грозящей ему тюрьме и взаимоотношениях с беспощадными органами, он нёс домой украденные книги и прятал их в своей маленькой, чрезвычайно бедной квартире. Жил он один. О его политических взглядах судить не берусь — был слишком молод. Старик относился ко мне как к сыну, я пользовался его полным доверием и именно благодаря ему прочитал многое такое, что никогда не сумел бы сделать ни при каких обстоятельствах.
Именно у него я прочитал книгу Нордау «Вырождение». Книга произвела на меня огромное впечатление. Конечно, многое я не мог осознать — был очень молод. Но и сейчас хорошо помню, как лихорадочно я стал конспектировать поразившие меня страницы.
Примерно на шестистах, если не больше, страницах Макс Нордау препарирует поэтов, писателей, мыслителей, уже достаточно известных людей, заставляет, особенно помня мой тогдашний возраст, увидеть их с неожиданной точки зрения. А его рассуждения о женщине, женском начале были для меня особым откровением, так как у меня, юноши, интерес к этому был достаточно велик.
И тогда, прочитав этого забытого сегодня мыслителя, прожившего жизнь и в XIX, и в XX веке (1849–1923), я совсем, ну ни капельки, не связал её с проблемой национальной самоидентификации, с сионизмом, вообще с еврейством.
Это много лет спустя, вникая в идеи сионизма, читая книги, пытаясь понять его сущность и разницу в представлениях о нём, я узнал, что Нордау присутствовал на процессе Дрейфуса и как многие, в том числе и Герцель, был потрясён масштабами антисемитизма. Это там зародилась идея, что физический труд нескольких поколений, земледелие, спорт сотрут с еврея следы вырождения и значительно улучшат расу.
Конфликт между сионизмом и еврейством существовал уже тогда.
Нужно только помнить, что рассуждения Нордау о биологической неполноценности возникли и были опубликованы до событий в Германии, задолго до катастрофы европейского еврейства.
Надо полагать, что только незнание этого обусловило идею исчезновения еврейства и превращение его в израильтянина, гражданина обычного национального государства.
Правда, эта идея не умерла и в последующие годы. Существует она и сейчас.
Кто-то писал, что в современном обществе неграмотный признаётся человеком только из вежливости.
Уже сегодня указывают пальцем: этот человек не умеет пользоваться компьютером, этот не умеет управлять автомобилем!
А я не умею. И уже не научусь. И завершу своё земное существование с авторучкой в руках.
Кстати, когда я учился в школе, авторучек ещё не было. Мы писали ручками, перо которых надо было макать в чернильницу. Перепачканные руки и лица учеников чернилами были одной из примет ушедшего времени.
Не было и многого другого, что сегодня вошло в повседневный быт и стало естественным и необходимым. Например, телевизор. Когда он появился, маленький, с уродливой линзой для увеличения изображения, его могли приобрести не многие. Вечерами соседи, взяв с собой стулья, приходили в гости к владельцу, раскрыв рот сидели час-другой и с благодарностью и потрясением возвращались в свои квартиры.
Компьютеров не только не было, но и сама кибернетика считалась лженаукой, в которую товарищ Сталин категорически не верил и запрещал.
Приёмники были далеко не у всех. Да и те отобрали во время войны. И я вырос на чёрной тарелке громкоговорителя, вещавшего одну программу на всю страну.
Самолёты летали. Но население ими не пользовалось. Ездили поездами, иногда сутками, с холодной курицей в тесноте и грязи плацкартных вагонов. Мягкие были для дипломатов и ответственных чиновников.
Автомашины были только служебными, с обязательным шофером. Личные автомобили имели единицы, отмеченные государственной лаской.
Естественно, в природе не существовало факсов, копировальных машин, цветной фотографии, магнитофонов, переносных или сотовых телефонов и т. д. и т. п.
Да что про это говорить, когда о существовании туалетной бумаги Россия узнала, когда я уже был, мягко говоря, взрослым человеком. Счастливцы, выстояв очередь, обвешивали себя рулонами пипифакса, как матросы в Гражданскую войну пулемётными лентами.
Помню, как мы, школьники 62-й харьковской школы, были счастливыми первыми пассажирами пущенного по Сумской улице троллейбуса.
В быстро меняющемся мире каждое поколение осознаёт себя в авангарде и отмахивается от стариков. Старики многое «не секут».
Сегодня мы свидетели гигантского прорыва к новому, почти бесконечному, всё расширяющемуся потоку знаний, изобретений, открытий и ужасающему росту сложности жизни. Разум теряется перед этим потоком новизны и прячется в свою скорлупу или в традицию вчерашнего дня. Нераздельность настоящего и прошлого стоит вопросом, а значит, и цельность всего, что я сам думаю, говорю и пишу. «С хвостом годов я становлюсь подобие чудовищ ископаемо хвостатых».
«Распалась связь времён», как говорил принц Датский. Распад времён, как и каждый кризис, толкает искать выхода в будущем. Но он не только в будущем, но и в прошлом. Большая литература тоже помогает восстановить связь времён.
Современность наполнена шумами. Старики глохнут от децибел сегодняшней музыки, шума автомобилей, рёва авиационных моторов.
В каждом поколении вырабатывается иммунитет к новым шумам цивилизации. Но шум вырастает быстрее, чем независимость от шума. Настолько быстро, что многие совсем перестали слышать тишину, потеряли вкус к ней. А между тем тишина сильнее шума. Пребывая в ней, листая свидетельства и откровения прошлого, плутая и оступаясь, постепенно находишь сначала неуловимую, а постепенно всё более ощутимую связь веков и предопределение будущего в прошлом.
«Дневник писателя» Ф. Достоевского
…Если б чуть-чуть «доказал» кто-нибудь из людей «компетентных», что содрать иногда с иной спины кожу выйдет даже и для общего дела полезно, и что если оно и отвратительно, то всё же «цель оправдывает средства», — если бы заговорил кто-нибудь в этом смысле, компетентным слогом и при компетентных обстоятельствах, то, поверьте, тотчас же явились бы исполнители, да ещё из самых веселых.
…Мне, разумеется, закричат в глаза, что всё это дребедень, и где это видел я, чтобы не только сдирали с человека кожу, но хотя бы пытались сегодня доказать, что «цель оправдывает средства». И по какой такой причине я выдаю эти старинные тексты за пророчества?
А вся современная история?
О, конечно, у человечества чрезвычайно много накоплено веками выжитых правил гуманности, из которых иные слывут за незыблемые. Но я хочу лишь сказать только, что, несмотря на все эти принципы, религии, цивилизации в человечестве спасается ими всегда только самая незаметная кучка — правда, такая, за которой и остаётся победа, но лишь, в конце концов, в злобе дня, в текущем ходе истории люди остаются как бы всё те же навсегда, то есть в огромном большинстве своём не имеют никакого чуть-чуть даже прочного понятия ни о чувстве долга, ни о чувстве чести, и явись чуть-чуть лишь новая мода, и тотчас побежали бы все нагишом, да ещё с удовольствием… И удержатся ли долго правила, какие бы там ни были, коли так хочется побежать нагишом?
Книга, которую я цитирую, старая, давно изданная. И кроме мыслей, содержащихся в ней, она запечатлела на своих страницах следы пальцев её читателей и следы высохших слёз. Они, надо думать, были пролиты и в двадцатые, и в тридцатые, и в сороковые, пятидесятые, шестидесятые годы. Ровно через век со дня написания вышеприведённых строк.
Между прочим, вспомнил свою поездку в город Томск. Уже даже не знаю, в каком году. Был там на гастролях с Театром Образцова. Пошёл и застрял почти на месяц в одном букинистическом магазине. Там же познакомился с его продавцом. Фамилию его не запомнил, хоть по приезде в Москву написал о нём большой очерк в газету. Был он лет 35, горбун, книжник. Мы подружились. Он оказался, кроме всего прочего, обладателем уникальной коллекции. Принимая старые книги, которые приносили жители старинного сибирского университетского города, он выуживал из этих забытых книг вкладыши. Это были письма минувшего века, аптекарские рецепты, документы об уплате, открытки и много прочего. Я был крайне удивлён количеству этих предметов, которые являли собой интересные документы минувших времён. Таким образом, книга несла в себе дополнительный документальный материал эпохи, эпохи давно ушедшей.
Снова Слуцкий:
Черта под чертою. Пропала оседлость:
Шальное богатство, весёлая бедность.
Пропала. Откочевала туда,
Где призрачно счастье, фантомна беда.
Селёдочка — слава и гордость стола,
Селёдочка в Лету давно уплыла.
Он вылетел в трубы освенцимских топок,
Мир скатерти белой в субботу и стопок,
Он — чёрный. Он — жирный.
Он — сладостный дым.
А я ещё помню его молодым.
А я его помню в обновах, шелках,
Шуршавших, хрустящих, шумящих, как буря,
И будни, когда он сидел в дураках,
Стянув пояса или брови нахмуря.
Селёдочка — слава и гордость стола,
Селёдочка в Лету давно уплыла.
Планета! Хорошая или плохая,
Не знаю. Её не хвалю и не хаю.
Я знаю не много. Я знаю одно:
Планета сгорела. Сгорела давно.
Сгорели меламеды в драных пальто.
Их нечто оборотилось в ничто.
Сгорели партийцы, сгорели путейцы,
Пропойцы, паршивцы, десница и шуйца.
Селёдочка — слава и гордость стола,
Селёдочка в Лету давно уплыла.
Образ селёдочки как обязательного атрибута еврейского стола у евреев Украины, Белоруссии, Польши, России возник и в стихах другого поэта — Эдуарда Багрицкого, родившегося на 25 лет раньше Слуцкого, не в Харькове, но в Одессе, и тоже размышлявшего о своём еврействе. Только выводы были диаметрально противоположными.
В моём национальном самоощущении Слуцкий сыграл не последнюю роль. Многие из уже посмертных его стихов я заучивал тогда, когда они были поэтом только написаны. Кстати, предметом моей затаённой гордости является то, что Борису нравилось, как я читал его стихи вслух.
Слуцкий, в отличие от многих, гордился своим происхождением, горевал по ушедшей «селёдочке», по языку идиш, предметам еврейского быта.
Вернувшись с войны, он написал:
Я освобождал Украину,
Шёл через еврейские деревни.
Идиш, их язык, — давно руина,
Вымер он и года три как древний.
Нет, не вымер — вырезан и выжжен.
Слишком были, видно, языкаты.
Все погибли, и никто не выжил.
Только их восходы и закаты.
В их стихах, то сладких, то горючих,
То горячих, горечью горящих,
В прошлом слишком, может
Быть, колючих,
В настоящем — настоящих.
Маркишем описан и Гофштейном,
Бергельсоном тщательно рассказан
Этот мир, который и Эйнштейном
Неспособен к жизни быть привязан.
Но не как зерно, не как полову,
А как пепел чёрный рассевают,
Чтобы там взошло любое слово,
Там, где рты руины разевают.
Года три, как древен, как античен
Тот язык, как человек, убитый.
Года три перстами в книгу тычем,
В алфавит, как клинопись, забытый.
Жаль, что до сего дня Слуцкий полностью не издан, да и сегодняшний читатель, как мне кажется, обходит его стороной.
Борис знал периоды всеобщего забвения и времена, когда его имя было на устах любого, кто читал стихи, любил поэзию.
Это он вынес когда-то приговор времени в строчках, ставших легендарными: «Что-то физики в почёте, что-то лирики в загоне».
Когда в магазинах появился роман Ильи Эренбурга «Буря», мы с удивлением прочитали в нём знаменитые стихи Бориса «Кёльнская яма»:
Нас было семьдесят тысяч пленных
В большом овраге с крутыми краями…
Удивление было вызвано тем, что в романе нигде не упоминалось имя Слуцкого. Было это в 1950 году, и Борис пошёл к Эренбургу. Шапочное знакомство Слуцкого с Ильёй Григорьевичем произошло ещё перед войной, когда Эренбург приезжал в Харьков и Борис вместе с другими молодыми поэтами читал мэтру свои стихи.
Эренбург был потрясён. Оказалось, что стихи Бориса ему принёс какой-то офицер, и Эренбург решил, что это фольклор, и включил их в свой роман. Об этом писатель поведал не только Слуцкому, но и описал всю историю в своей книге «Люди, годы, жизнь».
Помимо этого, Эренбург посвятил Слуцкому большую статью в «Литературной газете», где сравнивал Бориса с Некрасовым. За что тут же был изрядно изруган.

А тут вскоре появилось и «дело врачей», и государство объявило евреям открытую войну. Об этом деле, о том, как пережили мы его, я ещё расскажу. Борис на это время откликнулся множеством своих стихотворений:
Меня хозяин очень не любил.
Таких, как я, хозяева не любят…
А что ж! Раз эпоха была и сплыла —
И я вместе с ней сплыву неумело и смело.
Пускай меня крошкой смахнут
Вместе с ней со стола.
С доски мокрой тряпкой смахнут, наподобие мела.
Среди многочисленных талантов Одессы начала века Багрицкий далеко не сразу занял место по праву своего таланта. Правда, кроме стихов, он ни на что способен не был. Хоть однажды вместе с другим замечательным одесситом Ильёй Ильфом (Файнзильбергом) играл в одном кафе в своей драматической поэме «Харчевня» трактирщика.
Печататься Багрицкий начал рано, но в местных газетах, и за пределы города его известность не выходила. С юности он страдал астмой и был романтиком и фантазёром. Он писал о морях, далёких материках, о вымышленных героях. Подражал Гумилёву. Рано стал отцом. Очень нуждался. И тем не менее реальная жизнь его не интересовала. Множество верноподданных стихов написал Багрицкий ради чёрного хлеба.
Написал он и стихи о Троцком. Друзья привезли Багрицкого в Москву и устроили ему встречу с Вождём революции. Тому стихи не понравились. Но поэт стал москвичом. А через четыре года, когда Троцкого выслали из страны, Багрицкий заменил в своих стихах Троцкого на Ленина.
Но тем не менее Багрицкий по праву стал классиком советской литературы. Пишу это без иронии. «Дума про Опанаса», на мой взгляд, замечательное, талантливое произведение. Но вспоминаю я Багрицкого в данном случае потому, что, в отличие от Слуцкого, он страдал от своего еврейства, старался от него избавиться, откреститься. Ему хотелось быть кем угодно, только не евреем. Он и стал таким — птицеловом, охотником, скандалистом, чекистом, гулякой, гением, способным на спор написать сонет за пять минут и вызвать зависть самого Есенина — куда как русского… Чтобы потом написать самое горькое:
От чёрного хлеба и верной жены
Мы бледною немочью заражены.
Лучше я процитирую начальные строки из его большого, подробного стихотворения «Происхождение»:
Я не запомнил — на каком ночлеге
Пробрал меня грядущей жизни зуд.
Качнулся мир.
Звезда споткнулась в беге
И заплескалась в голубом тазу
Я к ней тянулся… Но, сквозь пальцы рея,
Она рванулась — краснобокий язь.
Над колыбелью ржавые евреи
Косых бород скосили лезвия.
И всё навыворот.
Всё как не надо.
Стучал сазан в оконное стекло;
Конь щебетал; в ладони ястреб падал,
Плясало дерево.
И детство шло.
Его опресноками иссушали.
Его свечой пытались обмануть.
К нему в упор придвинули скрижали —
Врата, которые не распахнуть.
Еврейские павлины на обивке,
Еврейские скисающие сливки,
Костыль отца и матери чепец —
Всё бормотало мне:
«Подлец! Подлец!»
И только ночью, только на подушке,
Мой мир не рассекала борода;
И медленно, как медные полушки,
Из крана капала вода.
Сворачивалась. Набегала тучей.
Струистое точила лезвие…
— Ну как, скажи, поверит в мир текучий
Еврейское неверие моё?
Меня учили: крыша — это крыша.
Груб табурет. Убит подошвой пол.
Ты должен видеть, понимать и слышать,
На мир облокотиться, как на стол.
А древоточца часовая точность
Уже долбит подпорок бытие.
…Ну как, скажи, поверит в эту прочность
Еврейское неверие моё?
Любовь?
Но съеденные вшами косы,
Ключица, выпирающая косо,
Прыщи, обмазанный селёдкой рот
Да шеи лошадиный поворот.
Родители?
Но, в сумраке старея,
Горбаты, узловаты и дики,
В меня кидают ржавые евреи
Обросшие щетиной кулаки.
Дверь! Настежь дверь!
Качается снаружи
Обглоданная звёздами листва,
Дымится месяц посредине лужи
Грач вопиёт, не помнящий родства.
И вся любовь,
Бегущая навстречу,
И всё кликушество
Моих отцов,
И все светила,
Строящие вечер,
И все деревья
Рвущие лицо, —
Всё это встало поперёк дороги,
Больными бронхами свистя в груди:
— Отверженный! Возьми свой скарб убогий,
Проклятье и презренье!
Уходи!
Я покидаю старую кровать:
— Уйти?
Уйду!
Тем лучше!
Наплевать!
Я хотел только процитировать, привести несколько строк из этого стихотворения, а прочитал его полностью. Уж очень оно яркое по силе ненависти к своему происхождению!
Безусловно, лучшим произведением Багрицкого является его поэма «Дума про Опанаса». После неё он уже ничего стоящего не написал. Более того, пытался злодеяния своего времени окутать романтической дымкой.
И чтобы окончить тему Багрицкого, я вспоминаю его поэму «Февраль».
Сначала в этой поэме идёт речь о неразделённой любви поэта: мальчик-солдат влюбляется в красавицу гимназистку.
…Как я, рожденный от иудея,
Обрезанный на седьмые сутки,
Стал птицеловом — я сам не знаю!
И вот пришла революция. Мальчик вырос, стал во главе отряда матросов.
…Я много дал бы, чтобы мой пращур
В длиннополом халате и лисьей шапке,
Из-под которой серой спиралью
Спадают пейсы и перхоть тучей
Взлетает над бородой квадратной…
Чтоб этот пращур признал потомка
В детине, стоящем подобно башне
Над летящими фарами и штыками
Грузовика, потрясшего полночь…
В 1954 году на обсуждении в поэтической секции стихов Бориса Слуцкого Михаил Светлов сказал: «Однажды в Брюсовском институте к нам подошёл обрюзгший седой человек и попросил послушать его стихи. Через три строфы мы поняли, что он пишет лучше всех нас. Это был Багрицкий». То же я говорю о Слуцком.
Между прочим, Слуцкий боготворил Багрицкого как поэта. Но сколь различен их взгляд на самих себя.
После демобилизации, ещё не сбросив шинель, только присматриваясь к мирной жизни, Слуцкий написал стихи «Национальная особенность», которые завершил и переписал много позже.
Я даже не набрался,
Когда домой вернулся:
Такая наша раса —
И минусы и плюсы.
Я даже не набрался,
Когда домой добрался.
Хотя совсем собрался:
Такая наша раса.
Пока все пили, пили,
Я думал, думал, думал,
Я думал: или — или.
Опять загнали в угол.
Вот я из части убыл,
Вот я до дому прибыл.
Опять загнали в угол:
С меня какая прибыль?
Какой-то хмырь ледащий
Сказал о дне грядущем,
Что путь мой настоящий —
В эстраде быть ведущим.
Или в торговле — завом,
Или в аптеке — замом.
Да, в угол был я загнан,
Но не погиб, не запил.
И вот за века четверть,
В борьбе, в огоне, в аврале,
Меня не взяли черти,
Как бы они ни брали.
Я уцелел.
Я одолел.
Я — к старости — повеселел.
В упомянутой уже книге Илья Эренбург, вспоминая о Слуцком, пишет: «…Никогда прежде я не думал, что смогу разговаривать с человеком, который на тридцать лет моложе меня, как со своим сверстником».
Всё никак не оторвусь от сравнения Слуцкого и Багрицкого.
И тот и другой часто объяснялись в любви к русской литературе.
Багрицкий писал:
Я мстил за Пушкина под Перекопом,
Я Пушкина через Урал пронёс,
Я с Пушкиным шатался по окопам,
Покрытый вшами, голоден и бос.
Нетрудно заметить, что стихи эти слабы и плоски. Пушкин к политике не приспосабливается. К тому же ни под Перекопом, ни на Урале, ни даже просто в окопах Багрицкий никогда не был. Это всё не из его жизни, а просто не очень искренняя романтическая риторика.
А теперь Слуцкий:
Романы из школьной программы,
На ваших страницах гощу.
Я все лагеря и погромы
За эти романы прощу.
Не курский, не псковский, не тульский,
Не лезущий в вашу родню,
Ваш пламень — неяркий и тусклый —
Я всё-таки в сердце храню.
Не молью побитая совесть,
А Пушкина твёрдая повесть,
А Чехова честный рассказ
Меня удержали не раз.
А если я струсил и сдался,
А если пошёл на обман,
Я, значит, не крепко держался
За старый и добрый роман.
Вы родина самым безродным,
Вы самым бездомным нора.
И вашим листкам благородным
Кричу троекратно «ура!»
С пролога и до эпилога
Вы мне и нора и берлога,
И, кроме старинных томов,
Иных мне не надо домов.
На эту тему стихов у Бориса множество.
А эти могучие, ритмически точные в его стихе «Когда русская проза пошла в лагеря»:
А хорей мне за пайку
Заказывал вор,
Чтобы песня была потягучей,
Чтобы длинной была,
Как ночной разговор,
Как Печора и Лена — текучей…
Слуцкий умирал тяжело, долго. Никого не хотел видеть. Терял память, сознание. Совсем не так, как недавно умер Бродский — во сне, что, впрочем, оспаривает В. Соловьёв.
Однажды мы, не сговариваясь, прибежали к Лёве Лившицу. В этот день он возвратился в Харьков, домой, после лагерного срока. Было это в 1954 году. Лёву мы не застали. К дверям была приколота записка: «Скоро буду», написанная хорошо нам знакомым Лёвиным почерком.
Мы сели на ступеньки перед домом и долго говорили о Лёве, о его «стукачах», которых мы тоже хорошо знали. Их имена были довольно скоро расшифрованы.
О Лёве рассказ отдельный. Он был моим ближайшим другом. Он был моим учителем. Это он посвятил меня в русскую, да и в мировую литературу. Научил любить её, передал свою влюблённость в Салтыкова-Шедрина и Бабеля. Драматургия первого была темой его диссертации, а творчество Бабеля — незавершённой книгой. К его написанной вместе с Зельдовичем двухтомной хрестоматии критических материалов я постоянно обращаюсь и по сей день. Хранится у меня и весь Лёвин литературный архив. Не преувеличивая, могу смело сказать, что я вспоминаю о нём постоянно.
Когда я поступил учиться в юридический институт и сдал экзамены за первый курс, передо мной возник вопрос, где найти себе работу. Папа болел, жили мы очень тяжело, мама всецело была занята папиными болезнями. Не помню уже, кто помог мне устроиться на работу уполномоченным Бюро пропаганды Харьковского отделения Союза писателей. Руководил этим бюро писатель-фронтовик, бывший танкист Иван Плахтин. Задача моя состояла в том, чтобы организовывать выступления писателей и литераторов перед читателями. Время было тяжёлое. В деньгах нуждался не только я, но и сами писатели. Война только кончилась. Большинство писателей были бывшими фронтовиками. А после демобилизации они мало что успели написать. Да и так называемым читателям было не до их книг. Поэтому они выступали, как правило, с рассказами не о своём творчестве, а о книгах Толстого, Достоевского, Тургенева, Пушкина и т. д. Поэтам, конечно, было легче. А прозаикам, литературоведам приходилось туго. Мне был вручён довольно объёмистый список их лекций, которые могли прочитать те или иные литераторы.
Денег на этой работе я не заработал, зато познакомился со всеми харьковскими «письменниками».
Со многими из них у меня установились достаточно тёплые отношения, вне зависимости от их творчества. Должен признаться, что произведений большинства из них я никогда не читал. Но Давид Вишневский, Сергей Муратов, Александр Хазин стали для меня близкими людьми. А с Лёвой Лившицем я подружился, как говорится, на всю жизнь. Правда, этой жизни было отпущено всего 19 лет.
Моя жизнь сложилась таким образом, что я на своём опыте, на своей шкуре познал плюсы и минусы самообразования. Последние три класса школы я окончил экстерном. Да и в начальной школе больше болел, чем ходил в школу. Так что в самом начале, так сказать, на пути к познанию, освоил домашнее образование. Из четырёх лет учёбы в юридическом институте три проучился на экстернате. В театральном институте за один год сдал экзамены за три курса. Причём если режиссуру и актёрское мастерство мне зачитывали по моей работе в театре, то все теоретические дисциплины я познавал самостоятельно, и мой диплом был красного цвета. Кстати, в Харькове, куда я перевёлся на учёбу из Ташкентского института на 4-й курс вечернего отделения, занятия начинались в семь часов утра, так как все его студенты работали в театрах и вечером посещать занятия не могли. Одним словом, лишённый возможности нормального обучения, я учился всему бессистемно, что, несомненно, было большим минусом. Зато я был свободен от учёбы «под гребёнку», по утверждённой свыше схеме, стремившейся к полной нивелировке учащихся.
Высшие режиссёрские курсы у Марии Осиповны Кнебель, в силу системы их организации, носили заочный характер, предполагающий самостоятельную работу их участников. А прославленному педагогу отводилась роль комментатора, аналитика проделанного труда.
Прекрасно, когда каждый отдельный ученик имеет своего учителя, стремящегося развить неповторимые качества своего ученика, усмотреть его индивидуальность. Когда же в современной школе перед учителем сидит сорок учеников, это заставляет его заниматься не только педагогической, но и полицейской деятельностью. Стремление «постричь» всех «под одну гребёнку» становится естественным.
Когда же тебе приходится обходиться без учителей, всё уже зависит от тебя самого, от твоей воли и заложенного Богом и родителями стремления к знаниям.
Во времена моей юности одной из форм образования, заменяющей университетскую аудиторию, была кухня. Сегодня она используется в своём первоначальном предназначении. А тогда это было место почти ежевечерних встреч друзей, где под бутылку водки шло обсуждение всего прожитого, прочитанного, увиденного.
Это сейчас я разговариваю сам с собой. А тогда всё происходило в кругу друзей, да ещё каких! Энциклопедически образованных, любопытных и любознательных. Общение становилось смыслом самой жизни.
Надо учесть, что время это было временем окончания войны.
Из жизни было вычеркнуто четыре года. Солдаты возвращались к мирной жизни, переполненные честолюбивыми замыслами, с безмерным желанием скорее наверстать упущенное. Наступило время всеобщей эйфории.
Для таких, как Лёва, на эйфорию был отпущен один год. В августе 1946 года началась новая война, война уже своего государства против своих граждан, против своих вчерашних защитников, против таких, как Лёва.
На фронт Лёва уехал на третий день после объявления войны.
В Харькове была сформирована фронтовая газета «Знамя Родины», в редакцию которой вошли уже признанные писатели и журналисты. В газету взяли и несколько добровольцев из числа студентов литфака Харьковского университета. Среди них был и Лёва. Газета была прикреплена к 18-й армии, начальником политотдела которой был тогда Леонид Ильич Брежнев.
В составе этой армии Лёва вместе со «Знаменем Родины» и отступал с кровавыми боями и миллионными потерями от юго-западной границы до Донбасса.
Летом 1942 года его неожиданно отправили на краткосрочную переподготовку в Иваново, и он вернулся на фронт уже не как военный журналист, а как солдат нашей разведки, став политруком взвода.
В этом качестве он и прослужил до самого окончания войны.
Вернулся домой Лёва раненый, контуженный, демобилизованный как инвалид Отечественной войны.
Надо сказать, что литфак Харьковского университета был до войны и сразу же после неё (до борьбы с космополитизмом) чрезвычайно ярким явлением. Не буду перечислять всех профессоров этого факультета, но среди них было немало замечательных, ярчайших учёных.
Это трое из них, сначала анонимно, издали знаменитый «Парнас дыбом», первую книгу литературных пародий в советский период. Эта книга вышла в Харьковском издательстве на два года раньше, чем пародии Архангельского. Было это ещё в 1925 году. Поначалу никто не знал, кто является её автором. Специалисты называли Ю. Олешу, В. Катаева, Л. Никулина. На обложке «Парнаса дыбом» в качестве автора значилось таинственное Э. С. П., А. Г. Р. и А. М. Ф. Только в 60-е годы были расшифрованы эти загадочные буквы. Авторами книги оказались Эстер Соломоновна Паперная, Александр Григорьевич Розенберг и Александр Моисеевич Финкель. Все — профессора харьковского литфака, с которыми я познакомился именно в эти годы: они были посетителями выставки о творчестве Ильфа и Петрова, зрителями моих харьковских спектаклей. Жизнь их после войны сложилась не лучшим образом. Эстер Соломоновна Паперная, скажем, 17 лет провела в сталинских лагерях.
Одним словом, у Лёвы были хорошие учителя.
Вместе с Лёвой в редакции фронтовой газеты 18-й армии служил и другой мой друг — Борис Львович Милявский, ставший после войны Лёвиным постоянным соавтором в области театральной критики. Впоследствии их дружба и творческий союз получили в харьковской прессе следующие определения: «литературные диверсанты», «эстетствующие неучи», «жалкие пигмеи».
Апрельской ночью 1950 года Лёва Лившиц был арестован и помещён во внутреннюю тюрьму КГБ, по случайности находившуюся на улице Чернышевского, на той же улице, где находился и Лёвин дом. О Боре Милявском рассказ отдельный. Это один из самых любимых мною людей. После множества мытарств он вернулся в Харьков, и оттуда, из-за рубежа, я получаю от него письма. От Лёвы писем уже не получишь.
Все, кто сейчас вспоминают Лёву, отмечают единодушно, что внешне он одновременно походил на Багрицкого и Есенина. Я его много фотографировал. Про себя очень горжусь, что одна из моих фотографий стала мемориальной: она публикуется всюду, где речь идёт о так рано ушедшем друге.
Прекрасно помню ту ночь, когда во дворе харьковского общежития работников искусств, где я тогда жил, раздался голос нашей сторожихи, позвавшей меня к телефону, единственному на весь дом, он находился у её изголовья.
Когда я бежал к телефону, понимал, что где-то с кем-то случилось несчастье. Но меньше всего мог предположить, что услышу сейчас известие о том, что Лёвы уже нет. Ведь ещё днём мы обсуждали будущий репертуар моего театра и он настоятельно рекомендовал мне поставить прозу Зощенко. Было это 28 февраля 1965 года.
Женился Лёва рано. Ещё когда был студентом, до войны, на безумно красивой студентке медицинского института Оле Жеребчевской.
Никакая гадалка не могла бы предсказать, что закончит свою жизнь красавица Оля в Израиле, на Иерусалимском кладбище.
Какие качества были свойственны Лёве? Прежде всего, ум, ироничность, чувство юмора. Самостоятельность суждений. Огромное трудолюбие. Настоящая образованность.
А прожил он всего сорок четыре года.
В зависимости от возраста человек по-разному относится ко времени. Для того, кто приближается к восьмидесятилетию, — совсем небольшой срок.
Свою трудовую биографию я отсчитываю с того дня, когда в только что освобожденном Харькове нанимался пилить и колоть дрова. Была у нас бригада, состоящая из моих тогдашних приятелей Саши Носовицкого и Люсика Ладкова.
А политическая биография началась в 1946 году.
Не познакомился бы я с Лёвой и его друзьями, бог знает, как сложился бы я как человек, в кого превратился бы.
Среди Лёвиных и Бориных друзей был уже признанный к тому времени писатель Александр Хазин. В то время я был уверен, что нет более остроумного человека, чем он. Впрочем, не только я смотрел на него влюблёнными глазами. Он пользовался оглушительным успехом у харьковчанок, по-моему, любых возрастов. В соавторстве с другим Лифшицем (в отличие от Лёвы, писавшим свою фамилию через «ф») — Шурой, взявшим себе псевдоним Светов, Саша Хазин писал монологи, сценки, фельетоны, юмористические рассказы для многих ведущих мастеров эстрады: Лидии Атманаки, Бена Бенцианова и других. Кроме того, Саша был постоянным автором Аркадия Райкина и его Ленинградского театра миниатюр.
Саша провёл войну в газете 18-й армии. Под Новороссийском был тяжело ранен.
К моменту нашего знакомства он был уже автором нескольких книг. Среди них сборник стихов, рассказов, пьес.
Вернулся он с войны бесконечно жизнерадостным. Вокруг него было всегда множество людей, он был автором умопомрачительных розыгрышей, очень популярной в те времена формы юмора. Даже такие мастера шутки, как Лёва, Шура, Арон Каневский, перед ним бледнели, хоть каждый из них был неповторим.
В начале 1946 года Саша написал для Аркадия Райкина шуточную поэму «Возвращение Онегина» и отослал её в Ленинград уже тогда очень популярному артисту.
Уж не знаю, по какой причине, Райкину поэма не пригодилась, и, не желая, чтобы труд Хазина пропал зазря, он отдал её редакции журнала «Ленинград». Поэма была незамедлительно напечатана.
С тех пор прошло пятьдесят восемь лет. Передать словами, что испытали мы все, прочитав постановление ЦК партии, а потом и доклад Жданова «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», невозможно. И прежде всего — Саша. Неизвестно почему, каким образом ЦК партии и Жданов откопали стихи Хазина. Но его имя и фамилия были поставлены рядом с любимыми Зощенко и Ахматовой. Мало кому известный харьковчанин стал известен всем. Жданов назвал нашего Сашу «клеветником, пошляком, злопыхателем». Тогда я получил первый урок о том, что такое партия, советская власть, что являет собой «ум, честь и совесть нашей эпохи» — как впоследствии стали именовать большевиков-коммунистов.
Естественно, что писатели, дрожащие за свои партийные билеты, за «место под советским солнцем», начали многочисленные «обсуждения» постановления ЦК и доклада товарища Жданова.
Каждый из верноподданных писателей спешил откликнуться на решение партии и правительства.
Скажем, Валентин Катаев заявил, что «постановление наполнило нашу жизнь новым воздухом». Ушаты грязи выливали на Зощенко, Ахматову и Хазина Корнейчук, Шагинян, Караваева и сотни других.
Прочитав постановление, старший из нас, Шура Светов, уже успевший побывать в сталинских лагерях ещё до войны, «профессиональный каторжник», как мы его называли, пророчески заявил: «Будут сажать».
Тогда это казалось бредом. Но Шура оказался прав. Впереди были такие же постановления о театральной критике, музыке, биологии. Впереди были выступления о языкознании, впереди были тюрьмы, лагеря, расстрелы. Прошло совсем немного времени, и за тюремной решёткой оказались и Шура, и Лёва. Впереди ещё было «дело врачей», убийство Михоэлса, расстрел еврейских писателей и многое, многое другое, что перечисляю, не придерживаясь хронологии.
По совету того же Шуры Хазин уехал в Ленинград, то есть в тот самый город, где и была опубликована его злополучная поэма. От голода и многих невзгод его спас Аркадий Райкин, взявший Сашу к себе завлитом в театр. Там он и отсиделся. Женился на актрисе Театра комедии и долгие годы писал в стол — его, естественно, не печатали.
Шура тоже решил уехать. Его исключили из партии, уволили из газеты «Красное Знамя», где он работал. Собственно говоря, его фельетоны в этой газете и стали «обвинительным заключением».
В Москве, в газете «Труд», работал бывший редактор харьковской газеты, который согласился взять Шуру к себе.
Арестовали Шуру в вагоне поезда, он едва отъехал от Харькова. На остановке в Белгороде в купе вагона ворвались чекисты:
— Вы кассир Лившиц, ограбивший кассу!
И на руках Шуры оказались наручники.
Фраза о кассире была произнесена для пассажиров купе. И началась для Шуры долгая тюремная эпопея.
Когда его этапировали из поезда в тюрьму, лицо руководившего конвоем человека не давало Шуре покоя. «Где я его видел?» — всё время думал он. Уже в камере Шуру озарило:
— Это же режиссёр из Ростова!
А дело было так.
Когда решение о Шурином отъезде было принято и день отъезда установлен, я за сутки до этого пришёл к нему попрощаться.
— Хотелось бы пивка попить, — сказал Шура, — да денег нет. Только что был у меня Аркадий и занял все деньги. Сказал, что принесёт завтра на вокзал.
— Пошли, — сказал я, — у меня есть.
И мы пешком, беседуя, направились на Сумскую, 56, где тогда помещался пивной бар, состоявший из двух залов, с высокими столами, без стульев. В бар вели несколько ступенек.
Нужно сказать, что понятие дружбы для Шуры носило буквально религиозный характер. Помочь другу было для него не принципом, а просто его сущностью. Я, пожалуй, не встречал больше такой одержимости дружбой, какая переполняла Шуру и делала это качество главным. Так что занять все деньги, даже за несколько часов до отъезда, было для него абсолютно естественным и в этом не было ничего особенного.
— Аркадий был сегодня какой-то странный, не в себе, — говорил по дороге Шура, — что-то с ним происходит. Попрощался со мной и убежал на какую-то встречу.
Аркадий Школьник, о котором шла речь, вернулся в Харьков после войны из лагерей. Он был арестован в 1937 году и, отбыв заключение, приехал без права жить в Харькове (в то время это называлось «минус города»), без жилья, без работы. Шура, уже тогда заведовавший отделом в газете, помог ему получить документы, прописку. Некоторое время Аркадий жил у него на квартире. Потом, снова не без помощи Шуры, начал работать в литературной части Театра Шевченко, получил квартиру. Его пьесы, правда крайне бесталанные, стали появляться на сценах украинских театров. А одна впоследствии была даже поставлена Малым театром. Был он крайне тщедушным, малосимпатичным, противным во хмелю. Но Шура и Лёва его всегда опекали, хоть и постоянно над ним подтрунивали. Когда мы уже подходили к бару, повстречали нашего общего товарища Арона Каневского, который, кстати, тоже прошёл войну в составе 18-й армии, в той же газете, где Шура был зам. главного редактора. Фамилия главного была Верховский. Он и его жена дружили с Шурой до конца жизни.
Узнав, что мы идём пить пиво, Арон с радостью решил составить нам компанию. Только предложил, что он, пока мы закажем пиво, мотнёт к Науму Демиховскому, в дом «Саламандра», напротив, чтобы взять у него воблу, которой у того было полным-полно.
Когда мы заняли с Шурой места за столиком, он показал мне на Аркадия Школьника, который пил пиво в зале напротив с незнакомым нам мужчиной.
— Не будем его звать. Видишь, он не смотрит в нашу сторону. Очевидно, у него деловая встреча.
Школьник с незнакомцем допили пиво и направились к выходу. Навстречу им, с воблой в руках, возник Арон. Мы видели, как он, указывая на нас, приглашал Аркадия составить компанию. Тот отказался. Представил мужчину Арону — мы видели, как те пожали друг другу руки, — и вместе со своим знакомым удалился.
Арон занял своё место за нашим столиком.
— Не уговорил. К нему, к Школьнику, приехал режиссёр из Ростова. Будет ставить его новую пьесу.
— Ну и бог с ним, — резюмировал Шура.
Так вот, сидя в одиночной камере внутренней тюрьмы КГБ, Шура вспомнил, что «режиссёр из Ростова» и арестовавший его в поезде человек — одно и то же лицо.
В числе многих причин, по которым Шура Светов после освобождения из лагеря покинул навсегда Харьков и поселился в Риге, было и то, что он не мог, не хотел, боялся встреч с Аркадием Школьником. Говорил, что не может за себя поручиться, что готов на поступок, который и его лишит жизни.
Однажды я встретил на Сумской Григория Поженяна. Он хорошо знал, кто такой Школьник, кстати посадивший не только Шуру, но и Лёву и с десяток других своих друзей. Из многих аргументов Поженян предпочитал кулак. Был он, вернее состоял, из мышц и стихов. На фронте он служил в морском десанте. В Одессе на памятнике павшим воинам он значится в числе погибших. Об одном из своих боевых эпизодов он рассказал в сценарии фильма «Жажда». Написал он и немало отличных стихов, на многие из которых Таривердиев сочинил музыку. Внешне он походил на чемпиона по боксу. Шеи у него не было, голова прямо возникала из широченных плеч. Так вот, как-то мы встретились на Сумской у дома, где до войны находилось немецкое посольство и развевался флаг со свастикой, потом была редакция газеты, потом ещё что-то. Мы стояли, о чём-то разговаривали, в руках у Гриши был чемодан. Вдруг на другой стороне улицы мы вместе увидели медленно шедшего куда-то Школьника. Реакция Поженяна была мгновенной. Он поставил на землю свой чемодан и коршуном перелетел на другую сторону улицы. Два-три удара, и Школьник растянулся на тротуаре. А Гриша как ни в чём не бывало вернулся ко мне. Я машинально схватил чемодан, но не смог оторвать его от земли. Оказалось, что в чемодане лежали гири, необходимые Грише для постоянных тренировок.
Вообще, Поженян был личностью легендарной.
В морской пехоте во время войны, в неполных 19 лет, он командовал отрядом десантников. Был представлен к званию Героя Советского Союза. Но, борясь за справедливость, выбросил за борт помполита (помощника командира по политической части), и представление к награждению было отозвано, а Гриша сел на гауптвахту.
Он рассказывал, что на этой гауптвахте вместе с ним сидел какой-то главстаршина, который, уставившись в одну точку, не произносил ни слова. Через несколько дней он выдавил из себя:
— У меня родился сын. Если скажет: «Папа, купи кораблик», — убью!
Так осточертела ему флотская служба.
Через семь суток Поженяна выпустили из «губы» и снова отправили с десантом в тыл врага. Раненый Поженян привёл двух пленных и был прощён, дело его в трибунал не отправили.
О Гришиной лихости, смелости, буйной фантазии в самых экстремальных ситуациях можно рассказывать бесконечно. Мы давно уже с ним не виделись. А в Израиле с грустью узнал, что он покинул эту планету.
Ну а я вспомню ещё пару эпизодов из его фронтовой биографии.
Однажды в Румынии ему при совершенно фантастических обстоятельствах достался мешок денег. На них Гриша купил весь самый лучший бордель в Констанце, называвшийся «Ковёр», и, я его дословно цитирую, купил для каждого своего десантника по красивой бабе. Потом нанял двенадцать фаэтонов и двинулся со своими «орлами» по городу.
Самое интересное, это Гриша подчёркивал, что он и его матросы были, так сказать, нецелованными. И это была их первая встреча с женщинами, которым они отдали всё, что у них было.
Бурная биография продолжалась и после войны. В литинституте Гриша учился у Павла Антакольского. Когда началась эпоха космополитизма, Поженяна вызвали в партбюро и предложили выступить с обличением своего учителя — «буржуазного эстета» Антакольского. Гриша решительно отказался.
Его исключили из комсомола, выбросили из общежития и исключили из института. Кстати, основным Гришиным гонителем выступил известный впоследствии поэт Владимир Солоухин.
Когда Поженяна исключали из института, директор прокричал ему: «Чтоб вашей ноги здесь не было!» Гриша встал на руки и вышел из его кабинета.
До того как стать профессиональным поэтом, автором многих книг, Гриша долго и тяжело работал в Калининграде на заводе «Судомонтаж» в котельном цехе.
Отец Гриши был армянин, мама — чистокровная еврейка. До войны семья жила в Харькове. Узнав о смерти Гриши, оказавшейся впоследствии ошибкой, мама ушла добровольцем на фронт. Была она хирургом. На фронте заслужила много орденов. После войны вернулась в Харьков, стала кандидатом медицинских наук.
Гриша часто приезжал в Харьков повидаться с ней. Вот тогда-то и «гудели» мы на нескончаемых дружеских попойках. В память об этом времени лежат у меня стихи Поженяна, которые он посвятил моей жене с просьбой не слишком негодовать по поводу долгого отсутствия.
Потом, через много лет, уже в Москве, поселились мы с Гришей в одном кооперативе «Драматург» на улице Черняховского возле метро «Аэропорт».
Часто встречаясь во дворе нашего дома, Гриша, позабыв, что он уже несколько раз знакомил меня со своей притчей, говорил:
— Есть два Поженяна. Один большой, другой маленький. Один — пьяница и обжора, драчун, игрок. Другой — маленький, серьёзный и вдохновенный. У одного пальцы всегда сжаты в кулак, а у другого в руках перо. Один бездельничает, а другой обеспечивает двум Поженянам славу и пропитание.
Когда Поженян поселился в Москве и стал профессиональным поэтом, он стал зарабатывать себе на жизнь игрой на бильярде, ежедневно поддерживал славу гуляки и драчуна, человека малоуживчивого и очень сильного физически. И смелого.
На похоронах Пастернака не побоялся прочитать стихи. После чего Валентин Асмус, известный философ, по учебнику которого мы учили логику, сказал Грише: «А вы смелый человек».
Позднее он же обратился к Поженяну с экстравагантной просьбой: при его, Асмуса, похоронах положить ему в гроб портрет Канта, которого философ благословил и из-за которого у него было множество неприятностей.
Гриша эту просьбу выполнил, причём не тайно, а на глазах у всех провожающих Асмуса в последний путь. В КГБ ломали голову, пытаясь разгадать тайный смысл происходящего.
В нашем доме Гришу называли не иначе как «Другое дерево». Это рефрен из замечательных стихов Поженяна, которые Микаэл Таривердиев положил на музыку.
Нивелировка личности при большевистской идеологии всегда мучила «Другое дерево» — Поженяна.
Я с детства ненавидел хор —
согласный строй певцов,
и согласованный напор
отлаженных гребцов.
И общность наклонённых спин.
И общий водопой…
Поженяну исполнилось 75 лет. Я позвонил в Москву, чтобы его поздравить. Телефон не ответил. Дозвонился общим друзьям и узнал, что он вместе с женой Леной отправился в плавание. Так он решил отметить свой юбилей.
А позже в одной из московских газет, дошедших до Израиля, я прочитал о нём статью Юрия Соломонова, подтвердившего его отсутствие: «Я знаю, почему он в очередной раз ушёл в море. Устал. Но не от прожитых лет и от борьбы двух Поженянов. Он устал от попыток понять происходящее. Нынешняя жизнь страны, состояние умов в обществе, действия политиков, ложь, лицемерие, подковёрные страсти — всё это он воспринимает изумлённо и крайне болезненно. Для него мир по-прежнему устроен просто и симметрично: друг или враг, правда или ложь, добро или зло, свобода или неволя… И страна у него та, прежняя, которую он защищал. И флот, и Севастополь неделимы. Но это вовсе не означает, что Поженян не либерал, не демократ, что он не видит всей сложности происходящего. Просто он слишком много лет проплыл, как писал Трифонов, „в лове своего времени“. Однако это не мешает ему писать то, что можно смело назвать комментарием дня».
Что за судьба:
из плена снова в плен.
Разъятые,
не держат неба своды.
С колен не встали
вставшие с колен.
Свободные остались
Несвободны.
Вернусь к Шуре Светову, с которым Поженян был очень дружен.
В молодости Шура Светов был отпетым бабником. Его улыбка не могла оставить равнодушной ни одну женщину. А его юмор, умение придумывать анекдоты… Кстати, мы никогда не знаем авторов анекдотов, не задумываемся о том, кто эти люди. Шура был одним из них.
После заключения женщины перестали его интересовать. Незадолго до последней отсидки он женился на Люсе Манкиной, и она стала для него Лаурой, прекрасной дамой, которой он поклонялся, сохранял верность до дня своей смерти.
Я узнал о его смерти в городе Кургане, где находился на гастролях, и поехать на похороны не смог.
В Израиле, выступая по радио, я поделился своими воспоминаниями о Шуре. Откликнулась одна женщина, Ида Храповская, жена бывшего Шуриного адвоката. Она и по сей день переписывается с Люсей. Уже ушли из жизни её брат Йоня, к которому и отправились Шура с Люсей после лагеря, его жена Валя. Уехали в Америку и Канаду их дети. А Люся, старая, больная, полуслепая, почти ежедневно доползала к Шуриной могиле и беседовала с ним. Теперь нет уже и Люси.
Когда Шура уехал в Ригу, он сформулировал принцип своей дальнейшей трудовой деятельности:
— Заниматься сатирой в этой стране — всё равно что слизывать дерьмо с лезвия ножа: либо запачкаешься, либо порежешься.
И в Риге он поступил на фабрику, которая выпускала духи в маленьких фигурных бутылочках. Он работал в красильном цехе.
Сначала он жил довольно одиноко. Несколько лет подряд в свой отпуск я ездил к нему на улицу Лачплеша, 14, тогда ещё в густонаселённую квартиру №10. Шура брал на это время отпуск. Довольно долго я Риги вообще не видел. Мы проводили в разговорах три четверти суток. Утром, когда я просыпался, на табуретке у моей кровати лежал копчёный угорь и бутылка спиртного с невероятной этикеткой. Поедая любимый мною угорь, который Шура для меня приобретал на рынке до моего пробуждения, и попивая заморский напиток, я много лет наслаждался Шуриным и Люсиным гостеприимством.
Через несколько лет выяснилось, что напитки эти изготавливал сам Шура. Рига — портовый город. Шура приобретал пустые бутылки с красивыми этикетками, наливал туда спирт, которого на его работе было много, разбавлял чаем и выдавал этот напиток как заморский, как контрабанду из далёких стран. Я долго попадался на это, чмокал, восторгался изысканным вкусом, чем, конечно, доставлял Шуре массу удовольствия.
Когда жизнь более или менее наладилась и Рижское взморье стало местом всеобщего паломничества, к Шуре и к Люсе потянулась беспрерывная очередь харьковчан, москвичей и жителей многих городов страны.
А тогда… Тогда мы часами, и днём и ночью, говорили, говорили… Из дома выходили посидеть во дворе, на скамеечке, чтобы потом, перед обедом, зайти в кафе, взять кружку пива, влить в неё чекушку водки и постараться предстать перед Люсей как ни в чем не бывало.
Потом уже, когда летом Шура жил на взморье, он снимал мне отдельную комнатку и показывал красоты Риги, взморье, знакомил со своими рижскими приятелями. Я рад, что успел познакомить с ним Асю.
А из «профессионального каторжника», совершившего побег из лагеря, когда случайно увидел, что его жалобами топят печку, постепенно превратился в старого еврея, приходившего на вокзал за два часа до отхода поезда.
В 1968 году он приезжал ко мне на премьеру моего спектакля «Последние письма». И как когда-то Хазину, посмотрев спектакль, который я посвящал памяти Лёвы, сказал:
— Старик, тебе надо уезжать. В Харькове тебе жить не дадут.
Как всегда, Светов оказался прав.
Он приехал на одиннадцатое представление, которое и оказалось последним.
В харьковской газете «Красное знамя», откуда Шуру когда-то выгнали, появилась статья «По поводу одного спектакля». Этим заголовком, как правило, обозначались спектакли, посягавшие на общепринятую идеологию. Статья была подписана военнослужащим С. Васильевым. Сразу было понятно, что лицо подставное. Впоследствии выяснилось, что под этой фамилией прятался действительно военнослужащий, только не С. Васильев, а В. Савченко — муж одной из моих актрис.
И началось.
В Киеве на совместном заседании министерства культуры и ЦК партии мне вынесли строгий выговор и предложили Управлению культуры решать вопрос о моём соответствии должности главного режиссёра театра. Естественно, вспомнили, что ещё раньше главный драматург Александр Евдокимович Корнейчук в своём докладе назвал меня «главным тормозом в развитии украинской драматургии».
В Харькове начались собрания творческой интеллигенции, где каждый руководитель театра выступил с осуждением.
Мой бывший директор, худрук Харьковского театра кукол Виктор Андреевич Афанасьев, заявил, что моя «сверхзадача как режиссёра — услышать о себе добрые слова по радиостанциям „Голос Америки“, „Радио Свободы“, „Немецкая волна“ или „Голос Израиля“».
Главный режиссёр Театра им. Пушкина Ненашев заявил, что «всегда ходил на спектакли Хаита — учиться. Тем страшнее, когда талант служит врагу».
Постановлением министерства спектакль был снят, а решением партбюро театра приговорён к сожжению: декорации были преданы огню прямо во дворе театра.
В это время и раздался спасительный звонок из Москвы от Сергея Владимировича Образцова, пригласившего меня к себе на постоянную работу.
С 20 июля 1968 года я стал москвичом. И прожил в Москве двадцать три года.
Я крайне сожалею, что никогда не вёл дневник, не записывал события, встречи, коими была богата моя жизнь. Часто мои друзья, приятели настоятельно уговаривали меня записывать то, что рассказывал при дружеских встречах, за рюмкой водки. Я не внял их советам. Теперь сожалею.
Человеческая жизнь в определённом смысле постоянное воспоминание. Мы вспоминаем практически всё время, если не заняты конкретным делом. И не только юность, детство, прожитые годы, но и вчерашний день, забытые строчки стиха, путешествия и всё, что подбросит нам память.
Собственно, прошлое и есть жизнь. Вот сделал я эту запись, зафиксировал промелькнувшую мысль — и она стала прошлым.
Наконец, прошлое мы любим за то, что оно прошлое, а значит, имело благополучный исход. Ведь ты жив и вспоминаешь прошлое. Настоящее ещё неизвестно, чем закончится. Ну а у будущего конец известен.
В «Библиотеке „Огонька“» когда-то, кажется в 1929 году, перевели с идиш книгу Давида Фридмана «Мендель Маранц меняет квартиру». Мне её ещё цитировал папа, до той поры, когда я прочёл её сам. Когда-то афоризмы Менделя Маранца были очень популярны. Автор выдумал Менделя Маранца, чтобы тот высказывал сентенции по любому поводу.
Мой друг Шура Светов (Лифшиц) придумал своего Менделя Маранца и назвал его «доктор-венеролог Каминский». В его уста Шура вкладывал свои соображения о жизни.
В частности, доктор Каминский говорил, что среди всех времён будущее время менее всего предпочтительно, потому что летальный исход стопроцентен.
Так что снова возвращаюсь к прошлому.
До того как стать москвичом в полном, советском смысле этого слова, то есть быть прописанным в столице, я много раз ездил в стольный град коротко и надолго. То это был сбор материалов для выставки, то занятия в лаборатории Марии Осиповны Кнебель, то просто ездил в библиотеку или по вызову театрального общества, Дома актёра, УНИМа или ещё чего-то.
В 1966 году я чуть было не переехал в столицу. Дело было так.
В Москве, в Театре Ленинского комсомола главным режиссёром был Анатолий Васильевич Эфрос. Каждый спектакль, как говорится, был настоящим театральным событием. Я специально ездил на его премьеры. Некоторые спектакли, скажем «Снимается кино» Радзинского, смотрел множество раз. Обычно, когда режиссёр смотрит спектакль другого режиссёра, даже самого блестящего, он примеряет свои возможности и решает для себя вопрос: может ли он так или нет. В случае с Эфросом я всегда отвечал: нет, не могу. Я был по-настоящему влюблён в него, боготворил его, хоть в собственном скромном творчестве не проявлял влечения к психологическому театру.
До «Ленкома» Эфрос работал в Центральном детском театре, сначала под началом М. О. Кнебель, он был её учеником, потом самостоятельно. Некоторые спектакли репертуара у нас совпадали, хоть принципиально отличались друг от друга. У меня тотальностью, у него глубоким психологизмом. Так, и у него и у меня шли поставленные нами «Они и мы» Долиной, «Судебная хроника» Волчек.
В 1966 году у меня следовала одна премьера за другой, и я долго не был в Москве. Доходили слухи о том, что московские власти разделались с Эфросом, убрали его из театра и что он с группой своих, наиболее близких ему актёров перешёл в Театр на Малой Бронной, очередным режиссёром к Дунаеву.
В спектаклях Эфроса не было откровенной антисоветчины. Но советским чиновникам просто была не по душе подчёркнутая независимая позиция главного режиссёра, то, что он не был похож на других. В его спектаклях они усматривали вольнодумство, что-то опасное, подрывающее устои. И с Эфросом рассчитались. Правда, своим спектаклем «Три сестры» на Малой Бронной Эфрос показал, что приспосабливаться не собирается. Но это другая история — про Эфроса, а не про меня.
Московский драматург Исидор Владимирович Шток испытывал ко мне стойкую симпатию, которая несколько превосходила обычное обхаживание драматургом режиссёра. Я действительно поставил несколько его пьес, сыграл несколько главных ролей в спектаклях по его произведениям. Каждый мой визит к нему Шток обставлял шумным приёмом. Его жена, артистка театра «Ромэн», настоящая цыганка, потчевала меня всевозможными разносолами. На подписываемых своих книгах Шток употреблял высокий стиль: «моему благодетелю», «лучшему исполнителю», «самому талантливому» и т. д. Особое впечатление на него произвела моя «Божественная комедия» в Харьковском ТЮЗе. Я многое изменил внутри самой пьесы, многократно приезжая к нему для согласования новых, придуманных сцен. Шток очень радовался моим находкам, предложениям, с явным удовольствием дописывал и переписывал целые сцены.
В 1966 году, уж не помню, в каком месяце, он позвонил мне в Харьков и сказал, что в театре «Ленком» в связи с уходом Эфроса пустует место главного режиссёра. И что он настоятельно рекомендовал меня на эту должность своему ближайшему другу Михаилу Михайловичу Мариенгофу, директору театра, и что последний готов со мной встретиться, познакомиться, всё обсудить, дать мне постановку в театре с последующим утверждением в должности, если постановка будет иметь успех, в котором он, Шток, не сомневается. А Мариенгоф человек очень влиятельный, и все преграды, которые может на моем пути выстроить министерство культуры и ЦК партии, он сумеет обойти. Одним словом, я должен немедленно вылететь в Москву завтра же, потому что он уже пригласил Мариенгофа к себе в гости для встречи со мной.
Ужин он закатил отменный, и мы до глубокой ночи обсуждали с директором возможные пьесы для моего будущего спектакля. На завтра договорились продолжить наше общение уже в Театре Ленинского комсомола.
Ночью я не сомкнул глаз, многократно проигрывая разные ситуации предстоящей встречи с труппой театра, перелистывал в уме разные пьесы. Несмотря на то, что Эфрос забрал с собой лучших актёров театра, в «Ленкоме» остались Гиацинтова, Вовси, Пелевин, молодой Караченцов, Корецкий и много других отличных актёров.
Последние несколько лет я ездил на занятия лаборатории, которой руководила Мария Осиповна Кнебель, легенда русского театра. Она училась у Михаила Чехова, была актрисой и режиссёром-постановщиком во МХАТе времён Станиславского и Немировича-Данченко, а в описываемое время была профессором, заведующей кафедрой режиссуры Государственного института театрального искусства. Микроскопически маленькая женщина, она являла собой гиганта театральной педагогики. Попасть на её лекции и занятия было заветной мечтой любого деятеля театра. Её личный режиссёрский путь после кончины Немировича был связан многолетней дружбой с Алексеем Поповым. До последнего дня своей жизни она нежно дружила с Павлом Марковым. Всё это легендарные имена русского театра ХХ века.
Я семь лет посещал занятия Марии Осиповны. Принимал участие в её чествовании, когда ей исполнилось 70 лет, потом 75, а потом и 85. Был автором капустника в её честь. На моих полках стоят все её книги, а фотографии её всегда перед моими глазами.
Дочка знаменитого издателя Иосифа Кнебеля, Мария Иосифовна родилась ещё в XIX веке. Свои детские сказки ей читал сам Лев Толстой. Её студенты, путая даты, расспрашивали её о деятелях минувшего века так, как будто Мария Осиповна могла их всех знать.
— Я с Гоголем не дружила, — смеялась студенческой наивности Мария Осиповна.
Её педагогическим коньком был метод действенного анализа пьесы и роли, в который окончательно поверил Станиславский в последние годы своей жизни. Этим методом она и заразила всех нас, участников ее лаборатории — главных режиссёров театров юных зрителей.
Авторитет Марии Осиповны был для нас непререкаемым. Так что утром, ещё до своего визита в «Ленком», я поехал к ней домой советоваться.
Выслушав мой рассказ, она всплеснула руками:
— Лёня, вы сошли с ума! Как вы можете даже в мыслях соглашаться на это предложение?! Занять Толино место! Это же безнравственно.
— Мария Осиповна! Но ведь его всё равно займут.
— Да, займут. Но ни один мой ученик не может себя замарать согласием работать с этими бандитами, так поступившими с Толей. Вот это же предлагали Адолику Шапиро. И он категорически отказался.
В общем, вечером, не заходя в «Ленком», я уехал в Харьков. И уже оттуда позвонил в Москву и сказал, что, к сожалению, принять их предложение не могу. Я буквально «слышал», как отвисла челюсть у Мариенгофа.
Кстати, он, я этого не знал, был отпетой сволочью, стукачом и мерзавцем. Но эти подробности о нём я узнал много позднее.
Так что тогда, в 1966 году, мой переезд не состоялся.
Но Шток продолжал свою деятельность, и в 1968 году, когда Образцов принял к постановке новую пьесу Штока «Ноев Ковчег», вместе с Поюровским (тогдашним завлитом театра) добился моего окончательного переезда в Москву.
С тех пор прошло много лет.
Мы любим прошлое. Живём настоящим. А думаем о будущем.
Как доктор Чебутыкин из «Трёх сестёр» Чехова, я узнаю новости из газет. Летом 1996 года, ночью, у берега моря в Ашкелоне тонул человек. Никакой надежды на спасение не было, но внезапно волна вынесла его на берег, прямо к ногам метавшегося на пустом пляже и не умевшего плавать приятеля. Вторым чудом было необъяснимое появление на месте происшествия людей, которые и вызвали к уже бесчувственному утопленнику скорую помощь.
Его удалось спасти.
Спасённый оказался гостем Израиля, пожилым евреем из Алма-Аты. Звали его Леонид Прицкер. Для тех, кто следит за прогнозами грядущего века, — имя известное. К его прогнозам на будущее в полной мере относятся слова Нильса Бора: «Ваша теория, безусловно, безумна. Вопрос в том, достаточно ли она безумна, чтобы быть правильной?»
Совсем ещё недавно Прицкер занимался нефтеразведкой. Опубликовал множество научных работ, явился автором многих изобретений. Потом полностью посвятил себя изучению будущего.
В Казахстане к нему относятся как к пророку, величайшему философу столетия.
Внимательным телезрителям он запомнился как участник передачи «НЛО: необъявленный визит» в Останкино, где ему удалось сделать фото инопланетянина, обошедшее все газеты мира, включая «Нью-Йорк таймс» и «Санди таймс».
Теория мироздания Леонида Прицкера невероятна, сложна, так как она вбирает в себя практически все существующие теософские теории, а заодно и классическую и квантовую физику, теории Эйнштейна, Чижевского, Гумилёва и многих других, которые превращаются в теории Прицкера лишь в некий частный случай, подобно тому, как физика Ньютона является частным случаем физики Эйнштейна.
Согласно этой теории, развитие мира шло по пути постепенного уплотнения материи — от Всевышнего, являющегося «чистым духом», до нашего, сугубо плотного материального мира.
Таким образом, всё мироздание представляет собой целый каскад населённых миров с разными уровнями развития разума. Но в этом «слоёном пироге» миров каждый мир нуждается в последующем, подпитывается его излучениями.
Скажем, ноосфера нашей планеты, заключающая в себе образы, мысли и чувства — словом, всё то, что у нас принято называть «душой», — должна подпитываться эмоциями ныне живущих людей, которые материализуются в виде энергии. Чем эти эмоции духовнее, высоконравственнее, чище, тем более «доброкачественную» пищу мы поставляем в ноосферу, тем большая гармония существует между нами и теми «душами», которые её населяют. И наоборот, отрицательные эмоции, эмоции зла и разрушения приводят к дисгармонии, которая в итоге может оказать разрушительное действие на все миры, с которыми сопряжена наша Земля.
Одновременно, будучи частью Солнечной системы, мы воспринимаем пульсацию Солнца и других небесных тел, которые также могут гармонировать или дисгармонировать с пульсациями человечества. И снова дисгармония ведёт к катастрофе.
Прицкер убеждён, что мы не единственная материальная цивилизация в нашей Солнечной системе и те инопланетяне, с которыми довелось встречаться теперь уже сотням жителей Земли, прилетают к нам не с далёких звезд, а со спутника Сатурна Тефия.
Эта грандиозная картина мироздания облечена Прицкером в строгие формулы. Ему уже довелось сделать доклад о своей «теории пульсации» на нескольких престижных научных форумах, в том числе и на конференции, организованной ЮНЕСКО.
И если его теория верна, пожалуй, правы казахские журналисты, награждая Прицкера громкими эпитетами.
Но подчеркнём и то, что согласно этой теории нашу Землю ждут в 2036 году не самые приятные ощущения.
Главной причиной возможной катастрофы, согласно теории Прицкера, станет не рост народонаселения Земли, а дошедшая до абсолюта дисгармония между эмоциональными пульсациями человечества и пульсациями Солнца и ноосферы. Чем ниже опускается человечество в моральном плане, чем агрессивнее становятся его эмоции, тем ближе оно подходит к этой катастрофе. В конце концов критическая масса населения в десятки миллиардов человек, излучающая в ноосферу отрицательные эмоции, вызовет самый настоящий психический взрыв в нашем мире, который в материальном плане предстанет как цепь глобальных катастроф — наводнений, землетрясений, изменений состава атмосферы. Помните, Мерчуткина в «Свадьбе» Чехова требовала атмосферы: «Дайте мне атмосферы! Без неё я задыхаюсь!»
Избежать этой катастрофы и перейти в качественно иное состояние можно только одним путём — путём увеличения «массы духовности» в человечестве.
Увы, пока на Земле остаётся очень много очагов, где бездуховность явно преобладает над духовностью, агрессия — над милосердием. Одним из таких очагов, по мнению Прицкера, является Россия. Не сумев направить свою агрессивность на другие страны, она начала реализовывать её изнутри, развязав чеченскую бойню.
И к нам в Израиль Прицкер приехал прежде всего ради Иерусалима, в самом воздухе которого, по его словам, разлита высшая духовная энергия, несмотря на все трудности, которые переживает этот город.
Иерусалим, по его определению, и есть та самая точка, которую ищут и не могут найти, потому что ищут не там.
А всё почти так же просто, как и с его загадочными фотографиями: нужно просто знать, в какую точку неба направить объектив — и тогда невидимое станет очевидным.
Необычайно интересно, что Прицкер, человек, в общем-то, далёкий от иудаизма, пришёл почти к тем же аксиомам, на которых зиждется еврейская мистика — о множественности миров, отсутствии смерти и т. д.
Ещё более удивителен факт, что, согласно Каббале, наш материальный мир не может существовать более 7 000 лет: после этого Всевышний разрушит его, чтобы построить из тех же «кирпичиков» новый. По Прицкеру выходит, что нашей цивилизации отпущено 7 692 года — не такая уж и большая разница.
Но и Тора, и теория Прицкера оставляют человеку надежду: катастрофы можно избежать — если, конечно, этого очень сильно и всем вместе захотеть.
Ну а если этого не произойдёт, то вот как Прицкер описывает конец света:
…Гигантские волны, родившиеся в самом сердце Мирового океана, захлестнут побережье всех материков, смывая на своём пути процветающие мегаполисы и крохотные, никому не известные деревни. Почти одновременно землетрясения, сила которых не поддаётся исчислению по шкале Рихтера, потрясут те части материков, до которых не докатятся цунами. На оставшихся после этих стихийных бедствий островках жизни люди будут жадно глотать воздух и задыхаться от недостатка в нём кислорода и обилия ядовитых газов.
«Всё это, — говорит Прицкер, невысокий, очень плотный старик с живым еврейским лицом, — может произойти в 2036 году».
Впрочем, можно погибнуть и сегодня.
Все телеграфные агентства поведали о недавней трагической гибели Сэмюеля Льюиса, его жены Лилы и шестилетнего сына Дейви — жителей Сиднея, когда они мирно смотрели в своём доме телевизор. Вряд ли тридцатишестилетний Сэмюель читал пьесу Дюрренматта «Авгиевы конюшни». Но он и его жена погибли именно от экскрементов.
Эксперты установили, что гибель австралийцев произошла вследствие того, что из пролетавшего самолёта вытекали из туалетной комнаты экскременты и в верхних слоях атмосферы они замёрзли, образовав 45-килограммовую глыбу. Пролетев примерно семь километров, эта ракета дерьма или дерьмовая ракета достигла скорости метеорита и разнесла комнату и её обитателей вдребезги.
Между прочим, чудеса бывают не только с отрицательным знаком. Примером чего является то обстоятельство, что за день до драматического купания у Прицкера кончился срок страхового полиса. Однако появившийся в больнице представитель страховой компании заявил, что, несмотря на это, компания берёт на себя все расходы по лечению пострадавшего.
Поступок страховой компании все израильтяне расценили как действительное чудо.
Когда я первый раз в 1967 году приехал в Театр Образцова ставить свой первый в этом театре спектакль, меня поселили в общежитии театра. Моссовет выделил для этой цели театру большую пятикомнатную квартиру в Сокольниках, на первом этаже многоэтажного дома. В квартире этой тогда ещё никто не жил. В каждую комнату завезли венгерские кровати с тумбочкой к ним. Двери четырёх из них выходили в большую гостиную, которую обставили старинной мебелью. А для уюта Образцов из своих запасников выделил большую картину, на которой были изображены мальчик с лангустом.
Так как ко мне для работы над музыкой к спектаклю приехал мой харьковский дружок композитор Карминский, то в гостиную привезли пианино.
Через год, когда я окончательно перебрался в Москву, я снова поселился в той же комнате той же квартиры. Но только теперь это уже было настоящее общежитие.
В одной из комнат, выходивших в гостиную, предназначенную для общего пользования, поселилась многопудовая актриса театра Галина Бадич. Иногда к ней приходила её дочь, молоденькая девушка.

Мой первый композитор Марк Карминский и первый литературный критик — В. Дубровский
В другой комнате молодой актёр из Гомеля — Рома Богомольный. Он приехал поступать в какой-нибудь драматический театр. Случайно попал к Образцову, подыгрывая какой-то своей землячке, которая решила «прослушиваться» к Образцову. Претендентку в театр не взяли, а Роме сделали предложение, которое он и принял.
В третьей комнате жила заведующая реквизиторским цехом — старая дева Вера по фамилии Удод. Когда в коридоре раздавался звонок телефона, Вера первая подбегала к нему с постоянной фразой:
— Член партии нашего театра Удод слушает.
Зиновий Ефимович Храпинович, сменивший эту благозвучную фамилию на более короткую — Гердт, говорил про Веру:
— В семье не без Удода.
Комната, в которой жил и пьянствовал Рома Богомольный, была самой большой, и туда постоянно кого-то подселяли. То это был стажёр из Еревана по прозвищу Армянский Образцов, то директор областного театра, владевший в полной мере всеми человеческими пороками.

Мы с Асей, которая приехала ко мне 12 сентября 1968 года, поселились в свободной маленькой комнате. Ася, разобравшись в обстановке, немедленно переименовала Ромика Богомольного в Рюмика Богохульного, и мы весело прожили в этом общежитии чуть больше шести лет. Если не считать Асиного отъезда на полтора сезона в Калининский (теперь Тверской) театр. Руководил этим театром Роман Виктюк, которому, я надеюсь, ещё посвящу пару страниц.
Жизнь в общежитии была шумной, часто пьяной, с многочисленными приёмами. Галя и Рома умудрялись иногда вылепить по 500 пельменей. Их совместное пребывание под одной крышей привело к длительному роману. Правда, не очень уверен, что это определение характеризовало их отношения. На всём в общежитии лежал плотный слой богемы. С. В. Образцов при всём том, что он был человеком крайне земным, иногда позволял себе романтические закидоны. Так, он своим приказом отменил все замки в комнатах общежития.
— В моём театре работают только интеллигентные люди, — заявил он. — Запирать двери — неприлично.
Из дверей были вынуты все замки. И нам приходилось придвигать к дверям тяжёлые предметы. Вспомнил об этом потому, что однажды Образцов выкопал в Красноярске, в Сибири, некоего старца, который якобы выступал на базаре с куклами. Для демонстрации всей московской общественности этого «последнего могиканина», уличного кукольника, Образцов выписал его в Москву. Поселили его, естественно, в нашем общежитии. Любаев, так звали этого самородка, оказался человеком богатырского телосложения, лет шестидесяти, с белой бородой и противным голосом. Иногда он демонстрировал своё искусство: закладывал в рот пищик и изображал, как он на базаре зазывал публику.
Вечерами он напивался до потери сознания, начинал буянить, петь песни и высказываться в непечатных выражениях о своей роли в современном искусстве. Его переполняла гордость и уверенность в своей исключительности. В том, 1970 году он впервые попал в Москву, к самому Образцову, его всё время фотографировали и водили в Дом актёра.
Нам с Асей приходилось не только придвигать к дверям нашей комнаты тяжёлые предметы, но и строить настоящие баррикады, так как пьяный и буйный Любаев ломился в дверь, требуя общения. Потом, попев и покричав, он засыпал, далеко не всегда на выделенной ему кровати. Песни его были незнакомые. Одну строчку я запомнил: «…Ехал Троцкий на телеге». А сами приключения вождя революции в памяти не остались.
Продолжалось это недели две. Потом с трудом его сплавили обратно в Красноярск.
В театре был установлен режим неконституционной монархии. К Образцову многие обращались со словами Хозяин. Даже к Сталину так не обращались. Хозяином был Человек. Это он «проходил как Хозяин необъятной Родины своей», как пелось в песне. Образцова же называли Хозяином в лицо. Можно было подойти к нему и сказать:
— Хозяин, скажите, пожалуйста, вы уже решили, когда я пойду в отпуск?
И Хозяин, вертя свой чуб, давал тот или иной ответ.
Я очень сожалею, что не вёл дневник, не записывая за Образцовым все его байки, размышления, бесконечные истории. Первые годы нашего знакомства, совместной работы он относился ко мне с повышенным вниманием. Мог у себя дома целый вечер, до глубокой ночи, играть мне одному цыганские романсы, рассказывать о гитарах, нюансах цыганской песни, об эстраде довоенных лет, о встречах со Сталиным, у которого он множество раз выступал со своими куклами, да о чём угодно. Я был для него новым слушателем, впервые, с неподдельным интересом впитывавшим всё, что он обрушивал на меня. Он ценил этот интерес, а я, дурак, ничего не записывал, хоть все вокруг беспрерывно мне это рекомендовали. Теперь это всё стерлось в памяти, стало неотделимо от других рассказов, от иных источников информации, как теперь принято говорить.
А вот целый ряд его благородных поступков в мой адрес забыть не могу.
Так, в самом начале моей службы в театре на имя Образцова и на имя райкома партии пришло письмо из Харьковского обкома. Партийные деятели родного города не могли успокоиться. Мой отъезд в Москву, работа в престижном театре вызывали у них злобу и желание добить меня на расстоянии.
Письмо подписала инструктор обкома некая Люся Выск, которая курировала (это слово рождено большевистским режимом) мою деятельность в Харьковском театре. В письме сообщалось, что я политически неблагонадёжен, что мой последний спектакль снят, как антисоветский, что партийная организация города выразила мне своё политическое недоверие. Всё это, они считают, должны знать мои новые руководители, и, по их мнению, мне не место в столице нашей Родины.
Так вот, Образцов вызвал меня к себе, дал прочитать письмо, расспросил меня о подробностях и на моих глазах это письмо порвал. Даже в то время это был поступок. И я его не забыл.
Правда, райком письмо не порвал. И очень долго, не объясняя причин, меня не выпускали за границу, хоть Образцов и пытался меня протащить. Но там он уже не был хозяином.
При всём этом Образцов был полностью сконцентрирован на себе. Он жил с постоянной оглядкой, ему всё время мерещились заговоры против него, он пытался найти следы недоброжелательства в свой адрес. Боялся интриг, разговоров. Выслушивал и собирал все сплетни, обожал копаться в личных делах своих сотрудников. Я имею в виду не «личные дела» в отделе кадров, а все те разводы, романы, обиды, оскорбления, кои неминуемы в коллективе из почти 400 человек.
Образцова в театре не любили. Многие боялись. Боялись самодурства, боялись потерять работу. За глаза его называли Белая Вошь и Рыбий Глаз, а его жену и аккомпаниатора Ольгу Александровну — Гиеной Огненной. Единственным, кто мог себя не сдержать, наговорить ему в лицо гадости, был Гердт. Он чувствовал себя человеком независимым, понимал, какую ценность он представляет для театра, да и, кроме того, снимался в кино, работал на эстраде — одним словом, выгодно отличался от работников театра.
— Скажите, Зяма, — обращался к нему Образцов, — вы уже прочитали мою новую книгу?
— Я глупостей не чтец. Тем больше Образцовых, — отвечал Гердт.
Они разбегались на разные стороны театра. Но назавтра Гердт всегда приходил к Образцову извиняться.
— Простите, Сергей Владимирович, вы же знаете, я за шутку и отца родного продам. Вы же знаете, как я вас уважаю.
Ну совсем как Паниковский, которого так блестяще потом сыграл Гердт в кино.
Образцов терпел Гердта, хоть и ненавидел его. Именно эта ненависть и подвигла Образцова к идее ввести меня на роль Конферансье в знаменитом «Необыкновенном концерте».
Когда-то этот спектакль назывался «Обыкновенный концерт», что, конечно, было более точным названием. В «обыкновенности» и заключался сатирический характер этого спектакля.
Начальство, усмотрев крамолу, потребовало изменить название. Это был единственный случай, когда к Образцову были предъявлены идеологические претензии. Второй случай связан с моим «Ноевым ковчегом».
В период работы над этим спектаклем цензурная свирепость ещё более усилилась. Партийные чиновники выискивали в текстах любые намёки на несовершенство советской власти, обнаруживая в этом деле недюжинный талант. Часто за «намёки» принималась самая безобидная фраза, в которой вообще никакой намёк не ночевал.
«Ноев ковчег», хоть и был моим вторым спектаклем в театре, но теперь я был штатным режиссёром театра и буквально выворачивался, придумывал этот спектакль.
О своих взаимоотношениях со Штоком я уже вспоминал: он встречал все мои придумки с энтузиазмом, что иногда вызывало недобрый взгляд Хозяина.
На репетициях спектакля мы постоянно вступали с Образцовым в бесконечный спор. Победа, естественно, оставалась за ним, хоть я, как постановщик, юридически пользовался всеми правами.
— Я вас пригласил не для того, чтобы сушить сухари, — часто повторял Образцов.
Я придумал, а Шток одобрил транспарант, который мы повесили над сценой. На нём было написано: «Театр благодарит организации и отдельных граждан — не принимавших участия в создании этого спектакля».
— Вы просто с ума сошли, — сказал Образцов, увидя этот текст на репетиции.
Шток удержался от спора с ним, понимая прекрасно, кто есть кто.
Приходя после репетиций к своему давнему другу, а тогда завлиту Театра Станиславского, Виктору Дубровскому, я рассказывал о своих спорах с Хозяином, сокрушаясь, что тот скоро меня выгонит: зачем ему спорщик. А сдержать себя я не могу, хоть плачь. Мудрый Витя настоятельно призывал меня к компромиссам.
Оказалось впоследствии, что я вёл себя с Образцовым правильно. Он именно спора и ждал от меня. Репетиции шли под стенограмму, и Сергею Владимировичу необходим был диалог.
На репетиции постоянно приходили две дамы — Мирошниченко и Терентьева. В их задачу входило следить, чтобы все произносимые со сцены тексты точно соответствовали залитованному цензурой экземпляру.
А на репетициях, естественно, импровизационно рождались разные новые шутки, повороты, остроты. Дамы-чиновники их аккуратно записывали и через день-другой просили их вычеркнуть. Постепенно из обычной пьесы в 60 страниц осталось 23. Мне пришлось специально удлинить поклоны артистов, чтобы хоть как-то продлить сценическое время. Смысл и любая сатиричность в спектакле были уничтожены полностью.
Удивительно, но Образцов этому не противился, не вступал в спор — мягко говоря, в драку не лез.
— Ничего. Теперь спектакль будет о том, как надо точно находить себе спутницу жизни. А то Хам, Сим и Иофет не на тех женились. Вот об этом и будет спектакль.
А ведь вся история была задумана о том, как Создатель, оставив одного Праведника с семьёй, уничтожил всё человечество.
Когда до премьеры остались сутки, на генеральную репетицию пришёл Евгений Владимирович Зайцев, первый заместитель министра культуры. Его сопровождали Терентьева и Мирошниченко — дамы для сопровождения, сказали бы сейчас.
Они разместились в пустом зале.
После просмотра Зайцев с дамами, Образцов, главный художник театра Борис Тузлуков и я прошли в кабинет Образцова, находившийся рядом с буфетом двухэтажного здания на площади Маяковского. Дело происходило ещё в старом помещении театра.
Зайцев похвалил спектакль. Сказал, что в нём много смешного. Правда, наблюдая за его реакцией, мы ни разу не увидели, чтобы он улыбнулся. Потом главный ценитель искусства повернулся ко мне (почему не к художнику?) и спросил:
— Скажите, а почему все куклы в спектакле еврейской национальности?
Возникла пауза, после которой я начал достаточно спокойно и популярно объяснять, что в основу спектакля положены библейские события и потому действующие лица имеют характерную внешность.
То, что Зайцев был одним из ведущих антисемитов страны, все хорошо знали. Но почему-то такого развития событий никто в театре не предполагал. Да это и не могло прийти в голову.
— Куклы надо переделать. Сейчас политически не следует привлекать внимание к данному вопросу, — заявил Зайцев.
— У нас завтра премьера, — робко произнёс Образцов. Все билеты проданы.
— Значит, отложите премьеру. Если куклы не переделают, я спектакль не разрешу.
С этим он и удалился вместе со своими дамами.
Руководствуясь финансовыми интересами театра и указаниями заместителя министра, Образцов принял решение в течение ночи переделать лица основных действующих лиц. Мобилизованные бутафоры театра, художники и мастера превращали еврейские носы в курносые, перекрашивали чёрные волосы париков в светлые славянские.
Я много раз рассказывал в дружеском кругу эту историю «хрустальной ночи». Мой рассказ вызывал некоторое недоверие.
Но в 1983 году вышла монография, посвящённая творчеству Бориса Тузлукова, в которой на развороте помещён эскиз Ноя, как он был задуман и воплощён до ампутации, и фото куклы из спектакля. И мой рассказ получил документальное подтверждение.
Борис Тузлуков был колоритнейшей фигурой — и внешне, и в истории театра. Он был автором почти всех спектаклей. Я познакомился с ним, когда он был уже немолод, с огромной седой бородой. Родился он в 1909 году и работал в театре кукол с 1935 года.
При переезде театра в новое здание Образцов увлёкся новым художником Алёной Спешневой, и о Тузлукове забыли.
Нового главного художника звали ЛЖ — «любимая женщина». К этому времени у С. В., так иногда звали Образцова, Сергея Владимировича, начал развиваться старческий интерес к женщинам. Если раньше женская тема его не интересовала, то теперь она стала предметом его разглагольствований и повышенного интереса к каждой даме, переступавшей его кабинет.
А что касается Алёны Спешневой — красивой, очень высокой, стройной и независимой, то она была вне конкуренции. Человеком она была способным. Жаль только, что в Театре Образцова талант её не успел раскрыться. Она довольно скоро трагически погибла, упав с балкона старого дома, который находился между Центральным детским и Большим театрами.
В числе черт Образцова была и такая: он совершенно не интересовался жизнью, деятельностью других театров. За многолетнее с ним знакомство было только несколько случаев, когда он, и то по необходимости, посетил те или иные спектакли. Он был убеждён, что ничего интересного вне стен собственного театра быть не может.
Сам он был певцом дилетантизма. Это не могло не сказаться на повседневной его деятельности, житейских ситуациях и на восприятии искусства. В отрицании систематического образования он вообще доходил до смешного и абсурдного.
Однажды в ГИТИСе был образован совместный факультет режиссёров и художников театра кукол. Образцова сделали профессором и назначили руководить этим курсом. Педагогом по специальности он пригласил меня. Мы договорились, что я буду вести ежедневные занятия, а он раз в неделю будет читать лекции.
На первой же встрече со студентами Образцов всё отведённое время разглагольствовал о куклах, подробно рассказывал, как когда-то сам увлёкся игрой с ними, а в заключение сказал:
— Вообще-то, научить актёрству невозможно. Такой науки не существует. Запомните это. Теперь я с вами попрощаюсь, а вот Леонид Абрамович займётся вашим обучением.
Я «продержался» на этом курсе года полтора. Потом ушёл. Стал самостоятельно руководить курсом в Гнесинском училище.
Как и в театре, найти общий язык с Образцовым я не сумел.
В Образцове сидел удивительный талант упрощения. Так, например, он бесконечно часто повторял:
— То, что так подробно и долго описывал, скажем, Тургенев, народная мудрость уложила в две строчки:
Два колечка, два крылечка в памяти осталися:
На одном поцеловались, на другом рассталися.
— Подумайте, — говорил он, — вся человеческая жизнь в двух строчках. А писатели разводят это на многих страницах.
Однажды на даче во Внуково ему построили голубятню по проекту его сына-архитектора. Образцов собирал голубей. Это его хобби было широко разрекламировано, и многие кукольники, как сейчас говорят, из дальнего и ближнего зарубежья, дарили ему представителей разных редких пород. Всего у него было где-то около сотни голубей.
Как-то к нему прибежал его сосед по даче, известный кинокритик Сурков, с известием о том, что голубей собираются украсть. Он лично слышал на железнодорожной станции, как сговаривались злоумышленники. Образцов обратился в поселковую милицию, и на его даче устроили засаду. Прошло несколько дней — преступники не появлялись. Засаду сняли.
Но Образцов не успокоился. Был созван весь цвет технической мысли театра для создания безотказной системы сигнализации на случай, если воры полезут в голубятню.
Так как «техническая мысль» состояла из талантливых, но дилетантов, то из этой затеи вышла такая сигнализация, которая реагировала воем сирены не только на появление преступников, но и на каждый взмах крыльев ничего не подозревающих голубей. Вой сирены стоял над посёлком практически круглосуточно.
По настойчивым жалобам соседей сигнализацию отключили. А вскоре сам Образцов заболел аллергией, связанной, как установили врачи, с голубями. У него поднималась температура, возникали разные болевые ощущения, и голубей распродали.
Любовь Образцова к голубям была очередным мифом, который, впрочем, он всячески поддерживал, рассказывая о своей якобы страсти во всех интервью, любил ходить на птичий рынок в сопровождении фотографов и операторов.
Когда-то он контрабандно привёз из-за рубежа двух маленьких крокодильчиков — подарок его школьного друга Бориса Шаляпина, сына великого певца. Их поместили в большом террариуме на даче. Я даже несколько раз при помощи пинцета кормил их мясом. Потом они подросли, и их подарили какому-то Дворцу пионеров.
Последняя история, которую помню, произошла уже в новом помещении на Садово-Самотёчной, куда переехал театр.
Однажды к Образцову на приём пробилась одна старушка. Она оказалась смотрительницей морга больницы Склифосовского, корпуса которой располагались недалеко от нового здания театра. Старушка рассказала, что проработала в морге больницы пятьдесят лет. И что все эти годы собирала канареек, которые своим пением услаждали печальную обитель. Теперь она уходит на пенсию, а её преемники содержать птиц отказываются, и она, зная, что Образцов любит всякую живность, готова принести в дар все сорок с лишним клеток пернатых друзей. Образцов дар принял, и в каждой комнате театра, в кабинетах и в мастерских, были помещены клетки с певчими птицами. На доске объявлений появилось следующее: «Дорогие друзья! Если Вы любите птиц и у Вас хорошие домашние условия и нет кошек, театр готов презентовать Вам канарейку».
В буфете театра установили спиленную на даче Образцова яблоню, выкрасили её в золотой цвет, а на неё повесили множество оставшихся в театре клеток.
Сергей Владимирович любил привлекать к себе внимание, ему нравилась репутация чудака, и, естественно, о нём создавались легенды, мифы.
Одним из мифов была любовь Образцова к евреям. На самом деле Главный Кукольник любил себя в роли покровителя лиц еврейской национальности. Слово «еврей» было неприличным, и была выработана эта, несколько стыдливая, форма. Сегодня она трансформировалась в «лиц кавказской национальности», что лишает человека той или иной национальной определённости. А нынешним власть предержащим в России кажется, что они «тонко» решают национальный вопрос, не нанося тому или иному народу обиды.
Да, так Образцов любил себя в роли поборника евреев. И евреям от этого кое-что перепадало. Так, оркестр театра был почти весь еврейский. А устроиться еврею на работу в то время было крайне сложно. В театре два главных актёра — Сима и Зяма — были народными артистами. По этому случаю в театральной стенгазете я опубликовал статью под названием «Вышли мы все из народа». Имела звание и уехавшая впоследствии в США Ева Синельникова. В общем, и среди актёров, и среди работников администрации евреев было много.
Сергей Владимирович никогда не ставил спектакли самостоятельно, единолично. Рядом с ним всегда был другой режиссёр, который, собственно говоря, и осуществлял постановку. Репетиции как таковые, после обсуждения замысла, мало интересовали Образцова. Он любил разглагольствовать на различные отвлечённые темы, чем больше мешал, многократно увеличивая срок выхода спектакля. Вообще, среди многочисленных увлечений режиссура для Образцова была на последнем месте. Его образное видение было сугубо «эстрадным». Трюк был интереснее идеи.
Зяма (Гердт) не проявлял к режиссуре никакого интереса. А вот Сима (Самодур) всегда к ней стремился. Кстати, это он режиссировал с Образцовым в «Необыкновенном концерте».
Последние годы Образцов к Самодуру потерял интерес и практически не привлекал его к творческой деятельности. Его место занял Володя Кусов. Семён Соломонович очень переживал, приходил к Образцову с разными идеями, но тот от него всячески отмахивался. Между прочим, Самодур проработал в театре более пятидесяти лет.
Однажды, воспользовавшись длительным отсутствием в Москве Образцова, Самодур сумел сам, преодолев все препятствия, поставить спектакль по сказке Пушкина «Сказка о царе Салтане». Кстати сказать, для театра этот спектакль был необычен и оригинален.
Когда Образцов возвратился, спектакль был полностью готов. К его приходу в театр собралась многочисленная труппа театра. Обуреваемый самыми разными чувствами, нервно теребя свой хохолок, Сергей Владимирович уселся, и просмотр спектакля начался. Во время всего действия актёры, не занятые в спектакле и сидевшие в зале, не отрывали глаз не столько от сцены, сколько от лица Хозяина. Оно было непроницаемым.
Когда просмотр закончился и участники его спустились в зал, Образцов встал, повернулся к залу и начал ходить перед сценой туда-сюда. Полностью отвергнуть увиденное он не мог — спектакль явно удался.
После долгой и мучительной паузы он наконец произнёс:
— Ну, с чего начнем? Давайте с музыки.
Музыку к спектаклю написал композитор Илья Шахов. Человек желчный, саркастический, инвалид войны — у него не было одной ноги. В театральном мире человек известный — писал музыку к спектаклям многих московских театров.
— Так вот, Илюша, должен вам сказать, — начал Образцов, — что вы, очевидно, не знаете основного закона нашего театра: глаз сильнее уха. Вот, например, звучит авторский текст: «Пушки с пристани палят — кораблю пристать велят». После этой фразы у вас в оркестре звучат литавры и корабли пристают к пристани. Но это уже зритель не замечает, потому что глаз сильнее уха. Нужно сначала пришвартовать корабли, затем литавры. И потом уже должна прозвучать фраза Пушкина.
Шахов молча таращил на Образцова глаза. Актёры, привыкшие к разглагольствованиям своего Карабаса Барабаса, молчали.
— Неужели вы, Илюша, не понимаете? Хорошо, я приведу пример из жизни. Скажем, вы сидите у телевизора, смотрите первомайскую демонстрацию. На экране какой-то мужчина держит на плечах девочку, девочка держит в руке флажок. Под ветром флажок трепещет, закрывая лицо мужчины. А в это время диктор сообщает о том, что на площадь вступила колонна представителей завода и что сейчас вы увидите рабочего, перевыполнившего производственные нормы. Но вы всего этого не слышите, потому что ваши глаза прикованы к флажку. Понимаете? Глаз сильнее уха.
— Позвольте вам возразить, Сергей Владимирович, — сказал слегка побледневший Шахов. — Вот мы с вами смотрим телевизор. На экране первомайская демонстрация. Мы видим, что какой-то мужчина держит на плечах девочку. В руках у девочки флажок, который полощется на ветру, закрывая лицо мужчины. И в этот момент диктор говорит: «Товарищи! Через 15 минут начнётся еврейский погром!» Скажите, Сергей Владимирович, что сильнее: глаз или ухо?
Зал грохнул. Больше всех хохотал Гердт. Образцов махнул рукой.
Ввод меня на роль Конферансье — Аркадия Апломбова, самую главную и почётную роль в театре, прошёл более чем удачно. Образцову вообще нравились мои актёрские работы, и он их высоко ценил. По его словам, я играл интереснее Гердта. Это, конечно, чепуха. Если даже сравнивать наше исполнение, то мне никогда не удалось бы даже на пушечный выстрел приблизиться к удивительному, не знающему аналогов свойству. Гердт, что называется, с ходу мог произнести текст роли на любом языке, не владея ни одним. Он писал по-русски любой иностранный текст и произносил его так, как будто бы всю жизнь прожил в Индии, Бельгии, Китае. Настолько музыкально было его ухо, настолько совершенны были его речевые способности. Зрители разных стран были всегда уверены, что роль Конферансье играет артист, прекрасно владеющий их языком. Я же к иностранным языкам был катастрофически не способен. Успеху моего исполнения роли Конферансье во многом способствовало моё умение владеть куклой. Тут я должен с благодарностью вспомнить моих учителей — актёров Харьковского театра кукол, где начиналась моя актёрская деятельность. И прежде всего Петра Тимофеевича Янчурова и Любу Гнатченко.
У актёров харьковского театра не было никакого специального образования, но был многолетний опыт работы и любовь ко мне, настойчивое желание обучить меня своему искусству.
Эстетический театр того времени (речь идёт о театре кукол) тяготел к натурализму, умению на сцене превратить куклу как бы в живого человека или животное. И в этом, может быть, и бессмысленном деле, они достигли исключительной виртуозности.
— Ну прямо как живые, — говорил всегда зритель, посмотрев тот или иной спектакль.
Мне страстно хотелось достичь их уровня, и я очень много репетировал, бесконечно повторял движения, учась походке, движению рук, ног, туловища, поворотам головы перчаточных, тростевых кукол.
К сожалению, искусство драматического актёра было в театре кукол практически ничтожно. Это, прежде всего, объяснялось репертуаром театра. Все эти бесчисленные сказки из жизни медведей, зайцев, волков, собак и кошек не развивали актёрские качества. В тот период я говорил, что трёхтомник Брема не только описание животных, но и перечень моих актёрских работ. Актёры прекрасно лаяли, мяукали, мычали и рычали, но человеческие характеры, даже в их речевой характеристике, были достаточно бледными. А вот двигались они за ширмой как живые. И когда в театр кукол пришёл «человеческий» репертуар, актёрам пришлось нелегко.
Я довольно быстро, к счастью, освоил премудрости кукловождения, хоть иногда и думал, что от усталости у меня отвалятся руки. Именно руки, так как учился вести куклу и на правой и на левой руке.
Тут вспомнился один случай.
Первая моя большая «человеческая» роль была Бригелло в «Короле-олене» Гоцци. Поручив мне эту роль, директор и главный режиссёр театра Афанасьев распорядился, чтобы куклу вёл лучший кукловод театра Янчуков, а озвучивал её я. И некоторое время я бегал за Янчуковым, произнося текст. Я остро переживал свою неполноценность и после репетиций надолго оставался в театре, исполняя перед зеркалом свою роль. Кроме того, сам Янчуков много занимался со мной кукловождением, чтобы я освоил кукловождение, а не куклоношение, как говорили в театре. Постепенно, в процессе репетиций, я стал не только произносить текст, но и сам взял в руки куклу.
Однажды Афанасьев, сидя в зале за режиссёрским столиком и не видя нас, актёров, скрытых от него за ширмой, сказал:
— Вот, Леонид Абрамович, учитесь, как надо водить куклу.
Естественно, он был убеждён, что Бригелло находится в руках у Янчукова.
Обрадованные за меня актёры тут же опустили ширму, и Афанасьев увидел, что его комплимент относится уже не к Петру Тимофеевичу, а ко мне.
Кстати, сам Афанасьев куклу водил очень плохо и актёрскими способностями вовсе не обладал.
Афанасьев заслуживает отдельного рассказа.
Харьковский театр кукол был организован в июле 1939 года десятью энтузиастами. Скоро началась война, и театр эвакуировался в город Таласс, в Киргизию. После войны театр вернулся в Харьков, влача жалкое существование. Отсутствовало помещение, не было административного руководителя. Театр был на грани закрытия.
Несколько актёров вспомнили о Викторе Афанасьеве, человеке, не имевшем никакого образования, но по довоенной памяти обладавшим недюжинными административными способностями. До войны он участвовал в организации кукольного театра при Дворце пионеров, а войну провёл где-то на востоке на административной работе.
До войны с ним были знакомы некоторые актёры театра. В тот момент Афанасьев был воспитателем в ремесленном училище.
Он был коммунистом, и обком партии поддержал инициативу актёров и назначил его директором театра. Афанасьев поставил условие: он будет не только директором, но и художественным руководителем театра. Отсутствие образования, опыта не смутило областную партийную организацию, и все условия теперь уже бывшего воспитателя будущих слесарей и сантехников были приняты. Было это в 1952 году.
Я начал работать в театре с 19 декабря 1956 года. К этому времени театр уже имел своё помещение. Актёрский состав был увеличен в три раза. Работали цеха, была педагогическая часть, и, главное, первый спектакль для взрослого зрителя «Чёртова мельница» пользовался большим успехом у харьковчан. Был ещё «Запорожец за Дунаем», но он мало чем отличался от спектакля в Оперном театре, разве что там пели получше. Степень натуральности достигла такого размера, что казалось, оперный спектакль показывают по телевизору.
Афанасьев был, безусловно, отличный администратор, «танк» с партийным билетом. Свой на всех этажах советской и партийной власти.
А уж скрутить в бараний рог артистов в театре, других сотрудников ему ничего не стоило. Несчастные, ущербные, полунищие, бесправные, лишённые возможности перейти на работу в другой театр, они были превращены в абсолютных рабов, доносящих обо всём на свете своему повелителю.
Афанасьев обладал безупречным чутьём на талантливых еврейских мальчиков, на которых держалась художественная жизнь театра. Обращался он с ними беззастенчиво. На репетициях почти не появлялся. Приходил на генералку и, убедившись в художественной состоятельности спектакля, подписывал афишу своим именем, даже не упомянув в ней истинного создателя. Так ставили в театре спектакли Володя Тихвинский, Витя Шрайман, Валера Вольховский, Женя Гимельфарб.
Когда чаша их терпения переполнялась, они покидали театр. Афанасьев находил новых — так он и прожил всю свою жизнь в театре.
Во многом он старался подражать Образцову. Завёл канареек. Организовал музей. Экспонаты были ничтожны, но музей был. Установил в кабинете агрегат для черного кофе — результат зарубежных поездок.
За эти годы стал народным артистом, вице-президентом советского УНИМА, профессором института искусств, заведующим кафедрой… При этом не окончив среднюю школу. Вот уж поистине был продуктом советской эпохи.
Мой конфликт с ним возник после постановки «Двенадцати стульев» и открытия выставки «Ильф и Петров»
В афишу спектакля Афанасьев в качестве режиссёра-постановщика меня не включил, обозначив своим ассистентом. Потом моё имя вообще исчезло с афиши. С этим смириться я не мог и в 1960 году покинул театр.
Через год (я был в это время главным режиссёром Ташкентского театра кукол) я получил от Афанасьева письмо на многих страницах. В первой половине письма Афанасьев сообщал, что его посылают на три года в Египет, в Александрию, для организации египетского театра кукол. Что он готов принять это, с его точки зрения, более чем заманчивое предложение. Но единственным человеком, кому бы он мог доверить на три года руководить театром, являюсь я и только я. Поэтому он настоятельно просит меня вернуться в Харьков и заменить его на три года.
Однако кроме моего согласия есть ещё ряд препятствий, не преодолев которые, поехать он не сможет. Этому была посвящена вторая часть письма.
По существующим тогда правилам, уехать на три года за границу можно было только вместе с супругой. А его жена, актриса Русского драматического театра Ляля Столярова, ехать с ним отказывается, если он не выполнит ряд её условий. Условия эти заключались в том, что Афанасьев должен приобрести для неё значительное количество нарядов и драгоценностей по составленному ею списку (список этот я впоследствии читал). Кроме того, Афанасьев должен уволить из театра одну актрису — фамилию её я не помню, помню, что звали её Эмма, — которая являлась любовницей Афанасьева. Если он не выполнит эти и ещё другие условия, перечислять которые мне лень, Столярова согласна отозвать из обкома партии своё заявление о моральном разложении своего мужа и поехать с ним на три года в Египет.
Поэтому Афанасьев просит меня не только вернуться в театр, но и повлиять на тёзку мадам Бовари, чтобы она добровольно уехала из города и театра.
Должен заметить, что в жизни Виктора Андреевича Афанасьева женщины играли ничтожную роль. История же с Эммой имела следующую подоплёку. Жену Афанасьева, в отличие от мужа, сексуальные радости интересовали больше всего на свете. Её ненасытность не знала границ. Буквально не было ни одного мужчины, с кем бы Ляля не заводила роман. В первую очередь в список её любовников попадали все актёры всех харьковских театров. Естественно, всё это Афанасьев прекрасно знал и, безусловно, страдал, мучился, особенно тем, что рассказы о Лялиных приключениях ходили по театру. А тут, кажется из Симферополя, в театр приехала новая актриса, своими устремлениями мало чем отличавшаяся от Ляли Столяровой. И Афанасьев демонстративно начал проводить с ней время, показывая всем в театре, что он тоже не лыком шит.
Однажды, где-то в пять часов утра, родители Ляли нагрянули на дачный участок Афанасьева и обнаружили, что молодой любовник, их зять, копошится в огороде, а в домике преспокойно спит коварная Эмма.
В результате этого внезапного визита на стол областного комитета партии легло заявление от оскорблённой жены Афанасьева с просьбой примерно наказать зарвавшегося руководителя. Об условиях перемирия я уже написал выше.
Было всё это давно, в 1961 году. Афанасьева уже давно нет в живых. Молодые партийные акулы периода перестройки съели когда-то непотопляемого народного артиста. В последние годы своей жизни он совсем опустился, беспробудно пил, кстати с той же Лялей, и, утратив все свои многочисленные должности, скончался.
Человечество тем временем, современная наука всё настойчивее приближаются к созданию «параллельной памяти», когда электронный чип-микропроцессор можно будет вживлять в мозг с целью сбора информации от органов чувств. С помощью искусственной памяти человек сможет восстановить события своей жизни. Более того, информацию можно будет передавать прямо в мозг другого человека или на экран монитора. «Через три десятилетия мы сможем „восстановить человека“» — говорят учёные.
Является ли человеческая личность всего лишь подобием компьютерной программы, которую можно сохранить в памяти ЭВМ? Британские учёные разработали революционную технологию, которая позволит записать чувственные переживания человека на протяжении его жизни и создать дубликат его памяти.
Речь идёт о центральном микропроцессоре, вживляемом в мозг и выполняющем роль «чёрного ящика»: он будет получать информацию от других чипов, на которые поступают электронные сигналы от органов чувств.
Создание новой технологии позволит человеку восстановить все события его жизни, информацию можно будет представить на экране монитора. Более того, её можно будет передать на чип, вживлённый в мозг другого человека, то есть всего за считаные секунды жизненный опыт одного перейдёт к другому.
«Вместо того чтобы в разговоре пересказывать свои переживания, — говорит Крис Винтер, руководитель учёных-разработчиков, — можно непосредственно передать их на экран компьютера». Он считает, что менее чем через 30 лет можно будет «воскрешать» умерших путём полного воссоздания их жизненного опыта и параллельного генетического картографирования. Кроме того, будет возможна борьба с болезнью Альцгеймера — с помощью восстановления забытого из памяти компьютера. Задача только в том, чтобы прожить ещё тридцать лет. Обидно умирать, не дожив столь ничтожного для истории срока.
Исследователи рассчитали, что через несколько лет ёмкость микропроцессоров достигнет величины в 10 миллионов мегабайт — в миллион раз больше, чем сегодня. Согласно этим расчётам, такой ёмкости будет достаточно, чтобы собрать всю информацию, получаемую человеком за 80 лет жизни.
Сегодня даже самый большой скептик относится к подобным открытиям со всей серьезностью.
И тут в очередной раз встаёт проблема человеческой личности и достижений науки в будущем веке. Эта проблема не даёт покоя, интерес к ней возрастает практически ежедневно: появляются всё новые и новые научные разработки.
Ведь в разработке и создании «параллельной памяти» можно увидеть не только беспредельный расцвет человеческой мысли, но и угрозу человеческому роду.
Винтер гордится тем, что «полиция сможет раскрывать преступления, подключившись к микропроцессору, вживлённому в мозг преступника или свидетеля». Однако то, что воодушевляет учёного, одновременно пугает.
В ходе дискуссии, развернувшейся в последнее время вокруг «параллельной памяти», вспомнили и роман Джорджа Оруэлла «1984». Если новая технология окажется на службе у тоталитарных режимов, они смогут осуществлять полный контроль над своими подданными.
Пока же передать свои эмоции другому под силу единицам — Поэтам и Художникам, которые, как говорится, сумели выразить чувства и мысли своего поколения. Для меня одним, может быть главным, таким «выразителем» был Булат Шалвович Окуджава.
В формуле «выразитель поколения» наличествует сплошная пошлость. Поэт есть поэт, а не «выразитель». Просто я вряд ли найду слова для рассказа об Окуджаве.
В свою первую после возвращения из лагеря поездку в Москву Лёва Лившиц взял и меня. Однажды он привёл меня в дом бывшего харьковчанина Гриши Левина и его жены Инны Миронер. Их квартира, вернее комната, помещалась в большой московской коммуналке. Комната была завалена книгами и остатками завтрака. Набилось в неё много народа, сплошь литераторы, поэты, до утра читавшие свои стихи.

Гриша, высокий, худой, уже к тому времени совершенно седой человек, был автором известного тогда стихотворения: «На привокзальной площади ландыши продают! Ландыши продают! Почему не просто дают?» Поэзия была и формой и содержанием его жизни. Он относился к тому редкому типу поэтов, которые в равной степени любят и свои и чужие стихи. Был он руководителем замечательного литературного объединения «Магистраль», в которое входило много поэтов, впоследствии прославившихся на всю страну. В тот вечер (впоследствии я много раз оставался ночевать в этой квартире) помню, что познакомился с Новеллой Матвеевой, Сергеем Наровчатовым, совсем молодым литературоведом Станиславом Рассадиным. Кажется, был ещё Винокуров. Был и Окуджава. Может быть, он тогда уже сочинял свои песни, но в тот вечер под гитару пел не свои, а чужие, преимущественно фольклорного содержания.
В 1958 году Лёва рассказал, что был снова в Москве и впервые услышал песни Окуджавы, и что он потрясён ими, и что считает просто необходимым эти песни иметь, пропагандировать их, и вообще, по его мнению, в поэзию пришёл Поэт с большой буквы. Лёва уговорил меня купить магнитофон, помню, что назывался он «Астра», и мы отправились в Москву записывать Окуджаву. Песен у Булата было тогда совсем немного. Пел он их, смущаясь, иронически относясь к нашим комплиментам.
Помню, что это был «Лёнька Королев», которого сначала Булат назвал Ваней, потом Витей и в конце концов Лёней. Уже тогда были «Из окон корочкой несёт поджаристой», «Муравей», «Ванька Морозов», «А мы швейцару: „Отворите двери“»…
Ближайшее окружение Окуджавы приняло его песни сразу и безоговорочно. С тех дней они сопровождали нас постоянно. Вне зависимости от наличия слуха мы их постоянно напевали, цитировали, каждую новую передавали друг другу как важнейшее событие жизни.
Между тем его публичные выступления далеко не всегда имели успех. А иногда проходили в атмосфере откровенной враждебности. Так, однажды, в помещении бывшего Дома кино на улице Воровского в Москве, пришедшая на выступление поэта так называемая творческая интеллигенция проявила в его адрес откровенное хамство, а выступивший после Окуджавы драматург Ардаманский, обращаясь к залу, сказал: «Вот, товарищи, мы сейчас с вами встретились с воинствующей пошлостью!» А знаменитый Соловьёв-Седой публично заявил, что Окуджава сочиняет белогвардейские мелодии.
Если власти запрещали песни Галича, то было совершенно очевидно, почему они это делали. В песнях Окуджавы ничего антисоветского не было. Власть предержащих просто бесила та культурная, духовная высота поэта, которой они не могли простить.
Возмущение вызывал уже тот факт, что Окуджава жил и писал, будучи внутренне абсолютно свободным, как будто бы советской власти вообще не существует.
Когда-то Наум Коржавин, говоря об Окуджаве, сказал, что он наблюдал, как в большом зале читал стихи Евтушенко, а потом пел Окуджава. «Евтушенко читает — все восхищены им, его глазами, его голосом, ну и стихами тоже, весь зал заслушивался и любовался. А когда вышел Булат — на него никто не смотрел. Все в себя смотрели…»
Мне кажется, что это очень точное наблюдение.
В 1960 году, когда я поехал работать в Ташкент, бобины с песнями Окуджавы и магнитофон «Астра» составляли основную часть моего багажа.
После моего отъезда в Ташкент и последующего возвращения в Харьков с Окуджавой я больше не встречался. Хоть и с прежней любовью и восхищением относился к его творчеству, постоянно следя за всем, что выходило из-под его пера.
Через много лет, когда я жил и работал в Москве, ко мне попала кассета с песнями Окуджавы, которые я никогда не слышал. Не помню, то ли мне её отдал Зяма Карагодский, тогда главный режиссёр Ленинградского театра юного зрителя, то ли наш актёр Игорь Овадис, раньше служивший в Ленинградском театре. На этой плёнке было записано выступление Окуджавы перед актёрами этого театра с песнями на тему Буратино.
В своё время Окуджаву пригласили написать песни к фильму «Буратино». Он написал, естественно на свою музыку, три песни, ставшие очень популярными: «Поле чудес в Стране Дураков», «Не прячьте ваши денежки» и «Пиявочки-козявочки». Потом, в результате каких-то интриг, Окуджава был от этой работы отлучён и вместо него песни написали поэт Юрий Энтин и композитор Николай Рыбников.
Несмотря на прекращение договора, Окуджава продолжал писать песни на понравившуюся ему тему. Уже потом, спустя какое-то время, я узнал, что таких песен он написал 24.
Сначала пришла в голову мысль просто инсценировать эти песни и так и назвать спектакль: «24 песни Окуджавы». Потом родилась другая идея.
Я решил поставить спектакль о дальнейшей жизни Буратино после того, как папа Карло открыл потайную дверь золотым ключиком, который сумел добыть Буратино, и получил свой театр.
По моему замыслу, папа Карло, став хозяином этого кукольного театра, постепенно сам становился Карабасом Барабасом. Он беспощадно эксплуатировал имевшегося у него Буратино и других кукол, в новых уже не нуждался, а новому папе Карло не давал возможности создавать новых кукол. Всю эту затею я назвал «Театр времён Карабаса Барабаса».
Когда я всё это сочинил, я позвонил Окуджаве и договорился с ним о встрече. Встретил он меня очень радушно. Мы принялись вспоминать молодые годы, покойного Лёву Лившица, поездку Булата в Харьков, наши встречи в Москве. Познакомил меня со своим ставшим уже совсем взрослым сыном Антоном и женой Олей.
Мой замысел привёл Окуджаву в восторг. Он немедленно согласился без всякого договора написать недостающие для спектакля песни, принялся фантазировать, тут же взял гитару, начал сочинять…
В рекордно короткий срок он вручил мне клавир всех песен. Затем вместе с Антоном напел для меня все песни, которые мы тут же записали на плёнку. Одним словом, проделал всю свою часть работы, и теперь дело было за мной.
О том, как мне жилось и работалось в Московском театре, рассказ особый. А что касается спектакля по пьесам Окуджавы, то он не был реализован. То одно, то другое обстоятельство мешало осуществить задуманное. С огромной горечью вспоминаю, как позвонил в очередной раз Булату Шалвовичу и пригласил на свою очередную премьеру.
— Что, Буратино готов?! — радостно воскликнул он.
— Нет, Булат, пока я вас приглашаю на пьесу Славкина.
Окуджава на премьеру «Плохой квартиры» не пришёл. А сравнительно скоро я уехал в Израиль, и больше мы с ним не виделись.
Булат дважды за мою бытность приезжал с концертами в Израиль, где к нему относятся коленопреклонённо. А я, стыдясь своей необязательности в его адрес, невозможности, да и ненужности объяснения того, что не смог выпустить спектакль и его труд ушёл впустую, не нашёл в себе смелости встретиться с ним. На его концерты я не пошёл. А его клавир, кассеты с записями хранятся у меня до сих пор. И уже ясно, что этот замысел в условиях Израиля неосуществим: чисто объективно — у меня на это просто нет сил. Да и сама идея уже устарела, в ней нет прежней злободневности.
Сегодня много пишут о шестидесятниках, о тех, кого смерть Сталина, XX съезд партии как бы возродили к творчеству. Сегодняшние аналитики часто с пренебрежением относятся к этому поколению, видя в нём некую безликую толпу, считая, что эта толпа была не способна к энергичным действиям, не способна осмыслить тогда происходящее в истинном смысле. Это очень ошибочная оценка. Окуджава и его друзья с самого начала оттепели не питали иллюзий. Они торопились что-то напечатать, что-то наговорить, надышаться, в конце концов, прекрасно понимая кратковременность и иллюзорность свободы. «Возьмёмся за руки, друзья», — пел Окуджава, имея в виду не стадионы, не поляны любителей авторской песни, а небольшую группу своих истинных единомышленников.
Незадолго до своей кончины, в начале 1986 года, Давид Самойлов написал:
Приснился ласковый Булат,
Он улыбался добродушно.
— Ну, как тебе живётся, брат?
И он ответил: — Мне не скучно.
Но хочется голубизны,
Как в небо прянувшему змею…
— А я записываю сны,
Но толковать их не умею.
Была приятная ленца
В неторопливом разговоре,
Однако я заметил вскоре:
— А всё же хочется винца!
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.