
Бесплатный фрагмент - Поле Жильцовых
Есть ли будущее у северной деревни?
«Братия! Не проводите жизни вашей в пустых занятиях, не промотайте жизни земной, краткой, данной нам для приобретений вечных…»
Игнатий Брянчанинов, святитель
НА БЕРЕГУ НЕСАМОРОДНОГО МОРЯ
Рыбинское водохранилище — вот оно рядом, рукой подать. Деревню эту с некоторым условием можно назвать приморской деревней, потому что совсем недавно, каких-то десять- пятнадцать лет тому назад, к ее лугам и пастбищам подступило рукотворное море, скрывшее под своими «несамородными» водами сотни деревень с угодьями, пашнями, дворами и подворьями. Да что деревни…, города уходили под воду: Молога и Весьегонск…

С тех пор жизнь у моря для многих стала другой, иные уже не землю возделывали, а бороздили просторы водохранилища: не пахал, не сеял, а урожай снимал. На подводных пастбищах гуляли несметные стада судаков и лещей…
У семьи Жильцовых появился свой промысел. На большой моторной лодке братья Жильцовы перевозили на удаленные сенокосы покосников, а порой доярок и бидоны с молоком.
Холодно с утра, роса жжет босые ноги, зато сон быстро проходит… Стучит мотор, туман стелется по воде, скрывая мир.
Старается Васька держать направление, чтобы не «лажануться» в тумане, не уйти в открытое Рыбинское водохранилище с его неоглядными просторами. Нужно побыстрее доставить покосников на заливные луга: коси коса пока роса. Бывало, в тумане чуть вправо возьмешь, и скоро твоя лодка, не заметишь, как ткнется носом в берег, с которого отплывали…
Компас нужен, чтоб не заплутать туманным утром в безбрежных просторах водохранилища…
Помнится, однажды, возвращаясь домой, заблудился. Лодка ткнулась носом в берег. Вроде бы рано еще приплыть…
Дунул ветерок, приподнял занавеску тумана. Какая-то болотистая местность, кочки брусничные и черничные, мелкие сосенки… Болото!
— Куда же это я попал? Где берег, где деревня, где пастбище с коровами?
Прислушался: ага, где-то далеко промычала одна корова, другая…
Развернул он лодку, пошел вдоль болота в поисках знакомого берега. Долго плыл вдоль его, пока не догадался, что это он круги наматывает вокруг болотистого острова. Но откуда он здесь? Не было никогда его..
Болото оказалось плавучим островом. Как оно оказалось тут, что ли штормом оторвало от берега и пустило по волнам?
Вечером за ужином отец Васи высказал предположение. Десятки и сотни болот в округе были затоплены при заполнении водохранилища.. А болота — это бывшие озера, затянувшиеся торфяными пробками. И вот, затопленные, они отрываются там под водой и всплывают то тут, то там, и дрейфуют, словно «летучие голландцы», по рукотворному морю, напоминая людям о недавней истории этого края…
Деревня Пустошка — три десятка домов в два посада, деревня, каких десятки и сотни тысяч по все Великой Руси.
У Пустошки Череповецкого района, в которой родился наш герой Василий Иванович Жильцов — счастливая, среди прочих деревень этого пришекснинского края, судьба. Эта деревня не попала в зону затопления, не ушла под воду, как восемьсот с лишним деревень и город Молога при заполнении Рыбинского водохранилища.
В сентябре 1935 года в СССР было принято решение о строительстве Рыбинского гидроузла. По проекту уровень воды должен был подняться на 98 метров. Но уже 1 января 1937 года проект пересмотрели и приняли решение повысить уровень до 102 метров. Это позволяло увеличить мощность Рыбинской ГЭС в полтора раза, но в то же время площадь затапливаемых земель должна была увеличиться почти вдвое.
Грандиозное строительство угрожало существованию города Молога, сотням деревень и сел Вологодской и Ярославской областей.
Когда жителям Мологи сообщили о том, что скоро их родина перестанет существовать и скроется под водой, никто в это не мог поверить. В то время районный город Молога насчитывал около семи тысяч жителей.
Переселение жителей с предполагаемых территорий затопления началось весной 1937 года. В архивах НКВД сохранился рапорт о том, что 294 человека не пожелали добровольно покинуть дома, а некоторые из них угрожали даже приковать себя замками.
Советская пропаганда объяснила это «психическим расстройством отсталых элементов». Согласно инструкции НКВД, к ним были применены методы силового воздействия.
13 апреля 1941 года под Рыбинском закрыли последний шлюз плотины, и вода хлынула в пойму. Город Молога, история которого насчитывала почти 8 веков, ушел под воду. Полностью его территория была затоплена в 1947 году, на поверхности остались лишь главы некоторых церквей, но через несколько лет и они скрылись под водой.
Под затоплением кроме Мологи оказались около 700 сел и деревень, население которых составляло около 130 000 человек. Все они были переселены в другие регионы.
Но иногда «Русскую Атлантиду» можно увидеть. Уровень воды в Рыбинском водохранилище часто колеблется, и затопленный город появляется над поверхностью Волги. Можно увидеть сохранившиеся церкви и остатки кирпичных домов.
Русская Атлантида
…Как скоротечна человеческая память.
Мы идем на катере по некогда густо населенной Молого-Шекснинской низменности, знаменитой житнице Севера.
Гигантские просторы Рыбинского водохранилища. Тихи и зеркальны его воды. Лишь изредка жирующая рыба нарушит их спокойствие, белый теплоход проплывет в тумане или огромное нефтеналивное судно пройдет неслышно, и снова тишина.
Но вот налетают чайки, и резкие крики их будят сонные просторы.
Многие ли из жителей этих мест сегодня знают, что в двадцати девяти километрах от Череповца под толщей воды погребена в сороковых годах одна из самых знаменитых православных святынь — Иоанно-Предтеченский женский монастырь, с которым связана самая жгучая тайна России — тайна ее падения и, даст Бог, грядущего подъема и расцвета…
Имя Марии Васильевны Солоповой было хорошо известно в русской поэзии девятнадцатого века. Да и по сей день песни и романсы на стихи поэтессы Солоповой, родственницы Пушкина по материнской линии, звучат в России. Но поэтическая стезя привела Марию Солопову к духовной прозе, более того, скоро она приняла монашеский постриг и имя Таисья.
С тех пор это имя неразрывно связано с Леушинской православной обителью — самым крупным в России женским монастырем, в котором на 1917 год подвизалось около 700 насельниц.
Становление и расцвет монастыря пришелся на годы управлением им игуменьей Таисьей, которую позднее стали величать «игуменьей всея Руси».
Матушка Таисья причастна к созданию еще 10 женских монастырей и, можно сказать, основанию целой школы женского монашества в России. Еще при жизни почитали ее святой. Она была духовной дочерью святого преподобного Иоанна Кронштадского, отмечавшего Леушино особой любовью и постоянно посещавшего его.
В начале лета 1903 года о. Иоанн на пароходе прибыл в Леушино, вернее, на монастырскую пристань в деревне Борок. Но во всей этой местности распространилась тогда страшная болезнь скота — сибирская язва. Со всех сторон стояли карантины, и полевые работы не проводились. Вот что пишет по этому поводу игуменья Таисья: « Утром я отправилась навстречу Батюшке и еще на пароходе рассказала ему все. Выслушав меня молча, Батюшка встал со своего места и начал ходить по трапу парохода и молиться. Через полчаса времени сел возле меня и сказал: «Какое сокровище — молитва!»
…На пристани собралась не одна сотня домохозяев и хозяек, намеревавшихся просить Батюшку об избавлении их от такого тяжелого наказания, как потеря скота.
— За грехи ваши Господь попустил на вас такую беду: вот, например, праздники вам даны, чтобы в церковь сходить, Богу помолиться, а вы пьянствуете. А уж при пьянстве чего хорошего, сами знаете! — наставлял их священник.
— Вестимо, Батюшка, кормилец, чего уж в пьянстве хорошего, одно зло!
— Так вы сознаете, друзья мои, что по грехам получаете возмездие?
— Как же не сознавать, кормилец! Помолись за нас, грешных!
Батюшка приказал принести ушат и тут же из реки почерпнуть воды. Совершив краткое водоосвящение, он сказал:
— Возьмите каждый этой воды, покропите ею скотинку и с Богом работайте. Господь помиловал вас!
…В тот же день все мужички поехали куда кому надо было, все карантины были сняты, о язве осталось лишь одно воспоминание, соединенное с благоговейным удивлением к великому молитвеннику земли Русской.
…Затерянная в дремучих лесах Леушинская обитель, не имевшая ни средств, ни настоящих дорог, за годы правления игуменьи Таисьи превратилась в явленное чудо — «большую свечу» Богородицы, ее Дом. За пять лет ее неустанных трудов в Леушинской обители был построен пятикупольный храм Похвалы Божьей Матери, главный храм монастыря, поражавший всех своим величием и красотой.
Надо сказать, что сестры возили сюда камни для строительства лишь во время половодья, а зимним путем на лошадях доставляли за полтораста верст из Ферапонтова монастыря известь.
«Все храмы обители пропитаны моими слезами, — писала в дневниках игуменья Таисья. — Я в буквальном смысле изведала весь труд нищей храмосоздательницы монастыря.» В Похвальском соборе были собраны списки всех явленных икон Богородицы и учрежден Чин Чтения Неусыпаемого Акафиста…», где в течение десяти лет изо дня в день, из ночи в ночь не прекращалось ни на минуту чтение Канонов и Акафиста Богоматери.…
Однажды игуменье Таисье было видение Богородицы, и это видение стало основой для написания монахиней Алипией иконы Леушинской Божьей Матери «Аз есмь с вами и никто же на Вы». Впоследствии Иоанн Кронштадский назовет эту икону Спасительницей России и благословит ею местного купца Василия Муравьева, только что побывавшего паломником на Афоне, на старчество и молитвенный подвиг. При этом Иоанн Кронштадский предсказал грядущие на Россию бедствия, падение империи, разрушение монастырей и храмов, появление множества святых исповедников и мучеников… Оба они при этом горько плакали.
Но предсказал святой праведник хотя и нескорое, но возрождение России и православия. Василий Муравьев принял постриг и стал еще одним великим молитвенником России — Серафимом Вырицким, повторившим дважды молитвенный подвиг Серафима Саровского. Он молился о спасении России, стоя на камне перед Леушинской иконой Божьей Матери тысячу дней и ночей, накануне и во время Великой Отечественной войны.

Сегодня эта икона « Аз есмь с вами, и никто же на вы» находится в Черниговской епархии в Свято-Георгиевском монастыре и источает многие чудеса и исцеления.
А теперь мы подходим еще к одной тайне Леушинской обители. Игуменья Таисья записала в дневниках свой сон — видение, оказавшийся пророчеством русской Атлантиды. Однажды ей приснилось, что идет она к монастырю полем, и вдруг все окружающее начинает покрывать прибылая, несамородная вода.
Скоро вода эта покрыла и монастырь, и все окружающее его пространство. А игуменья шла и шла по воде как посуху. И долго так шла, пока, наконец, вода не стала убывать, и монастырь вновь не открылся Божьему свету. Игуменья Таисья закончила земную жизнь через шесть лет после кончины своего духовного отца Иоанна Кронштадского и была погребена в построенном ею Похвальском соборе монастыря.
Через два года Россию накрыл девятый вал революционных потрясений. Леушинский монастырь был закрыт властями в тридцатых годах, насельницы разошлись, монашествуя в миру, по окрестным деревням, осели в большом селе Мякса, что на противоположном берегу реки Шексны, и в городе Череповце.
Монастырь был отдан под колонию беспризорников. Немного осталось живых свидетелей того времени. Серафим Павлович Тяпин, пенсионер из Мяксы, вырос в деревне Леушино.
— Замечательная была деревня, — рассказывал он мне. — Столько лет прошло, а все еще снится. 250 домов было. Четыре улицы. И монастырь. В праздники колокольный звон покрывал всю округу. А какие были леса, сколько грибов, ягод, — Серафим Павлович вздыхает и закрывает глаза, словно вглядывается в невидимые нам картины прошлого. — Когда беспризорников поселили в монастыре, они надругались над святынями. Многие иконы были сожжены и растащены.
Я сам не видел, но однажды вечером к матери пришли бывшие служительницы монастыря и стали рассказывать ужасные вещи, будто бы беспризорники вскрыли гробницу матушки Таисьи, вытащили мощи и даже играли ее головой в футбол. Ночью старицы тайно пробрались в монастырь и вынесли мощи игуменьи.
Где она вновь была перезахоронена, Серафим Павлович не знает. Но по некоторым сведениям мощи Таисьи предавались земле не раз. Были слухи, что монахини захоронили ее в сухом подвале одной из деревень, не попавших под затопление, и якобы по церковным праздникам мощи ими извлекались, обтирались святой водой и переоблачались.
…Колония беспризорников недолго просуществовала в стенах монастыря. С середины тридцатых в эти места пошли эшелоны с заключенными, которых гнали этапами в леса. В Леушинском монастыре был организован один из концентрационных лагерей. Заключенные начали валить лес и углублять русло Шексны. Большая часть леса сжигалась, и над огромными пространствами висела дымовая завеса.
По деревням поползли тревожные разговоры о грядущем выселении и затоплении, под которое попадало более шестисот деревень, города Молога, Весьегонск, Мышкин, Углич, Калязин… Скоро волей-неволей пришлось покидать родные места. Жить в зоне затопления от горевших лесов стало невозможно. Весной сорок первого года были опущены затворы Рыбинской плотины, и вода пошла в наступление. К сорок седьмому году самое крупное рукотворное море протяженностью в 256 и шириною до 60 километров было заполнено до краев.
Молого-Шекснинское междуречье ушло под воду. «Несамородная» вода скрыла и Леушинскую обитель, предварительно взорванную строителями светлого будущего. И только колокольня ее еще долго возвышалась над просторами новоявленного моря, но и она рухнула, когда вода подточила ее фундамент. Пророчества Иоанна Кронштадского и игуменьи Таисьи в первой своей части, можно сказать, сбылись. И вот, кажется, начала сбываться вторая часть вещего сна игуменьи.
В 2003 году на свет Божий показались остатки превращенной в горы щебня и битого кирпича Леушинской святыни. Мы бродили по хрустевшим остаткам кирпича и плитки — былому духовному величию Пустыни, и я подумал, что пророческому сну Матушки не суждено было исполниться.
Возрождение Леушинской святыни началось с ее сохранившегося в Санкт-Петербурге подворья да инициативы священника Иоанно-Богословского храма о. Геннадия Беловолова. Ежегодно в устье реки Мяксы, что впадает в Рыбинское море, 7 июля проводится Леушинское стояние, на которое собираются паломники со всей России с явленными иконами Богородицы. Здесь, напротив скрывшегося под водами Леушина, был поставлен крест из прибившегося к берегу плавника, а в самой Мяксе жителями села был поставлен храм, в котором один из его приделов станет именоваться Похвальским.
Вечерами на водохранилище, там, где поднимаются год от года из воды останки Леушинского монастыря, поднимается в сумеречное небо светящийся столб, по которому словно сама Богородица сходит к людям. «Аз есмь с Вами, и никто же на Вы».
В восьмидесятых и девяностых годах по поводу создания Рыбинского водохранилища возникли жестокие споры. На страницах газет и журналов, в документальном кино многочисленные критики называли трагической ошибкой строительство ГЭС, канала и водохранилища… Неоправданными затратами человеческих ресурсов, затопление плодороднейших земель… Были даже предложения поднять затворы плотин и осушить затопленные территории, чтобы ввести их снова в сельскохозяйственный оборот.
Если бы это произошло, обнажившееся ложе водохранилища в десятки тысяч квадратных километров принесло бы новые беды краю: пыльные бури, эрозию почв, нарушило циркуляцию грунтовых вод, вновь изменило ландшафт и биосферу…
И скорее всего, Рыбинское водохранилище и драматические эпизоды его строительства стали разменной картой в политических битвах девяностых. И верно, надо нам, пользующимся сегодня благами, созданными предшествующими поколениями, знать, как все это создавалось, и принимать их с благодарностью за те труды и страдания, какими они создавались.
КРЕСТЬЯНСКАЯ ДОРОГА
Едва вывалишься из Вологды, начинается экстремальная езда — смотри под колеса во все глаза, держи руль крепче: колдобина за колдобиной, словно злокозненный враг устроил на этой несчастной дороге ковровую бомбардировку.
Старый Московский тракт на Грязовец. Верно, он никогда не был первоклассной дорогой, хотя и держал от Грязовца направление на столицу. Ныне это, прежде всего, крестьянская, колхозная дорога, оставшаяся в стороне от новой, день и ночь гудящей потоками машин трассы М-8.
Кто ездит сегодня этим старым трактом? Редкая легковушка провернется, грузовичок громыхнет на этих древних холмах, именуемых на картах Отрогами Северных увалов…
А ведь бывало и царские кортежи Ивана Грозного, Петра Первого, Александра Первого считали рытвины да ухабы на этом тракте… Да когда это было-то! Все быльем поросло.
С тех пор из большого начальства, разве что Анатолий Семенович Дрыгин по этой дороге ездил. Все остальные «крупняки» уже поездами да самолетами из Москвы в Вологду прибывали.
Да вот и я то и дело сновал по этому старомосковскому тракту, проведывая свою историческую родину, собирая материалы для газет, радио да телевидения. И потому знаю множество историй, связанных с ним и людьми, населяющими эти грязовецкие края, которые в некоторой степени мне родные. Про них мой рассказ, прежде чем доберусь до главного героя этой книги.
Великий исход
…Перед самой войной в 39 году этой вот дорогой шел мой прадед Дмитрий Сергеевич Синицын, делегат Первого Всероссийского съезда крестьян. Было ему в ту пору под семьдесят лет. В стоптанных сапогах, старом полушубке на плечах, с котомкою за спиною. В руках у него была веревка, на которой он вел корову также немолодую уже ярославской породы.
Брел он из деревни Наместово Междуреченского района в село Пречистое Ярославской области, куда уже перебралась вся молодежь огромного синицынского рода.
Дмитрий Сергеевич был последним вынужденным переселенцем.
Первым из междуреченских пределов уехал мой дед Сергей Сергеевич Петухов, несогласный с колхозной политикой. В двадцатом году он высватал в Славянке мою будущую бабушку Марью Дмитриевну и привез ее в новый, пахнущий сосновой смолой дом в деревню Быково.
Ох, и хороша была деревня Быково! Небольшая, уютная. Она словно ожерельем опоясывала своими посадками высокий холм, вокруг которого лежали разработанные крестьянами, освобожденные от леса и пней, поля…
Матушка моя могла часами вспоминать эту привольную деревенскую жизнь. Она родилась в Быкове в 27 году, а уже в тридцать пятом покинула ее.
— Мы же природные крестьяне, — говаривала она. — В июне начинают возить навоз в поля, оставленные на пары. И такой волнующий запах навоза стоит во всей округе, что сердце радуется: так пахнет будущий урожай хлеба. А вот согнали с земли…
К началу коллективизации у Сергея Сергеевича Петухова было уже пятеро детей, две коровы, ухоженные поля, пасека. Но одна корова утонула в трясине на болоте, где пасли неколхозный скот, а вторую, Краснуху, зарезали на нужды колхоза на деревенском пруду.
Моей матери не было и пяти лет, она видела, как резали и разделывали кормилицу Краснуху. И еще она запомнила, как хохотали мужики, бросив к ногам девчонки большое окровавленное краснухино сердце, и она, ухватив его, плача от горя, потащила домой.
А горе и призрак голода уже стояли у ворот нового соснового дома. Сергей Сергеевич первым покинул Междуречье, уехал в Пречистенский леспромхоз за заработком, став пролетарием, делал дошники — большие деревянные кадушки для закваски капусты для растущего рабочего класса.
У Марии Дмитриевны в колхозе не стало жизни… И она, заколотив новый, звонкий, как колокол, дом, собрав в узлы имущество, наняла лошадь и отправилась с детьми на железнодорожную станцию вслед за мужем.
И когда увидел он на перроне в Пречистом эту ораву, заплакал:
— Машенька, куда же я вас дену? Я ведь в конюшне живу.
Пять лет, пока строился дом, семья жила в конюшне.
Вслед за старшей Марией уехали из бывшей Авнегской волости остальные Синицыны, основав на станции Пречистое целый синицынский край.
Осталась лишь ветвь Половинкиных-Синицыных, двоюродников моей бабки, из которых самый известный и ныне живущий в Молочном фронтовик, ученый, доктор наук Павел Анатольевич Половинкин, которого помнят все выпускники Молочной академии, слушавшие его лекции по политэкономии.
Оставили в тридцатых Междуречье пахарь, плотник и столяр дядька Петя с семьей, дядька Паша с семьей, тетка Дуня опять же с семьей, тетка Фиса с семьей… Поехали двоюродники, троюродники… Сколько их пошло от корня Ивана Синицына, жившего в конце 18 века в Авнегской волости пра-пра-предка…
Последним поднялся младший синицынский отпрыск Геннадий Дмитриевич. Он был инвалидом с детства, одна нога отставала в росте. Когда-то сестра Дуня, водившаяся с мальцом, оставила его на холодном лужке и заигралась. Генашка застудил ногу, и стала она отставать в росте. Поэтому и выбрал он профессию портного, шил деревенскому населению штаны, пиджаки, платья, кепки восьми клинки, полушубки…
Жили они с Дмитрием Сергеевичем одним хозяйством: младший, как говорится, «на корню сидит», в деревне Наместове. Жили бобылями без женского пригляда. И вот однажды пришла к ним в избу нищенка с девчушкой. Накормили их, напоили, в суму пирога положили.
— А пошто ты с собой Шурку-то таскаешь? — спрашивает Дмитрий Сергеевич.
— Сирота она, — отвечает нищенка. — Самой не прокормиться. Вот и вожу за собой.
— Оставляй девку нам, — говорит Дмитрий Сергеевич. — Мы прокормим. По хозяйству станет помогать, щи научим варить, корову доить… Подрастет, так Генашке невестой станет.
Оставили девку, Геннадий докормил ее до зрелого возраста, да и женился на ней. Девятерых детей на свет произвели…
Геннадий в Междуречье дольше всех продержался, но и он затосковал по родне, собрался в дорогу, купил крохотный домишко на станции и перевез семью.
Остался один Дмитрий Сергеевич, делегат Первого Всероссийского съезда крестьян новой России, все еще не решившийся оторваться от земли…
Бабушка моя частенько вспоминала Дмитрия Сергеевича. Мне представляется он великим тружеником.
Он приходил домой с поля, когда все уже спали. Садился на порог и принимался снимать сапоги. Да так и засыпал об одном сапоге у дверей с головой на пороге. А утром его уже не было, уходил затемно в поле.
Еду ему носили ребятишки, перекусит на меже, и опять за труды.
— Это же рабство настоящее! — скажет современный молодой человек и будет неправ.
Это, прежде всего, не нужда, а радость земледельца и жажда труда, который приносит каждодневное удовлетворение, заставляла работать его от зари до зари.
Для земледельца каждый день — новые радости, новые задачи сотворения собственного гармоничного мира…
Это большинство из нас, живущих в городе, встает по будильнику в течение тридцати — сорока лет, чтобы отправиться на проходную завода или учреждения: к станку, столу или прилавку. И все эти сорок лет одно и то же: проходная, станок, стол… И тоскливое ожидание отпуска… Это ли не рабство?
Наверное, сердце его, природного пахаря и сеятеля, ликовало, когда на крестьянском съезде звучали эти божественные слова «земля и воля». Какие новые надежды и великие жизненные силы рождали они…
И вот «великий перелом» 29—31 годов…, ставший для моего рода великим исходом…
Я знаю, что прадед Дмитрий, преодолев верную сотню километров с коровой на поводу, пришел в новый дом к Марии Дмитриевне, где и провел последние дни своей жизни.
А корова та спасла в войну уже мою мать и ее братьев, когда Сергей Сергеевич Петухов сгинул в пучине войны…
Недавно я решил собрать на прародине в Междуречье своих родственников, наплодившихся из синицынского корня. При самом приблизительном подсчете их набралось около трехсот человек… Собралось — восемьдесят больших и малых, раскиданных по просторам необъятной России и уже за пределами ее, из которых все, кроме меня, впервые побывали на земле своих предков.
Радостное и одновременно грустное было событие. Но, кажется, у каждого, кто был у этого родового костра, выросли крылья. Ведь за спиной каждого уже стояла великая сила рода…
Они зарывали нас в землю
Есть со стороны старого грязовецкого тракта под Вологдой маленькая деревенька Горка. Здесь жил и вел крестьянское хозяйство, несмотря на возраст и совершенно слабое зрение, замечательный человек, в прошлом военный летчик, ставший к семидесяти годам фермером, философ, неистребимый оптимист, веривший до конца в народные силы, Константин Александрович Шохичев.
Жизнь его полна самых разнообразных событий, драм и подвигов, их хватило бы не на одну человеческую жизнь.
В последние годы его жизни я сдружился с ним. Мы частенько сидели с Шохичевым перед его камином.
— Я не скажу, что уж совсем хорошо прожил жизнь, но я себя не считаю неудачником. Знаете, я человек без молодости, детство было, юность была, а всю молодость я оставил на войне, а потом… — Он тягостно замолчал. — И все равно на сегодняшний день я могу сказать, что испытания не прошли даром. Может, я без них до 85 лет и не дожил бы.
Знаете, какая во мне энергия! Когда мы уезжали с Севера сюда в Вологду, а на Севере я очень хорошо зарабатывал, честно говоря, и жил на Севере ради длинного рубля, чего тут скрывать. Так вот, когда я уезжал в Вологду, все мои сотрудники, говорили: «Ты там обнищаешь моментально, в трубу вылетишь. У тебя, говорили, есть деньги, купи на Юге хороший дом и живи в удовольствие.»
Но мы люди вологодские, а родина милее любого рая. А что касается обнищания… Моя жена им так отвечала: " Моего Костю выкиньте на голые камни, через два часа поверните, так он с той стороны мхом уже обрастет. Мы не сможем жить плохо, где бы мы ни оказались!» И верно. Это геотропизм такой, как не бросай зерно, все равно корень вниз пойдет, а колос к солнцу.
— А что скажете насчет купеческих корней? — спросил я Шохичева.
— А вот можно ли моего деда назвать купцом? Он в старом Питере имел три трактира. Один трактир лично свой, а два других отдавал внаем землякам. Дед жил не для того, чтобы иметь много денег, у него был интерес, чтобы вокруг него крутились люди.
И когда он собрался жениться, невеста, будущая бабка моя, поставила условия: «Купи земли у помещицы 150 десятин да 100 десятин лесу, дом поставь, тогда приезжай свататься. Не верю я, говорит, в твои трактиры.» К тому же дед еще и выпить любил.
Условия выполнил, женился. Бабка в деревне осталась, а он в Питере заправлял трактирами. Да скоро революция совершилась, всю посуду собрал, в деревню под Грязовец укатил. С месяц в деревне пожил — затосковал, решил маслозавод построить, да непростой, а для импорта за границу вологодского масла. Заключил с крестьянами договор, что они будут кормить коров сеном с пустошей.
Вологодское масло — это когда кормят корову сеном, в котором не до 300 ли разных трав находится. И за молоко он платил в полтора раза больше, чтобы крестьяне были заинтересованы…
Так было до 27-го года. Потом стали поговаривать, что богатых прижимать станут. А у деда уже было одиннадцать дочерей и два сына. И вот как-то ночью маслобойка вспыхнула и сгорела до тла…
Потом отобрали лес…
Дедушка мой, Иван Андреевич, не очень горевал о пропавшем богатстве. Дед считал, что более-менее легко нажил именье. Когда стал помирать, перед смертью сказал:
— Мать, не греши, маслобойку-то я сам сжег, чтоб не раскулачили.
Его хотели раскулачить, но вся округа восстала. И деда моего кулачение не тронуло. Правда, дом был хороший, со светелкой, под железной крышей. Часы были с башенками, на всю деревню бой стоял. Железо снял, часы, посуду, все, что было ценного, потихонечку распродал. К 30-му году дом уже был дранкой покрыт, и светелки не было.
А помер дед из-за лошади. В хозяйстве их было две. Одна была рабочая, а вторая — Воронуха. Эту лошадь дядя Илья, сын младший, привез с гражданской войны.
Дядя Илья у нас воевал до 26-го года. Последний поход конницы Буденного был в Среднюю Азию, и когда они там басмачей разбили, Буденный сказал, что все кавалеристы уедут домой на своих конях.
Дядя Илья отчаянный был, семнадцати лет попал на империалистическую войну, его ранили в плечо, привезли домой. Сосед, Ваня Пиков был такой дураковатый, спрашивает:
— Ой, Илюшка, расскажи о фронте.
— Ну, Ваня, лучше не спрашивай. Вот сидим мы в окопах, вдруг закричали: вперед, в атаку! Вскакиваем, кричим «ура» и бежим все. А немец из пулеметов, из пушек! Кому ногу оторвало, кому руку, кому голову. А мы на это внимания не обращаем, все равно бежим и кричим «ура».
— А как же без головы-то?
— Тряпицу навьем, голову подмышку, бежим, кричим! Потом в лазарете, приставят.
И вот он, такой отчаянный, попал в гражданскую войну в конницу Буденного. Дядя Илья приехал домой на Воронухе в полной кавалерийской форме, с подарками из Средней Азии, с карабином, шашкой и наганом. Сдал он в военкомат только один карабин, седло и лошадь оставил, наган спрятал, а саблю на стену повесил. И как только выпьет на празднике в деревне, хватается за саблю и побежал по деревне: «Изрублю в капусту!»
Бабушка, боясь, что спьяну сын натворит чего, призвала кузнеца, мол, переруби ты мне эту шашку пополам и сделай два косаря лучину щепать. Наган спрятала под крыльцо, и остался дядя без оружия…
А Воронуха-то была очень хорошая кобылица. дед так любил эту лошадь, что всегда кусочек сахару для нее носил. Когда колхозы начались, лошадей у них отобрали. Месяца три-четыре прошло, наверное, дед пришел на конский двор, а Воронуха-то и голову повесила. Дед с расстройства заболел да и умер в 64 года.
…Мой отец был работник торговый. Его пригласили организовать кредитное товарищество в уездном городе Грязовце. В 38-м году я уже учился в техникуме механизации сельского хозяйства, и тогда был призыв партии и правительства: «Страна должна иметь 150 тысяч летчиков!»
Все тут начали бежать в летчики. И столько наехало людей в эти авиа училища, что не знали, что делать. Стали комиссии выезжать на места и отбирать нужную молодежь, чтобы не было такого переполнения.
Приехала и к нам комиссия. Ну, и я ради интереса пошел на летчиков посмотреть. А там было врачей!
По здоровью прежде отбирали. А я парень был здоровый. Хорошо занимался на турнике, на брусьях, двухпудовую гирю выкидывать мог столько, что надоест считать. Сейчас, наверно, ни одного парня нет в возрасте 16 лет, который гирю мог бы кидать, как мяч.
Комиссия прошла, председатель комиссии, комиссар — две шпалы в петлицах, — и говорит: « Вашему техникуму повезло больше всех. С вашего техникума четверо юношей имеют право по состоянию здоровья поступать в авиационное училище.»
Ну, и зачитывает мою фамилию. Я и глаза вылупил, а мой друг, Гриша Сухарев, так уж он хотел попасть в авиацию, не прошел.
— А Сухарев? —
— Нет Сухарева.
— Посмотрите еще раз!
— А, вот товарищ Сухарев, нашел Вашу карточку. Вы не прошли, по здоровью, у Вас три минуса. Не годен.
— Как так? Вот, Шохичев 10 километров на лыжах идет 59 минут, а я -52 минуты иду. Шохичев попадает, годен, а я не годен? Где же тут логика, где же справедливость?
А комиссар и говорит:
— Все верно, товарищ, у вас 52, но нам нужны не лыжники, а летчики.
…В 40-м году заканчиваю летное училище. Я любил тогда заниматься изобретательством, и стал еще в училище работать над автоматическим компрессором на двигатель к самолету ЯК-40. И конструкция у меня получилась очень хорошая. Направили меня с моей конструкцией в округ, где я в первый раз и встретился с нашим земляком Ильюшиным.
Я там развесил все свои чертежи. Один большой инженер, два ромба в петлицах, подошел ко мне, по голове потрепал и говорит:
— Это Ваш младший лейтенант?
— Да. этот наш.
— У этого лейтенанта котелок варит. Вы его направьте учиться в авиатехническую академию, ему не летать надо, а изобретать. У него очень цепкий ум. Смотрите, как он просто решил этот вопрос автоматики.
Вдруг подходит ко мне еще один с ромбом в петлицах, а я все рассказываю про компрессор, а он смеется и смеется надо мной.
Я думаю, что же это он все смеется надо мной? Я же в этом уверен. А он спрашивает:
— А ты откуда. парень. будешь?
— Вологодский. А что, в Вологде одни дураки, что ли? Что вы смеетесь…
— Да ты не обижайся, я сам вологодский. Я в тебе земляка по говору признал.
Это был Ильюшин. Он только и сказал, что все у тебя, парень, будет нормально.
Это был сорок первый год, март месяц. И в академии я не успел поучиться.
Шохичев подкинул в камин дров. Советовал мне на огонь смотреть: полезно для нервной системы.
— Вот, видите, здесь, у камина, можно погреть ноги. Это моя затея стариковская. Я на Севере любил вечером отдыхать у камина. Камин мне напоминает костер каторжный. Костры нас спасали от лютой стужи и от тоски.
Вот сейчас все говорят, что в концлагерях у Гитлера было плохо, а я скажу, что наши лагеря еще очко вперед дадут гитлеровским лагерям.
У камина я вспоминаю друзей своих по каторге. Я там таких людей встретил, что в простой жизни встретишь в редкость.
Там всех собрали, орешек к орешку. Там была вся ленинская гвардия, петроградская, кто делал с Лениным революцию, кого не расстреляли, все были там, у нас в лагере.
Четвертый секретарь компартии Германии, он у Ленина в Швейцарии брал уроки марксизма. Когда Гитлер пришел к власти, он бежал в Советский Союз, а Сталин его посадил. Вот это был коммунист, это был марксист!
Над этими ярыми большевиками потешались потом бандеровцы: «А, гады, с чем боролись, на то и напоролись…»
— Вас-то не сделали марксистом они?
— Нет, меня марксистом они не сделали, обида была очень большая. Меня ведь посадили всего за четыре слова.
Я был летчиком — штурмовиком. Мы начинали с того, что еще в сорок первом разбомбили у Гитлера нефтеперегонные заводы в Венгрии. Были у нас в Генштабе светлые головы. Собрали нас в мощный воздушный кулак. Мы прилетели в Плоешти ночью. Вся Европа сияла электричеством, никакой светомаскировки, Геринг убеждал Гитлера, что у русских авиации уже нет. И вот мы… Было море огня…
Последствия этой бомбардировки для Германии были не просто тяжелыми. До конца войны немецкие армии испытывали нехватку горючего. Потому то они так рвались к Бакинской нефти…
Скоро в своем полку я стал любимцем. В штурмовой авиации нужно сохранять особую выдержку, идти под обстрелом, как бы не замечать зенитного огня, а потом, выбрав цель, нужно круто сваливаться в пике…. У меня это получалось хорошо. А вот на земле выдержки-то и не хватило. Надо сказать, что немцы были настоящими воинами. Все остальные против них: румыны, итальянцы — ничто. Идешь, бывало на огневую точку, поливаешь ее огнем, а он в тебя из зенитных пулеметов гвоздит. И бьет так, что чертям тошно. Не убежит, не бросит пост…
Судьба его берегла. Но однажды противник все же достал его «ИЛ». Снаряд попал в двигатель, выбросило масло, залило стекло, приборную доску. Шохичев все же дотянул до своих, самолет сажал на брюхо, имея лишь боковой обзор. При ударе о землю у летчика лопнули позвонки и тазовые кости.
Два месяца лежал он на полном скелетном вытажении. Товарищи по госпиталю уже радовались за него:
— Поедешь домой, будешь работать инструктором в райкоме, по командировкам в деревни ездить. А там баб молодых, вдовых…
А когда Шохочев бросил костыли и уже с палочкой ходил, приехал в госпиталь друг его Петр Кузнецов, ведомый его, и со слезами на глазах стал рассказывать, что прибыли в часть молодые необстрелянные «грачи», и что Петру придется летать с ними. А это верная погибель…
И Константин решил бежать из госпиталя в свою часть. Петр достал одежду, Шохичев спустился по простыням со второго этажа, и они нарезали в свою часть.
Немного погодя, к летчикам прибыл тыловой генерал. Летчики выстроились на взлетном поле, а генерал стал обходить строй. Заметил Шохичева с палкой, поднял скандал.
Командир полка вступился за Шохичева:
— Товарищ, генерал, вы на это не обращайте внимания, он недолечился немного. Он бросит палку. Зато летает хорошо. Хотите взглянуть?
И Шохичев устроил показательные выступления. Он закладывал такие фигуры высшего пилотажа, что у начальства закружились головы.
— Вот, грачи, — сказал генерал. — Учитесь так летать, как летает Константин Шохичев.
Война катилась на Запад. Уже давно в воздухе было превосходство Советской Армии, но каждый день война забирала все новые и новые жертвы среди летчиков. И вот однажды:
— Перед тем, как мы вылетали на фронт, перед нами комиссар эскадрильи каждый раз зачитывал приказ Главнокомандующего под номером 227.
— Знаменитый приказ Сталина «Ни шагу назад!»
— Совершенно верно. И вот к 44 году этот приказ так навяз в зубах, что я вышел из строя и сказал: «Приказы читать — не приказы выполнять!» И к вечеру был уже в особом отделе.
Из лап особого отдела вызволить человека было невозможно, и чтобы меня не расстреляли, начальник штаба, он меня очень ценил, и комиссар полка, они меня разжаловали из лейтенантов до сержантов задним числом и передали в запасной полк.
Четыре следователя сменились, а четвертый, Назаров, сказал: «Парень, у тебя все равно выхода нет, давай подписывай, иначе тебя здесь заморят и забьют, а после, война уж к концу идет, разберутся, а сейчас некогда.»
Я и подписался.
Когда меня привезли в лагерь, там встретился мне прокурор Казахской ССР, 25 лет тянул. Ну, а я приехал во всей форме, только без погон, он и спрашивает:
— А тебя, летун за что посадили, вроде война, нужный человек…
А я и говорю ему, что за четыре слова. И говорю за какие.
— Ну, ты и дурак!
— Да почему дурак, что тут такого?
— Да разве можно у нас так говорить, да еще перед строем! Умные люди, когда зубы болят, в затылке дыру долбят и через ту дыру зуб вырывают, а ты рот открыл, да перед строем!
Сидели, кроме ленинской гвардии, профессора и академики, композиторы и врачи. В 47-м году привезли даже аристократов. Сидел граф Алексей Александрович Хвостов, последний придворный царя. Он был ходячей русской энциклопедией.
Я с ним очень много говорил о Распутине. «Как же вы допустили, — спрашивал я, — чтобы такой мужлан у Вас там верховодил?»
Так он относил на женщин, княгинь и графинь, которых сволочами обзывал, что все это они морочили голову царю. И очень царицу он ненавидел, душой, мол, немка, и революция произошла потому, что государыня была такая.
А царя он любил, царь был слишком либеральным. Возьмите, если Ленин в Шушенском в ссылке получал как дворянин 25 рублей пособие, занимался охотой, писал, читал газеты, жил с женой, а корова в ту пору стоила 15 рублей. Тут можно революции делать. Вот Сталин этот опыт и учел, и так закрутил, только держись!
…В 1938 году девятнадцатилетним мальчиком ушел Константин Шохичев из дома, а вернулся только в 1953 в возрасте 34 лет полностью седым… Но не сломленным.
После северов приехал в Шохичев Вологду, поселился на старом московском тракте, а когда наступили новые времена, выпросил у властей 40 гектаров земли, купил трактор, завел коров, птицу и стал хозяйствовать всласть…
Он говорил мне:
— Они зарывали нас в землю, не зная, что мы семена.
«Родина» Лобытова
Первыми на старом московском тракте встретятся вам угодья колхоза «Родина», который в недавнем прошлом считался лучшим не только в Вологодской области, пожалуй, и в России. Правда, многие поговаривали, что успехи в этом хозяйстве держались на опеке обкома партии. Но это не так. Или не совсем так.
В последнюю для СССР пятилетку колхоз «Родина» достиг символических трех пятерок. Надой молока на корову составлял пять тысяч литров в год. Урожайность зерновых — пять тонн с гектара. Конечно, молоко можно было разбавить, урожайность приписать, но третий показатель говорил об истинности первых двух. Чистая прибыль ежегодно составляла в колхозе пять миллионов рублей. Это более пяти миллионов долларов!
Почти сорок лет стоял у колхозного руля Михаил Григорьевич Лобытов, единственный в области дважды Герой Социалистического Труда.

Когда-то я записал некоторые истории, рассказанные о Лобытове его коллегами и друзьями.
А вот как все начиналось, когда Лобытов добровольно из начальственного кресла председателя райисполкома сел на скрипучий стул председателя худшего в районе колхоза.
Вот небольшой отрывок из книжки Б. Лапина о Лобытове :
«…Бескормица на фермах в буквальном смысле слова подступала с ножом к горлу. Еще во время массовых отелов, как сообщил Лобытову зоотехник Соколов, большинство телят родились мертвыми. Многих не удалось сохранить по той причине, что специальных теплых помещений для нарождающегося молодняка на фермах не было. Те из доярок, что посердобольней, уносили выживших малышат домой, ставили в теплый хлев к теленку от собственной коровы. К апрелю подобрали возле скотных дворов последние клочки соломы, мужики, посланные еще раз на приозерные сенокосные поймы, нашли несколько забытых при стоговании изопревших копешек осоки.
Каждое утро Михаил Григорьевич просыпался с тревожным чувством. Бывало, и среди глубокой ночи ощущение неотвратимой беды поднимало его с постели, и старушка-хозяйка, у которой он временно квартировал, слыша, как скрипят половицы от тяжелых шагов нового председателя, слезала с печи, зажигала керосиновую лампу и начинала щепать лучину. Она уж знала, что Григорьичу все равно не уснуть и он будет маяться до утра, мерить избу от переднего угла до порога, потому самое лучшее лекарство для человека в таком состоянии — послушать шумок закипающего самовара, посидеть за чайком да поговорить о чем угодно, только бы отвлечься от тяжелых мыслей.
Сегодня опять чуть свет Лобытов отправился на Погореловскую ферму. Доярки уже привыкли к тому, что председатель начинает свой рабочий день спозаранку и обязательно заходит к ним. Встретили у ворот.
— Беда, Михаил Григорьич. Моя Звездка не встает.
— И у меня две…
— Остальные-то едва на ногах держатся.
— Кабы падеж не начался. Ой, горе-то какое!
Лобытов принял керосиновый фонарь, нагнулся, чтобы не удариться о притолоку, ступил во двор и, осторожно ступая по натоптышам затверделого навоза, пошел по проходу меж стойлами. Тягостно было видеть грязные впалые коровьи бока, нечищеные, наросшие за зиму от навоза на полметра полы, слушать голодное, просящее мычание животных.
— Вот она, Звездка-то, — забегая вперед, показала доярка.
Корова через силу подняла голову на свет фонаря. Женщины сгрудились позади председателя, охали и вздыхали, какая-то не сдержалась, завсхлипывала и побежала к выходу.
Лобытов, еще не зная, что предпринять, от бессилия и растерянности хотел попенять дояркам на то, что они так и не выполнили его распоряжение: и коров не почистили, и стойла, не говоря уж о проходе, но сдержался, понимая, что это будет не ко времени и не к месту. Он поднял фонарь над головой, посмотрел вверх. Тусклый отблеск высветил пыльные, увитые провисью паутины и сенной трухи балки.
— Поднимать надо коровушек, верно, — уловила взгляд председателя одна из доярок. — На веревках держать.
— На веревках, девки, худо, — отозвалась другая. — Изотрем коров до крови, чего они — кожа да кости.
Лобытов опустил фонарь, спросил:
— Бригадир еще не заходил?
— Да, кажись, приболел он. Вчера сказывал — всего ломает. А не то был бы уж тут как тут.
— Ну-ка кто-нибудь сбегайте за ним. Если на ногах, пусть придет.
Лобытов отдал дояркам фонарь, пошел на улицу. В воротах, забитых мерзлым навозом, забыл пригнуться, больно ударился о притолоку. «В конец захламили двор, — ругнулся про себя, потирая ушибленный лоб. — Утонули в навозе, а на поля ни груды не вывезено. Ручьи потекут — поздно будет. Надо не тянуть, за вывозку браться».
Бригадир Ворухин не заставил себя долго ждать.
— Как самочувствие, Иван Дмитриевич? — участливо спросил Лобытов.
— Да вроде маленько отлежался. Болеть-то, вишь, некогда, раз такое дело. Я уж, как Анна прибежала, сразу смекнул: коровы не встают. Надо поднимать.
— Надо, Иван Дмитриевич. Созови мужиков. На веревки поднимать нельзя: испортим коров. Я сегодня же постараюсь найти пожарные шланги. Штука крепкая, и бока коровам не изотрет. Думаю, такое же положение и на других фермах. В общем, скажу в конторе, пусть бригадиров созовут сюда, в Погорелово, шланги привезу — всем нарежем.
— Ясно дело, — бодрым голосом ответил Ворухин. — Только поднять-то поднимем, это нехитрое дело, а кормить будем чем?
— Крышами кормить будем, — негромко отозвался Лобытов.
— Чем-чем?
— Придется, Иван Дмитриевич, снимать солому с крыш. Пока дворы и так простоят, а потом покроем наново.
— Дак ить там солома, поди-ко, истлела, — засомневался ничуть не обрадованный Ворухин. — Коровы и нюхать не захотят.
— Ладно, обсудим этот вопрос на правлении. Ты давай пока обойди мужиков. Пусть будут наготове.
На колхозной полуторке Лобытов отправился в город. Побывал у пожарников, в воинской части. И там и тут нашлись списанные шланги. Попутно поинтересовался у военных, не помогут ли чем-либо еще полезным для сельхозработ.
Предложили посмотреть повозку конной тяги. Оказалось, этакая арба о четырех колесах, с высокими бортами. «А что? — прикинул Лобытов. Зерно отвозить от комбайнов в самый раз. Только лошадку покрепче». Договорились, что колхоз заберет повозки позднее.
За полдня дорогу от города до Огаркова развезло изрядно.
Полуторка пыжилась что было сил, выкарабкиваясь из колдобин. Михаил Григорьевич рассеянно смотрел в затуманенное оттепельной моросью окно, прикидывал, как поведут себя колхозники на сегодняшнем заседании правления. Что ни говори, а оголять крыши скотных дворов — значит, показать всему народу, что колхоз докатился до последней крайности. Как воспримут люди это распоряжение? Скорее всего, подумают, что новый председатель расписывается в собственной беспомощности.
Ведь для них он еще председатель райисполкома, который может и должен использовать прежнюю власть и связи, найти «ходы-выходы» в районных организациях, достать солому или даже и сено где-то на стороне.
Но этот вариант, он уже окончательно решил, отпадает. Конечно, попытка не пытка, но для него сейчас искать подмогу на стороне — все равно что идти просить милостыню.
В Огаркове полуторку уже ждали. Он заметил еще издали: возле скотного двора стояло пять или шесть лошадей, запряженных в дровни, толпились мужики.
Выскочив из кабины, он первым делом спросил бригадиров, как на фермах. Мужики заговорили в один голос, и Лобытов, поняв, что беда всех коснулась одинаково, рукой показал на кузов полуторки: «разбирайте примерно поровну», напомнил, что в семнадцать ноль-ноль собирается правление, и всем бригадирам прибыть обязательно, глянул на часы — половина четвертого, и только сейчас вспомнил, что кроме утреннего чая у него сегодня во рту и крошки не было».
Через тридцать лет великих трудов и напряжения «Родина» уже была показательным образцовым хозяйством, куда ехали за опытом со всех концов области и страны.
Секретов не держим
Из «Родины» не выезжают делегации.
— Поделитесь секретами высоких урожаев!
Лобытов на трибуне понижает голос:
— Честно сказать, все дело тут в говнище. Берешь его побольше, вывезешь на поле, запахиваешь. А больше говнища положишь, больше урожай вырастет. Больше зерна и соломы, лучше скотину кормим, она больше говнища дает. Больше его в землю положим, больше урожай получим, опять же лучше скотину кормим…
Вот так и живем. Вся ставка на говнище.
Не выгорело
Звонят Лобытову из обкома партии:
— Михаил Григорьевич! Тут у нас товарищи из ЦК. Не покажете ли им Ваше хозяйство, комплекс в Харычеве?
— Показать не жалко. Пусть приезжают.
— И еще одна просьба. Организуйте для них обед. У вас там столовая хорошая и комната подходящая есть.
— Отчего не покормить? Покормим, — отвечал Лобытов.- Ждем.
— Вот и прекрасно, — радуются в обкоме партии.
— Опять обкому денег жалко, — говорит Лобытов своему по-мошнику. — Хочет за наш счет гостеприимным выглядеть. Пусть едут.
Делегация скорехонько осмотрела животноводческий комплекс, и далее — в столовую. Зал для гостей готов, столы накрыты. Гости сытно отобедали и, подобревшие, стали выражать благодарность Михаилу Григорьевичу.
Лобытов раскланялся, а когда машины с начальством скрылись за поворотом, набрал номер бухгалтерии:
— Валентина! Не забудь счет в столовой взять за угощение. Там на двадцать два рубля тридцать копеек. Отошли его в обком. Пусть оплатят. А если не оплатят, то отправь в ЦК. Пусть Центральный Комитет платит. У нас колхоз, а не богадельня.
Не та справка
Лобытов не любил поездок в верха и приемов у высокого начальства. Проку в этом особого не видел.
— Вы уж нас извините, мы люди практические. Мы теорию туговато воспринимаем, — деликатно отклонял он наставления, идущие сверху.
Однако не всегда удавалось избежать посещения высоких кабинетов.
Было время, когда повсеместно начали ликвидировать колхозы и открывать на их базе совхозы. Колхозники теряли право распоряжаться заработанными деньгами и имуществом. Государство эти функции брало на себя. И вот тут Лобытов грудью встал на защиту колхозной собственности и демократии. Дошел до самых верхов, но колхоз сохранил.
Потом в присутствии большого начальства мог позволить себе этакий кураж:
— А мы колхоз. Что хотим, то и делаем. А вот возьмем и всю прибыль раздадим колхозникам. Это тысяч под сто выйдет на брата.
— Эй, Иван, — окликает он мужика, сидящего с цигаркой в тенечке. — Тебе деньги нужны?
— Нужны. А как же?
— А зачем?
— Пойду поллитру куплю.
— Ну, на поллитру и трешника хватит. Я про большие деньги говорю. Тут и запиться можно.
— Не, больших мне не надо. Солить их что ли?
— Ладно, убедил. Раздавать не станем. Купим лучше новую сушилку да комбайнов новых.
…Как-то перед очередным партийным съездом пришла правительственная телеграмма с требованием срочно прибыть на прием к заведующему отделом сельского хозяйства ЦК товарищу Капустяну. С отчетом.
Тут уж не отвертишься. И работа над отчетом прошла
полным ходом. Под руководством райкома. Под контролем обкома. Секретарь парткома колхоза Сергей Козырев со специалистами написал, наверное, полтора десятка вариантов этой справки, а руководство выдвигало все новые и новые требования. Наконец, справка легла на стол секретаря обкома по селу. Тот справку одобрил и тут же сел ее переписывать.
Наконец, Козырев с Лобытовым едут. Как положено в таких случаях — в спальном вагоне. На вокзале встречает их машина ЦК и везет в гостиницу «Россия», в двухместный номер из трех комнат.
Полчаса спустя — телефонный звонок: «Пропуска заказаны. Прибыть в такой-то кабинет.» Далее Лобытов с Козыревым попадают в строгие руки инструкторов. Все справки проверены, замечания сделаны, недостатки устранены, бумаги перепечатаны, инструкции выданы: как вести себя в высоком кабинете, что говорить и о чем умолчать, как отвечать и когда отвечать не положено…
Спустя время ведут их на нужный этаж к нужному кабинету, отворяется дверь, и из-за стола, протягивая руки, подымается скромный, улыбающийся, с ленинским прищуром глаз человек, радушно приветствует гостей, усаживает, угощает чаем с сушками.
Спросив про погоду и виды на урожай, достает скромный человек папку с золотым тиснением, открывает ее и с карандашиком в руках пробегает сводки по надоям и привесам. И чем дальше он читает их, тем мрачнее и суровее становится.
— Это как же так понимать? — спрашивает он строго гостей.-
Да как можно мириться с такими результатами работы? Это разве рост? Это разве показатели?
Лобытов сидит спокойно, не возражает. Не велено. А Козырев и вовсе парнишка, только-только с комсомола. Ругают — значит так заведено тут. Если и самых лучших чистят, если даже и такие достижения их не устраивают, значит требования высокие.
А Капустян и вовсе расходится:
— Видимо, верно сказано: кто рожден тяжеловозом, скакуном никогда не станет. Видимо, зря мы тебя, Михаил Григорьевич, на вторую Звезду тащим.
Лобытов покраснел, а молчит. Не велено возражать. Да и что возразишь?
…Вечером добрались до гостиницы. Накупили карамели в подарок родным, сели перекусить в буфете перед отъездом.
Молодому старого спрашивать неудобно. Первый раз в жизни видел он, чтобы вот так его шефа чистили. Но Лобытов сам заговорил, усмехаясь:
— Ты, Сережа, не заметил, что справку-то он читал не нашу? Чья-то другая справка ему попала. Видать, инструкторы в запале перепутали. Я уж его поправлять не стал. Рожденный скакуном, не может быть тяжеловозом.
Тайная вечеря
Звонок из ЦК:
— Поздравляем, Михаил Григорьевич! Только что Политбюро приняло решение о награждении Вас второй медалью «Золотая Звезда» Героя Социалистического Труда. После обеда будет заседание Верхового Совета, на котором должны это решение подтвердить. Ждите по радио правительственных сообщений.
Михаил Григорьевич положил трубку, и слезы потекли по его лицу. Мог ли когда-то деревенский голодный парнишка помечтать, что достигнет таких вершин!
Но предаваться воспоминаниям было некогда. Плотно пошли звонки с поздравлениями. А за его спиной уже вовсю шла
подготовка к приему вышестоящего областного начальства.
Принять — дело нехитрое. Но вот беда: как быть со спиртным, которому объявлена беспощадная война? Будь ты самым первым в обкоме, но если молва донесет, что первый подымал стакан, не поздоровится и ему.
Приняли все меры предосторожности. Отпустили работников конторы по домам. В дверях поставили охрану из самых надежных и проверенных дружинников. Из руководящего состава остались самые приближенные. А водки, вина, как на грех, нет в магазине. Нашли бутылку шампанского на квартире завмага, пошли собственные запасы трясти. Еле-еле наскребли на застолье.
Часа в четыре летит кавалькада черных машин. Все первые лица области во главе с первым секретарем В. А. Купцовым. И Дрыгин, уже пенсионер, с ними.
Накрыли столы. Подняли бокалы. С великой осторожностью чокнулись, чтобы на улице было не слыхать.
Вместо банкета тайная вечеря получилась.
Каждое ведро — на учете
Одно время было модным лечиться овсом. Логика прямая: лошади овес едят и вон какие здоровые живут. Жена одного корреспондента центральной газеты тоже решила попробовать овсяной диеты. Посылает мужа в деревню за этим натуральным продуктом. Тот до «Родины» доехал, в контору пришел, а вот к самому Лобытову обратиться постеснялся: стоит ли за такой мелочью тревожить председателя крупнейшего хозяйства.
Пошел по низам. Так и так, говорит.
— Сделаем, какой разговор, — отвечают в низах.- Вот только к Михаилу Григорьевичу за дозволеньем сходим.
И верно, пошли к Лобытову.
— Корреспондент, — говорят, — овса просит. Дадим, или как?
— Отчего не дать хорошему человеку? Пусть выпишет в бухгалтерии, оплатит. Квитки возьмет и на склад едет получать, — соглашается Лобытов.
Выписал корреспондент бумаги, оплатил, поехал на склад.
Птицы под крышей парят, как в поднебесье. Сусеки забиты под самые стропила.
Кладовщица бумаги приняла, отвесила корреспонденту полпуда овса, а вот куда его высыпать, не нашла: у корреспондента тары не оказалось.
— Ладно, — говорит, — возьмите наше цинковое ведро. Только с возвратом.
Уехал корреспондент с овсом поправлять здоровье. А, наверное, год спустя присваивают Лобытову вторую Звезду Героя. В колхозе по этому поводу — митинг. Все начальство, все видные сколько-нибудь деятели, вся пресса и телерадио в «Родину» катят. Едет и наш знакомый.
Вокруг Лобытова столпотворение чинов и авторитетов. Еле очереди дождался:
— От имени и по поручению разрешите Вам, Михаил Григорьевич…
— Погоди, погоди, — остановил его Лобытов.- Скажи лучше: ты мне ведро цинковое привез?
Отдыхаю на работе
Михаил Григорьевич был уже в преклонных годах. Присылают ему на выучку группу слушателей высшей партийной школы.
Мужики — кровь с молоком. Пожалели Лобытова: такое хозяйство вести — не башкой трясти.
— А чего мне уставать? — отвечал спокойно Лобытов. — Я на работе отдыхаю. Приду, посижу — и домой. У меня специалисты работают. А я так, руковожу…
На выходные стал собираться на охоту. Стажировщики приступились: возьми да возьми. Потом и сами были не рады, так загонял их старик по лесу, что еле ноги приволокли.
— Ничего, — говорит, — на работе отдохнете. Главное там процесс запустить, а потом все само собой пойдет.
Два Лобытова
По закону дважды Героям Социалистического Труда на родине устанавливали бюст.
Вылепили и Михаила Григорьевича, отлили в бронзе, водрузили на гранитный постамент у колхозной конторы.
Не любо было такое соседство председателю. Выглянет в окно:
— И чего этого идола тут взгромоздили! Эстолько денег вбухано.
Деньги, хоть и не колхозные тратились, а все равно жалко.
Немного погодя снова выглянет:
— Опять вороны мне все голову обляпали!
На своих дрожжах
Вечер в овчарне
Директор совхоза «Вохтога» Валентин Владимирович Зажигин был человеком в области известным, орденоносным, совхоз его числился в десятке лучших.

Как-то во времена всеобщей борьбы с алкоголем пригласил он меня с товарищами отужинать в совхозной овчарне. Чтобы любопытных глаз меньше было.
Рядом с овчарней стояла неказистая, просевшая венцами избушка водогрейка. В избушке была маленькая комнатка с отклеившимися обоями, лавками вдоль стен и большим деревянным столом.
Вышел сторож овчарни, поставил на стол огромное блюдо с дымящейся похлебкой и резанный большими ломтями хлеб.
— Жили-были рыбак да птичница, — сказал скороговоркой Зажигин.- У них, что ни день, то яичница. Уха и та из петуха.
Он распахнул пузатый портфель, извлек из него большой кусок окорока, водку, шампанское.
Делал он все стремительно. Тут же в одной его руке оказалась бутылка водки, в другой- шампанское.
Из обеих принялся наполнять стаканы. В народе такой ерш называется «белым медведем».
— Вы уж меня простите. Я чистую водку не пью, я по-стариковски, разбавляю шампанским.
Едва я успел убрать свой стакан, а товарищи не успели, и скоро поплатились. «Стариковский» напиток запросто мог свалить быка. Но не Зажигина.
Что это была за колоритнейшая фигура! В ту пору Валентину Владимировичу было под семьдесят. На вид, что дуб развесистый, кряжист, жилист, но быстр, поворотлив. Глаза с лукавинкой, острые, что шилья. Силой своей, умом ли умел блеснуть.
Какой чудесный вечер подарила мне судьба в этой полусгнившей водогрейке! Зажигин был в ударе.
Тридцать девять лет руководил он хозяйством. А было за эти годы столько…
— Вот, братцы мои, — сказал Зажигин, откладывая ложку.- Первый раз меня исключали из партии, когда я был еще беспартийным. Как сейчас помню: 13 сентября 1950 года избрали меня председателем колхоза. Было тогда в хозяйстве под сотню лошадей, сотни полторы коров, да я еще сдуру прикупил телят столько же. А сена вполовину нужды.
Как зимовали, одному богу известно. Надо коров доить — сейчас собираем мужиков и — на двор жердями скотину подымать. Вывесим на двух вагах коровешку и держим, пока бабы не подоят ее. Я до чего доподнимал, что с пупа съехал.
Ну, думаю, надо головой вперед работать. А то век свой придется коров вывешивать.
Лето приходит, выдаю колхозникам свое решение:
— Все покосы, какие есть, делю между семьями. Косите, как можете. Десять процентов от накошенного — забирайте себе.
Дело неслыханное. А народ поднялся, горы готов свернуть.
В кои-то веки можно свою корову сеном без оглядки обеспечить.
Кормов заготовили в то лето не видано. Да и зерна наросло. Скотина оправилась, надои и привесы в гору полезли. И приезжает как раз перед великим постом из района инструктор. Мол, поделитесь опытом, как вам удалось таких успехов достичь?
Так и так, говорю. Головой стали думать, а не задним местом. Рассказал, как народ заинтересовали. А он на дыбы:
— Это что такое? Кулацким замашкам потакаете? Я вспылил, печатью о стол брякнул:
— Если ты такой идейный, так сам и руководи, заготовляй и сено, и солому.
Он эту историю в районе раздул, вызывают меня на бюро и принимаются «чехвостить» за недисциплинированность, за кулацкие настроения.
— Да вы что, мужики! При коммунизме и вовсе скотину кормить перестанем?
Секретаря в кресле так и подкинуло:
— Предлагаю Зажигина из партии исключить. Кто «за»? Проголосовали единогласно.
— Партбилет на стол!
— Нет у меня партбилета.
— Как так?
— А я беспартийный, — говорю, — и пока ты здесь командовать будешь, не вступлю!
Слава Богу, того секретаря быстро тогда сняли, а то он меня точно бы упек. Или исключил.
Особо опасный
Четыре раза меня судили. Колхоз наш был в системе семеноводства. Понятно, семена требуют особого отношения. Пока их почистишь, отсортируешь… Другие хозяйства уже вовсю хлеб сдают, а у нас в сводках- прочерк.
Вызывают опять на бюро.
— Почему медлишь со хлебосдачей?
Объясняю. Слушать не хотят. Тут прокурор, начальник милиции.
— Посадить как саботажника!
Прямо в кабинете арестовали и — в КПЗ. Улицей ведут, как особо опасного преступника. Сутки с хулиганами просидел, приходят:
— Зажигин! На выход.
Выпустили. Хлеб-то надо молотить.
Вдругорядь три года дали. Лишения свободы. Я молодой еще был. Не понимал. Думаю, меня гражданских прав лишили. Голосовать теперь не дадут.
Хорошо, что областной суд отменил решение нашего.
Вот так всю жизнь. То из партии исключают, то в тюрьму садят. Как-то с работы сняли за то, что я нарушаю трудовое законодательство: работники у меня в сенокос больше восьми часов в день работали!
Что ни день, то война. Окопы по полному профилю. Еле отбился.
На чужих дрожжах
Нас у отца пятеро ртов было. Соберемся за стол, так мамка подавать не успевает.
Батька дважды навылет ранен. А работать надо. Был председателем волисполкома. Двенадцать деревень под началом.
Ездил к Дзержинскому хлопотать о снижении налогов. Совсем мужика задушили. Потом столярничал.
Пошли сельсоветы. Наш сосед председательствовал уже. Как сейчас помню, Алексей Герасимовский. Из бедняков. Не было к работе и земле прилежания, вот и бедняк. Но в должности правил круто. Проводил раскулачивание. Надо разнарядку выполнять — подобрал двух богатеев, а у тех богатеев крыши соломой крыты.
Как-то приходит к отцу:
— Николаич! Я теперь на всю жизнь обеспечен.
Отец ухмыльнулся:
— Нет, парень, на чужих дрожжах не поднимешься.
И верно. Скорехонько все добро пропито было. Потом уж побираться пошли.
Как на ноги вставал
— Хороша наша деревня была. Как сейчас вижу. В полдень
солнышко жарким колобом вдоль деревни катится. Выйдешь за околицу — земля — матушка, даль неоглядная…
На агронома выучился. А поработать не успел- война.
Участвовал в обороне Ленинграда, на прорыв блокады бросали. Механик «тридцатьчетверки». Трижды брали 8-ю ГРЭС, и трижды нас разбивали в пух и прах. У немца каждый метр был пристрелян.
В четвертый раз пополнили нас танками с Кировского завода. Рванулись мы через линию смерти. Кругом ад кромешный. Считаю: минута, вторая, третья… — все еще живы, все не горим. Потом вижу в смотровую щель — немцы побежали…
Вернулся Зажигин домой в сорок четвертом. Полмесяца с костылями ходил, другую половину с двумя палками, потом с одной.. А потом как-то увидел в хлебах козу — кинул в нее палкой, а поднимать не стал. Дальше всю жизнь крепко на ногах простоял.
Как в Греции
В совхозе у Зажигина, как в Греции: все было. Жилье, соцкультбыт, современное производство… Чего еще?
Как-то две старушки в Вологде в пригородных кассах брали билеты:
— Милая, мне до Вохтоги.
— А мне сделай до Дресвищ.
— Где это? -удивляется кассирша.
— Левее Вохтоги, у Зажигина-то…
— А что и впрямь у вас в совхозе своя железная дорога? — спросил я Зажигина, когда колесил с ним по хозяйству.
Вместо ответа он повез меня в маленькую деревеньку Дресвище. От железной дороги государственного значения к деревне уходила насыпь для будущей ветки. Своей. Совхозной.
— На своих дрожжах? — спросил я Зажигина.
— Своим умом! — отвечал он удовлетворенно.
Зажигина — на правление!
«Белый медведь» скоро одолел моих товарищей. Мы сидели в Зажигиным одни у водогрейного котла и беседовали.
— Я книжку хотел собрать, столько лет записи вел. И вот, пропали записи. Тебя пригласил, может чего и расскажешь о нашей председательской и директорской доле. А? Глядишь и прочитаю на старости лет. На досуге-то?
…Я тогда от газетной работы отошел. Зажигин — от директорской. Отдыхал. С той памятной ночи прошло лет пять. А тут разруха в деревне началась. И слышу: снова в Вохтоге народ Зажигина на правление позвал. Жаль только, недолго он на этот раз правил.
КАК УХОДИЛИ ГЕРОИ
Виктор Алексеевич Ардабьев, наверное, сегодня один из немногих, кто знал и знает состояние вологодского села, его лидеров прошлого и настоящего. Вся жизнь его связана с вологодским селом. Он закончил в свое время Вологодский молочный институт и прошел все ступени сельской иерархии от агронома до начальника областного агропромышленного комплекса.
Мы довольно часто беседуем с ним на темы разрушения и развития вологодской деревни. Именно развития, потому что у каждого даже негативного процесса есть свои позитивные стороны… И вот последний наш разговор.
Папа Толя
— Я тебе расскажу то, чего ты, по всей вероятности, не знаешь. А ты должен это знать. — Этот рассказ записал я от бывшего партийного и хозяйственного работника Вологодской области времен Дрыгина Виктора Алексеевича Ардабьева

— Это было в последний приезд Анатолия Семеновича Дрыгина в Череповец. Он уже к тому времени постарел сильно, но рука и голос его были тверды, а ум цепкий…. Уже Героя Социалистического Труда за подъем экономики Вологодчины ему дали.
Мы его встречали с Алёшей Титовым на границе Шекснинского и Череповецкого района. Такова была традиция. Я работал тогда первым секретарем Череповецкого райкома партии, а Титов был первым горкома.
И вот мы его встречаем, садимся в его машину и едем. И Дрыгин командует: «В поле!»
Он как был агрономом, так и остался им. Душа у него крестьянская, к земле тянулась…
А ты можешь себе представить, какие у нас в полях под Череповцом овощи росли! Это уже доказано было, что выбросы от металлургов, от химиков способствовали большим урожаям овощных. Капуста: 800 центнеров с гектара! Это невероятные рекорды. Морковь, свекла, турнепс… всё росло, как на дрожжах. Видимо, растения реагируют хорошо на выбросы — получая дополнительные питательные элементы.
У нас проблем в растениеводстве и овощеводстве не было. Мы вообще Вологодский район в соревновании на лопатки по овощам, по картофелю положили. Тогда все соревновались, Вологодский с Череповецким, Шекснинский район с Грязовецким… и т. д.
Дрыгин, похоже, недолюбливал Титова. Еще в поле начал к Титову придираться: «Ты, наверное, ему, то есть мне, не помогаешь.» И на меня показывает. Я в таком дурацком положении, как будто я жаловался на него. Он так говорит: «Ты плохо помогаешь ему». Ладно.
Ну вот, приезжаем в гостиницу. Там в Череповце есть двухэтажная гостиница — особнячок. Наверно, продали уже.
Там в лучшем случае министры останавливались. И заместители председателя совета министров России. Там вертушка, тройка, кремлёвка.
И вот, когда мы в гостиницу приехали, Дрыгин говорит: «Ребята, вы тут подождите. А я сейчас на второй этаж схожу, переоденусь».
Жена ему всегда готовила костюм, белую рубашку, галстук. Она за ним следила, молодец. Костюм, целлофаном накрытый, висел в машине.
Шофер зайдет в квартиру, она ему даст костюм, он повесит в машине. Дрыгин в полях походит в сапогах, а потом перед встречами переоденется. Так они и жили.
Вот он и говорит: «Сейчас я переоденусь и выйду».
И тут звонок. Я Титову говорю: «Бери телефонную трубку, звонит кремлёвка».
Он сробел. Тогда я подошел, взял трубку. Звонили из ЦК партии, заместитель заведующего организационным отделом. «Мне, говорит, доложили, что Анатолий Семенович у вас».
Я говорю: «Да, Анатолий Семенович у нас, сейчас я его приглашу».
Дрыгин спустился. Меня спрашивает: «Откуда звонят?» Я говорю: «Орготдел ЦК». А я знал, Сычев раньше мне рассказывал, что Дрыгин в ЦК со всеми по-свойски. Он никого не боялся. Его уважали все. А тут организационный отдел, тот отдел, который ведает кадровыми назначениями и кадровой работой.
Дрыгин трубку берет, а там рокот такой: «Анатолий Семенович, по вашей просьбе…».
Это у нас с пятном-то секретарь ЦК был. Горбачёв. Он эту политику повёл убирать старые, опытные кадры.
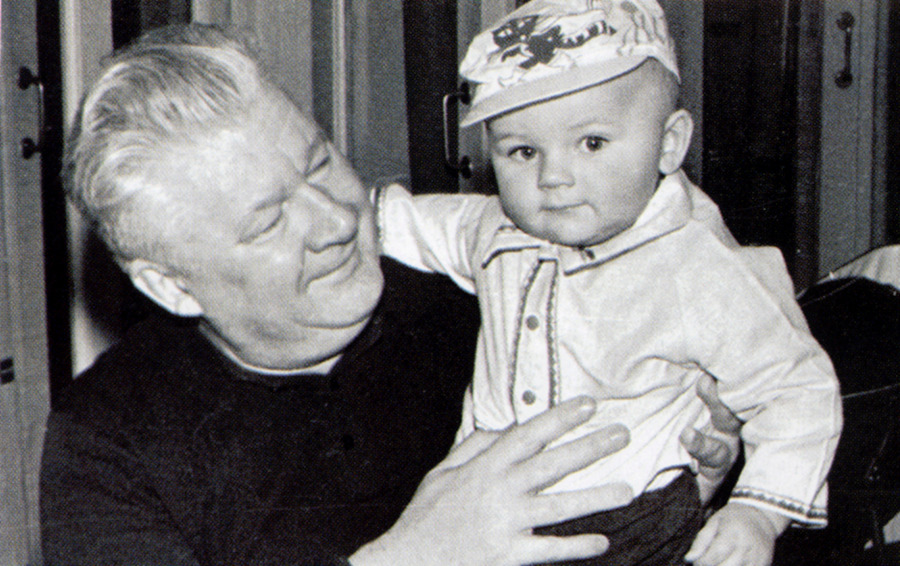
Это он освободил, я знаю, нашего первого секретаря Дрыгина. Потом Смоленского первого, Романова первого Ленинграда, Псковского… Такие были мощные мужики — войну одолели. И Горбачев их пошёл чесать. И всех освободил.
Так же, как Ельцин в Москве освободил первых секретарей московского райкома в партии, за два года он всех их разогнал. Видимо, это такая политика была.
И вот мы слышим, что наш всесильный Дрыгин отвечает тихо так: «Да-да».
А я смотрю, он в лице переменился, позеленел. Видимо, он не думал, что так быстро произойдет, когда давал согласие на освобождение, на уход на пенсию.
И трубку так опускает медленно. И взгляд у него уходит в себя. Не поворачиваясь к нам, говорит: «Поезжайте, ребята, я сейчас подъеду».
А там, в «Алмазе» в большом зале на шесть тысяч зрителей — встреча, на которой он должен присутствовать. Мы приехали туда, скоро приехал и Дрыгин, Его было не узнать: он был такой темно-зеленый. Всем подавал руку. Ко мне два раза подходил, руку подавал. С ним что-то вот такое было невероятное.
И всё. Я 14 лет был членом обкома партии. Назначили пленум обкома. Первый пленум — освобождение Анатоля Семеновича Дрыгина от должности первого секретаря по заявлению. Всё, как надо. Освободили Дрыгина, он поблагодарил всех собравшихся за работу. Тишина в зале стояла гробовая, словно люди понимали, что совершается что-то неправедное, опасное…
Едва закончил он выступать, как сразу объявили перерыв. А Дрыгин пришел тогда на пленум в белом френче. Он служил ему с войны, армейский, белый такой. Он застегивался наглухо. На груди Звезда Героя.
И сразу объявляется второй уже организационный пленум, на котором должны были утвердить исполняющего обязанности первого секретаря Купцова. А в перерыве прошло бюро, на котором предложили новую кандидатуру, освободили Дрыгина от должности секретаря, члена бюро.
И вот после перерыва мы заходим, все члены бюро сидят в президиуме, а Дрыгин внизу, на первом ряду скукожился как-то… Видно, что ему очень плохо, словно его скинули с пьедестала. Двадцать четыре года служил области верой правдой, вытащил из трясины, бездорожья, травопольщины, вывел село на промышленные рельсы, настроил птицефабрик, свинокомплексов, откормочников, урожаи, надои поднял на небывалую высоту. Это его в первую очередь была заслуга… И вдруг демонстративное унижение. Его ученики, его выдвиженцы сбросили с пьедестала, получается…
Все члены бюро сели по местам, Елхачев там, мой старый приятель, Ильин, сейчас институт возглавляет. И секретари обкома, они члены бюро.
Купцов вышел, он небольшой докладик сделал, опять перерыв объявили — и ко мне сразу же секретари райкомов: Солдатенков Валерка, Притытченко…
— Витя, мы тебе доверяем, иди спроси их: «В чем дело? Заслуженного человека унизили. Что ж ему места в президиуме не нашлось?»
Я сразу к Купцову: «В чём дело, Валентин? Разве так можно? Это человек, под руководством которого мы всю жизнь отработали..».
И он нагнулся ко мне и говорит: «Витя, из ЦК поступило указание — стариков не героизировать, не устраивать им почестей…»
Я так и сел. Говорю: «Вы ошалели что ли? Ну, ладно, там в Москве с ума сходят. Но для нас это же национальная, русская традиция почитать стариков, уважать их мудрость. И всегда было. Когда Донской пришел с Куликова поля, две трети войска выбито, все молодежь полегла, все хозяйство на стариков легло. Старики с молодухами жили. Не осуждалось то, понимаете, чтобы восстановить население страны. Во всей Руси стариков всегда уважали».
Я вернулся и ребятам это же сказал. Из ЦК указание, а своей головы-то нет? Мало ли какое там указание.
И началось гонение на старые кадры. Это первый признак незрелости нового руководства.
Смоленского освободили, Дрыгина освободили. И так вот секретарей 20 освободили.
Назначают молодых и дают им указания. Не слушайте, чего там старики будут болтать, они давно отстали от жизни.
И председателя облисполкома Грибанова освободили, он тоже Герой Социалистического труда.
Поставили его на учет в партийную организацию, раз он на пенсии, чтобы не критиковал на собраниях, в жилкомунхоз.
Грибанов как-то мне жалуется: «Я пришел на партийное собрание, там рабочие, коммунальники, заведующий гаражом…» Издеваться стали над стариками. Опустили всех сразу.
В Харовске работал первым секретарем такой Бондарев. Небольшого роста такой. Звезд с неба не хватал. Но настойчивый и требовательный секретарь был.
Я с ним работал хорошо. Он 10 лет первым секретарём отработал в Вожеге, 5 лет в Харовске.
И вдруг Купцов там выступает. Он говорит: « Мы будем расширять демократию. Теперь выборы у нас будут на конкурсной основе. Таковы требования партии сегодня. У нас будет не один кандидат, а два-три кандидата. Здесь в Харовске мы обкатаем этот опыт.»
Бондарев такой порядочный мужик был, честный, не пьяница, ни какой-нибудь там забулдыга… А проиграл тоже хорошему мужику, но не руководителю, а торговцу «купи-продай.»
Вон в Вологде «Харовское мясо» — его заслуга. Организовал торговлю. Какая там партия, какая там организация? Понятно, торговлю мясом поднял, а организацию и район завалил.
Такие самородки, торговцы, нам тоже нужны, но в «Облпотребсоюзе». А его — первым секретарём, и пошло.
Из школы плохого учителя поставили секретарем, строителя вытащили. Вон в Вытегорском районе, что ему скажешь, то он и делает. Вот тут и всё. Наставили, навыбирали таких повсюду. То есть, пришли новые кадры, которые не умеют организовать дело. Вот и пошел развал. Все показатели покатились вниз. И пошло постепенное разорение, сначала мелкие хозяйства, потом крупные хозяйства, которые колоссальную прибыль приносили, технология одна из лучших в мире была.
Как Дрыгин ушёл, они удержать этого не могли. Пришло московское веяние на разорение. Вы можете представить себе завод «Электротехмаш»? Завод был построен с иголочки, самый последний современный завод. Зачем его разорять-то? Можно было сменить профиль на самое выгодное производство. Нет, давай разорим!
А там почти 3 тысячи рабочих. Это ужас какой-то. И пошло, и пошло. Из двенадцати заводов сегодня в Вологде остался один ГПЗ. Саша Эльперин, директор и владелец этого завода, уехал в Соединенные Штаты. Советы директоров каждый год проводили за границей. Вот как!
Когда Ельцин начал своё восхождение, мы уже знали, было как-то видно птицу по полету, кто такой Ельцин.
Ты, видишь, Ельцин — строитель. Он на строительство Пятой домны два раза приезжал, планерки проводил. Я на одной присутствовал. Он жестко вел планёрку. Он так жестко поставил задачи, что стройка пошла быстрыми темпами. Прошло шесть или восемь месяцев, приехал окончательно и пустили Пятую, крупнейшую в мире домну.
Это Ельцин всё тут заварил, он умел такое делать. Но с кадрами Ельцин отвратительно работал. Как можно было московских секретарей за первые два года всех сменить. Это ж потерять управление столицей… Так и случилось.
И кончилась эта свистопляска, изгнание старых, проверенных, опытных кадров — Беловежской пущей. Развалили СССР и пьяные позвонили президенту Соединенных штатов Америки оттуда:
«Мы решаем разделить Советский Союз».
А президент им говорит: «Ребята, это ваше дело. А вы тут не перегибаете палку?»
«Нет, мы не перегибаем».
Ну, Ельцина алкоголь-то забил, конечно. У него уже мозги стали сохнуть.
— Сегодня газеты рапортуют об успехах в сельском хозяйстве области. И картошки больше и молока, и мяса достаточно, — вернул я Ардабьева к разговору о селе.
— Я скажу о восьмидесятых годах, когда сельское хозяйство было на подъеме. Под началом Дрыгина развернулась работа по специализации и концентрации производства, переводу животноводства на промышленную основу. Сначала наше птицеводство вышло в число лидеров. Потом за 5—7 лет построили крупные свинофабрики. Отрасль нормально заработала, и Вологодчина попала в первую четверку свиноводческих областей. Была разработана специализация всех районов, и каждый руководитель хозяйства точно знал: когда и что у него будет строиться. Буквально в считанные годы мы создали систему семеноводства, построили семенные станции, организовали семеноводческие совхозы. Одновременно занялись повышением плодородия земель. При каждом крупном животноводческом комплексе, при каждой птицефабрике были построены площадки компостирования. Добились огромных объемов заготовки торфа. Не забывали и о минеральных удобрениях, которые вносили согласно анализу почв. Это была стройная система по всей области, по каждому району и хозяйству.
Урожаи росли. А появилось в достатке кормов — пошло в гору животноводство. К 1985 году потребление мяса на Вологодчине было доведено до 66 килограммов в год в среднем на каждого жителя. Все близлежащие области больше 50 килограммов не имели. По потреблению мяса, молока мы были в первой тройке по России, по яйцу — на втором месте. При этом очень много продукции мы поставляли в союзный и республиканский фонд: молока, например, отправляли ровно половину. В Госплане говорили: что союзный фонд формируют Россия, Белоруссия и Вологодская область. Вот это и был результат огромной работы, которая проводилась командой Дрыгина. А вот обстановка с сельскими кадрами массовых профессий была очень тяжелой. Люди убегали из деревни. И только после
1975 года с внедрением новых технологий, облегчавших работу на селе, парни и девушки начали оставаться дома. Основная ставка делалась на создание хороших социальных условий, чтобы закрепить там людей, которые еще оставались. И даже в отдаленных хозяйствах начинали строить жилье, дома культуры, школы, детские сады.
Активно развивал свою базу «Облпотребсоюз», велось строительство торгово-культурных центров, райпищекомбинатов. В каждом районе создавались ПМК «Межколхоздорстроя», которые были оснащены одним-двумя асфальтовыми заводами. Дрыгин, думая о будущем, поставил перед аграрниками задачу: довести производство молока до 1 миллиона тонн, мяса — до 120—130 тысяч тонн в год. Он понимал, что в союзный фонд область все равно вынуждена будет поставлять продукты, и чтобы на месте их оставалось больше, нужно было увеличить производство. И мы шаг за шагом шли к тому, чтобы обеспечить область всем необходимым в полном достатке, в том числе свежими овощами.
К этому можно добавить еще некоторые цифры и факты, которые сегодня могут показаться фантастическими: в области была создана мощная материально-техническая база строителей, мелиораторов, дорожников, позволяющая ежегодно вводить в эксплуатацию до 850 тысяч квадратных метров жилья, причем, только на селе — до 350 тысяч; до 7—8 тысяч ученических мест в школах, до 1000 коек в больничных учреждениях, до 4000 мест клубов и домов культуры, до 14 тысяч гектаров мелиоративных и 40 тысяч культурно-технических земель, более 1000 километров автодорог с твердым покрытием.
Поэтому для того, чтобы оценить свои успехи, прежде всего нужно оглянуться назад и понять, что мы потеряли…
Кто же кукурузник?
Опять же история от Ардабьева:
— Жизнь за эти годы сильно переменилась. Многие хозяйства больше не нуждаются в руководящей и технологической опеке откуда-то сверху. В государственной экономической поддержке нуждаются, а в остальном говорят: « Департамент сельского хозяйства нам не нужен. Зачем нам этот департамент. Он только бумагами загружает».
Геннадий Шиловский, председатель «Родины»: «Виктор Алексеевич, я ни на одно совещание никогда не хожу и не езжу, от депутатского кресла я отказался».
— Этот процесс начался еще 80-ых годах, когда создавалось агропромышленное объединение, — сказал я Ардабьеву. — Вопрос ставился так, чтобы специалисты этого объединения выполняли консультационную работу в хозяйствах. А сейчас ни специалисты, ни технологи со стороны не нужны. Выгоднее, чтобы собственные специалисты управлялись и в агрономии, и в механизации, и в животноводстве.
— Верно! Вот у Жильцова сын Владимир возглавляет «Аврору». Это хозяйстве работает на уровне мировых стандартов! Он даже кукурузы сеет, по-моему, под 50 гектаров. Кукуруза растет до потолка. Я вспоминаю, как мы выращивали кукурузу у себя в шестидесятых годах…
Вот послушай:
…Летом 1962 года Хрущев возвращался правительственным поездом из Архангельска в Москву. Было условлено, что в Вологде поезд сделает остановку, и Никита Сергеевич встретится с первыми лицами области. Поезд приходил в шесть утра, и на холодном перроне за час до него выстроились пионеры с барабанами и горнами, руководители города и области.
Шел мелкий холодный дождь. И вообще лето шестьдесят второго было чрезвычайно холодным. И, видимо, поэтому кукуруза на полях никак не хотела расти. Хоть ты ее за уши тащи! А Москва требовала едва ли не ежедневных победных реляций с кукурузных фронтов… Накануне приезда Хрущева Дрыгин, возвращаясь с загородной дачи, заехал на учебно-опытные поля Молочного института. Было пять часов утра. На кукурузном поле споро работали трактора, запахивая царицу полей, которая к августу едва ли поднялась сантиметров на пятьдесят. На краю поля стоял молодой кучерявый агроном и с явным удовлетворением наблюдал за работой тракторов. Шофер Дрыгина подошел к нему:
— С вами хочет говорить первый секретарь!
Молодой агроном ничуть не смутился, и смело шагнул навстречу нахмуренному секретарю.
— Вы что это делаете? — грозно спросил Дрыгин.
— Запахиваем кукурузу под озимые! — отвечал агроном. — Не выросла, как ни бились, как ни ухаживали, ни подкармливали. Жалко трудов. Не по нашему теплу эта культура!
Дрыгин нахмурился еще больше, прошелся вдоль поля, сорвал несколько стеблей.
— Эти-то вот получше будут, — показал молодому агроному.
— Тут у нас навозная куча была, земля на метр пропиталась жижей, да и то какая это кукуруза! Слезы горькие.
Дрыгин ничего не ответил, сел в машину и укатил в город. …Много позднее он расскажет молодому агроному Виктору Ардабьеву, ставшему к тому времени первым секретарем Никольского райкома партии, продолжение этой истории с кукурузой.
Правительственный поезд пришел без опозданий. На перрон вышли охранники, пионеры вскинули к небу горны, готовясь к встрече высокого гостя, начальство приосанилось, но Хрущев так и не появился. Ждали пять минут, десять… Хрущева не было. Над перроном повисло тягостное молчание. Тогда Дрыгин обратился к охранникам.
— Никита Сергеевич отдыхает, — отвечали те.– Он не выйдет. — Но как же так? Его ждут! — возмутился Дрыгин.
— Повторяем. Он не выйдет.
— Тогда я пойду сам! Доложите!
Он раздвинул охрану и шагнул в вагон, уже набиравший ход. Столь решительные действия Дрыгина возымели результат. Один из охранников скрылся в купе, и минуту спустя из него вышел заспанный Хрущев в полосатой пижаме, поигрывая подтяжками.
— Чего тебе, Толя? Чего будишь? — спросил он миролюбиво Дрыгина. — Медали и ордена я все в Архангельске роздал, деньги там же пропил. Нет у меня ничего.
В коридоре уже собирались помощники и сопровождающие Хрущева лица, с интересом наблюдавшие за этой сценой.
— Да я ничего и не прошу.
— Так чего же ты хочешь?
— Я должен со всей ответственностью заявить, — сказал, напрягаясь как перед атакой, Дрыгин, — что кукуруза у нас не растет и вряд ли будет расти. Холодно у нас для нее. Холодно. — А вы что еще и кукурузу у себя сеете? — вдруг прищурился хитро Хрущев.
— Да как же, согласно партийному курсу, — отвечал простодушно Дрыгин. — Повсеместно!
— Нет, вы видели таких дураков, — захохотал вдруг Хрущев. — Они на Севере сеют кукурузу и еще жалуются, что она не растет. Вы бы ее еще на Полюсе посадили!
Дрыгин вышел из поезда в Грязовце и в тот же день распорядился запахать ее повсеместно под озимые. Надо сказать, что озимая рожь тогда выросла на диво. А из Москвы все шли и шли распоряжения отдавать под кукурузу лучшие земли. Не работа, а хождение по минному полю.
— Я бывал в «Авроре» Видел и кукурузу. Настоящие джунгли. Вот тебе и Север и отрицательная изотерма, — поддержал я размышления Ардабьева о кукурузе и успехах сельского хозяйства.
— Я назову сейчас фамилии: Жильцов, Горбунов, Шиловский — это наши кадры, — заговорил Ардабьев, завершая беседу. — Лучшие руководители села в области. В них наша наука. Это настоящие крестьяне, которые не допустили развала в своих хозяйствах, когда вокруг все рушилось и сыпалось. Дрыгин, думаю, порадовался бы, посетив их хозяйства. Но такой машины времени, к сожалению, нет.
Из породы всадников
Василий Жильцов принял хозяйство имени 50-летия СССР от Леонида Бурцева. Был такой легендарный человек на нашей земле. Со своими недостатками и достоинствами, но человек азартный, жадный до дела. Герой Социалистического Труда. В свое время он поднял «50-летие СССР». Но потом наступило время, когда рост остановился. И надолго. Бурцев сам понял, что в его королевстве неладно. Стал просить перевести его в другое место.
Я, — говорил он, — со своими специалистами уже ни встречаться, ни разговаривать не могу. Осталось только драться. Но у меня сил уже прежних нет.

Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.