
Бесплатный фрагмент - Перекрёстки детства
Всем, для кого я жив
Предуведомление
«Ни один писатель осознанно не вкладывает в свои произведения того смысла, что впоследствии умудряются там выискать читатели, не говоря уж о критиках»
Стивен Дедал. «Методика преподавания истории в средней школе»
Данный текст является художественным произведением. Все совпадения имён, мест действий и детских прозвищ прошу считать случайным стечением обстоятельств. Даже, если вам почудилось, будто в схожих событиях вы принимали участие.
01
«Начиная какое-либо дело, никогда правильно не представляешь себе его действительных масштабов»
Сизиф. «К вершине»
Давно уже я обратил внимание, что целые периоды жизни практически стёрлись из моей памяти; и не то, чтобы они оказались потеряны, но рисовались размытым, невнятным, расплывчатым миражом, напоминающим контуры за стеклом, когда по нему хлещет сильный дождь. Вроде бы, смутные очертания предметов, находящихся на улице, и можно различить, к примеру, дом напротив не перестаёт быть домом, хотя, и смахивает теперь больше на серую застиранную скалу с глазницами пещер, вместо окон; или спортивная площадка, она ведь ни на йоту не стала менее приспособленной к ребячьим проказам, но видится, как жёлто–красный пещерный городок, обитают в котором, извлекающие неведомые нам сокровища из ближайшей глухой и унылой скалы, трудолюбивые горные гномы со сморщенными суровыми бородатыми мордочками, чьи головы увенчаны коричневыми остроконечными колпаками, а тела облачены в зелёные кафтанчики с ремешками, блистающими медными пряжками, с карманами на груди и на боках, закрывающимися на серебряные пуговички, сверкающие в огне ручных фонарей со свечами в центре, а ноги, покрытые чёрными сафьяновыми штанишками, обуты в кожаные сапожки с металлическими подковками на каблуках, цокающими при ходьбе в подземных тоннелях. Однако мазки прекрасного манто с волшебным бурым мехом не дают точного понятия о сокрытом за потоком ливня городе, покуда не сумевшем насладиться солнечным светом, не успевшем окунуться в бархат неба, чересчур редко не тревожимого шуршащим ситцем облаков, настолько привычных нашим широтам. Нет во всём этом резкости, предельной микроскопической резкости, создающей максимальное представление о явлении, рассматриваемом нами всесторонне в надежде постичь его форму и содержание. Вот и минувшее, распугивающее ворон ребятнёй, неуловимо трансформировалось в магический дымчатый полупрозрачный шар, со звучащей в нём иногда музыкой, то ли полузабытой, то ли вовсе ныне незнакомой, внутри коего подчас мелькали загадочные лица, кленовые переулки, сейчас не существующие, ибо неузнаваемо искажены они равнодушным, холодным и безразличным к ним и ко мне, временем. Порой я ощущал, будто и прошлое с его шармом ностальгического уюта у меня отсутствует; утеряно оно бесследно, прочно, и даже крошечных зацепок за него не сохранилось, а есть только неумирающее бесконечное «сегодня». Оно и завтра тоже будет — «сегодня», а само «завтра», превратившись во «вчера», окутает меня лёгким туманом, лишь добавляющим непрозрачности сему бесцветному пятну, стирающему, словно ластиком, остатки чётких глубоких линий — моему детству, моему утраченному без возврата детству.
Утраченному.
Без.
Возврата.
С весёлой бестолочью салок.
Так мне чудилось.
И я почти уверился в этом.
02
«Машина времени в нашем деле не только бесполезна, но и вредна»
И. В. Бунша. «Домоуправление»
Разумеется, не все подряд периоды моего существования виделись белым пятном; одно помнилось ярче, другое пряталось в тени и никак не хотело её покидать, выползая на свет, несмотря на титанические усилия, прилагаемые мною к этому. К примеру, годы учёбы, а насчитывалось их — пять, я почти не помню. И не могу с уверенностью сказать: «Зима первого курса запомнилась тем–то и тем–то, а вот в следующий семестр случилась любовь с К. и померкли знаки Зодиака…» Путешествуя на ощупь сквозь пространство времени, я растерял подробности, и они превратились в обезличенные «институтские годы». Подробности, в целом невосстановимые ныне, хотя отрывочно пока доступные, стоит лишь им под влиянием незначительного события, слова, звука, аромата, предстать перед мысленным взором с особенной, необъяснимой чёткостью. Так ловят дети синим сачком порхающих на весенней поляне, усыпанной желтокудрыми головками одуванчиков, разноцветных однодневок–бабочек, дабы пришпиливать затем добычу мамиными иголками в свои коллекции, хвастать друзьям и обмениваться наиболее яркими, оригинальными.
Впрочем, постойте, пожалуй, именно здесь я и заблуждаюсь. Ступени студенчества не являлись безнадёжно безликими, некий образ у них, конечно, имелся. А если быть предельно точным, это — образ моих немногих товарищей, с которыми я в выделяемый промежуток оказался духовно близок. С ними я посещал нудные лекции по методике преподавания, на берегу пруда пил дешёвое приторное вино, сладким густым запахом резко контрастировавшее с букетом прелых рваных листьев, неравномерно устилавших увядшую раздавленную траву, подставляя лицо скудным лучам октябрьского мокрого солнца, под шёпот набегающих на гальку волн обсуждал волновавшие нас фильмы, расположившись на неизменной скамейке с подстеленной рекламной газетёнкой и жестяными водочными банками из придорожного ларька, да холодными вчерашними пирожками с капустой.
Пугала ли меня упомянутая утрата? Не то, чтобы пугала, скорее, чуточку расстраивала и вызывала горчащее чувство смутной досады, обусловленной бегом рыбы во мгле и непреложным убеждением, будто в потерянных днях скрыт непонятый и непринятый мною тогда смысл происходящего сейчас, столь необходимый мне; истина, обязанная объяснить и синхронизировать вереницу эпизодов, порою разворачивавшихся неспешно, а иногда нёсшихся галопом; фактически то, что привело меня в пункт, где я и нахожусь, оставшись в, практически, полном одиночестве. Но в каком конкретном временном блоке следует её искать? В каком из многочисленных кадров навсегда утраченного прошлого? В детстве, или позже, едва я стал вести, более–менее, самостоятельную жизнь? И не продолжается ли у определённого сорта людей юность до самой кончины, а они просто притворяются взрослыми, стремясь соответствовать меркам общества, в коем обитают, притворно вписываясь в него?
Вероятно…
Ведь дорога — не платочек…
03
«Дорогой друг, я теперь очень мало сплю. Во сне приходиться отвечать на вопросы, которых я стараюсь избегать, бодрствуя»
Маркиз де Норпуа «Письма»
Детство, да и вся моя последующая жизнь неразрывно связана с местностью, где я провёл свои первые семнадцать лет. И хотя потом я уехал в город, возвращался в родную деревушку редко и неохотно, но смог заново обрести её уже тогда, когда будущее утекало сквозь пальцы, а дни с каждым прожитым месяцем неслись стремительнее, напоминая реку, катящую меж заливных сочных лугов, важно нёсшую вперёд, в неведомое, отражающиеся в ней облака, набирающую на перекатах невероятную скорость, дробящуюся, рассыпающуюся отдельными струями, хлёстко бьющими по стопам путника. И качался в мёртвой воде звездопад… Открытие это, в некоторой степени, помогло мне вернуть то, чего я был лишён многие годы, чего не хватало, и к чему я бессознательно тянулся. Тянулся, высматривал, и не находил, ибо слишком поздно осознал, что в молодости человек так же одинок, как и в старости, несмотря на наличие рядом людей, называющих себя друзьями. «Я один. Всё тонет в фарисействе». Попытка преодолеть неизбывное одиночество в юности приводит к поискам любимой женщины, которой не страшно признаться в том, чем не поделишься с другими, рискуя обнаружить в её широко раскрытых глазах недоумение и непонимание; а на закате — к стремлению отыскать кого–то готового внимать тебе, и пусть, даже, элементарно, сделать вид, будто услышал твои откровения. Однако, по недоумённому пожатию плечами, по чуть дрогнувшим в сардонической улыбке уголкам плохо пробритых губ невольного собеседника, становится ясно: с возрастом ты не только не обрёл искомого, но и растерял найденное. И поэтому, остаётся лишь молча умирать. Не потому, что нечего сказать, а ведь, большинству тривиально нечего сказать, а просто оттого, что сказать некому. Некому из тех, кто в состоянии продегустировать шабли́ со льдом.
Порой я сомневаюсь, существуют ли они вообще.
04
«Полковник, если ваша галера продолжит и далее мотаться между виселицей и гильотиной, то вы, рано или поздно, либо примеряете петлю, либо останетесь без головы. Смените курс»
Маркиз де Норпуа. «Письма»
Деревня наша, Питерка, располагается по берегам широкого пруда, в начале беззаботных 80-х ещё не настолько погрязшего в тине, как сейчас. В пасмурный день траурный серый цвет глади водоёма контрастирует с праздничной сочной зеленью молодой травы. При отличной погоде рябь поблёскивает яркими, режущими зрение и поднимающими настроение бликами, навевающими мысли, что жизнь прекрасна и замечательна, и всё будет превосходно, коли природа так радуется, а иначе и быть не может.
В самом протяжённом месте от одного края озерца до другого расстояние равняется приблизительно 2–2,5 км. На противоположной его стороне различаются заросли, подходящие почти вплотную к осоке. Лес начинается прямиком за домишками, и относительно сух. Здесь после дождей земля редко превращается в непроходимую жижу, изрядно затрудняющую вылазки в чащу, в отличие от находящегося в низине, где Орфей родную тень зовёт.
Шоссе, ведущее в Питерку, пролегает вдоль Светловки, и рассекает селение на две части. Бо́льшая, не имеющая характерного названия, остаётся слева от неё, а вторая, справа, прижимающаяся к реке, именуется Горкой, ибо аккурат за мостом, построенным в середине прошлого столетия, а затем не единожды модернизированным, тракт спешит в гору и уносится в неведомые для того ребёнка, коим я, когда–то являлся, дали.
Бетонка, по которой туда–сюда с шелестом сновали стремительные, словно весенний ветер, легковушки, похожие на муравьёв, трескучие и юркие мотоциклы, запылённые и пахнущие мазутом, тарахтящие и плюющиеся дымом, трудяги трактора, неспешно спускалась в Питерку и медлительно, чуть надсаживаясь на подъёмах, покидала её в южном направлении. Иное — восточная трасса. Она стремилась под уклон вплоть до Беляевки, крохотного посёлка, жмущегося к Светловке, кромсающей его на несколько неровных кусков и неторопливо следовавшей далее, между покрытых соснами горных откосов, к Слудянке, селу бабушки и дедушки. К стыду своему, впервые я побывал в нём уже в солидном возрасте.
Севернее Светловка огибала деревеньку Черёмушки. В придорожном палаццо жила Дездемона, а за её околицей имелся брод через речку. Преодолеть его представлялось делом, хотя и реальным, но рискованным. Течение при глубине в 50—70 сантиметров на данном отрезке довольно сильное.
Двигаясь от Черёмушек, преодолевая мелководье по наезженной мягкой засасывающей жирной дороге, сразу попадаешь в разбитые лесовозами и трелёвочниками колеи, путающиеся в чащобе. Маршрут сквозь тайгу активно использовался в 50—60-е годы, а позднее оказался заброшен. Ко времени, что я принялся настырно исследовать просеки упомянутого кластера, он практически зарос, где–то гуще, где–то реже, оставив напоминанием о золотом веке прибрежные поскотины, и мне не удалось выяснить, куда вели тропы. Бродя наудачу, я неизменно в этом лабиринте утыкался в тупик. Советские топографические карты показывали, что дорожки не должны теряться посреди бурелома, добираясь до села Мокрого. Однако попытки пробиться к нему по крапиве, малине и шиповнику, рвущим одежду, обдирающим колючками лицо и руки, достигающим высоты моего роста, а то и превышающим его, вряд ли доставят путнику много удовольствия.
Заблудиться тут не страшно: с юга раскинулась сеть грунтовок, с запада бежит Светловка, и лишь к восходу простирается сплошная чаща, рябину поджигая красной кистью осени. Разумеется, зная сии нюансы, не сложно выбраться либо к автостраде, либо к Светловке. Впрочем, я, если вдуматься, чуток преувеличил. Неподготовленному человеку не очень–то легко протопать по валежнику и километр, отмахиваясь от самоубийственно пикирующих комаров, лезущей в глаза, под куртку, в уши, нос, мошки, постоянно спотыкаться о поваленные полугнилые мшистые скользкие стволы деревьев, старательно сражаться с дремучим папоротником, обливаясь потом, обходить всевластные кустарники, прыгать по кочкам на старых лесосеках, где вообще утрачивается всякая ориентация из–за победоносной мясистой поросли.
05
«Нам, почтальонам, голова не нужна. Нам крепкие ноги нужны. А ещё лучше — велосипед!»
И. И. Печкин. «В седле»
Все мы, — брат, я, наши приятели, проводили иногда на берегу целые дни, жарясь на разделочной доске палящего до одури и тошноты солнышка, ловя мелькающих перед глазами мушек и окунаясь в чуть зябкую негу серо–зеленоватой влаги. Конечно, мы не в одиночку балдёжничали на памятном откосе, пристроившемся за деревней, и вытянувшим к соснячку волглый язык мелкого песка с вкраплениями гальки. Ближе к жилью, у мостков валялись вверх днищем тяжёлые лодки с осыпающейся с бортов свернувшейся краской. Некоторые покачивались на поверхности, прикованные цепями к металлическим ржавым трубам, вбитым в землю. Обычно, дно таких посудин подтапливалось сочившейся в незримые щели речной водой с крупой песочка. Кое–кто из рыбаков, вычерпывал её небольшим помятым ведёрком, отцеплял своё утлое судёнышко, отгребал на нем подальше и маячил чёрной неразборчивой картонной фигуркой, наскоро вырезанной и воткнутой в застывающее стекло. Временами в реке было тесно от бултыхающихся, а спуск практически полностью усеивался разноцветными одеялами, красными и синими, жёлтыми и розовыми, брошенными прямо на облетевшие одуванчики, бархатную на ощупь мать-и-мачеху, жилистые подорожники, а на них, подрумяниваясь, лежали и сидели взрослые и дети. Многие не купались, но абрикосовое солнце щедро, без разбора ласкало собравшихся.
Чуть в стороне от загорающих, где глинистый крутояр, взбираясь на несколько метров, — высок и отвесен, склоняясь к волнам, касаясь их резной зеленью корявых ветвей, росли четыре берёзы. В совершенно безветренные вечерние часы дьявол облачался в прада, а они, словно в зеркале, отражались в глади пруда, и в отражении том до тонкостей различались узловатые буро–коричневые артритные веточки и узорчатые листочки, нависшие над оцепеневшей в безмолвии жизнью. Стаи мошек, образуя хищные облачка, замирали в воздухе, незаметно перемещаясь на фоне угасающей зари. От Светловки начинал подниматься едва видимый туман. Донимала жажда.

06
«Подвижные игры на природе позволяют ребёнку лучше понять самого себя и своих друзей»
Незнайка.
Вечерняя свежесть, надвигаясь, создавала впечатление, будто вода по мановению волшебных янтарных лучей светила, превратилась за день в парное молоко, привлекавшее, увы, не только людей, но и комаров, и прочих летающих кровососущих насекомых, сводящих на нет всё удовольствие погружения в неописуемый источник радости. Впрочем, мы очень редко задерживались у Светловки допоздна, и едва лишь спадало пекло, и приближались сумерки, наша компания, выползая на песок и, стараясь не попадать обнажёнными ступнями на поблёскивающие бутылочные стёкла, попадающиеся и в водоёме, и на берегу, вытрясала, смешно подпрыгивая со склонённой на бок головой, влагу из ушей, подбирала сандалии, одевалась и переходила к другим делам и заботам, коих у 12-летних подростков полным–полно. Нас ждали закоулки пыльных медленно темнеющих улиц, мрачные и таинственные аллеи школьного сада, где пацанва с удалым гиканьем и уханьем носилась, изображая казаков–разбойников, организовывала засады, пугая попавшихся в её сети приятелей и нечастых прохожих, возвращавшихся с последнего киносеанса. Ни один из беззаботно упивавшихся детством, не размышлял, чем его слово отзовётся, а закат, наполненный слоистой прохладой, напоённый ароматами уставшего остывающего луга никогда в жизни не вернётся в формат, в каком он неосознанно проживался в преддверии взросления. Однажды я подметил, — сколь бы мы ни усердствовали с тем же восторгом, что и накануне, воспроизвести знакомую игру среди тех же самых переулков, с этими же самыми участниками, ни единого разу подобное не осуществили. Получалось лучше, а чаще — хуже, ибо стремились мы к совершенству, случайно достигнутому вчера, и являвшемуся неповторимым. Подобно любому дню, часу, минуте. Мы покуда не знали прописных истин. И наполнялись летом, пытаясь загрузиться им до макушки, чтобы воспоминаний хватило на осень и зиму, когда можно будет пить их солнечными стаканчикам, словно прохладный бодрящий фруктовый сок в жару, перебарывая слякоть с низкими серыми тучами, и неуютный колючий холодный снег.
Помимо парка, любимым местом ребячьих забав был ещё и лог. В нём мы проводили большую часть безумно–радостных и немного странных игрищ. Лог — это глубокая балка с холмами и зарослями можжевельника на склонах, становившаяся на три месяца центром притяжения маленькой, но безграничной детской вселенной, где удобно скрываться в траве, за кочками, либо просто валяться, созерцая бездонное доброе шёлковое небо, перетирая меж пальцев сорванную на ходу тимофеевку, покусывая сладковатый неведомый стебелёк, совершенно не боясь отравиться. В ветреную погоду мы пускали здесь воздушных змеев, наматывая туго натянутую леску, рвущуюся ввысь и режущую руки, на предплечье, скрытое тканью тонкой рубашки, а затем, опасливо, воровато озираясь, неуклюже перелезали через двухметровые шатающиеся заборы, сколоченные из потемневших от дождя и солнца досок, с намерением вытащить парашютистов, упавших из поднебесья на кусты цветущего картофеля, из огородной темницы, коварно поработившей царство лета и каникул. Неважно, сокол или вихрь с облаков нам не давал мечтать на грани исступленья…
Дно широченного оврага рассекал пополам второй овражек, гораздо меньший, с задорно бурлящими в апреле и октябре дождевыми и снеговыми потоками, спешащими умчаться в пруд. Мутная каша несла в Светловку всякий мусор навроде пучков бурой тины, разлагающихся щепок, подхваченных ею по дороге, сломанных, пропитанных сыростью веток, гнилых тёмных листьев, и в придачу кораблики со спичками мачт, весьма неумело выстроганные из кусков сосновой коры затупившимся ножом с круглой деревянной ручкой, расколовшейся у кольца.
В крейсера и броненосцы преображались тускло мерцающие бортами консервные банки, подобранные на ближайшей куче хлама. По этим целям, косо державшимся на стремнине, мы открывали беспорядочную стрельбу грязными, обжигающими холодом ладони, шершавыми вёрткими камнями. Не ограничиваясь мелочёвкой, иногда топили залпами и обречённо помятые тазы с отбитой эмалью, и дырявые, отслужившие век кастрюли, притащенные из дома, а зачастую и раскопанные на упомянутых выше свалках, окружённых сухостоем прошлогодней крапивы.
.

07
«Весна раскрыла нам объятия, а мы взалкали её берёзового сока»
Мальвина.
Большая талая мутная вода конца марта, вырывавшаяся из-подо льда, бурлившая и звеневшая под аккомпанемент оголтелого пения обезумевших от ультрафиолета и запахов обнажившейся земли, шнырявших туда–сюда воробьёв, предвещала каникулы, сотни разъединяющих вёрст, а оттепель позволяла скинуть опротивевшие за зиму шубы, валенки и шапки–ушанки. Мы с томительной надеждой вслушивались в усиливающуюся капель, с наслаждением окунались в пьянящие лучезарные ванны апреля и засыпали в сумерках соловьиного предлетья, надышавшись ароматов цветущих яблонь, черёмух и сиреней. По дорожке детства нас вела необъяснимая радость, пробивавшаяся через закономерные мартовские и апрельские заморозки с метелями, снегопадами, низкими тучами, не дающими увидеть солнце, с ночными температурами в минус двадцать. Мы знали: впереди — беззаботная летняя нега, тонкая трость с борзой, сиеста продолжительностью почти в три месяца, и до сорванных связок умоляли, чтобы она, где–то споткнувшаяся и присевшая в сугроб передохнуть, поскорее вскочила, отряхнулась и направилась прямиком к нам.
И вот вожделенное время, нисколько не смущавшееся доставленными нам мучениями в ожидании его появления, наступало. Хотя…. Постойте, вначале шествовали майские праздники. Да, поначалу — Первомай, а после и 9-е. Не скажу, сколько из них омрачалось холодом и дождями, кстати, обычными в наших местах; в памяти они сохранились со сверкающими тёплыми восходами, с безоблачными просторными небесами и поздними рубиновыми одиночными облачками, предсказывающими завтра очередной бесконечный погожий день. И до чего ж не хотелось затем, когда выходные внезапно заканчивались, снова подниматься с рассветом и тащиться на осточертевшие уроки. Какая учёба, если в крови клокотало неперебродившее вино свободы и молодости, если нас подстерегали редкость встреч закатными часами, неведомые открытия и новые игры, непрочитанные книги и непросмотренные фильмы, в которых пятнадцатилетний капитан сражался с негодяем Негоро, а обаятельный мерзавец Сильвер в финале замирал на камбузе с отравленной стрелой в спине под крики белого попугая. «Пиастррры! Пиастррры!» Это и многое–многое другое становилось гораздо важнее алгебры и геометрии, вызывавших у меня ужас, и даже сейчас, по прошествии стольких лет, посещающих меня в ночных кошмарах; существеннее биологии и географии, ибо на горизонте маячила не книжная география, а вполне реальная, — география реки, поля и леса. И значительнее химии… Химии чувств, прямого, взыскательного взгляда, чаяний и разочарований, не сравнимой с пресностью органической, неорганической, не имевшей для нас практической ценности.
Оттого портфели с обрыдшими учебниками и дневником, потрёпанные страницы коего покрывали преимущественно не домашние задания, а замечания красной пастой с жалобами на невыполненные, пропущенные занятия, и отвратительную дисциплину, выражающуюся в полном отсутствии при частичном присутствии, в невосприятии излагаемого учителями материала и, подчас, в абсолютно бессмысленно–мечтательном взоре школяра, чудились нам гирями, препятствующими перемещению в иное измерение.
Но полагалось соблюсти ритуал свидания с летом, отчего и требовалось вести себя именно так, как принято у взрослых, именно такое поведение благосклонно принималось богиней природы, под чей, увитый хмелем алтарь иногда прятались свёрнутые, смятые в комок листики, вырванные из тетрадей. На них твёрдой дланью и возмущённым почерком выводились оценки, скрываемые от родителей, дабы они не разочаровывались в своих отпрысках и не применяли в воспитательных целях ремень.
Окружающее казалось опостылевшим и надоевшим, мечталось о нечитанных стихах, разбросанных в пыли по магазинам, об утре, не понуждающем вскакивать ни свет, ни заря, о солнечной погоде, ласковом ветре, друзьях, заскакивающих в гости, и застающих меня в готовности бежать купаться, либо напротив, чинно вышагивать с длинной удочкой, мешочком с хлебом и банкой красноватых шевелящихся червей, накопанных с помощью ржавых вил. А недели, словно назло, тянулись еле–еле, ковыляя на последний звонок подстреленным бойцом.
В юности поспешность не ощущается свойством их характера.
08
«Школа позволяет индивидууму обрести зачатки личностного роста, не ущемляя, при этом, его естественного состояния»
ОБра́йен. «Школьный дневник»
Наконец наступал долгожданный час, и директор на торжественной линейке, к неподдельному восторгу присутствующих, объявлял: учебный год окончен. Схватив дневники с итоговыми оценками и, сдав библиотечные книги, мы с воплями неслись по домам, рассчитывая с героическим пылом и испепеляемым сердцем через непродолжительное время встретиться вновь.
Изначально библиотека, перемещённая вскоре в другое помещение и освободившая место для «Пионерской», размещалась рядом с вестибюлем. Входные двери, даже неискушённому взгляду казались массивными, высоченными и неподъёмными; особенно трудно открывались они зимой. Ради сохранения тепла их укрепляли упругой пружиной, одним концом цепляемой за стену, а вторым — за створку, и стоило чуток замешкаться на пороге, раззява получал ощутимый тычок в спину, придававший ему ускорение, толкавший к следующей ручке.
С улицы мы попадали не сразу в коридоры, а пока лишь в своеобразный тамбур, с не менее тяжёлыми и основательными перегородками, но салатного цвета. Вот они–то и вели в холл, где ученикам предстояло, ощутив приливающую к щекам кровь, сменить чёботы, расшнуровав чистые ботинки из пакетов или специальных мешочков, сшитых заботливыми мамами и бабушками. Возле читальни, а затем — «Пионерской комнаты», ребята переобувались, прислоняясь к прохладной колонне, стараясь не касаться носками половиц с мокрыми мутными отпечатками башмаков, валенок, и проходили мимо нескольких дежурных, важно надзирающих за рекреациями, и отличавшихся от остальных учащихся красными повязками, и нарочито выпячиваемым нагловатым поведением. Им ставилась задача не допустить проникновения тех, у кого отсутствовала пресловутая сменная обувь. Вдобавок, в начале 80-х они проверяли ещё и опрятность шеи, ушей воспитанников, что нынче кажется совсем уж диким. Каждый входящий, променявший честолюбивый сон на сруб, дабы засвидетельствовать белизну воротничка и ушных раковин, снимал шапку, слегка наклонял голову набок, поворачивал её из стороны в сторону. Зачастую перед горе контролёрами выстраивалась целая очередь, осматриваемая солидно, без спешки. Если, по мнению стражей внутреннего порядка, аккуратность школяра соответствовала норме, счастливчик чесал в раздевалку.
В ту эпоху камердинеры в школе не предусматривались, и мы самостоятельно спускались в подвал, предназначенный в случае войны под бомбоубежище, следовали в отсек, предоставленный нашему классу, вешали одёжку на металлические крючки, приваренные к балке, вертевшейся вправо и влево. Чуть позднее блюстители дисциплины появились и здесь, и новый пост мгновенно завоевал славу блатного уголка. Действительно, невзирая на запах уксуса, краски и пота, подобная точка зрения являлась обоснованной, ведь дежурство наверху требовало выполнения маломальских конкретных действий, к примеру — хождения по этажам, выявление нарушителей, прогульщиков, курильщиков т.д., а в гардеробе появлялся шанс расслабиться, приникнуть к горячей батарее, что крайне актуально в декабре и январе, ничего более не предпринимая, а то и вовсе — поигрывая в картишки. Скрытно, разумеется. Всполошено пряча в нагрудный карман пиджака, при приближении инспектирующей учительницы, чьи цокающие каблучки, слышались всё громче, по мере того, как она отсчитывала ступени, заигранную, замыленную с изогнутыми обтрепавшимися краями, колоду. Отбывшие внизу, в компании таких же обалдуев, положенное по графику, отправляясь на урок, дверь закрывали, и это совершенно естественно, однако очень уж в затруднительное положение попадали не успевшие по различным причинам на перемене взять свои наряды. Забрать их в урочное время не представлялось возможным, и оставалось целых 45 минут ждать, либо шлёпать в канцелярию и, плачась секретарю, пытаться выцыганить ключики. Мой дом располагался в двух шагах, оттого, даже, пусть одёжка и находилась под замком, я вспугнутым зайцем скакал до хаты, и сердце билось тревожнее и веселее. Перекусывал книжным радиобутербродом и чаем, а затем возвращался. Сытым и довольным. Зима не останавливала, ежели, конечно, не свирепствовали запредельные холода, ибо, хочешь–не хочешь, при подобной пробежке имелся некоторый риск ознобить уши, подхватить ангину, воспаление лёгких.
Школа наша располагала не только передним, но и пожарным, вторым входом. Им пользовались эпизодически, и в том, как его открывали и запирали, не прослеживалось, на первый взгляд, ни малейшей логики. В реальности ситуация определялась погодой. При многодневных дождях и воцарившейся распутице со двора учащихся поджидали дополнительные баки с водой для мытья сапог. Вот тогда народ и валил туда. Поутру гадали, куда направляться, и обычно ребячьи ручейки, путаясь в листве прозрачным циферблатом, стекались к парадным, дёрнувшись, разворачивались и, бурля от недовольства, топали к запасным. Чтобы пробраться к ним, следовало обогнуть здание, выйти на прилегающую к нему спортивную площадку.
Порядка в гардеробе, несмотря на наличие там дежурных, было маловато, и иногда, после пятого или шестого урока, когда мы спускались за шмотками, обнаруживали их сорванными с крючка, брошенными на пол вперемешку с обувью. Приходилось ползать на коленках и выбирать из кучи собственные башмаки, пальто с пыльными желтоватыми следами ребристых подошв на боку. Описанное случалось не часто, изредка, но случалось, и достойно упоминания.
Целым приключением являлось путешествие по раздевалке при выключенном неведомым бармалеем электричестве. В подвале оказывалось настолько темно, что мрак, вязкий, точь–в–точь, — кисель, вполне получилось бы хлебать ложкой. Шарашились, поскальзываясь на выцветших клочках помятой печали, в чернильной резиновой жиже, медленно, на ощупь. Ведь недостаточно найти положенный отсек, в потёмках требовалось разыскать нужное, а не прихватить по ошибке чужое. Подчас в рукотворной ночи шутники с криком выскакивали в коридорчик между переборками, и стены вибрировали от пронзительных девчоночьих взвизгов.
Пару раз из кромешной тьмы я выносил незнакомые вещи и, лишь очутившись на свету, спохватывался, поневоле нырял в пасть дракона снова, и нащупывал родные пожитки, проклиная себя за невнимательность, мысленно чертыхаясь. Позднее я, наученный горьким опытом, стал брать с собой спички, коими освещал поиски и дорогу из лабиринта детских пугалок.
Минотавр, широким жестом запахивающий шинель Адмиралтейства, издревле боялся огня, а мы, ещё не зная об этом наверняка, действовали на удачу, интуитивно.
09
«Любите ли вы книги так, как люблю их я?»
Брандмейстер Битти. «Проблемы современной литературы»
Мы не успевали вовремя в раздевалку, задерживаясь средь оплывших свечей и вечерних молитв в библиотеке, скоро ставшей для некоторых настоящим храмом. Даже её обстановка воспринималась нами с восхищением: по–особому лежало на столах чтиво, сданное другими детьми, его ещё не успели отсортировать и вернуть на место; романтичными виделись серые металлические этажерки; портреты литераторов на стенах; да и сам воздух словно пропитался дремучей мудростью веков, и всё вместе взятое не позволяло шуметь. Громко говорить, смеяться не получалось, что–то мешало, настраивая на серьёзный лад.
Нас приглашали к отдельному стеллажу с учебниками сообразно возрасту: «Какой класс? Пятый? Сюда проходите, мальчики. Ваши полочки — вторая и третья». Публикации, предназначенные старшим, нам не выдавали, отчего мы иногда незаметно проскальзывали к соседним секциям и листали то, что читать нам было пока рановато. Запретное манило, но ничего строго секретного и тайного в тех повестях не писалось, их нам не давали оттого, что по истории многое предстояло изучать лишь в следующем году. Кстати, с пособиями по прочим предметам дело обстояло приблизительно также.
Помню замечательную подборку «Библиотеки Всемирной литературы». Гордые красавцы в суперобложках и с цветными иллюстрациями, с тусклой планеты сброшенные, размещались под потолком, куда мы не могли дотянуться в силу малого роста. По–моему, к ним никто и никогда не прикасался, подобное заключение я вывел, добравшись однажды до увесистых толстых кирпичиков. Листы большей частью оказались не разрезанными, намекая: спросом, данный автор и издание, не пользуется. И пустые учётные карточки, гнездившиеся в специальных приклеенных к форзацу кармашках из шероховатой жёлтой бумаги, заполняемые служителем при выдаче произведения на руки, подтверждали сделанный вывод. Забытые романы потихоньку умирают; вот и упомянутые средневековые фолианты, когда я брал их, казались холодными и неприступными, болеющими тоской. Наверное, давным–давно, они мечтали преподносить людям радость своего прочтения, но по нелепому недоразумению очутились раковинами без жемчужин в ряду парий и, погрузившись в сонное оцепенение, пылились у ламп, смиренно дожидаясь часа списания. Напротив, книги замызганные до дыр, — необычайно дружелюбны. Жаль, конечно, в них зачастую не хватало страниц, но ведь это означало только некую жертвенность, отдачу себя человеку. Их ремонтировали, оперировали, бинтовали, лечили, подклеивали, переплетали, и они обретали новую молодость.
Сейчас изящная словесность, прежде всего традиционная, в бумажном обличье, лишена сакральной сущности, а ранее именно она заменяла нам икону, а писатели и их герои — святых и апостолов. Нас целенаправленно приучали любить стихи и прозу с первоклашек, водя на экскурсии в читальные залы, организуя работу клуба книголюбов, даря сборники на дни рождения, в награду за хорошую учёбу, особенно ценя, если учащийся извлекал из прочитанного мораль, совершал небольшое открытие и делился им с остальными. Поднимите меня на смех, не стесняйтесь, но мы верили печатному слову, старались походить на положительных персонажей классики, учились доброте, искренности, милосердию. Мы полагали, будто сможем, как дедушки и бабушки, отстоять социалистическое государство от нашествия любого коварного врага, пусть и ценой собственной жизни. И в страшном ночном кошмаре не представляли, что участь нас и нашей Родины, от чьего имени немного погодя из омута злого и вязкого с экранов телевизоров начнут вещать кровавые клоуны и оборотни, уже исчислена, взвешена и определена. И вскоре каждый либо превратится в изменника, либо одиноко сгинет в борьбе за кусок хлеба, не выдержав неравную схватку. Кто–то умрёт от воспаления лёгких, ослабленный водкой и наркотиками; кто–то в приступе белой горячки залезет в петлю; кто–то, решив ударно отпраздновать собственный день рождения, закончит его, истекая кровью в покорёженном автомобиле, врезавшемся в бетонный столб. Конечно, не всех ожидала столь печальная доля, большинство выкарабкалось, сохранив достоинство, приспособившись к бездумно воспеваемым «переменам», определённая категория — весьма неплохо. Но никуда не делись и отрёкшиеся от детства и юности, обернувшиеся, тоненький бисквит ломая, в самовлюблённых, меркантильных лицемерных иудушек, эгоистов, измеряющих ценность человека лишь количеством денежных знаков на банковском счёте, крутостью должности или наличием престижного авто.
С книгами я и мои друзья: Банан, Гоша, Панчо, Ложкин, не расставались буквально ни на минуту. Помимо школьной библиотеки, мы довольно рано записались в сельскую детскую, и к 15–16 годам, прошерстив её вдоль и поперёк, утратили к ней интерес. Часами я просиживал, поглощая захватывающее повествование, обедал и ужинал, уткнувшись в строчки, и даже, случалось, укрывался ночью под одеялом с фонариком и увлекательной повестью пока мгновениями стекала муть узора зимнего.
В детской всеобщее восхищение вызывал читальный зал, предназначенный для юных посетителей, в свободное время готовивших доклады и сообщения на заданные темы. Несколько крепких столов, у каждого два простых деревянных стула, иногда предательски поскрипывающих в тиши зала, и металлические полки, заставленные журналами, заваленные газетами. Наиболее ценимая литература хранилась в комнате директора, это относится к различным многотомным изданиям, и на дом они, естественно, не выдавались. Необычайно популярным являлось собрание сочинений Александра Дюма-отца в красной обложке. Мы считали везунчиками тех, кому удавалось совладать с эпопеей о трёх мушкетёрах, трилогией о Генрихе Наваррском и Шико, и «Графом Монте-Кристо». Романы не пугали размерами, заполучить на недельку эти шедевры оставалось мечтой любого из нашей компании.
Ещё одним алмазом, с гранями отточенными и мелкими, в начальственном кабинете был ряд с потускневшими надписями на серых корешках: «Жюль Верн». Отдельные его творения лежали и в общем доступе, а раритетные имелись только в подписке. Много чего пряталось за стеклянной дверцей шкафа: Гюго, Флобер, Вальтер Скотт, Конан–Дойл. Правда, они интересовали менее. Хотя, пожалуй, Конан–Дойл — да, его рассказами о Холмсе зачитывались, сравнивая с известным советским фильмом, но «Белый отряд» не вызвал бурных восторгов, а ведь автор позиционировал его самым лучшим своим произведением. Признаться, данный труд абсолютно не подходит подросткам, и далеко не всякий взрослый его осилит.
10
«Музыка — это своеобразный язык циничного народа, коим являются музыканты»
В. А. Данилов, альтист.
Чуть далее, за заветной библиотекой, направо по коридору, располагался кабинет музыки. С данным учебным предметом у меня складывались странные, труднообъяснимые отношения. Большинство моих соучеников на дух не переносили классику, чего нельзя сказать обо мне. Тяга к её вещей печали и тихой свободе у меня проявлялась на уровне инстинкта, иначе я не в состоянии это объяснить, дома у нас не имелось пластинок с симфоническими произведениями, родители предпочитали ВИА, популярную эстраду. Меня подобные песенки никогда особо не интересовали, тянуло именно к великим, грандиозным мелодиям. Бах, Бетховен, Моцарт… Забавно, любовь к их концертам, сонатам и фугам зародилась на уроках. К сожалению, упомянутая дисциплина велась у нас крайне нерегулярно. Я впоследствии сильно печалился по поводу неумения играть на фортепиано, но в условиях совхоза выучиться чему–то похожему, практически неосуществимо. В мегаполисе гораздо проще, там не требуется поливать огород в летнее пекло, обливаясь потом таскать воду с колонки или из старого колодца, и не два ведра, а сорок, наполняя ванны, бочки, ведь поливки ждали клубника, помидоры, огурцы, капуста, смородина, лук, морковь. А уничтожение сорняков? А осень в полусвете стёкол? А посадка и уборка картошки? А муторное бесконечное собирание личинок колорадских жуков, усыпавших картофельные кусты, спелыми рубиновыми ягодами?
Городской ребятне зимой не нужно, плывя по олифе калиток, регулярно чистить двор от выпавшего за сутки снега, вывозя его в плетёном коробке саней за ворота, к дороге, колоть берёзовые дрова, частенько с проклятиями извлекая из полена застрявший у сучка топор. На бытовые хлопоты уходит масса времени. Вот и получается, при необходимости ежевечерне махать лопатой, метлой или колуном, досуга на гаммы, сольфеджио и полонезы не остаётся. Вдобавок приходится часами просиживать за головоломным домашним заданием. Барские, бесполезные в хозяйстве навыки, считаются в селе придурью и баловством.
Совершенно другое дело — умение «жарить» на баяне, аккордеоне, гармошке, качаясь на простой деревянной качели тёмных елей… Оно неизменно пользуется спросом и уважением, «какая ж свадьба без баяна», вкупе с днями рождения, похоронами, юбилеями, праздниками и прочими посиделками. Гармониста почитают, целуют в небритую щёчку, угощают сигареткой, ему протягивают табакерку, поят допьяна и кормят досыта.
«У меня аппетит — пока пуговка не отлетит! Давай, хозяйка, бери побольше, клади поближе! Рюмку? Не, дочка, я к стакану привык!» — говаривал дед Николай, известный в Питерке виртуоз хохмы, обладавшими уникальными трёхрядками ручной работы, лежащими у него в комнате на антресолях в специальных сундучках с малиновой сафьяновой подкладкой и с замочками, постоянно приглашаемый на перечисленные выше мероприятия, ежели у него осведомлялись, не изволит ли он откушать. Действительно, худым я его не припомню; после застолья, благодаря выпитому и съеденному, он с трудом поднимался со стула и, прихрамывая на больную ногу, прокладывал себе путь к выходу, тесня брюшком танцующих.
Двадцать первого, к ночи понедельника он подарил на десятилетие одному из нас стильный, компактный, блестевший белыми и чёрными гладкими клавишами, и кнопками, аккордеончик в кожаном, пахнущем фабричным клеем, ящичке. Невероятно жаль, он сох без пользы в шифоньере среди стёганых одеял, летних покрывал, гостевых подушек и запасных матрацев, а научиться лабать на нём, было вполне реально. Братец мой, Владлен, на несколько месяцев записался в Доме Пионеров в музыкальный кружок. Руководил им дядя Витя Салышев, позднее под луной спьяну подпаливший назло жене собственную баньку и отправившийся, раскаявшимся, отбывать незначительный срок в места северные, хотя и не слишком отдалённые, откуда вернулся убеждённым трезвенником. Разменяв сороковник, он воспитывал дочь Лену, на пару годков старше меня, девчонку достаточно вредную, стервозную и отчаянную, сорви голову. Параллельно с преподаванием, он возглавлял хоровой фольклорный коллектив, состоящий из голосистых пенсионеров, защищавший в конкурсах районного масштаба честь деревенского центра культуры.
В означенном хоре пела баба Аня, хозяйничавшая в небольшой избушке на Почтовской, но с гибелью папы Васи, перебравшаяся к нам, и помогавшая матушке справляться с малолетними вездесущими бандитами, непрерывно норовящими сжечь, сломать, утопить, не задумываясь, халатность это или лень, в кадке с дождевой водой полезную в быту вещь. Почти весь репертуар хора Анна Ивановна хранила в старинной не разлинованной синей тетрадке, и разбирала каракули исключительно сама. Почерк её, не просто ужасный, а абсолютно неразборчивый, напоминал шумерскую клинопись. В юности, на изломе эпох о грамоте ей думалось менее всего. Революция, гражданская война… В итоге — 3 класса образования. Единственного её сына, Мишу, в пятилетнем возрасте прибрал то ли дифтерит, то ли тиф. Первый муж бабушки Анны глупо погиб в начале 70-х, о чём речь пойдёт ниже, а второй, седобородый, молчаливый и угрюмый крепкий кержак, не гнушался клюкнуть водочки на семейных торжествах, и ходил оттого с красным, словно наливное яблоко, лицом. Имя его кануло в Лету, претворив трагедию жизни в грёзофарс…
И вот, брату невесть где достали инструмент, кажется, взяли напрокат у знакомых, и Владлен к изумлению родни довольно успешно и бодренько начал осваивать клавиши и пиликать, подбирая по газетным публикациям нот, обожаемую мамой песню — «Лаванду». Увы, продолжалось обучение не долго. Не очень удобно оказалось мотаться туда-сюда с тяжеленым футляром. Сперва Влад, кряхтя, возил его на санках, а с наступлением весны интерес к музицированию у братишки пропал столь же внезапно, сколь и появился. И более никакие секции он не посещал, зато, когда заметно подрос, плодоносный, златотрубный, ржаной, увлёкся русским народным видом спорта, ставшим вскоре культовым, настолько, что отдались ему многие, а некоторые и вовсе выскочили в чемпионы. Навечно…
У нас сей спорт именовался «литроболом».
Русская национальная забава роковых 90-х годов.
20 безумного века.
11
«Всё началось с моего увлечения дагерротипом»
Джонни Фёст.
Почему–то не стали ни я, ни Владлен, записываться в фотокружок, хотя фотоаппарат мы приобрели и снимали достаточно много и охотно, не жалея денег на порошки, ванночки с пинцетами, удлинители и прочее оборудование. Весь набор появился в нашем доме, не ранее, чем мне исполнилось лет 15—16, а до того я клепал фотки с Веней, у него в бане. Занятие сие не любит спешки, поэтому мы только к рассвету выключали красный фонарь и заваливались спать. Печатью создание карточек не ограничивалось, они ещё глянцевались, чем Вениамин занимался в одиночку. После переезда Ложкиных в новостройки, короткими летними ночами мы с Вениамином, беседуя с небом на ты, и строго ударяя по суровым щитам, высаживали десант у его деда, Матвея Лукича, и оккупировали ванную до первых лучей восходящего солнца.
Сам я стряс деньгу с матери, и мало-помалу раздельно прикупил кюветы, зажимы, фотоувеличитель. Перечисленный инструментарий, пока не заимствовался, хранился в углу веранды. При надобности мы перетаскивали его в баньку, стоявшую во дворе возле гаража, занавешивали плотной рубашкой окно и творили. Творения отличались размытостью, бледностью, нечёткостью, сутулились раненым цезарем. У нас напрочь отсутствовало малейшее представление об экспозиции, выдержке, диафрагме; щёлкали на глазок и на авось. Да и аппарату, бюджетной «Смене 8М», до идеала было далеко. Мы завидовали Панчо, его отец владел «ФЭДом», техникой, по советским меркам, первостатейной и удобной. Если ей уметь пользоваться. Качество съёмки не в последнюю очередь зависело от используемой фотоплёнки. Светочувствительная и цветная стоили дороговато и, всезнайки баяли, будто к ним нужны особые химикаты. Оттого обходились свемовскими, чёрно–белыми, на 65 и 64. Оценивались они в сущие гроши, но возни с ними, болотцами с позолотцами, отражающими бездонные омуты, хватало.
В основательно затемнённом помещении, держа руки в светонепроницаемом полотешке либо тулупе, вслепую распаковывали рулончик, сняв с него защитную чёрную бумажку, изнутри покрытую фольгой, и перематывали его на кассету. Правда, это весьма простое, детское задание, с ним справлялись и новички.
А вот затем начинались муки мученические. Отснятое полагалось упрятать в специальный круглый бачок, вверху которого имелось отверстие для залива реактивов. Естественно, разматывать спираль целлулоида рядами требовалось без доступа света, на ощупь, тщательно следя, чтобы один слой не касался соседнего, в противном случае картинки накладывались друг на друга. Поместив материал внутрь, туда минут на шесть заливали проявитель определённой температуры. По истечении срока, он сливался и его место занимал закрепитель. Чуть погодя промывали плёнку тёплой водой и сушили, подвесив на прищепки. Иногда процесс сбоил, негативы смотрелись отвратительно, и было глупо укладывать их на рамку увеличителя, на жизнь, на торг, на рынок, ибо ничего стоящего однозначно не вышло б.
Бумага тоже закупалась дешёвенькая. Не гнушались «Бромпортретом», «Унибромом», «Берёзкой», «Бромэкспрессом». К сожалению, лишь единицы из тех фотографий дотянули до сегодняшних дней. Некоторые выжившие по неизвестной мне причине пожелтели, вероятно, перебарщивали с ингредиентами, искажающими нежные снопы сияний.
Изначально процедура печати воспринималась нами неким священнодействием. С течением времени попривыкли, и не ощущали прежнего непередаваемого, до мурашек по спине, трепета. Сперва почти верили в магию, в волшебство, к чему располагали складывающиеся медленно, постепенно, фигурки на листе, утопленном в растворе. Хотелось прыгать, хлопать в ладоши и радостно кричать, словно кот Матроскин: «Ура, заработало!» Но, сдерживались… Сдерживались, а позже и вообще воспринимали это разумеющимся, и поторапливали: «Быстрее, ну быстрее!» И чудо пропало, всё заросло плесенью обыденности и не получалось добротно, как поначалу. Наверное, потому, что исчезла частичка души, капля восторженности.
Одним из освоенных способов изготовления карточек, неожиданно оказалось копирование с полноразмерных негативов. Они фронтальной стороной укладывались на фотобумагу, а сверху прижимались стеклом, желательно чистым, иначе пятна, крошки и точки вылезали на лицах серыми мусорными артефактами. Над «сэндвичем» мигали лампой, и следовала обычная проявка. На бумаге проступал хиловатый рисунок, и не в виде отражения, а привычный глазу. Не знаю, кто изобрёл данную методику, но он выказал дьявольскую смекалку, теперь можно было размножить, что угодно. Операция, конечно, затягивалась, ведь делали реплику с оригинала, просушивали её, и только потом варганили копии. Копировали взявшиеся ниоткуда в предостаточном количестве портреты обвешенного гранатами Шварцнеггера, исцарапанного в стычках с многочисленными врагами Брюса Ли, страшилищ фильмов ужасов, Чака Норриса и подобную белиберду, толстую, низкую и в сарафане… Особо продвинутые товарищи, азартно овладевающие азами продаж, торговали дубликатами или смастыренными наскоро мутноватыми снимками. По рублю — штука. А карликовыми, формата 9*11, — по 50 копеек.
12
«Мёртвым не всё равно, если речь идёт о той памяти, что они о себе оставляют. Каждому хочется, чтобы после смерти его запомнили не таким, каким он был, а таким, каким мечтал быть»
Доктор Франкенштейн.
Справа от библиотеки располагался кабинет арифметики…. Тпруууу, кони привередливые! Не гоните, судари мои! Тут безотлагательно следует внести ясность, упомянув, что алгебру и геометрию я ненавидел всеми фибрами души и панически боялся, аж похлеще высоты. Великие математики, от Пифагора до Лобачевского, строго взирали с портретов на мои мучения, но исправить ничего не могли. Свою роль сыграла и прогрессирующая миопия. Я не видел полностью материала, при объяснении выводимого преподавателем на доске, хотя и занимал первую парту. Поэтому, продвигаясь тропой дремучей и лесной, не разумел в полном объёме, о чём шла речь. Задания контрольных работ, и те я шёпотом, обезьяньими ужимками и подмигиваниями выпытывал у соседа, а драгоценные минуты уходили. Оставалось — списывать у Панчо. Благо, он корпел над самостоятельными позади меня, а иногда и рядом, и в теоремах, вычислениях, молях, тангенсах, котангенсах и прочей тёмной непролазной чаще разбирался, дай Бог каждому. Кстати, зрение у Панчо тоже ушло в минус от беспрерывного чтения, ему также прописали очки.
Невероятно, после экзаменов мне случайно попалось в руки пособие поступающим в вузы, «Алгебра и начала анализа», 1976 года издания, уже с пожелтелыми страницами и потрёпанной обложкой. И вот я решил, маясь перед вёдреным закатом бездельем, поразмяться, полистать учебник, потренироваться. Сколь велико было моё удивление, когда я обнаружил, что не только усваиваю излагаемое в книге, но и в состоянии решать задачи, предназначенные контролировать усвоение формул.
Стёклышки я заработал ещё в младшей школе. Мама возила меня с направлением местного эскулапа в город, в детскую клинику, на приём к офтальмологу. Сельский доктор не знала толком, что предпринять дальше, почему–то сомневалась в диагнозе и нуждалась в его подтверждении. В результате январской поездки в Тачанск меня поставили на учёт и даже обронили фразу об операции. И, естественно, выдали рецепт на очки, сразу нами и заказанные.
Мне поневоле приходилось пользоваться ими на уроках, ведь руководитель нашего 3-го класса, Наина Феоктистовна, отправляла меня с занятий домой, за футляром с окулярами, ежели я их по рассеянности оставлял на телевизоре, либо не брал вполне осознанно. Сопротивлялся я отчаянно, и там, где отыскивал лазейку, обходился без них, ждал вестей от жаворонка, ловил тучи на бегу. Для подобного поведения имелись веские основания. Лежащие на поверхности — застенчивость, робость, боязнь выделяться и казаться ущербным.
Вдобавок на втором ряду сидела девочка, к которой я регулярно оборачивался, стараясь перехватить взгляд её серых глаз под длинными ресничками. Она безнадёжно мне нравилась, и я стыдился выглядеть слабеньким слепышом. В неё, в девчушку с косичками, с чуть вздёрнутым веснушчатым носиком, странной фамилией — Мильсон и студёным, зябким именем — Снежана, в скромницу и отличницу, постепенно выросшую в признанную красавицу и секс-символ параллели, я влюбился в десять лет. Нет, я тогда не понимал, конечно, своих чувств, не устремлялся навстречу призракам ночи в златотканые сны сентября… Но в присутствии Снежаны сердце у меня колотилось быстрее, кружилась голова, мерещилось, будто я способен летать, мечталось: если б нам подружиться, то…. Размышления на данную тему доводили до слёз, бесценная Снежка абсолютно не обращала не меня внимания. Со временем я осознал, что к чему, но легче не стало, а попыток подойти, заговорить не предпринимал из–за дурацкого малодушия и патологической скромности. Я краснел, волновался, судорожно заикался, слова застревали в горле, я давился согласными. По той же причине пересказать выученное стихотворение, ответить урок по биологии, географии, истории зачастую являлось для меня невыполнимой миссией. Я ежесекундно запинался, вызывая общее хихиканье.
Всё, на что меня хватало, — не на сверкающей эстраде писать записки с восторженными признаниями, стихами, и тайком вкладывать их в карман пальто или курточки Снежаны, прокравшись переменой в раздевалку. А утром, замирая от ужаса и восторга, следить за её реакцией. Чего я ожидал, на какую реакцию рассчитывал? Паззл не складывался, она по–прежнему равнодушно отворачивалась, а я мучился и изводил себя напрасными, безосновательными упованиями.
В последний раз мы виделись на шумном, пьяном выпускном, и у меня теплилась надежда на некое чудо. Разумеется, волшебства не случилось. Вновь с провинциальным пессимизмом не примерил я плащ волшебника… С того дня мы не встречались. Снежа не вышла замуж, но перешагнув сорокалетний рубеж, родила дочь…. Закончив училище, она устроилась фельдшером в больницу Питерки, куда я не единожды обращался. И однажды на остановке автобуса Владлен, провожая меня в Тачанск, слегка присвистнул:
— Смотри–ка! Вон твоя одноклассница. Не узнаёшь? Чума любви в накрашенных бровях…
И указал на стоящий через дорогу вишнёвый «жигуль», и женщину за рулём.
— Кто это? — переспросил я, подслеповато щурясь, приподнимая очёчки, различая предательски неясные расплывающиеся очертания.
— Мильсон! Снежана! — с нажимом упрекнул он, будучи в курсе, с каким пиететом и нежностью я в юности относился к даме в «Жигулях». И, закурив, с укоряющей издёвочкой подколол:
— Эх ты, герой-любовник! Жинтыльмен неудачи!
Я промолчал, протёр глаза, отвернулся.
Ладно, подчинимся воле всевышнего, под злодейски хрипящий граммофон склоним покорно выю, — значит, не судьба. В ином случае, её и мои тропинки обязательно бы сошлись. Зато у меня в шкафу, в синей папке, меж редких подростковых снимков, лежит фотка нашего 11-го класса, вручённая вместе с аттестатом. На ней фотограф, монтируя коллаж, разместил нас рядом.
Меня и Снежку.
Face to face…
Я считал сей факт неким знаком.
Ребячество… Глупо, конечно. Без малейшего повода…
Вообще–то, я определённо напутал, ибо прощальная встреча с Мильсон произошла не на выпускном, а следующим утром. Мне не забыть её белые запястья, аккуратно подстриженные ноготки без маникюра; Снежа споласкивала под краном чайные, с сиреневым цветочком и позолоченным ободком, чашки. Стройную фигуру подчёркивали плотно обтягивающие бёдра джинсики. Я смирился, уже не жалел о вечной разлуке с той, что любил десять школьных лет; просто рассеянно, не отрываясь и не моргая смотрел на её тонкие музыкальные пальчики. Она, знакомясь с лестью, пафосом, изменой, стряхивала в раковину капли воды с влажных чашечек, разливала в них кипяток из самовара и добавляла туда по ложечке растворимого кофе.
Мы расположились в кабинете литературы, казавшимся получужим, слушали классного руководителя, Ольгу Геннадьевну, в неформальной обстановке подводящую итоги, говорившую напутственные слова, частыми крохотными глотками отхлёбывали горячий ароматный напиток и договаривались, куда пойдём, разжившись вином, прощаться друг с другом неискренне, пространно и шаблонно. Меня мучила головная боль, напоминавшая о ночном банкете и двухчасовом беспокойном хмельном забытье, внутри всё дрожало, мучительно хотелось пить и спать.
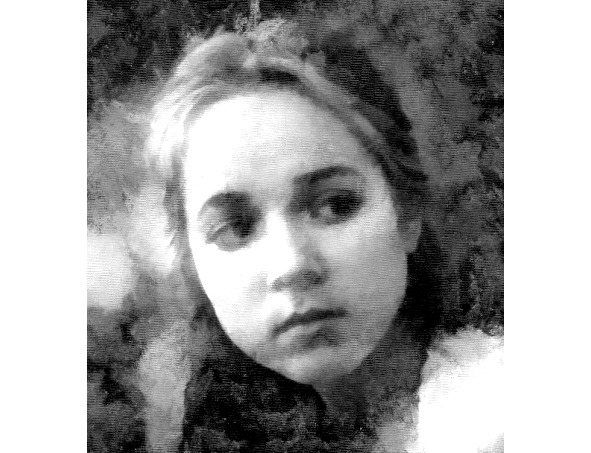
И не нашлось на столе, за коим я устроился, подперев подбородок руками, ни одного яблока, которое можно было бы бросить моей путеводной звёздочке. Лишь покрасневшие огрызки в тарелке на подоконнике. Только вот, любимой не бросают огрызок. Увы, подарить Снежане яблоко под луной я не решился. А теперь — поздно. Наше с ней время под шелест дождливого июня скукожилось до размера коричневого полузасохшего объедка.
А потом, пользуясь терпимой погодой, компания вчерашних школяров отправилась в сторону пляжа; и у меня имелся припасённый флакон «Медвежьей крови», выцыганенный с боем у бабушки. Единственная бутылка на ораву в 15 рыл. Мильсон родители увезли в Беляевку, и я вскоре заскучал.
Миновав пригорок и пройдя берегом Светловки около километра, мы развалились на опушке леса. По простору простёртой рати неба плыли грузные серые батальоны туч, обещавшие дождь, град, изредка из–за них выбиралось солнце, словно стремившееся, но не успевавшее, т. к. очередное облако скрывало нас от него, сообщить нечто важное. Светловка полоскала берег тяжёлыми свинцовыми волнами, рассыпавшимися о ноздреватые скользкие камни брызгами душа и превращающимися в желтоватую пену. Похолодало, с реки потянуло запахом водорослей, йода и сырого дёрна. Разведя костерок из сухих веток, собранных в подлеске, рассевшись прямо на траве, мы, пуская по кругу стакан с еле заметной щербинкой у края, занялись пузырём, и нектар в нём закончился очень быстро, после первого же глотка. Пятнадцать похмельных выпускников на 700 мл.! «По усам текло, в рот не попало!» Изрекали сентиментальные благоглупости, в запале давали зарок регулярно встречаться, дорожить детскими годами, братством (какое, к чёрту, братство? Откуда ему взяться в глухой и неживой пустыне эгоизма? Оно секунду назад за рюмкой образовалось, и исчезнет спустя полчаса), искренне и наивно веря в исполнимость этого, хотя, буквально назавтра и не думали о сгоряча выпаленных обещаниях.
Танька Широва, невысокая худенькая девчонка с выступающими ключицами и короткой пергидроленой чёлкой, лихо отплясывала в купальнике под песни группы «Шахерезада», нёсшиеся с кем–то прихваченного с собой магнитофона. Танюха кричала, в танце размахивая над головой белым платьишком с легкомысленными розовыми лепестками:
— Ребята, навсегда запомните меня такой!
«Ночка, ночка,
ночка-черноночка,
подари мне миг услады!
а-ха-ха-ха-ха!»
Такой я её и запомнил. Танцующей и поющей на фоне жёлтого прибрежного песка, с оспинами мелких камушков, сочной зелёной осоки и стелющегося слезой дыма костра.
Через 26 лет, в течение которых, мы поговорили всего единожды, Татьяны не стало. Инсульт. Мне написали о похоронах за сутки, и я, торопясь в безвременье пересыхающим родником, не смог скорректировать планы. Да и был ли я там необходим? А остальные? Спорно… Зыбко… Вряд ли я свыкнусь с мыслью, что ко мне на кладбище притащится какой–нибудь малознакомый субъект. Полагаю, не велико количество добра, сделанное мною людям, ну и они также испытывали к моей персоне мало симпатии, и не стоит посмертно ворошить прошлое, приглашать на проводины тяготившихся общением. Валите сразу к отцу лжи, лицемеры!
Раньше высшей похвалой мужчине звучало: «Я б пошёл с тобой в разведку!»
А сейчас?
Есть те, кому б ты подмигнул из гроба?
И сколько их? А?
Или больше других, при чьём приближение ты незаметно сплюнул бы и тихонько, дабы посторонние не услышали, с липкой лаской в голосе, вопросил: «Где ж, вы, падлы, шкерились, когда я вас звал?»
А тебя многие пожелают увидеть среди плакальщиков?
Однако… в стыдливой теплоте заката мёртвому не безразлично ли…
Хм…
13
«Не сданные вовремя зачёты по специальности ставят под угрозу возможность получения вами диплома»
Декан М. С. Паниковский.
Математику, позднее алгебру и геометрию, у нас на протяжении нескольких лет вели разные учителя. В 5–м классе уравнениями нас мучила директор, Надежда Моисеевна, под пронзительный хохот пролётки приехавшая в село вместе с мужем, направленным сюда на должность начальника местного отделения милиции. А уже в 6–м за названные предметы взялась Татьяна Петровна, молодая и немного наивная выпускница педагогического института. Невысокого роста, с тихим голосом, который ей приходилось повышать, чтобы перекричать ребятишек, со слегка вздёрнутым носом и каре тёмных волос, она не была красавицей и поначалу не воспринималась всерьёз. Ходила Танечка, так мы её называли между собой, странно, чуть наклонившись вперёд, и едва заметно раскачиваясь из стороны в сторону, точно большая утка. К тому времени, когда нас выпустили, в родные пенаты, в хрусталя заалевшие росы после вуза вернулась преподавать и её сестра, Наталья Петровна.
Никаких модных инновационных методик Татьяна Петровна не применяла, действуя строго по программе и относясь к учащимся довольно прохладно. Наряду с арифметикой она обучала и информатике в размещённом рядом с канцелярией компьютерном кабинете. 25 новёхоньких машин, установленных в нём, управлялись с головной, находившейся на учительском столе. Мы практиковались в составлении упражнений прикладного характера, но удовольствия это не доставляло, гораздо больше нам нравилось играть в простые игрушки: карты, кораблики, бродилки, примитивные стрелялки.
Постепенно окружающие привыкли к Татьяне Петровне, перестали воспринимать временным человеком, коим кажется каждый новичок, ибо абсолютно непонятно, сколько он сможет продержаться. Постоянно трудиться в образовании могут либо фанатики избранной профессии, ставящие её облупленный герб дворянских фамилий выше близких, здоровья и личной жизни, либо приспособленцы, равнодушно выполняющие любые распоряжения руководства, редко отстаивающие личную точку зрения, им лишь бы работа имелась, да зарплата регулярно платилась. Очень многие приходят учительствовать, числя себя новаторами, и в течение пятилетки перемалываются системой в труху и выбрасываются на обочину, или, не выдерживая давления, увольняются, как произошло в случае со мною. Фанатизм бережно сохраняет незначительный процент, именно он является локомотивом всяческих нововведений и гордостью учреждения, принося ему преференции, известность, позволяя с завидной регулярностью выигрывать конкурсы на городских и областных олимпиадах.
Весьма сомнительные и шаткие отношения сложились у меня с физикой и химией, в них я оказался чудовищнейшим тупарём, непроходимым идиотом, путающим дух вербены, ванили и глухой лебеды. Сие логично, ведь в основе вычислений там лежит математика, а с ней у меня наблюдался полный швах. В 9-м я умудрился завалить экзамен по алгебре, отнеся комиссии практически пустой листок, и три недели ежедневно бегал готовиться к пересдаче. Конечно, «отличился» не я один, тогда около десятка недотыкомок отправилось со стенаниями и скрежетом зубовным на переэкзаменовку. Невероятно, но подготовка помогла. Я расправился с задачами самостоятельно, без подсказок и списывания.
Если, задержавшись у библиотеки, оглядеться, откроется вид на крыло здания, выделенное начальной школе. Справа уносятся вдаль девять комнат, слева — окна, тоскливо рассматривающие двор. Ниже подоконников проведены радиаторы отопления. Зимой, при сильных трескучих туманных морозах, помещения не прогревались, мёрзли и краснели пальцы, мы занимались в варежках, куртках и грелись на переменах, облапив наполненные живительным теплом изрисованные синей пастой батареи. По вечно жалующимся и скрипящим половицам коридора мы, молясь введению весны, двигались мимо аудитории №1 в следующий класс, в наш. Познакомиться с ним и с нашей первой учительницей, Наиной Феоктистовной, нам довелось 1 сентября, в День Знаний. Торжественная линейка проводилась на квадратной площадке посреди сада, состоящего преимущественно из клёнов, усыпающих дорожки осенними сухими «вертолётиками», принарядившихся в серёжки моднящихся берёз, и акаций, расцветающих жёлтыми «собачками».
Неподалёку от деревянного шестиступенчатого сучковатого школьного крыльца росли две влюблённые лиственницы, поздней осенью сбрасывающие хвою. Они, шелестя развёрнутым знаменем скорби, нежно сплетались узловатыми пепельными ветками, возносились под крышу, подглядывая с неослабевающим любопытством в зарешеченный спортзал и в кабинет русского языка, ставший для нас родным в среднем звене.
14
«Быть наставником — это просто праздник какой-то!»
К. Барабас. «Призвание-педагог!»
К упомянутому Дню Знаний жара уже отошла, ветер заплутал эхом в Рифейских горах, солнце слепило глаза, но не пекло, поля перешёптывались с сухим быльём и рожью, а холода и проливные дожди только выводили на карте синие стрелки, прорабатывая план генерального наступления. Узорные листья клёнов, тронутые желтизной, пока хорохорились, а берёзки, едва примеряли осенние яркие сарафанчики. Нас, нарядных, радостных, чуть испуганных, с букетами гладиолусов, астр и георгин, выстроили возле трибуны. Громко играла бравурная музыка, выступал простуженный хриплый директор, а долговязые десятиклассники вручали нам в подарок буквари. После окончания линейки нас, новичков, почётными гостями пригласили пройти в свои кабинеты.
Коллективы довольно удачно, не перемешивая, составили из детей, посещавших одну подготовительную группу в пределах гулкого родимого селенья. Мы все знали друг друга, за исключением тройки приезжих, перебравшихся в Питерку из ближайших сёл. В тот период в школе ещё использовали деревянные скамьи с откидывающимися крышками, которые поднимали при вставании. Столешницы, скошенные вниз, к сидящему, наши предшественники изрезали, изрисовали, а краска на них, напитанная старинным золотом и ладаном, местами успела вытереться. Оставались они странно тёплыми и добрыми, будто впитали в себя теплоту сотен первоклашек, зубривших азбуку и таблицу умножения. Скамейки через пару лет, заменили обычными столами с отдельно стоящими стульями. Они оказались ниже, чем прежние парты, не поднимались под углом вверх, вынуждая сутулиться.
Наина Феоктистовна, наша учительница, считалась лучшим специалистом младшего звена.
— О! У вас Наина Феоктистовна? Вот же вам повезло! Талантливейший педагог! Замечательный! — говорили маме знакомые.
Наверное, так оно и было. Среднего роста, в строгой тёмной одежде, зачёсывавшая волосы назад и крепившая их многочисленными шпильками, Наина Феоктистовна имела громкий резкий голос и крепкие грубые пальцы. Ей исполнилось 60, но она, будучи на отличном счету, продолжала преподавать. Учеников она не любила, ко многим относилась пристрастно, а те, в ответ, не любили и боялись её. Вероятно, ценили Наину Феоктистовну за строгость; малейшие провинности показательно наказывались, проступки доводились до родителей, а с виновником велась воспитательная беседа. Провинившегося могли поставить на полчаса к шкафу, отправить домой, если он забывал книги или тетради. Жёстко реагировала она и на недостаточную успеваемость, задерживая отстающих на дополнительные занятия.
Она обращала особое внимание на моё кривописание, кипящее по отмелям гудящих берегов, пытаясь вырастить приличные буквы и цифры из кругляшиков и палочек, наводнявших прописи Серёжи Максимова. Для этого Наина Феоктистовна усаживалась рядом и помогала мне выписывать симпатичные крючки, овалы, линии. Метод не работал, и я тоскливо вжимал голову в плечи, вздрагивал от регулярных окриков, насмешек. Хотелось провалиться сквозь землю оттого, что я неисправимый неумеха.
Сейчас трудно отделить первый учебный год от второго и третьего. Учебники менялись и задания становились сложнее, а чего–то выпадающего из будней, колоритного, вспышки, в сознании не отложилось. Между прочим, даже самые ранние воспоминания того времени, когда меня водили в детсад, не испарились.
Они, свернувшись античными свитками, сохранились, выжили…
Чтобы не умереть, требуется всего лишь оставить о себе память.
15
«Трёхдневные курсы вареньеварения из материала заказчика. Быстро, вкусно, улётно»
Карлсон.
Хотя я плохо помню отца, погибшего, едва мне исполнилось пять лет, но он жив на фотографиях, и я чётко вижу отдельные сцены с его и моим участием.
Во второй половине июля, когда в лесах поспевали грибы и ягоды, мы целым семейством выезжали на природу. Брата, как самого маленького, вручали бабулям, а меня, бескрылого на груди пустыни, частенько забирали с собой. Грибы привозили картофельными мешками, настолько много их росло в окрестностях Питерки. Собирали, красноголовики, синявки, белые, рыжики, волнушки, лисички, масленики. Последних набирали невероятное количество.
Дома добыча вываливалась в длинные цинковые ванны, заливалась водой, отмокала минут сорок, после чего все, утомлённые поездкой, усаживались рядком и, под шелест старых писем и дальних слов, вдыхая неповторимый и незабываемый лесной букет, перешучиваясь, сплетничая, тщательно очищали собранное от налипшей бархотками сухой травы, сушёных рябых корешков и земли. Уйму сил отдавали возне с груздями и маслятами. Со вторых требовалось аккуратно снять верхнюю кожицу, надрезом проверить, не червива ли шляпка, а первые старательно скоблили ножом, щётками, счищая грязь. На сортировку уходили часы, и я считал их безвозвратно потерянными. Обработанные грибочки, в зависимости от сорта поджаривались с подсолнечным маслом, картохой и лучком, покрывавшимися румяной корочкой, особо ценимой, и подавались вечером на стол, притягивающие и потрясающе вкусные. Параллельно взрослые варили похлёбку, у нас почему–то её величали губницей, дух блюда распространялся по комнатам и заставлял постоянно, наведываясь к плите, нетерпеливо принюхиваться и сглатывать голодную слюну.
Грузди и быки на зиму солились, мариновались, укладываясь в банку в неожиданном для себя соседстве с листьями жгучего хрена, пером и дольками чеснока. Бабушки закатывали стекло крышками, гонявшими солнечные блики по стенам и потолку, а мы с Владленом маялись на подхвате. Помогали сквозь сеть алмазную лучащегося востока готовить варенье из мягкой крупной земляники, надолго въедающейся в пальцы черники, замшевой ворсистой малины, сочной, слегка кисловатой клубники, а также фруктовые компоты из чёрной, белой и красной смородины. Упакованное помещалось в отдающий кошками подпол, где покоилось в прохладе на полках, дожидаясь извлечения из зябкого колючего сумрака и подачи к обеду. Соленья, выставленные вместе с варёной рассыпчатой картошкой и копчёным свиным салом с нитками мясца, считались отличной закуской к холодной континентальной водке. Припасы бывали столь велики, что к новому сезону удавалось съесть лишь часть их, раздаривая невостребованное родственникам и друзьям.

Доля сладкого оказывалась заметно меньше, и расходовалась она экономнее. Литровая баночка тёмного, с беленькими вкраплениями земляничных глазков, чуть вязкого, капающего с ложечки варенья, вскрывалась к чаю, делая его восхитительно летним, придавая ему обалденно нежный вкус, и хватало её приблизительно на полмесяца. Компоты выпивались ещё быстрее: три литра, в хорошей компании, могли уйти за полнедели, оттого до весны они не доживали.
Если честно, я, опрокидывая во сне плачущую бездну, не любил эти выезды чёрт знает, куда. Мною овладевала скука, не нравились табуны мошкары и комаров. Эти вездесущие, неутомимые кровопийцы способны сожрать и корову, поэтому я зачастую просто отсиживался в коляске, укрывшись брезентом, погружаясь в дрёму.
Обычно, мы ездили на Светлый Мыс, находившийся в 6—7 километрах от Питерки, в нижнем течении Светловки, где больше всего собиралось груздей, выпирающих из дёрна бугорками. Дорога через рощу, огороженная поскотинами, сбегала прямиком к речке, возле которой, чураясь высоких мрачных сосен, к увалам жалась старая серая избушка без окон и трубы, закрытая на поломанный висячий замок с шершавой, тронутой ржой дужкой. В хибаре летом частенько останавливались отдыхать, ночевать пастухи, рыбаки.
Ближе к Светловке почва становилась сырой, хлюпала, а из–под сапог выскакивали маленькие пугливые буро–зелёные лягухи. Воздух слоился, казался одновременно пропитанным запахами кострища, влаги, мокрого мха и леса, я воспринимал его густым и непривычно тяжёлым. В реку вдавалась короткая отмель, усеянная галькой и мелкими обточенными плоскими камушками. Их я, книжный затворник, обожавший солнце не меньше моряков, водрузив на куст лукошко, воткнув в песок крошечный ножик с ручкой перемотанной синей изолентой, швырял в воду, стараясь сосчитать «блины» и пытаясь докинуть до противоположного берега. Но перебросить никогда не получалось, Светловка здесь довольно своенравна, широка и глубока. Восточнее она вязнет в ивняке, колючей осоке и черёмухе, и к ней невозможно подступиться.
— Серё–ё–га–а–а! — доносился зов деда, загружавшего люльку и намеревавшегося ехать обратно; я торопился на его крик, задыхаясь от скорости, унимая отчаянно толкающееся сердце.
И вот как–то вернувшись из подобной поездки, у меня на шее, под подбородком, заметили присосавшегося клеща. Его благополучно вытащили и на некоторое время забыли о происшествии. Вскоре у меня начались проблемы со здоровьем. Надо отметить, столкнувшись с клещом, деревенские жители не паниковали. Если он цеплялся, его извлекали и давили, не прибегая к помощи зеркала иль головни, к врачам с мелочёвкой не обращались, случаев заболевания энцефалитом, боррелиозом случались единицы, а про смертельные исходы и вовсе никто не слыхивал. Но мне не повезло.
Пролетел месяц, и я почувствовал себя плохо. Тошнило, мучила непрерывная слабость, еда вызывала отвращение. Обращения в больницу к положительному эффекту не приводили, постепенно я перестал ходить, и бабушка Аня катала меня окрестными улицами на колясочке, показывала суетящихся под заборами куриц, петухов с разноцветными хвостами, звёзды над стихающим просёлком, однако я вяло реагировал на её байки, реальность виделась, будто в дымке. Папа, наблюдая такое положение вещей, плюнул на местных эскулапов, вытребовал у них справку, и на служебной машине отвёз меня в детскую поликлинику Тачанска. Три дня я пролежал под капельницей, после чего моё состояние слегка улучшилось. В сентябре я возвратился домой. Сейчас ясно, — не вмешайся батя, упомянутая история могла закончиться крайне печально, но я, естественно, не осознавал серьёзности ситуации, меня беспрестанно клонило в сон, одолевавшее бессилие путало мысли, и умереть я совсем не боялся, не разумея, что означает умереть, не существовать. Дети и дряхлые старики не страшатся смерти и не улавливают её присутствия рядом.
Спустя 30 лет я вновь навестил Светлый Мыс, еле отыскав место, где выслеживал лягушек. Что я, перечитав рассказ Апулея в сто первый раз, мечтал найти, я и сам точно не знал. Зачем проделал путь по заросшей грунтовке, никем не использовавшейся года два, буквально продираясь сквозь возраст и стены крапивы, шиповника, малинника, оккупировавшие центр колеи, теряя ориентиры и сомневаясь в правильности выбранного курса? Неужели лелеял надежду услышать своё эхо и дотронуться до корявой надписи «СМ», вырезанной ножичком на обращённой к потоку стене дома? Или тянуло упасть вниз лицом, уткнуться в хвою, коснуться подушечками пальцев туманной черники, поцеловать родную, вечную, мою землю, ощутить то, что я ощущал, будучи наивным пацаном, открывающим планету? Воскресить отроческие эмоции, на мгновение снова перевоплотиться в весело смеющегося мальчика, играющего на сельской площади в мяч, проникнуться тем, чем он не проникся тогда, ибо не обладал для последнего шага терпением и настойчивостью?
О, боже! Бесконечная наивность!
Бесполезно… Ничего не вышло… От жердей, отделявших просеку от чащи, осталось исчезающе мало, головёшками чернели фрагменты, указывающие верное направление. Песчаная коса сгинула, затянутая пьяной черёмухой и метровой травой. Непосредственно о Светловке напоминали лишь едва слышимое журчание, камыши и сырость. От таинственной халупы, в чьи щели я, замирая, заглядывал вечность назад, не уцелело и щепки. Светлый Мыс, некогда славившийся грибами, превратился в труднопроходимые джунгли, затирающие даже вездесущие поганки. Нет, береговина не содержала и частички моего отпечатка, и надеяться обрести тут старые ощущения новизны мира, нечего было и думать.
Образов периода, связанного с отцом, сохранилось несколько. Запомнилось, например, как я с годовалым братом будил главу семьи на смену. Он служил в милиции в звании старшего сержанта, и к должности относился не слишком ответственно, с рассветом не особо спешил осчастливить дежурку явкой и звоном чаш хмельных.
— Нужен буду — придут, — говаривал он поутру, натягивая на голову подушку.
Отчаявшаяся мама выпускала на арену нас, подводя к кровати и давая установку:
— Папе Васе пора на работу, тормошите его!
Мы начинали толкать родителя ручонками, стаскивать с него одеяло и приговаривать:
— Папвась, няй (вставай)!
Из укрытия показывалась всклокоченная улыбающаяся щетинистая физиономия. Старший Максимов клал широкие тяжёлые ладони на плечи сначала мне, потом Владлену, проводил ими по нашим лицам, плечам, прижимал к себе, а затем с хрустом потягивался и произносил, ухмыляясь:
— Ладно, бродяги, сейчас поднимусь.
Об этом ритуале мама и бабушка Аня впоследствии рассказывали неоднократно, в деталях повторяя всё, о чём я поведал, и порой у меня появляются сомнения, происходил ли он на самом деле или явился лишь аберрацией памяти, услужливо воплощающей чужие, не единожды повторённые слова, в привычные кадры.
На невеликой кухоньке много места занимала русская печь, на чьей целебной спине зимой сушили валенки, варежки, тряпьё, и на которую мы, повзрослев, научились забираться, приставив к ней красный стульчик с силуэтом белого новогоднего зайчика. На ней дозволялось спать, но из–за сильного жара мы ограничивались тем, что, забравшись наверх, пускали в комнату бумажные самолётики, просунув руки и голову в узкую щель между кладкой и потолком.
Со стороны, выступающей к окну, мастер изготовил камин: снизу закладывали дрова, а сверху над пламенем нависала вмурованная в кирпичи плита. Выше, в районе в безвестное ведущих тёмных заслонок, печник оставил два углубления, в них прятали спички и, почему–то, внушительные разболтанные портновские ножницы, коими срезали плавники у щук. Выемки находились высоко, и дотянуться до спичек мы, по малости росточка, ещё не могли.
Рядом, в дальнем углу, валялись сушёные, серые от пыли заячьи лапки, ими стряхивали пепел, сажу и нагар с очага, да слипшиеся от жира крылья небольших птиц, коими равномерно размазывали по противням душистое подсолнечное масло. Лапками, к бесстрастью себя приневолив, мы с братом иногда игрались, а появились они, когда отец притащил с охоты подстреленного, чуть рыжеватого зверька, с замаранным кровью мехом. Среди охотничьей добычи встречались селезни с изумрудной шейкой, с глазами, подёрнутыми смертной плёнкой и разбитой грудкой. Они пахли болотом, тиной и отчаянием.
Нам в наследство осталось несколько коробок зелёного, порезанного мелкими квадратиками, и чёрного, напоминавшего чайную заварку, пороха, разнокалиберная дробь, пустые и заряженные медные патроны, капсюли, и напёрсточная мерка, служащая для измерения количества заряда, засыпаемого в гильзу. Хранилось сокровище под замком, и однажды я, учась в седьмом классе, разжился ключом, добрался до клада, и стащил, дабы спалить в крытых учебных окопах возле школы. Конечно, вскоре пропажа обнаружилась, и я, молодой моряк вселенной, получил за это от деда выговор ремнём с занесением в личное дело, но нисколько не жалел о содеянном, уж очень красиво взрывоопасная смесь горела и шипела, выпуская клубы удушливо–тухлого, густого синего дыма с сизым подкладом.
На неровной шероховатой чугунной плите родители варили в кастрюлях супы, тушили в сковородах мясо, а нам пекли печёнки и лепёшки. Помытая картофелина нарезалась тонкими пластинками, натиравшимися солью и отправлявшимися на раскалённую чугунину. Подрумянивая, отвердевшие кусочки переворачивали ножиком. Пластики приобретали приятный золотистый цвет и слегка солоноватый вкус. Случалось, правда, они подгорали до черноты, но ничего непоправимого в том мы не видели, гарь соскабливалась ножом. Лучше всего жарёнки уплетались тёплыми, т.к. полежав на тарелке, отсыревали, становились скользкими от влаги, превращаясь в ломтики банального прохладного отварного клубня. Лаваш обычно пекли на горячей плите из раскатанных остатков пресного теста.
Пока готовились «сельские походные деликатесы», мы с Владленом нетерпеливо подпрыгивали, дожидаясь возможности отправить в рот бесхитростное, но такое аппетитное кушанье. Бабушки только и успевали, грозя кулачками, отгонять нас полотенцами от камина, ибо мы, войдя в раж, могли обжечься, коснувшись потрескивающей дверцы. В века загадочно былые, и печёнки, и лепёшки за раз выпекались не по одной штуке, и нередко мы наедались раньше, чем они заканчивались.
16
«Правильный подбор актрисы на главную роль — азы кинопроизводства»
К. С. Якин. «Режиссура»
Кухонька отделялась от основной комнаты тонкой перегородкой из щелёвки, выкрашенной в зелёный цвет, обтянутой самоклейкой, и эти думы внушены оттуда. У потолка там крепилась широкая тесина с хранившимися на ней пустыми банками, тазами и прочей утварью, а прикрывалась она от любопытных глаз шторой в ёлочках. Из стенки торчали гвозди, на которых висели играющие солнцем поварёшки, просвечивающие дуршлаги, заскорузлые сковороды и сковородник тяжёлой судьбы. Под антресолью, испытав забавы и труды, поселился светлый, не первой свежести, буфет, за чьими скрипучими дверцами держали разнокалиберные эмалированные кастрюльки для варки супов, картофеля, макарон, двухсотграммовые кружки, гранёные стаканы и деревянные скалки, отполированные ладонями до блеска. В его глубоких выдвижных ящиках — схронах лежали чайные и десертные ложки, металлические и алюминиевые вилки, ножи и пара потёртых, марающихся чёрным, точильных брусков. В прямоугольной секции, рядом с пластиковыми крышками и винными пробками, перекатывалось чайное ситечко. Им пользовались довольно редко, предпочитая глотать густой терпкий настой вместе с суетливо плавающими чаинками. На столешнице, покрытой изрезанной клеёнкой с репродукциями овощей, пристроилась двухкомфорочная электрическая плитка. У противоположной стены безумной вспышкой непреклонных сил, разместился комод. За его тщательно протёртым стеклом, на лёгких съёмных полочках, обёрнутых синей с розовыми кубиками упаковочной бумагой, мама с особой аккуратностью расставила четвертьвековые железнодорожные подстаканники, рюмки и многое другое. Из–за шкафа выглядывали края разделочных досок и квадратной, пачкающейся мукой, треснувшей посредине, фанеры.
Напротив камина, близ тумбочки стоял стул с мягким продавленным красным клетчатым хрюкающим сиденьем, а справа от тумбы — жёсткий табурет с отверстием в центре от высохшего и выпавшего сучка.
Когда в гости к нам вваливалась компания папашиных приятелей, покурить они отлучались, на кухню, зимой приотворяя маленькую верхнюю форточку окна, а летом и обе его створки, выходящие на убогий огород соседки, проживающей с красавицей-дочерью под нашей квартирой, в полуподвале.
Оконца большой комнаты сквозь заросли сирени в нашем садике таращились на центральную улицу села, на аптеку с её резными небесными ставнями и высоким крыльцом; на реку, на прибрежную рощу, на обшарпанное каменное старое здание больницы с покосившимися воротами.
Во время предновогоднего вечернего сабантуя, приглашённые хозяином сослуживцы, скинув серые кители с сержантскими погонами, ослабив форменные галстуки, испив морозной водочки из сенок, и закусив жареной рыбкой с рожками, посмеиваясь о чём–то своём, пробудились, зашумели, возносясь с быстротой якоря, отправились подымить вонючей «Астрой». Мне и брату не сиделось, мы бегали, щипали мандаринки, вопили, дёргали взрослых, мешали их беседе. Папу наше поведение утомило, он поймал меня и усадил к себе на колени. Дальше произошло совершенно неожиданное. Отец сказал, обращаясь к сидящим у печурки товарищам:
— Смотрите, сейчас заревёт.
Несколько секунд напряжённой тишины и непонимания, кто именно вот–вот должен зареветь. А он стряхнул мне на запястье горячий пепел с сигареты. Я отчаянно взвыл, словно наблюдая со стороны, как папаня щелчком отправляет тёмный ломающийся прямоугольник на мою правую руку, а я начинаю орать и гребнем встающей волны убегаю к матери.
Не всегда его встречи с корешами заканчивались подобными шуточками, коллеги его были обычными нормальными мужиками и охотно с нами играли, мастеря машинки, кораблики. Подарив мне на день рождения лилипутское милицейское авто с жёлто–синими полосками, один из друзей родителя, кажется Володя Мешков, мужичок невысокого роста, с тихим печальным голосом, медными аккуратно подстриженными усиками, прилично пьющий, заявил, мол, техника неправильная, у неё лобовое стекло краской закрашено. Недолго думая, он взял с телевизора ножницы и начал со скрежетом счищать покрытие переднего щитка. Удалив его безвозвратно, Мешков удовлетворённо хмыкнул, произнёс:
— Ну, теперь совсем настоящая, — и вручил технику мне. И действительно, стало казаться, будто получилось гораздо лучше, чем раньше и вечен только мир мечты.
Мешков заходил к нам достаточно часто, и мы с ним, почти каждый раз, ползая по бордовому паласу, рычанием изображали трактора, жужжанием — самолёты и цокали, если шла пластмассовая конница Будённого вперемешку с древнерусскими всадниками. Иногда дядя Володя, шевеля своими рыжими щёточками усов и старательно проговаривая слова, читал сказку про репку, про лису и зайца. Детских книг у нас скопилось множество. А однажды он принёс новые батарейки к забарахлившему луноходу, пародирующему летающую тарелку на роликах. Натыкаясь на ножку дивана, стену или валявшуюся тетрадку, возмущённо гудя, и помигивая расположенными на корпусе разноцветными лампочками, сей агрегат сворачивал вправо-влево, чертя полусонные звуки, и это приводило меня и Владлена в неописуемый восторг, а затем, деловито жужжа моторчиком, продолжал свой путь до следующей преграды. Вьюжистыми зимними вечерами мы гоняли его, не жалея батареи.
Закончилось тем, что, посаженные элементы питания, большие картонные патроны, позабыли достать, и кислота из них вытекла, разъев контакты. Отца уже не было в живых, и я, любопытствуя, рискнул вскрыть нижнюю панель аппарата, осмотреть, ничего не понимая, его внутренности. Здоровье процедура ему не вернула, скорее наоборот, поэтому спустя некоторое время мама потихоньку убрала инопланетника в чулан. В подполе он и пребывал, пока случайно, ища пиратские сокровища, я не поднял крышку и не обнаружил его среди груды старых сапог, туфлей и бесколёсных пластмассовых самосвалов. Луноход покрылся грязью, пылью и казался мёртвым, вызывая смутное чувство сожаления о чём–то хорошем, светлом, бесконечно далёком и невозвратном. Я оставил его там, где он покоился без малого десятилетие. Помимо прочих безделиц, найденных в погребе и находящихся примерно в таком же печальном состоянии, обнаружилась неваляшка с дыркой в носу, и ещё, хотя и сильно поцарапанная, но рабочая, металлическая юла с сиреневыми, жёлтыми и зелёными полосами, чья ручка изогнулась от сильного нажатия. Когда–то игрушки, сваленные туда кучей, доставляли нам радость, веселили нас с Владленом, а сломавшись, оборвав тонкие властительные связи, отправились на свалку, в забвение. Также и люди, сначала, в раннем детстве, дарят окружающим свет и тепло, а по истечении гарантийного срока пользования ломаются и выбрасываются на помойку, являющуюся предшественницей кладбища.
Но мне тогда почудилось, будто теплится неведомая искра жизни в этих похороненных вещах. Попробуйте извлечь их из небытия, протереть влажной тряпочкой воспоминаний, и они, предметы старой прозы, озарённые волшебством, засверкают, и вновь беззаветно, из последних своих, почти отнятых старостью сил, порадуют вас, одновременно прозорливо намекнув: аналогичная участь ожидает и игроков.
Вот на надорванной вверху семейной чёрно–белой фотографии, сделанной в январе 1978 года, — наше семейство. На фоне настоящей, лесной ёлки, украшенной стеклянными и бумажными фигурками, затянутой дождиком и мишурой, распространяющей аромат хвои, у серванта–стенки с раздвижными дверцами, за которыми хранились различные вещи, — от шкатулки с деньгами до одежды и постельного белья, и фужерами на полках, — сидит, держа младшего сына, моего брата, отец в служебной сержантской форме. Он чуть склонил голову, смеётся, а ребёнок у него на руках, облачённый в белые ползунки и распашонку, смотрит не в объектив, а на мигающие гирлянды.
Я, в наглаженных брючках и рубашке, занимаю место справа от папы, глядя в камеру широко распахнутыми удивлёнными глазами, а позади меня стоит мама в недавно купленном тёмном коротком платье с большими алыми розами. Она щурится под очками, а на губах — улыбка. Слева от неё — детская кроватка Владлена.
Через год с хвостиком старшего Максимова не станет, а фото останется напоминанием о холоде голых прозрачных аллей соловьиных, о золотом веке нашей семьи, длившемся, как и любая добрая история, не очень долго.
Слишком недолго…
17
«Один день отличается от другого лишь тем, что предыдущий находится гораздо дальше от нашей смерти, чем сегодняшний»
Константин Чистов (Чистик).
Готовясь к встрече Нового Года, мама позволяла мне наряжать привезённую отцом ель. Зелёная обитательница леса вставлялась в деревянную крестовину и две недели в серпантинно-яблоневых кудрях служила детям объектом поклонения. Ёлочные украшения держали на шкафу, в выстеленном ватой фанерном посылочном ящике. Основу игрушек составляли разноцветные шары, напоминавшие видом и размером яблоки, мандаринки. Имелись и копии персиков, мягкие на ощупь. Некоторые из них нравились мне больше, некоторые меньше. Я бережно, с благоговением брал прохладную, лёгкую, стеклянную тёмно–синюю сферу, отражающую моё лицо и комнату позади, и словно растворялся в её глубине, вглядываясь в покрывающие края узоры. Они сплетались, расплетались, сходились, образуя небывалый орнамент. Ныне я сравнил бы это с бездонной полифонией Баха.
Здесь же находились подрастерявшие прежнюю яркость, пластмассовые Дед Мороз с мешком и Снегурочка в кокошнике. Шарики, шёлковые трепетно колыхающиеся бабочки, стеклярусы, подвески крепились за вдетую в проволочные заушины нитку. Красная расписная звезда пристраивалась на вершинку, а вокруг неё укладывали гирлянды. Картонные лисички, зайчики, лошадки, сетчатый бумажный раскладной шагающий гномик нежно тыкались в пальчики, просились на руки, обещали поделиться рождественской балладой, а мы вынуждали их тоскливо болтаться промеж игл.
Увы, хранилось это всё не очень долго. Непрочные, податливые, они постоянно рвались, а часть стекляшек, была нами расколота. Бородатый дедок с внучкой окончательно выцвели и отправились вслед за луноходом, за мгновениями, бегущими чередой к забвению.
Обычно ёлка простаивала до 13 января, после вытаскивалась на огород, в сугробы, а мама устраивала генеральную уборку, тщательно выскребая веником из коврика сухую опавшую хвою.
В ту пору матушка нередко плакала, уткнувшись в подушку, если папа не возвращался допоздна либо вообще не ночевал, а когда нарисовывался чуть пьяненький и пахнущий женскими духами, грозилась «выдрать лохмы этой шлюхе». Мы с братом испуганно молчали, слушая её приглушённые рыдания, их ругань, и мне хотелось исчезнуть, забиться в щель, под плинтус, дабы никому не мешать и никого не обидеть.
В день смерти отца мама возила меня в Тачанск, в цирк. Привычно холодная, серая и пасмурная апрельская погода с низкими космами асфальтовых облаков, без проблеска солнца, не сулила потепления. Путь в город и непосредственно представление я не помню, но обратная дорога впечаталась в память, как бесконечная, трудная и утомительная. Мы оба устали, закоченели в холодном неуютном автобусе, и добрались до квартиры в предвечерней серой тьме, пройдя по колдобинам застывшей грязи, поначалу к себе, найдя в хлебнице ещё тёплую буханку, купленную батей, а затем, двинулись, к бабушке, ведь у неё под присмотром оставался Владлен. Он приболел, его тошнило, поэтому мы решили заночевать в гостях. Мне казалось, или я воображаю сейчас, оперируя послезнанием, будто чувствовал приближение чего–то катастрофического и непоправимого. Так надвигается грозовая туча, остановить её невозможно, и самое разумное — переждать, прячась в сумерках при выключенном электричестве, вздрагивая от громких раскатов грома, надеясь на скорое окончание ненастья.
Папа ушёл на ночное дежурство за минуты до нашего приезда, хотя смену он отработал накануне. Едва он вернулся с рыбалки, товарищи уломали его выйти вне графика, руководство в полном составе мимо ветряков, тропинок и курганов намылилось в дальнюю деревеньку провожать на пенсию начальника местной милиции. Отзвонившись со службы, он, посетовав на спешку, попросил жену принести на ужин пельмешек, а через час набрал снова и приказал сидеть дома. Разговаривая с ним, она слышала пьяные реплики будущего убийцы мужа.
В поездке я умаялся, довольно рано лёг, а взрослые продолжали вечерять, пить чай и негромко переговариваться под красным абажуром. Незадолго до моего погружения в сон, задребезжал, истеря, телефон, вырвавший меня из дремоты. Мать подошла, ответила, и Вера, сестра бабушки Кати, задав единственный странный вопрос: «Зоя, это ты?», сразу прервала связь. Матушка пожала плечами, положила трубку на рычаг и тоже легла, пристроив рядом со стоявшим у печи сундуком, детскую кроватку–качалку с посапывающим Владленом. Ворота заперли на щеколду, покой воцарился в затишье дедовских строений, а под окном, на ветру, на столбе раскачивался фонарь, в чьём свете тени голых веток клёна крестообразными рывками метались по обмороженной земле вправо–влево.
И опять резкий трезвон разбудил нас, уже совсем уснувших. Не проснулся в своей колыбельке лишь Влад, переставший наконец нудно хныкать. Мама поднялась, приблизилась к комоду, к чёрному телефонному аппарату, сказала: «Алло». Вера, немного помолчав, тускло произнесла: «С Васей — несчастье. Зоя, тебе надо срочно в отделение. Тут… тут следователь. Городской». Жалобно тренькнул упавший на пол будильник. Мгновенно собравшись, мама устремилась в весеннюю стылую черноту. В кабинет дежурного, к суетящимся криминалистам, её не пустили, немедля проведя на допрос к успевшему приехать из Тачанска дознавателю.
Я, завернувшись в одеяло, не обеспокоился, не понял, куда и зачем она убежала. Частый стук в раму заставил меня подскочить. Охая, приковыляла бабушка, отодвинула занавеску и вздрогнула от раздавшегося из заоконной темноты незнакомого женского запыхавшегося голоса, сбивчиво кричавшего:
— Открывайте… Васю… Застрелили!
Бабуля охнула, кинувшись через кухоньку в дальнюю комнатку, а вскочивший с постели дед, даже не накинув на майку куртки, бросился отпирать. И закружился шар земной, залитый кровью и слезами…
Вошедшая не двинулась дальше порога, торопясь и запинаясь, ещё раз, без подробностей, видимо не зная их, повторяла, крутя шарманку неостановимого: «Васю убили. Васю убили… Васю…» Баб Катя, не выдержав, громко завыла, натягивая кофту, хватая шаль, все забегали, засуетились, уронили на пол глухо звякнувшую о половицы чайную ложку, выматерились, пнули её в угол, шуганули кота: «Брысь, ты!»
Утром меня увели в детский сад. Не сознавая трагизма событий, но будучи в курсе произошедшего, я, ступив в группу, объявил во всеуслышание:
— А у меня папу убили!
Нянечка, тётя Ага, тихонько ойкнула и прикрыла рот ладонью, зашмыгала, а на меня в течение дня смотрели с плохо скрываемым сочувствием, словно на неизлечимо больного.
Позднее мы узнали не лживую официальную версию трагедии, а то, что случилось в реальности. А случилось в ту ночь следующее. Отец с напарником, чей сын впоследствии станет моим одноклассником, в 20:00 заступил на дежурство. Тоска росла, сжимала грудь… Около 23:15 в отделение ввалился нетрезвый Ванька Равёнок, проработавший в системе МВД вместе с супругой лет 10. Он, желая выслужиться, потребовал ключи от машины, дабы развести по хатам компанию, застрявшую на квартире майора. Брелок находился у Степанцева, водителя, а батя, являясь старшим смены, ссылаясь на возможность поступления вызова в любую минуту, отказался их выдать. За перепалкой логично последовали крики, ругань, угрозы, споры, но переубедить упрямца Равёнок не смог. Люди, шедшие с последнего киносеанса, заметили в открытые ворота двух мужчин боровшихся на земле у «газика», и слышали пьяную похвальбу Равёнка: «Ну, с…а, я убью тебя!» И, очутившись в дежурке, дядя Ваня Равёнок, женатый на Вере, выдвинул незапертый в нарушение инструкции, ящик секретера, достал оттуда пистолет и сверху выстрелил, едва успевшему сесть за стол родственнику в висок. Пуля, пробив голову, попала в столешницу, по касательной пропахав в ней борозду. Избавляясь от свидетелей, Равёнок вторым выстрелом уложил Степанцева, пытавшегося выскочить в коридор и всхлипнувшего скорбным стоном надорванной струны. После совершённого, он спокойно протёр рукоятку оружия, и положил его на регистрационный журнал.

Официально ЧП представили и расследовали, как убийство и самоубийство. По материалам дознания, сержант Максимов В. И. сперва немотивированно выстрелил в шофёра, затем в себя и, почистив «ПМ» носовым платком, опустил его на документы. Однако свести концы воедино оказалось сложновато, ожидали, какую позицию займёт родня погибших. На местном уровне инцидент замели под коврик, избегая нежелательного резонанса. Окаменевшим сердцем покорятся блага жизни… Жена дяди Вани, трудившаяся в паспортном отделе, с рассветом оббежала близлежащие дома, и сняла, не имея ни малейших полномочий, показания с жителей, будто они видели Равёнка на момент совершения злодеяния курящим у колодца. А дядя Ваня, не церемонясь особо, начал угрожать, обещая, расправиться с детьми, — со мной и Владленом, сжечь наше жильё. В общем, бабушка и дед решили помалкивать.
Некоторые батины сослуживцы настаивали, чтобы мама поехала в Тачанск и в Губернск, не оставляя преступление безнаказанным, но родители отца, отводя глаза, твердили, точно мантру: огорченья людские несносны, труды непосильны, Васю уже не вернуть, обращения бессмысленны и только испортят карьеру непричастным.
Оттого, несмотря на нестыковки в бумагах, и отчёт экспертов, намекавший, что пуле при подобном раскладе полагалось идти горизонтально, в ближайшую стену, или наоборот, снизу–вверх, что смерть наступила мгновенно и избавиться от «пальчиков» мёртвый человек не способен, дело закрыли.
18
«Нежелательные подробности, как и шило, в мешке не утаишь»
Г. Е. Жеглов «Работа с подозреваемым»
В память о трагедии на веранде бабушкиного дома, занимая угол, стоял массивный рабочий стол отца, без выдвижных ящиков, со следом от пули, взрезавшей кожаную обшивку. Мне неизвестно, сколькими хлопотами удалось его заполучить, и я не знал, откуда взялся залитый с правой стороны густой чёрной кровью мундир старшего сержанта. Окровавленный этот пиджак висел у деда в чулане, запрятанный между старыми шубами, тулупами, половиками, куртками, и вызывал у меня неизменно чувство непреодолимого ужаса, когда я в чаду негаданной тоски и поисках чего–либо интересненького случайно натыкался на него, вздрагивал, прикасаясь к засохшей корочке, словно рубиновым лаком покрывшей нашивки, верх рукава и груди.
Папины погоны хранились в серванте, рядом с порохом, в пожелтевшей от времени, разваливающейся коробке из–под светильника. Некоторые были ослепительно белыми, парадными, летними, продолговатыми, без характерного среза, присущего данного рода аксессуарам. Другая часть предназначалась к повседневной носке на обычной форменной рубашке и, хотя окрашивалась в голубовато–серый цвет, изготовлялась из такого же мягкого материала. И, наконец, погоны для кителя и шинели. По–моему, они имели один фасон, будучи дымчатыми, скруглёнными вверху, с красной окантовкой и жёлтым солнышком маленькой пуговицы. Картонная основа, обтянутая пупырчатой тканью, казалась детским пальчикам облачной на ощупь. Их набралось более двадцати, и мы с братом, балуясь, выкладывали ими целые дорожки, цепляли, совершенно не беспокоясь о сохранности, медные, тускло блестевшие лычки, ложились на землю, ожидая расслышать конский топот, и игры наши продолжались пока мать не спалила неуместные кусочки воспоминаний в камине вместе с газетами, армейскими торопливыми письмами и надорванными проштемпелёванными конвертами.
Подноготная разыгравшейся драмы, наверное, не всплыла бы, не пощади Равёнок случайного свидетеля, кемарившего в момент убийства в помещении дежурки. Очевидцем преступления оказался Юрка Жбанов по кличке Рюрик, постоянно влипавший в разные передряги из–за своей неукротимой страсти к выпивке. Выбравшись с очередного застолья, он в тот злосчастный вечер, выписывая кренделя, проходил возле милиции, и завернул туда погреться, надеясь, что дежурит его «корефан», Васька Максимов. И не прогадал. Максимов, угостил Рюрика папиросой, напоил горячим чаем с кубиком рафинада и визитёр, согревшись, сомлел в кресле, за шторкой у вешалки. Разбудили его злые крики. Выглянув из закутка, Жбанов увидел, что отец с Иваном выходят во двор, а затем возвращаются, счищая с одежды грязь. Спустя несколько минут прогремели выстрелы, что-то хлюпнув, пролилось на пол, запахло металлом, звякнул бессильно докучливый телефон. Отдёрнув занавеску, к Жбанову с перекошенным лицом шагнул Равёнок и, ткнув Юрке кулаком в кадык весомо прохрипел:
— Пасть раззявишь — завалю. Хочешь жить — помалкивай! Мотай отсюда!
Жбанов вскочил, но рванувшись, зацепился за приступок, грохнулся на колени, и на четвереньках, подвывая, борясь с тошнотой и отворачиваясь, шмыгнул мимо тёмно-бордовой лужицы, наползавшей из-под неподвижного тела Степанцева.
По его словам, он сильно тогда напугался и, трясясь в ознобе страха, не сразу пришёл в себя. Юрка слыл бухариком, вечно сочиняющим высмеиваемые, не принимаемые всерьёз фантастические небылицы в стиле бредовых видений «белой горячки». Все над ним похохатывали, оттого Равёнок, вероятно, посчитал: Рюрику, даже, если он сболтнёт лишнее, не поверят. Действительно, рассказы Рюрика не могли уже ничего изменить, да никто и не хотел ничего менять.
Жбанова, частенько заходившего к нам в гости, я запомнил всполошным, поддатым мужичонкой, влачащим мрак пережитого, небрежно прикинутым и плохо бритым, пахнущим кислым вином и куревом, травящим байки и подмигивающим приятелю на предмет «вмазать». Выше среднего роста, плотный, он напоминал весеннего енота, весёлого и суетливого. К нам, детям, Рюрик относился хорошо, играл с нами пластмассовым конструктором и учил мастерить самолётики из бумаги.
Через два года после описанных событий сам Рюрик, попал, как всегда спьяну, в довольно неприятную историю, снова чудом спасшись. Случилось это в январе месяце, когда некто Николай Соколов, сельский алкаш, выйдя из привычного беспробудного месячного запоя и в хлам полаявшись с супругой, с которой не разводился, ибо уходить ему было некуда, собрался посмешить народ оцепенелый и укатить на заработки в Сибирь. Стребовав с жены 200 р. за то, что оставит её и ребёнка в покое и навечно уедет к Ледовитому морю-океану, он с Рюриком, считавшимся его непременным собутыльником, добрался до Тачанска, и в компании знакомых забулдыг пропил дорожные.
Две сотни бесследно растворились, поэтому Соколову и Рюрику пришлось вернуться. Жил Николай на горе за Светловкой, в районе роддома. К себе он и направился выколачивать из благоверной третью сотку. При сборах в тайгу Рюрик продемонстрировал Соколову кустарное охотничье ружьишко, смастыренное из дореволюционной берданки. И вот, покуда беспечный Рюрик, похрапывая, отсыпался, Соколов, присвоил оружие, замотанное в коврик. Недельный гудёж не прошёл даром, в голове у него переклинило и желание отомстить всему миру и ненавистной Ленке, не оценившим его, полностью завладело им. Квартиру Николай застал пустой. Елена Михайловна находилась на ночном дежурстве в больнице, а Егор, его 14-летний сын, сражался с друзьями в хоккей на льду пруда. Неожиданно столкнувшись с опять нетрезвым и вооружённым папаней, Егорка сунул обмотанную изолентой клюшку за холодильник и от греха закрылся в спальне, а рано утром, не гонясь за рифмой своенравной, убедил батю, мол, скоро звонок, пора идти на занятия. Вместо школы пацан рванул к матери, предупредить о нежданном госте, подстерегающем её. Соколова немедля позвонила в милицию, и к стационару подъехал участковый Харев, муж учительницы математики, Надежды Моисеевны. С ним в машине разместились Кузовицын и Ливанов, женатый на дочери тёти Клавы, младшей сестры бабушки Кати.
Выслушав Егора, Харев догадался навестить Рюрика, потрясти его и уточнить возможность наличия у Соколова огнестрела. Заспанный Юрка, помявшись диванным клопом, пустым человеческим трафаретом, понуро признался: вероятно, ствол у Соколова, таки имеется, но маломощная «пукалка» вовсе не опасна. Он, Жбанов, склепал её из древней железки, да и патронов к ней только около десятка. Услыхав о намерении собутыльника расправиться с женой, Рюрик, являясь человеком по сути бесхитростным и беззлобным, отважно вызвался урегулировать инцидент. Харев, справедливо рассудив, что ежели есть хотя б минимальный шанс отговорить Николая от опрометчивого шага, его нужно использовать по полной, прихватил мающегося похмельем Жбанова с собой.
Ещё в сумерках они с потушенными фарами подкатили к дому Соколова, вышли из машины и рассредоточились вокруг здания. Заранее обговорив действия, условились: сперва Жбанов, словно ни в чём не бывало, попробует побазарить со своим дружком, убедить его отказаться от уголовщины. Впрочем, планы их не осуществились. Злоумышленник не отвечал ни на стук, ни на окрики Рюрика, пробежавшего пару раз под тёмными окнами и уверившегося в итоге, что Николай заснул с двух бутылок коньяка, упомянутых Егором. Бесстрашный Юрка попытался проскользнуть в помещение, окликая приятеля, а следом за ним, стараясь не скрипеть снегом, с пистолетом крался Ливанов.
Отомкнув веранду ключом, взятым у Соколовой, Рюрик осторожно протиснулся во мрак коридора и, успев разглядеть направленное на него ружьё, с живым комочком пуха на металле, мгновенно шлёпнулся на пол. Раздался выстрел и шедшего вторым Ливанова зарядом дроби отбросило назад. Пока стрелок, матерясь, перезаражал одностволку, Рюрик на четвереньках выскочил на улицу и вытянул на крыльцо за воротник шинели раненого в нижнюю челюсть, окровавленного, Ливанова, а подбежавший на шум Харев, не целясь, «шмальнул» в темноту и захлопнул за Жбановым дверь.
Накоротко осмотрев и перевязав рану еле державшегося на ногах Ливанова, Кузовицын сразу же увёз его в больницу, а Харев притаился у калитки, надеясь договориться с разозлённым преступником, отвлечь его, потянуть время. Светало, и в проулке могли оказаться прохожие. Никто не брался предсказать, не примется ли он палить во всех без разбору. Кузовицын, вернувшийся спустя минут двадцать, обнадёжил Харева: из Тачанска уже выехала группа захвата и вот–вот прибудет сюда. Перепуганного Рюрика, познавшего дурных предчувствий красоту, прогнали в «газик», дожидаться развязки там.
Уломать Соколова по–хорошему не получилось. Примчавшаяся из города бригада, проникнув в кухонное окошко, скрутила, убаюканного разговором пьяного отморозка. Рюрик вследствие происшествия почти на год пропал из деревни, а затем снова вынырнул ниоткуда, тогда–то, по его возвращении, и поползли слухи, как на самом деле погиб мой отец.
19
«Скорость — понятие субъективное, и не всем доступное»
Клерфэ.
В день погребения отца с низкого, однообразно бесцветного неба, валил снег, вскоре таявший. Много снега. Накануне убитого привезли в родной дом. Гроб, обитый красной материей, разместили в главной комнате на трёх табуретах. Разбитую голову папы обмотали широкой повязкой, скрывающей страшную рану, но, всё равно, из–под неё, с правой стороны, у виска, виднелся чёрно–синий след ожога, и обезумевшие ходики над буфетом стонали о прошлом. На нём был недавно купленный костюм табачного цвета, в полоску, ладони сложены на груди крест–накрест и накрыты простынёй, доходившей до подбородка. Пока он лежал там, я лишь раз с содроганием подходил к мёртвому, испытывая при этом столь жуткую тоску, что, если б мог, полагаю, завыл бы по–собачьи.
Проститься, несмотря на промозглую погоду, пришёл самый разный народ. Преобладали мужчины в серых форменных шинелях. Подавляющую часть я никогда ранее не встречал, не представлял, кто они и почему вдруг захотели увидеться с погибшим, коли не бывали у живого. Они, не торопясь обходили вкруг усопшего, стянув шапки, ступая по голым половицам влажными ботинками, поскрипывающими сапогами, неприятно пахнущими сырыми пимами, и глядя на половики, а не на мертвеца, точно стыдились, чувствуя за собой невыразимую вину, наверное, и не существующую вовсе; вину за то, что, вот он, молодой, не уберёгся, а они старше, опытней, стоят возле него, изуродованного, и не в состоянии ничего исправить, отомстить.
После выноса покойника осталась тёмная дорожка, мокрая и грязная, и бабушка Аня задержалась вымыть полы и прибраться.
Во дворе мы потерялись средь дымящих папиросками, покашливающих группок. Заурчал грузовик, музыканты, неспешно шествовавшие за ним, сверкавшие казёнными медными тарелками, вычищенными трубами, осторожно, скупо, опасливо исполнили траурный марш Шопена, подминая еловые ветки, набросанные с автомобиля.
В грусти, унынии и давящем ужасе я, как в вязкий вермут губы окуная, и ездил на кладбище, куда нас везли в холодной и пропахшей бензином, еле тащившейся вслед за толпой, милицейской машине. Тело опустили в яму, и люди, шедшие по кругу, швыряли вниз комки слипающейся волглой глинистой почвы. Могильщики, закончив работу, упрятали выросший холмик под венки. Нас протолкнули поближе к покойному, дабы мы попрощались с ним, обойдя бугорок, меся жижу. Мама, в чёрном платке, натянутом на брови, постоянно плакала, снимая, и вновь цепляя на нос очки, без которых, и так–то растерянная и жалкая, казалась ещё более убитой горем. Она мяла пальцами тряпочку в сиреневый горошек, и её с трудом удалось успокоить и увести от могилы к опостылевшей нам служебной легковушке.
Дед, конечно, тоже находился здесь, но мне ярче запомнилась пронзительная реакция мамы, а не его, ведь я жался к ней, цепляясь за рукав её тоненького осеннего зелёного пальто с рыжим искусственным воротником. Кажется, дед первым бросил горсть земли, свободной рукой комкая ушанку и, вытирая ею слёзы. А бабушка, что делала она? Нет, сложно воскресить детали… Не она ли, когда третий плеснув, отзвонили звоночки, и молотки, вбив гвозди, погрузили недвижимого человека в вечную, отныне, темноту, упала, всхлипнув, на кровавую обивку?
Схоронили папу подле его сестры, Лидии. Спустя годы неподалёку под холодеющую сентябрьскую листву лёг и их отец, мой дед.
Похороны оказались двойными, параллельно с батей хоронили и застреленного в спину Степанцева. Покуда Рюрик не принялся распространяться об истинных обстоятельствах происшествия, вдова Степанцева, сталкиваясь с матерью по утрам, едва не плевала ей в лицо, кидая:
— Ну, не скребут кошки на сердце? Осиротили парня… Рады, ага?
Рассказ Рюрика, дошедший и до неё, привёл к тому, что Степанцева теперь просто отворачивалась, пробегая мимо.
Однажды, по окончании родительского собрания в школе, она догнала маму в коридоре и, пряча взгляд артистки с неудавшейся карьерой, скороговоркой произнесла:
— Зоя, ты прости уж… зря я Васю оговаривала… Кто же знает, как в реальности–то случилось…
И, не дожидаясь ответа опешившей собеседницы, развернулась и поспешила уйти прочь.
А тип, совершивший убийство, продолжал служить в милиции, и частенько заскакивал вместе с супругой в гости к бабуле. Я замечал, — дедушка держится с ним довольно прохладно, а мы с братом сторонились визитёра инстинктивно. Он отталкивал чрезмерной наглостью, бахвальством, и зловещей ухмылкой с провалами зубов. Рост он имел средний; на круглой, опухшей от запоев физиономии сидели близко посаженные, хитровато бегающие, мутные жёлтые глазки. Багровый с лиловыми прожилками шнобель свидетельствовал: его обладатель любит искать утешение и радость в спирте, впрочем, как и его супруга, впоследствии лечившаяся от алкоголизма.
Да, Равёнок отчаянно пил. Приходя и занимая у баб Кати денег, он нагло разваливался на стуле у окна и пыхтел тошнотворной «Примой». Подобный образ жизни на протяжении десятилетий не прошёл даром и в середине 90-х Ваня Равёнок, сожжённый эхом чужого крика, загнулся от рака. Не спасли его и лучшие московские доктора, к коим обращался сын, занимавший немаленькую должность в столичном МВД. Перед смертью Равёнок распух, словно зло, поселившееся в нём и причинившее достаточно несчастья, грызло кукольную оболочку изнутри, пытаясь вырваться наружу. Морфий почти не действовал, и порой он извивался от боли целыми сутками, сводя с ума родных. А мне безо всякого злорадства думалось: жернова Господа мелют медленно, зато верно.
Будучи взрослым, я услыхал от мамы, что, когда Равёнку оставалась неделя, она заходила его проведать в надежде на раскаяние, на просьбу о прощении, или хотя б намёк на признание греха. Однако, даже касаясь одной ногой адского котла, в пустынности удостоверясь, он ни словом не обмолвился о содеянном и, по–видимому, ни о чём не сожалел, по крайней мере, не выказывал и подобия покаяния. Что, заходясь в стоне, ощущая присутствие «безносой», сам он думал о произошедшем давным–давно, мне неведомо.
20
«Честная конкуренция позволила невидимой руке рынка переманить Буратино Карловича Поленного в нашу компанию «Негоро Интерпрайзис», вырвав его из цепких лап преступного сообщества К. Базилио и Л. Алисы.
Себастьян Перейро. «Торговля идёт лесом»
Упомянутые выше события повлияли на меня в гораздо более значительной степени, нежели первые годы школы. Вероятно, объясняется это их особой важностью, значимостью и эмоциональной окрашенностью. Не единожды я выслушал описание трагедии в исполнении матери и бабушек, и моё детское воображение услужливо рисовало мне сцену в дежурке с поскрипывающей дверью и застывшей пригаражной дворовой грязью. Память удивительно лабильна, и при определённых усилиях реальность минувшего подменяется его версией, выгодной манипулятору. Утверждение применительно к отдельным индивидуумам, и к целым сообществам, не говоря о странах. Однако если подмена личного прошлого человека приводит к драмам локального характера, касающихся непосредственно его самого, семьи, родственников, то, чем шире охват подобной манкуртизации, поглощающей гигантские людские группы, низводящей государства до уровня подобострастно дёргающихся марионеток, тем страшнее, катастрофичнее её плоды, и в пространстве, и во времени.
Из середины осени второго класса мне запомнилось, как мы после «Природоведения» собирали в коллекцию облетевшие с деревьев листья, шуршащим ковром покрывавшие неизмеренные далью и душой широкие центральные аллеи и загадочные потайные дорожки сада. На акации они ещё трепыхались редкими живыми, болезненно просвечивающими тельцами, большинство уже напоминало ракушки с резко выделяющимися красновато–жёлтыми или своеобразно буроватыми прожилками. К началу сентября тут завершили ремонт изгороди и снятые жерди, подгнившие столбы с крестообразно торчащими изувеченными мшистыми обрубками, усеянные осенними узорными кляксами, грудой лежали поблизости от памятника сельчанам, погибшим на полях Великой Отечественной. Едва я вскарабкался на кучу отсыревших реек и потянулся за ярким бордовым кленовым великаном, пристроившимся сверху, мой сапог соскользнул по влажной деревяшке, и я, начав падать, благополучно наткнулся ладонью на высунувшийся из верхней палки ржавый гвоздь. Ладонь оказалась проткнута в центре, дырочка была не сквозной, но рваной, её сразу стало пощипывать. Крови, кстати, выступило на удивление мало. Испугавшись, продолжая сжимать собранный багряный букет, я поскорее побежал домой, вымыл руки с мылом, а затем, шипя от боли, прижёг ранку раствором йода и замотал чистым платком. Мама, больная бессонницей зябкой, вернувшись с работы, наложила мне нормальную повязку и отругала за безудержное и неосторожное шатание, где попало. Рана от грязной железяки заросла без последствий, а происшествие не забылось. Саднящий и сочащийся сукровицей небольшой разрез посреди ладошки, дремлющие, холодные бледно малахитовые и розовые листочки, аквамариновое манящее небо, синие сапожки, оранжевая курточка — вот один из сгустков ощущений и переливов дробящихся оттенков, притаившихся в омутах Светловки, навечно связанный с ранним периодом учёбы.
Играя в свои незамысловатые игры, мы с топотом и боевым ирокезским кличем неслись в направлении директорской, находившейся слева от главного входа, и пробегали мимо каменной, ведущей на второй этаж, лестницы с коричневыми неровными сучковатыми деревянными перилами, по которым отчаянно фокусничающие ловкачи умудрялись кататься, за что, будучи схваченными, получали непременный нагоняй от завуча и вызов родителей на комиссию, и с серыми ступенями, разлинованными стёршимися от количества спешивших по ним подошв, рисунками.
Справа от кабинета директора размещалась просторная и светлая учительская с длинным раздвижным полированным столом и рядом мягких стульев. Всего через пару шагов, у «Алгебры»/«Информатики» в полутьме закутка на стене висел, каллиграфично выведенный и плохо разбираемый мною из–за слабого зрения, график уроков. Для уточнения занятий на следующий день я старался выбирать момент, когда у расписания отиралось поменьше народа, ведь мне требовалось фактически уткнуться носом в закрывающее его стекло. Только так я одолевал строчки.
Коридор, ведущий к пожарному выходу, поворачивал, минуя канцелярию с дробно стучавшей по клавишам печатной машинки секретаршей, похожей рыжими кудряшками на героиню Крючковой из «Не может быть», лаборантскую «Физики», где помимо прочего хранили киноаппарат, и примыкавшую к нему аудиторию. Не вполне привычную, надо отметить: за порогом возвышался помост с четырьмя партами, обращёнными лицевой стороной к слушателям.
В дальнем углу, не за три квартала и не за тридевять земель, располагалось аккуратное квадратное фанерное окошечко для демонстрации учебных кинофильмов, запиравшееся изнутри на крючок.
С улицы рамы предохранялись решётками, а окна в случае сеанса задёргивались тяжёлыми васильковыми портьерами, цеплявшимися за прибитые под потолком, копьевидные гардины. Доска имела нестандартный тёмно–зелёный цвет. Над ней, у антресолей болтался экран, свёрнутый трубкой, по ситуации разворачиваемый вниз. К каждой парте крепились электрические розетки, правда, не подключённые к сети. Они бесполезно занимали место, мешая раскладывать учебники и тетради, бредить речкой и луной.
Иногда здесь крутили фильмы не по физике, а, например, по литературе. Заигранные, чёрно–белые, рябые копии эпизодов «Войны и мира» Толстого, гоголевских «Шинели» и «Записок сумасшедшего», документалок по гражданской обороне и военному делу, химии и географии, биологии и истории… Я любил эти показы, проводившиеся, к сожалению, не часто, зато сопровождавшиеся магической атмосферой чуда, звуком стрекотавшего за стенкой аппарата и возможностью, не таясь, протянуть волшебную невидимую нить и упоённо подглядывать, развернувшись боком, в мелькании узкого луча, за обожаемой мною Снежкой.
Сумрак позволял плевать жёваной бумагой из трубочки, стрелять алюминиевыми пульками при посредстве тончайшей резинки, надеваемой на указательный и большой пальцы, и писать записки, не опасаясь схлопотать замечание в дневник и получить взбучку от матушки, взбешённой ехидно-нравоучительной учительской поэмой на пол-листа с неизменным приговором: «Поведение — „неуд“!»
21
«Втереться в доверие к человеку — не такая уж и сложная задача. Немножко показного сочувствия, создание иллюзии общих интересов, фальшивой заинтересованности. И, как можно меньше, говорите о себе. А потом, делайте с ним всё, что хотите»
Провокатор Клаус. «Как завести и развести друзей»
За кабинетом физики на второй взрослый этаж устремлялась ещё одна лестница made in heaven, а справа от неё во двор вёл запасной проход. Невысокие двойные щелястые двери его закрывались не прочно, хлопали, поэтому зимой из тамбура несло холодом, ощущавшимся в помещении. Здесь утром тоже бдили дежурные, чьей главной задачей, я уже упоминал, являлось не пропускать внутрь, в смятенье мира, в тлен и безобразность, учащихся в уличных башмаках. Некоторые особо отчаянные птенцы гнезда научного исхитрялись, проявив изобретательность и чертовскую изворотливость, проскочить, и очумевшими кенгуру прыгали наверх. Ежели таких ловкачей не перехватывали сразу, в погоню никто не пускался. Впрочем, подобные случаи, происходили, в основном при отсутствии среди дежурных учителя или завуча. Старших покуда побаивались, они знали наизусть имена и фамилии большинства отпетых сорванцов, и со звонком очень просто могли заявиться в аудиторию, где занимался класс с просочившимся нарушителем режима, дабы с торжеством и отеческой грустинкой к нему обратиться: «Голященко, покажи–ка мне сменную обувь!» Выяснив, что Голященко нагло восседает в заляпанных сапожищах, его благословляли и отправляли за чистыми ботинками, и возвращение грязнули с пробежки обратно в школу, если перед тем он не складировал в учительской тощенький портфельчик, находилось под большим вопросом.
Этой лазейкой я, пятиклассник, иногда пользовался, «отстреливаясь и уходя огородами» от соседа по парте, Федоскина, имевшего привычку измываться надо мной прямо на уроке. Федя Федоскин олицетворял тип банального гопника, получавшего наслаждение от возможности безнаказанно унижать слабых. Ниже среднего роста, худенький, юркий, скуластый блондинчик с длинными неухоженными волосёнками, спадавшими на брови, и стряхиваемыми на правый бок частыми судорожными дёрганьями головой, презрительно глядящий на свет пепельными рыбьими зыркалками, с изрисованными a–la tatoo кистями рук, пальцами с отросшими когтями, с истеричным и забавно, по–бабьи, визгливым, голосишком.
Он обожал, погрозив романтике старинной, осклабившись гниловатой улыбкой, пытливо заглядывая мне в глаза, прижать моё левое запястье к столу, вонзить в него ногти, силясь проколоть ими кожу до крови. Поступая так, Федоскин немного подавался вправо, норовя с упоением прочитать на моём лице отражение старательно причиняемой боли. Собрав терпение в кулак, сжав губы, я пытался усидеть с совершенно непроницаемым видом, и за редким исключением, это удавалось, отчего упырь впадал в бешенство.
Он подкладывал кнопки мне на стул, тыкал швейной иглой и противненько удовлетворённо щерился, обнажая жёлтые зубы, когда я, не сдержавшись, кривился. Однажды нервы у меня сдали, я, ища вещей извечные основы, схватил увесистый учебник литературы и треснул гада по макушке, увы, вполсилы, тотчас испугавшись столь опрометчивого поступка. Федоскин небрежно мотнул башкой, на гиеньей мордочке его появилась обычная паскудная усмешка, и он просипел, ухватив меня за пионерский галстук:
— Ну, хе-хе, готовься! Я тя сёдня урою!
Но урыть меня у него не вышло, ибо, попинывая камушки, поджидал он свою жертву у центрального крыльца, а я стрелой промчался к резервному выходу, скатился по ступенькам вниз, выскочил в распахнутые створки на волю и рванул изо всех сил домой. Стояла весна, на закованных в броню коры тополях, на забинтованных берёзках, хлипких кустах сирени и черёмухи появлялись зелёненькие молодые клейкие листочки, прозрачные тучки летели — не угонишься. Майский сухой ветер хватал за рукав, тащил за собой, в поля, к Светловке, а я, содрогаясь от мысли, что завтра опять увижусь с ненавистной тварью, смешиваясь с дорожной пылью, бешено колотящимся сердцем нёсся по проулку.
На следующий день издевательства продолжились, и не прекращались вплоть до летних каникул. А летом Федоскин уехал с родителями в город, и больше я никогда о нём не слышал.
Встретить бы…
22
«Я здесь. Я там. Я везде. Мяу!»
Кот Шредингера. «Этот чёртов ящик»
Пройдёт много лет и, распластавшись на узких тёплых скрипучих половицах недавно выкрашенного шероховатого пола в комнате девушки, ещё вчера называемой мною невестой, ожидая от неё вынесения приговора, я, не созданный для драк и споров, вспомнил один из дней детства, когда мною овладело аналогичное чувство отчаяния. Стояла такая же манящая весенняя погода, разлившая над головами глубокое и недосягаемое небо, бесконечное и вызывающее необъяснимую безысходность.
В первую жаркую майскую субботу я вернулся из школы, застав квартиру нашу, размещавшуюся в большом, бревенчатом здании дореволюционной постройки, вплывавшем в дождя и памяти круговорот, принадлежащем до Гражданской войны упитанному деревенскому священнику, и позже разделённом на четыре отдельных помещения, запертой. Тонкий ключик от замка, хранимый под цветным плетёным ковриком у порога, мама почему–то не оставила в привычном месте, а прихватила с собою на кладбище, куда она, бабушки и дед отправились в связи с именинами отца. Бросив на огороженную перилами веранду коричневый портфель с дневником, тремя учебниками, тетрадками, и с выведенным на боку примером «2+1=?», я, безрезультатно обшарив в поисках отмычки углы и щели, и испачкав при этом пылью школьный пиджачок и брюки, отряхнулся и, болтая ногами, уселся на лавку, прикидывая, чем отпереть чёртов запор.
Разумеется, лучше было бы просто, жмурясь и мурлыча на солнышке, дождаться матери, или прогуляться до книжного, до кулинарии, но свербящее в ягодицах желание отомкнуть дверь самому, да вдобавок пустыми руками, продемонстрировав окружающим поистине суворовскую смекалку, лишило меня шансов на минимально разумные действия. Логически рассудив, я сформулировал особый, универсальный в сферическом вакууме вывод, что ключ, плоский и продолговатый, вполне можно заменить чем–нибудь схожим по форме. Порыскав в дровяниках среди вёдер, лопат, граблей, окучников и прочего невероятно скучного и грязного инвентаря и, не отыскав ни подходящей железки, ни болотной ржави с отраженьем звёзд, я отодрал от забора длинную не слишком широкую щепку. Толстоватая лучинка со скрипом пролезла в отверстие. Ликуя в радостном волнении, я посчитал, будто нахожусь на полпути к успеху, и лишь после того, как она, чуть слышно хрустнув, обломилась, и намертво прописалась в гнезде, мне стало ясно: если срочно не исправить содеянного, я сегодня опять не хило получу на орехи. Подобранным ржавым гвоздём я принялся торопливо выцарапывать застрявшее в механизме дерево, но удалось только немного размочалить верхушку щепы, ни о каком «вытащить» и речи не шло. В панике я метался по двору, стремясь сообразить, что предпринять, но возвращение родных, положило конец бессмысленному беганию из сарайки в сарайку. Матушка, воплотившая в себя черты стремительного века, справившись об оценках, поинтересовавшись, не голоден ли я, достав кошелёк, поднялась на крыльцо, и я, закрыв глаза, мысленно попрощался с белым светом, друзьями и любимыми книгами. Не разобравшись поначалу, отчего ключ не проходит в внутрь, но вскоре всё поняв и, вооружившись отпавшей от ограды рейкой, матушка загнала меня в неоттаявшее пространство между пузатой дождевой бочкой и колючей поленницей. По–собачьи глядя в высокую и недоступную синь, страдая от неумения летать, я начал мямлить трусливейшую и подлейшую околесицу: мол, совершил сие отвратительное и недостойное советского школьника, свежеиспечённого пионера, деяние — не я, а совсем другой человек, и зовут негодника — Олежка Меженин.
Меженин, воспитываемый одинокой матерью — алкоголичкой, допившейся до цирроза, слыл отпетым хулиганом, на которого ничего не стоило списать любое происшествие, благо, приводов в отделение милиции у него имелось предостаточно. Отхватив пару лёгких ударов палкой по заднице, я, завыв, сжался на скамейке, старательно размазывая по щекам сопливые слёзы, а дед, поверив моим словам, навестил Межениных, живших на горке, на Почтовской–стрит, где он, однако, никого не застал. Спустя неделю настырный дедуля таки выловил пребывавшего в неведении Меженина у булочной, дабы задать ему ряд удивительно простых и неожиданных вопросов.
Вышедший на шум и крики, зевающий сосед Женя, облачённый в застиранную майку и выцветшее чёрное трико, несмотря на дикое тряское похмелье, почуял в сложившейся ситуации возможность за столбцом скупых газетных строчек заработать на опохмелку, и сбегал в чулан за сапожным шилом с крючком. Изобразив утомлённого ареной клоуна, он скрипнул: «Вуаля!» и, шипя, дунул в замок. Выдирать пробой не пришлось. Чмокнув выданный за труды честный рубль, хлопнув в ладоши и присев, Женя поддёрнул трико, закурил «Приму», накинул поверх футболки рубашонку, сунул в карман сетку и, отирая со лба пот, направился в винный.
А меня маманя криком и подзатыльниками загнала домой и до вечера никуда более не выпускала.
Нагоняи по ходу стихотворного сюжета я получал частенько, и почти всегда справедливо. Мерзкое свойство перекладывать персональную вину на других и неготовность лично отвечать за свои проделки, не спасали от порок, не искоренявших стремления отчебучить что–нибудь шкодное, вызванное влечением изведать неизведанное и жаждой познания мира. Жажда — жаждой, но иногда она принимала чрезвычайно опасные для меня и моей семьи формы. Любому ребёнку, вероятно, присуще очарование пламенем, способное привести к фатальным последствиям. У меня оно не проходило долго, вопреки заслуженным колотушкам, ведь столько на свете цветёт заповедных долин…
В один из пригожих денёчков мне удалось раздобыть спички, хранившиеся у нас в печурке. Я просто подставил к печи стул и, встав на него, нащупал углубление между кирпичами. Коробков там лежало штук пять — шесть, и пропажу не заметили. Позаимствованный мною — приятно отдавал селитрой и имел сверху наклейку с рисунком пузатого золотого самовара. Совершать «подвиги» я навострился в компании Эдика Бурштейна, одноклассника. Его родители, трудившиеся воспитателями в интернате, проживали тут же, и однажды Эдичка пригласил нескольких знакомых пацанов, в числе везунчиков оказался и я, посмотреть на морскую свинку, обитавшую у них. Мы с восторгом и потаённым желанием погладить диковинного зверя, чуть дыша, разглядывали толстенького мохнатого хомяка, с неослабевающим хрустящим аппетитом пожиравшего сочные капустные листы, а в окна, щурясь, лезло лето.
В упомянутый злосчастный полдень, радуясь коварному грузу за пазухой и распирающему всемогуществу от его владения, я повстречал Эдика с ведром возле колонки и предложил:
— Слушай, пойдём, пожгём чё–нить, у меня спички есть.
— Врёшь, Сега! Не, чё, правда? — в его голосе чувствовалось недоверие, которое требовалось немедленно развеять.
— Во! Смотри! — я, оглянувшись и убедившись в отсутствии поблизости взрослых, продемонстрировал драгоценную добычу с брякавшими внутри селитряными палочками.
Конечно, Бурштейн с радостью согласился. Он отнёс воду на кухню, мы с ним, осторожно ступая вдоль калитки, пробрались, не хлопоча запутывать следы, в огород бабушки Кати, и я, опустившись на корточки, торопливо уложил горкой прошлогоднюю сухую траву, но внезапно нашу террористическую деятельность прервал окрик деда, вышедшего к теплице с лопатой:
— Вы чё делаете, вышквардки?
Не найдя ничего лучшего, чем крикнуть Эдьке:
— Бежим скорее сено поджигать! — я дёрнул его за рукав, и стремглав бросился к сеновалу. Мудрый старик не стал нас преследовать, поступив проще, — он прошёл двором и появился у погреба в момент, когда я сгребал готовую полыхнуть, словно порох, солому. Схватив юного пиромана за шиворот и вырвав орудие преступления, он оттащил его в хату, и без лишних увещеваний отлупцевал ремнём. Позвонили матери. Она прибежала, отпросившись на время с работы. Орали на меня до дрожания фужеров в серванте, и эту выволочку я запомнил навсегда. Однако, что характерно для тупых и недалёких баранов, коим я тогда являлся, выводов особых не сделал, не зачёркивал в прошлом ни стона, и бывал ещё не единожды вразумляем за страсть к огню и прочим пакостям.
Бурштейна за ухо отвели к папе-маме, где он получил причитающуюся ему порцию воспитательной программы, предпочитая в дальнейшем держаться от меня подальше. Через два месяца его отца назначили заместителем директора в Тачанский детский дом №2, и следующий учебный год примерный мальчик Эдик Бурштейн встретил уже в городской школе.
23
«Не всякая кожа подходит для изготовления перчаток. Тем более — рукавиц. Да если они к тому же ещё и ежовые»
Саймон Гловер «Искусство перчаточника»
Невольной жертвой моей пиромании пала обыкновенная синяя пластмассовая чаша. Ею черпали из металлической бочки, стоящей под потоком, дождевую воду на полив грядок. Впрочем, чашка пострадала не очень серьёзно, даже годилась для использования по прямому назначению. Всего лишь бок черно оплавился вследствие того, что я, закрывшись кипятковым полднем тополиной вьюги, в дровянике, трясясь, разжёг там крохотный костерок из невесомых прутьев рассыпавшейся метлы, а сосед Женя Мартынов, учуяв гарь, выбивавшуюся синеватыми облачками из щелей сарая, принялся с матерком ломиться в постройку. Струхнув, я накрыл пламя, жадно пожиравшее щепки, сосудом, подверженным горению. Оно захлебнулось, но посудина, смявшись, приобрела нетоварный вид, и мне пришлось на время её припрятать. Женя, едва я открыл, возопил:
— А-а-а-а-пять ка-а-а-а-стры жгёшь, дрянь м-м-м-алая?! А н-н-ну бегом марш а-а-а-атсюдава!
В юности Женя служил в РВСН, вернулся со службы с чудовищным заиканием и впоследствии любил повторять: «д-д-да я на к-к-к-асмадроме ракеты н-н-нюхал». Редкую фразу он произносил с маха, с галопа, не поперхнувшись слогами. Он разменял четвёртый десяток, и жил холодеющим сквозь сосны закатом в тесной матушкиной квартирёшке рядом с нами, получал пенсию по инвалидности, беспробудно бухал, и закатывал скандалы. То ли от тяжёлой армейской травмы, то ли от постоянной пьянки, лицо Жени при сильном волнении, особенно правая его сторона, дёргалось, он краснел и только мычал, не в состоянии вымолвить ни слова, а со смертью матери у него появились эпилептические припадки. Частенько из–за стенки доносилось:
— У-у-убью, с-сука! Д-д-ай денег, п-п-падла!
Мать его, низенькая морщинистая старушка, с тихим голоском, опухшими слезящимися веками, длинными выцветшими сальными космами, смахивала на Наину из сказки «Руслан и Людмила», пугаясь отпрыска, дико визжала. За перегородкой слышался грохот, звук опрокинутого стула, звон тарелки, топот в коридоре, хлопанье входной двери и всё стихало. А часов в девять парочка начинала пьяными голосами выводить какой–нибудь заунывный мещанский романсик, вроде «Одинокой гармони», «Шумелки мыши». Песенка про маленькую серенькую мышку–шумелку меня изрядно забавляла, я никак не понимал, почему взрослые люди исполняют детсадовский репертуар утренников. Следующим вечером привычная история повторялась. Если слушать их хоровые атонические выступления, прерываемые оригинальным нецензурным многоэтажным заикающимся конферансом, становилось невмоготу, мама вызывала милицию. Приходил по-деловому хмурый участковый и, поигрывая пухлой коричневой папкой, на крыльце внушительно беседовал с Женей, швыряемым из огня да в полымя, и вновь о камни, оперируя понятиями «тунеядство», «правонарушение», «в соответствии со статьёй», отчего ведущий солист «погорелого театра» увядал, «переходил на нелегальное положение» и рьяно притворялся, что устраивается на работу. Его с неохотой принимали в школьные дворники, трудился он до аванса, а обзаведясь деньгами, пикировал в запой.
По выходным к ним в гости приезжал из Тачанска старший брат, Александр. Толстый, среднего роста мужик, с одышкой и больным сердцем. Он, спотыкаясь в сухом буреломе, больше зависал на реке с удочкой, чем пил с роднёй, но и Сашка подчас закладывал за воротник.
Когда Женя уехал жить на Украину, нам стало необъяснимо скучновато без его шуток, прибауток и коронного акробатического номера, называемого им: «переворот лаптя в воздухе». Исполнялся он незамысловато: Женя с разбега проходил на руках несколько метров и, опрокинувшись назад, снова вставал на ноги. Не всегда «переворот лаптя» заканчивался благополучно, иногда Мартынов, успев поддать, не удерживал равновесия, с уханьем шмякался на спину, рискуя повредить позвоночник.
К нам, пацанам, он относился доброжелательно. Чувствовалось, — ему не хватает нормальной семьи, жены, детей. Пару раз я бывал в его полутёмной комнатке с грязными занавесками, пылью на шкафу и специфическим, въевшимся в стены, запахом кислой смеси дешёвого ядрёного курева, квашеной капусты, немытой посуды и вина. Женя показывал обёрнутую в газетку любимую, в пометках карандашом и ручкой, книгу «Как закалялась сталь» с автографом Владимира Конкина, и старые фото, где Мартынов, сияя белозубой улыбкой, был заснят в военной форме, с сержантскими лычками на погонах. Позволяя посмотреть фотографии, он кривился и поскорее убирал карточки обратно в комод, словно, они, храня отпечаток живой и ничтожный, напоминали ему о чём–то тревожащем, болезненном, что хотелось давно забыть, да не получалось.
Женя учил нас мастерить дирижабли из четверти тетрадного листа, вырезая по краям отверстия, и запускаемая конструкция, плавно вращаясь, медленно планировала на коврик.
Случалось, он изготавливал мне и Владлену луки, для чего мы с ним в октябре, по пристывшей уже тропке спускались за огороды, к зарастающей заболоченной речушке, и выбирали в топком ивняке подходящие стволы. Мартынов, пока намокал на льду пиджак его измятый, срубал их лёгким блестящим тесаком с выжженными на ручке рунами и фигурками викингов, подаренным позднее мне, и вскоре глупо мною потерянным, делал на концах надрезы и осторожно, стараясь не сломать, натягивал вместо тетивы толстую шёлковую нить. Стрелы выстрагивались из той же ивы, но из веток потоньше, а сверху насаживался жестяной наконечник из крышки консервной банки, сворачиваемый так, чтоб заострился. Оперение считалось излишеством и не применялось.
Летали подобные заряды криво, и вонзались, преимущественно в землю, а при попадании в дерево острие из мягкого материала попросту сминалось. Владлен и я, однако, восторгались этими робингудовскими аксессуарами, и до стылых розовых сумерек носились по межам, паля из луков в дальний трухлявый забор.
Спустя семь лет после отъезда, Женя навестил родные места, приехав на похороны брата Сашки, скончавшегося от инфаркта. Мартынов «завязал» с водкой и заметно изменился. Поначалу мы его не признали, спутав с прыгающим по чиновничьему снегирём. Он пополнел, опрятно, хотя и небогато приоделся и почти перестал заикаться. Просидев у нас минут сорок, он не однажды с гордостью упомянул, что женился, и новой жизнью вполне доволен.
А вот в Питерке с женщинами ему не везло, он блуждал в поисках идеала. Заводя речь о Жене, припоминали в первую очередь, как он вдрызг поссорился со своей возлюбленной, скромной, невысокой тихушницей Машей, носившей тусклый платочек поверх седеющих кудрей, работавшей контролёром ОТК на мебельной фабрике и взиравшей на окружающий мир печальными серо–зелёными глазами. Поругавшись с ней в очередной раз, ракетчик, шепча раскольничьи стихи, поставил несчастной фингал, забрался на крышу её дома, и положил кусок стекла на печную трубу. Никто не скумекал, почему отсутствует тяга и дым не идёт, куда ему полагается, а выползает из камина, наполняя комнату удушливым туманом. И лишь подобравшись к самому дымоходу, обнаружили, что он перекрыт. Неумолимая дама написала на кавалера ещё одно заявление, и Мартынов по совокупности с другими неприглядными выходками отсидел пятнадцать суток, выйдя из каталажки обросшим, похудевшим и злым.
Освободившись, он неделю пропадал на рыбалке, питаясь ржаным хлебом и таская всякую мелочь, скармливаемую наглым вопящим кошакам, собирающимся с окрестных дворов и затевающим гладиаторские бои. В июле, сминая тяжесть мирских забот, выловленную пикоть он солил и развешивал у чулана на леске, продетой в рыбьи жабры, прикрывая её от мух, прорезанными поперёк газетными полосками. Высохшей рыбой, слегка беловатой от соли, он угощал и меня, но мне жёсткое, горьковатое и костлявое лакомство, с которого вначале требовалось снять чешую, затем аккуратно отделить от хребта куцый слой мяса, а заодно избавиться и от костей, что было нереально, абсолютно не понравилось.
В день, когда он выгнал меня из сарайки, моей маме об экстремистских художествах её сына Женя не сообщил.
24
«Участникам конфликта была предложена „дорожная карта“, принятая ими к исполнению, в результате продолжительного обсуждения, большинством голосов»
Дик Сэнд. «Моя Африка»
Мне сложно объяснить поступок Мартынова иным явлением, нежели просто хорошие добрососедские отношения. Проживая в селе, окружающих знаешь, точно облупленных и частенько выручаешь их трёшкой до аванса. Здесь люди друг у друга на виду, поэтому, если кто женился, развёлся, напился, поколотил полюбовницу, детей, буквально на следующий день сарафанное радио разносит сплетни по улицам и ушам со скоростью гриппа, косящего поздней осенью сотрудников одной конторы. «От людей на деревне не спрячешься», — пелось в полузабытой песне, и являлось сущей правдой. Даже сейчас, когда многие понастроили двух — и трёхэтажных дворцов, отгородились средь самых шёлковых голов, от остального мира высоченными заборами, дабы обособиться, а, может быть и с целью обезопасить мир от себя любимого, и старательно таят свои махинации от затрапезных простецов с проницательным взглядом, задающих в лоб неудобные вопросы, типа: «Мишаня, ты на яки шиши особняк отгрохал? Чай не министром, обнаковенным милиционером работашь», они не способны сделать так, чтобы никто ни о чём не догадывался. Да и жизнь извне порой прорывается за прочную ограду камнем, которым метят в окно Мишке, крышующему незаконную деятельность горбатой барыги «Маньки — пулемётчицы», травившей в «святые чубайсовские 90-е» работяг и подростков нестерпимой сивухой из разведённого «Ройала», скопившей трудом неправедным стартовый капитал и переключившейся на торговлю наркотой.
А в те далёкие дни эпохи исторического материализма всё казалось ещё проще и прозрачней. И вот томными летними вечерками завязывается премудрый узелок, усаживаются на завалинки пенсионеры, обсуждают новости, принесённые на хвосте потрёпанной местным толстомордым сиамским котом–хулиганом, сорокой.
— Слышь, Никола, — легонько толкает в бок соседа, держащего у колена батожок и отмахивающегося веткой черёмухи от назойливых комаров, седенький очкастенький хрыч с прокуренными усами, — Плещеев–то вчерась чего вытворил…
Компания сдвигается поплотнее, и усатый дедуля, польщённый общим вниманием, продолжает заветный рассказ.
— Он с мужиками по выходным на рыбалку ездит, налавливатся до упаду, привозят опухшего, у берёзки выгружают. Бабёшке говорит, мол, комары покусали. Взял он к субботе пару флакона красного, притащил в избу. А в сенках ненаглядна топат. Он портвеху–то в печь поглубже и засунул, заслонкой притворил. Лето, хто в жару топит?
Рассказчик умолк, поскрёб нос, выбил из коробки папироску, продул её, раскурил не спеша, бросил спичку под ноги, наступил на неё протезом, и стал пускать дым, вспоминая фронтовые самокрутки, помогая слушателям отпугивать мошкару.
— И чё, выпил он его, красно–то? — интересуется Никола.
— Как же, выпил, — заходится смехом и кашлем седоусый из страны ворожбы и лукошек. И, прокашлявшись, сплюнув, и смачно высморкавшись, завершает:
— Манька, жинка егоная решила картоху для скотины сварить, печку-то и растопила. Главно, раньше на каминке варила, а тут вона вздумала! А он–то на работе! И Манька звонит ему в «Коммунальный» и в трубку голосит: «У нас в трубе бонба взорвалася, беги домой скореича». Он, ясно-понятно, отпрашиватся, торопится, но по пути начинат кой–чаго соображать. Прибегат, а там такой винный дух стоит! Хе-хе-хе!
(Фольклор: «Вино «Агдам», — дёрнешь, — не дам!» и «Трёхтопорный» генерал» герцога Сивухина»)
Старички и старушки, начинают подхихикивать, посматривая вокруг. Вдруг, не приведи Господь, увидит кто.
— Значица, разгребли они головёшки, золу, и вправду — бонбы, только без донышков, оне от огня полопалися! Вцепился он в бутылки, струхнул трошки, а жена, то на него, то на них смотрит и кумекает.
— И чё дале–то?
— А ничё! Не поедет он в выходны рыбалить!
— Чё так?
— Поясница нежданно разболелась! Скрючился, не до рыбы! Бают: ухватовка у него приключилась. Ухват супружнице егоной под руку подвернулся…
— Да, учудили! — ухмыляется Никола, а бабулечки, спутницы пролетевшего века, потихоньку хихикают в платочки, в разговор не вступают, мужья этого им покуда не дозволяли.
— Ваньку Савчука знашь? — отулыбавшись, и угостив присутствующих свойскими малосольными огурчиками, спрашивает Никола.
— Энтот, что у погоста живёт? Бык у его однорогий? И поросята с гусями? — хрумает огурцом Геша и вытирает усы.
— Ага, с гусями. Он к Клавке Гуриной шастат, а Марфе врёт: трактор чиню в мастерской, работать на ём скоро. А надысь опять допоздна Клашу ремонтировал. Она, опосля его ремонтов, наскипидаренной по Питерке-т носится. А у сарая егона скаватор чёта рылся, аккурат недалеко от кладби́ща. Ванюшка в темноте свернул у мастерских к могильнику, скостить, и провалился в яму–то! А она, заразина, скользка. Фонарей нету, шары выколи. Он — тык–мык, вылезти не может, сползает, а уж холодно. Потюхтил он по траншее, потюхтил, и давай надрываться во всю матушку. Спасите, орёт, помогите, выньте меня отседова! У, дурак малахольный, а! Кто поплетётся ночью к покойникам? Наоборот, за версту обходют. Баба егоная, хоть вопли–то и слыхала, но думала, пьяны гуляют, а он, паразит, в гараже со слесарями наклюкался, не впервой. А к утру милицейские приехали, их сторож покойницкий, Кирюха — «косорылый» вызвал, набрехал, что в яме мертвец валяется, хребтину поломал, а они и пригнали. Иван и взаправду лежал, дрых, пиджачком прикрывшися. Соскочил, едва машинёшка заурчала сверху, проснулся, закричать. Вытащили его, а он с испугу милиции рассказал, как дело было. Марфа его потом к Клавдии бегала. Об чём они тама балякали, не ведомо. В шесят четвёртом к нам в потребкооперацию направили из области холостого счетовода…
Доклад его прервало событие не менее важное, чем спавший у кладбища тракторист, а именно — по дороге, напротив скамейки, неторопливо шествовала пара. Женщина — высокая, статная, лет тридцати трёх, в лёгком, белом, чуть выше колен, платье в горошек, с оканьем медленным северных рек, со светлыми длинными волосами, забранными в игриво подрагивающий хвостик, перетянутый резинкой, прижималась к щеголеватому кавалеру, вырядившемуся, несмотря на предгрозовую духоту, в модный двубортный костюм, рубашку с драконистым галстуком и серенькую недорогую кепочку, скрывающую лысину. Красотка ехидно поглядывала на замерших, словно суслики в неясной мгле существованья, стариканов и, улыбаясь, что–то шептала на ухо ухажёру, а он после её слов, нервно косясь в сторону лавки, старался заметно ускорить шаг.
— Это чегой, Ленка снова с новым што ль гулят. Ишь ты, вышагиват! Кобыла на параде! Крупом трясёт! А вымя–то еёное ничё, молока, небось, вдоволь нацедит. Те, Геша, не нужна в хозяйстве дойная коровёшка? А чё за кобель с ней, не разберу. Ну–ка, у тебя больше глаз–то…
— Дак, залётный воробей, с города. Интелихент в шляпе! Он учёбу бухгалтеров проводит, в Доме Приезжих квартирутся. Видать, учит Елену Станиславовну разным штукам дебита–кредита, прихода–расхода.
— Докедова ж они намылились, поздно ведь? Кафе не робит…
— В кино, верно, почесали, али на танцульки. Куда ишшо–то? Сёдни ж танцы… — промокнув губы концами цветастого платка, неожиданно встряла в диспут Василиса, бабуля, сидящая рядом с очкастеньким.
— А ты откель знаш, Васька? Небося тожа на пляски собралася? Приглашал кто? — хехекнул Никола и постукал тросточкой по песку, сбивая с деревяшки муравьёв.
— «Собралася»! «Приглашал!» Типун те! Мои пляски в огороде с рассвету до закату. Нахароводисся, еле с гряды уползашь. Морковь полоть надоть, лук, свёклу, чеснок. Картошку окучивать, чертополохом зарастает, а ты тяпку никак не выправишь… А у них сёдня ка-а-анцерт, наскачутся, лодыри, нажрутся, пойдут пшютами под окнами, и горланить станут, а то и драку ещё затеют. Пол ночи не уснуть….
25
«Мне вы можете верить или не верить. Это ваше дело. В моём лексиконе таких понятий нет»
Генрих Мюллер. «Сыскные истории»
Вслушиваясь в их неспешные разговоры, мы с друзьями перешёптывались, сидя на соседней лавке, либо копаясь в песке, неподалёку от канавы, вырытой дедом Николаем вдоль участка, дабы вода дождей и весенней распутицы не заливала погреб, вплотную, то рысью, то карьером, подбираясь к стенам, а, грозно журча, уносилась вниз, на другую улицу, огибая усадьбу.
Метрах в шести от соседского гаража росла, огороженная деревянной клетью, высоченная рябина, восхищавшая нас, детей, мясистыми, сочными, красными гроздьями сентябрьских ягод, терпко–горьких на вкус, свисавшими поверх полусгнившего ограждения. Подрастая, мы меньше и меньше обращали на неё внимания. И рябинка, и увесистые кисти её плодов, горечь расставанья, боль и жалость становились чем–то обыденным и разумеющимся.
На южной стороне Николай вырастил тополя, и постепенно они вымахали настолько, что подобрались к электрическим проводам. И старик, вооружившись ножовкой, пятиступенчатой лестницей и табуретом, по весне прореживал густые ветви. Пару раз я пособлял ему спиливать щупальца, находившиеся в поле моей досягаемости. Мне это было внове, интересно и не сложно, хотя руки быстро уставали, а на ладонях, липких от молодых, дурманящих, нежно–зелёных завитушек, появлялись волдыри.
Зёрнышки радости утопали всё глубже и глубже в бесплодном пыльном песчанике возраста. Я абсолютно не помнил ни ножовку, ни пьянящую клейкость листочков, едва распускающихся под ласковым майским солнышком и карабкавшихся в безоблачную синь. Не помнил, как срезанные кроны немо падали на землю, а мы с Николаем и бабушкой Василисой собирали их и относили сушиться к поленнице. Хрустящие обрезки сжигали потом в камине. После смерти Николая, его дом, отличный, надо заметить, дом, с просторным мощённым и крытым двором, с недавно поставленной, взамен старой, банькой, пахнувшей сосной и берёзовыми вениками, висевшими в предбаннике, с огородом, сбегавшим с пригорка к чистому ледяному роднику, с теплицами, новые хозяева продали. Покупатели избавились от рябины и тополей, опоясали избу сеткой. О, Сольвейг, где ж косы твои золотые? Некому балагурить на завалинке, отмахиваться от комаров веткой черёмухи, травить байки; лавочку, забираясь на которую сандалиями, мы с братом лезли в окно, летом почти не закрывавшееся, разломали.
Ничто, происходившее с нами в юности, никакие отголоски не прячутся безвозвратно, не умирают окончательно, чтобы уже не воскреснуть. Они, трясясь в прокуренном вагоне, возвращаются, завладевают мыслями и эмоциями, вселяют в нас стойкое ощущение тяжёлой потери. Утраты чего–то такого, что не воспринималось нами всерьёз; чего–то, чему мы не в состоянии дать имя, что не в силах описать. Наверное, наиболее близким понятием этого считается ностальгия. Но её нельзя ни потрогать, ни сфотографировать. Она существует одновременно вне и внутри нас, побуждая срываться с насиженной жёрдочки, спешить на Родину. Но провалившись туда, мы замираем: мир перевернулся. Перспектива искажена — деревья состарились, горы стали ниже, ручьи пересохли, тропинки растворились. Да и трава на кочках теперь растёт иная, она совсем не мягкая, как чудилось в ослепительном прошлом. Однако ещё имеется нечто, заставляющее память обостряться, иногда позволяющее мужчине на миг выпрямиться мальчиком, играющим в логу у каменных глыб, и предвкушающим крик, несущегося малинником приятеля: «Я идууууу!!!»
Ему, не разомкнувшему жарких рук кольцо, близоруко щурящемуся парнишке, слова: «Я идуууу!!!» казались высшей ценностью на свете.
Не дороже ли они долгожданного женского признания в любви, ведь любое признание в любви, по сути, не любовь?
Не ценнее ли самой верной верности, ибо познал он, — верность хранят, пока это выгодно? И выгодно вовсе не ему…
Не отдаст ли он последнее единственно ради шанса превратиться в пацанёнка двенадцати лет отроду, коего друг извещает на бегу: «Я идуууу!!!»?
А ты?
Не там ли твоё место, не рядом ли с ним, счастливчиком, не ведающим обжигающего будущего?
Очутившись возле него, поделился б ты, что одноклассник, давным–давно летевший к нему со всех ног мимо картофельных грядок, однажды безо всякой видимой причины не захочет разговаривать с ним, безнадёжно рыскающим по городу в поисках работы. Товарищ «по кисти и туши», заколачивая приличные деньги, побоится услышать просьбу о помощи. Они выбивают из колеи, мешают наслаждаться собственной значимостью и делать бизнес, эти несвоевременные намёки на стеснённое положение, на проявление сочувствия.
Стоит ли пророчить подростку, заучивающему стихи о Прекрасной Даме, что та феодальная птичка любви, которую он не прекратит звать, обожать и слышать даже тогда, когда окажется не способным узнавать никого из окружающих, выкинет его за порог морозно-звёздным декабрьским вечером (а ему и идти–то, собственно, некуда), разменяв преданность на сытую и обеспеченную жизнь?
А о романтическом свидании с женщиной, бросившей его, о страсти, запоздало вспыхнувшей и исковеркавшей его, поведал бы?
А историю, как на фоне непрерывных домашних скандалов, непрекращающейся травли тёщей, он в прогулках по предвечерним душным июньским переулкам, куда убегал, лишь бы не слышать визга истеричной старухи, повстречает давнюю знакомую и переспит с нею? И не скроет сего факта от любимой? Напротив, франтовато козырнёт им.
Важно ли ему это знать?
Спасёт ли его это в дальнейшем?
Смог бы он на сквозняке осеннем ледохода осмыслить твои предостережения?
Твою исповедь…
Ты уверен?
Точно?
А, выложив ему всё, ты остался бы прежним?
Слабо?
Ты, вообще, заморачивался подобными вопросами?
Так, вероятно, и замечательно, что путешествие во времени невозможно? Что ты сделаешь, переместившись лет на 30 в прошлое? Буднично прокатишь на мотоцикле себя маленького, посмотревшись в него, словно в зеркало для героя?
Или?
Детство неизменно таится за нашим левым плечом, и чем быстрее мы от него удаляемся, тем ближе оно к нам. И не удрать из морока по-воровски…
Неуловимая вечность мелькает и исчезает, потревоженная рычащей из немецкого автомобиля какофонической мелодией. И вот, тебе снова сорок пять, у тебя куча болячек, тебе нужно не опоздать на городской автобус и, главное, — ты сомневаешься, был ли двенадцатилетним пацаном, чьими глазами осматривался мгновением ранее. И это досаднее всего. Это гложет, не отпускает, и ты приезжаешь сюда раз за разом, надеясь понять, совершалось ли в действительности то, что ты секунду назад воскресил? И не просто приезжаешь, а ходишь тропками, хожеными им, сидишь на неудобном камне у берега реки, облюбованном им для рыбалки… Скребя душу, сдирая с неё доспехи жизненного опыта, сливаешься с испытанным восприятием окружающего, переписываешь его… Ныряешь в никуда и обновляешься… Вживаешься в него и возрождаешься… Обретаешь утраченный покой, бессмертие…
Не сон ли это? Часто, заснув, мы вникаем в то, о чём прежде не имели и малейшего представления, а умираем от безнадёжности. Узнали и забыли. А вдруг случившееся — не мимолётная иллюзия? И куда же оно пропало? Можно его разглядеть, коснуться? Нет? Но как соединить себя с ребёнком, бегавшим по этим холмам, валявшимся в этой траве–мураве, окунавшимся взглядом в этот неправдоподобный небосвод?
«Ой — ли?» — подчас цепенею я. По этим ли холмам? А где колючие заросли можжевельника, населённые невидимыми сущностями, эльфами, гномами? Заросли милого ломкого почерка, предназначенные для бесконечных игр в прятки.
Они рассыпаются… Вылинявший, облезлый, переплетённый сухостой, перебрасывающийся через гнилой забор мячиком эха…
Да и в этой ли траве мы катались? Почему она некогда притягивала и ласкала, а нынче отталкивает, вынуждая подняться, не принимая.
А небеса? Отчего, долго наблюдая за бескрайним голубым океаном Соляриса, раскинувшимся в вышине, задыхаешься от тревожного жжения в груди? В минувшем он поражал беззаботностью и навевал грёзы.
А сегодня? Он зовёт? Ожидает? Напоминает, что мы скоро сольёмся с ним в одно целое, подкрадёмся к солнцу вон той небольшой серой тучкой?
Поверьте! Если пришло время, я готов стать ей. Выберу облачко посимпатичнее и, дыша тобою в рыжих сумерках, допрыгну до него, оседлаю туман…
Только немедля, не откладывая…
Сейчас и здесь…
А ты?
26
«Опыты по введению различных доз алкоголя подопытным животным в условиях повышенных температур, доказали проявление нарушения адекватного восприятия ими действительности»
Евгений Лукашин. «Учебник ветеринарии»
Я не зря задавался вопросом, чем же ещё обусловливалось положительное отношение Жени к нам с братом, кроме как вполне объяснимым нереализованным чувством отцовства, рано или поздно просыпающимся в каждом мужчине. Дело в том, что одно время он достаточно бодро подбивал клинья к нашей матери. Сватовство начиналось, стоило лишь Жене принять на грудь основательную порцию горячительного.
Почему именно тогда? А очень просто. Обычно Мартынов пребывал в двух состояниях: 1. похмелья и 2. подпития, переходившего в перепитие, сменявшееся похмельем. Да, вот по такому кругу он, преимущественно, и жил, чокаясь в честь прожитого пути. Ну, а, поскольку, бодун к активности не располагает, то подпитие, когда можно горы перепрыгнуть, «переворот лаптя в воздухе» продемонстрировать и море перейти, оказывалось самым подходящим.
Алкоголические ухаживания, конечно, имели прямо противоположный эффект. Однажды слишком раздухарившемуся Жене довелось охладиться, попав под недрогнувшую руку мамы Зои. Она, утомлённая нытьём кавалера, преследовавшего её по пятам, выплеснула на него ведро холодной колодезной воды, принесённой для поливки капусты.
Выронив сырую потухшую сигаретку, он, фыркая, вытер лицо, глянул на промокшие брюки, стряхнул с грязных пяток калоши, плюхнулся на стоящий у дровяника чурбан, и промычал нечленораздельно:
— Э-э-э-э! Т-т-тыы, ч-ч-чего т-т-так? З-з-за ч-что?
Мать презрительно покосилась на сдувшегося ухажёра, мгновение назад ходившего гоголем и отрезала:
— Было б за что, я б тебя поленом. Уяснил? Продрыхнись, «Бальзаминов», надушись одеколоном «Саша» и галстук-бабочку пришпандорь. Тоже мне тут, жених выискался, ёлки–палки.
И, прихватив опустевшую посудину, чуть улыбаясь, отправилась к колодцу. Кочаны просили пить.
Женя не ответил, красноречие его иссякло, он вяло повздыхал, сливаясь с природою, с беспамятством, созерцательно осмысливая произошедшее, и сушась на вечернем слепящем солнышке.
Однако, потерпев поражение, сосед не собирался сдаваться. В жизни он руководствовался принципом: «Если я чего решил, выпью обязательно!», поэтому попытки свои, совершенно бесплодные, не бросил. В конце сентября, совсем одурев от шмурдяка, Мартынов, азартно давя на звонок, принялся рваться к нам в сени «п-п-пагаварить». Отпирать мама не торопилась. Напротив, застращав бузотёра участковым, щёлкнула вторым крючком, и выкрутила пробку в электросчётчике. Воцарилась темнота и тишина, вызвавшая у расходившегося поклонника сначала недоумение, а затем ярость. Матюгаясь заплетающимся языком, не придумав, что бы оригинального предпринять, он сорвал, крепившийся тонкими гвоздиками жёлтый циллиндрик.
Вечер чёрные брови супил, стрелки на часах приближались к одиннадцати, и в сумерках его фортель не заметили. Непорядок матушка обнаружила утром, уходя на работу. Сразу поняв, чья это выходка, она ногой стала стучать в соседнюю дверь. Стучала, не стесняясь, — и порог, и притолока сотрясались от ударов. Наконец, за перегородкой проклюнулось шебаршение, и раздался хриплый мужской голос существа, измученного далеко не «Нарзаном»
— М-м-м, к-к-кто там? М-м-м…
Доносившееся «М-м-м» отчётливо означало — обитателя апартаментов колбасило после вчерашнего, а подлечиться он покуда не успел.
— Открывай, давай, женишок. Разговор есть. Дату свадьбы уточнять будем.
Показался взлохмаченный, опухший и заросший щетиной Женя, держащийся правой рукой за косяк, а левой — за собственную раскалывающуюся черепушку, с наскучившими ей лукавыми новеллами.
— Твои фокусы? — показала мама на огрызок провода.
Буян молчал, виновато кося мутным лиловым взглядом на стенку, накануне отсвечивающую звоночком.
— Короче, слушай. К пяти не отремонтируешь, — я иду в милицию и пишу заявление. Очередные пятнадцать суток получишь. Ясно–понятно?
— Я это… п-п-понятно, с-с-сделаю, — промямлил дебошир.
А мать, спустившись с крыльца и помахивая сумкой, со злым холодком иронии поспешила на завод.
Проспавшись, немного очухавшись, а, скорее всего, и чуток поправившись, Мартынов, помня угрозу соседки и, зная её крутой нрав, нащупал кнопку в кармане серых, клетчатых, давно не стираных штанов, в которых он приходил «п-п-па-а-агаварить», и занялся ремонтом.
Весь процесс наблюдала кормившая кроликов Клавдия Михайловна из квартиры №1, чьё внимание привлекли непонятные манипуляции неугомонного скандалиста у запертого чужого замка.
Всё, вероятно, прошло бы гладко, кабы не один момент, о коем никто не подумал. Жилище стояло пустым, мы с Владленом ушли на уроки, а электричество оставалось не отключено.
Вы не пробовали без перчаток возиться с оголённым кабелем под напряжением 220В? Я — нет, что я, дурак? А Женя попробовал. Голыми, дрожащими с отходняка пальцами.
Шваркнуло его знатно! Он с криком: «…е-е-етить!» слетел со ступенек и врезался в поленницу берёзовых дров, сложенную у веранды, опрокинув кадушку из-под потока и напугав кошку черепаховой масти, постигавшую в жёлобе дзен человечьей поломанной любви и молчания поэта.
Продолжая материться и мотать головой, будто отгоняя кого–то, видимого исключительно ему, Мартынов ускакал к себе.
Вернувшись, и не отметив никаких изменений, мамаша снова начала ломиться в провонявшую водкой, рыбой и табаком комнатушку:
— Эй, «переворот лаптя в воздухе»! Я в ментовку.
Мизантропичный монтёр-ракетчик нарисовался, словно по мановению волшебной палочки и сказал примирительно:
— Т-т-ты хоть… т-т-ток вы-ыруби.
Звонок он вернул на место, исчерпав инцидент с лодкой, разбившейся о постылый быт…
27
«Полёты на воздушном шаре — анахронизм и вчерашний день! Грядёт эра высоких технологий!»
Сайрос Смит. «Популярная механика»
Той же осенью, в октябре, когда начались затяжные туманные дожди, иногда и с редким, сразу таявшим снежком, и разумнее было бы томиться после школы в тёплой квартире за интересной книжкой о капитане Питере Бладе, неудержимая страсть к поиску доморощенных приключений на свою задницу частенько влекла меня к плотине и швыряла в степь заледенелую.
Светловка образует у нашей деревеньки озерцо вытянутой формы, смахивающее очертаниями на расползшуюся печень циррозника. Водоём имеет не естественное происхождение, он создавался в период великих строек, и на его берегу располагалась небольшая электростанция, о которой ныне не дают забыть развалины. Пацанами мы, грошовые игрушки мастеря, излазили их вдоль и поперёк, ползая по поскрипывающему старому катеру с ржавым винтом, лежащему вверх килем в средней секции бывшей станции, и прикидывающемуся выбросившимся на песок гигантским китом, нежным и ранимым, точно польская граница в 1939 г. От собственно помещения почти ничего не осталось за исключением пары–тройки серых капитальных блоков, скрытых деревьями и разросшимся одичавшим кустарником. При желании туда можно попасть до сих пор, т.к. всё это находится в центре села, на территории разворованной в «обильные 2000-е» мебельной фабрики, но останавливает опасность обрушения ветхих строений. На чудом уцелевшем фронтоне читается фигурная дата основания — 1926. Однако не столько руины, источавшие плесневелую жуть и марктвеновскую таинственность, притягивали нас. Манила атмосфера заброшенности и гибельного запустения прежнего величия. Из грунта торчал стылый рожок почтальона и арматура, от сильного ветра с гнилушек перекрытий сыпалась земля и катились мелкие камушки, во впадинах под ногами хлюпала жижа. По прошествии многих лет я жалел, что не удосужился сфотографировать умирающий памятник деревенской истории, впрочем, теперь досадовать поздно.
Современный шлюз, призванный регулировать уровень пруда, построили в «эпоху волюнтаризма и следа от башмака на трибуне ООН», сковав его угрюмыми оглохшими стенами, а за ними, справа, свалив большие куски скальных пород. Левый берег — ниже правого, тоже насыпной, с преобладанием щебня и отдельных сизых булыжников, на треть ушедших в глубину. Забравшись на них, мы забрасывали леску с наживкой в середину потока.
Через дамбу, над ревущим водопадом, явственно видимом земному взору, пролегала избитая грунтовая дорога, поднимающаяся затем в горку. По её краю на протяжении спуска были установлены металлические ограждения и перила из труб. За год до описываемых событий, местный юморист, чудак и алкоголик Гена Краля, вёз в грузовике на фабрику несколько бочек краски. С горы, спускающейся к плотине, он решил промчаться лихо, с ветерком, сигналя, не притормаживая, но на беду, не справился с управлением, скатился с откоса, врезался в парапет, проломил его, и вместе с перевернувшимся автомобилем, рухнул в бездну. Говорят, пьяных Бог хранит. Гена подтвердит, ибо отделался тогда парой царапин на морде небритого лица. Чего нельзя сказать о машине, её, покалеченную, пришлось извлекать со дна подъёмным краном.
За утопленную технику и грубейшее нарушение ПДД Гену арестовали и судили, дав условно «двушку» и обязав возместить убыток. Не знаю, компенсировал ли он стоимость разбитого «ЗИЛа» и утраченных лакокрасочных материалов, но вскоре упомянутый прохиндей угрохал и свой мотоцикл «Урал», опять нисколько не пострадав при аварии. На нём он, шутя, рассекал перед гаишниками в самодельном шлеме, изготовленном из половины выеденного арбуза. Хохмач и сам служил в милиции, пока его не выгнали за пьяную драку с самогонщиком.
Потом Краля, не мысля опомниться, взяться за ум, ещё не раз демонстрировал везение и умение хорошо плавать. Однажды в апреле, едва сошёл прибрежный лёд, Гена на спор плюхнулся в ледяную Светловку, доплыл до льдины, покачивавшейся метрах в двухстах от суши, вылез на неё, попрыгал, крича и размахивая руками, и, будто ни в чём не бывало, вернулся обратно к корешам, выиграв бутылку водки, раскупоренную и распробованную с ужимками и хохотом тут же у сосен, «для сугреву».
Водозабор и река у моста являлись излюбленными местами паломничества заядлых рыбаков. Рыбачили на червя, мотыля, тесто с каплей анисовой настойки; внизу, ближе к шоссе, ночью, рискуя угодить в лапы рыбнадзора, некоторые орудовали сетью, бреднем, саком. Одно время массово кинулись удить с помощью тройников. К урезанному удилищу привязывалась толстая леска с тройным крючком и грузилом и забрасывалась в пену, прямо в бучило, где клокотал водоворот, и периодически резко вздёргивалась. Добыча подцеплялась за брюхо, за бок или жабры, и изуродованная, окровавленная вытаскивалась наверх. Ловить описанным образом, конечно, запрещалось, и практиковалось исключительно при сбросе излишков воды. Фантастически мощная волна, кладя пределы смертному хотенью, увлекала за собой брёвна, затопляла осоку, покачивала валуны, бурлила, бросалась на невозмутимые пятнадцатиметровые преграды, облепленные любителями лёгкой наживы, обдавала их брызгами. Это пугало немногих, — за вечер удавалось натаскать целое ведро достаточно крупных линей, поблёскивающих желтоватой чешуёй, огневой кожурой абажура. Сейчас они в речке не водятся.
Когда открывали шлюзы, от русла следовало держаться подальше. Светловка увеличивалась в полтора раза, превращаясь в злобного неистового дракона, планирующего вниз с пугающей силой и сметающего всё на пути.
В прочие часы Светловка ровна, спокойна и даже переходима вброд. Мы пересекали её не единожды без какой–либо определённой цели, просто из озорства. Закатывали штаны выше колен, балансировали на скользких камнях, а тягучие зелёные водоросли, напоминавшие волосы спившейся русалки, обвивались вокруг наших лодыжек, проникали, щекоча, в сандалии.
Поздней весной неожиданно вздумали укрепить стены, замазать ползущие по ним трещины. К ограде свезли кучу разных строительных конструкций и две стальные балки шириной сорок сантиметров. Оказавшуюся подлиннее перекинули на противоположный берег. Вторую, покороче, уложили криво, она, замерев на полдороге, нависала над рычащей лавиной. Как у нас принято, закончив работы, их бросили на участке, убрав лишь грядущим летом.
К ним–то под сеющей с неба дождевой пылью и понесла меня нелёгкая в недобрый непогожий смурной осенний день, разметавший косицы белокурой Светловки.
28
«Страх воды присущ не всем видам кошек, но имеется у некоторых пород собак»
Николай Глазычев. «Милицейские будни»
У сельских мальчишек переправиться по балке с левой стены на правую, не зацикливаясь на воющей, близкой, вихрящейся, дьявольской бездне, считалось признаком храбрости. Чудилось, если свалишься с вышины в гипнотическое бучило, — ничто не спасёт. Я не помню, чтобы кто–то, сорвавшись, утонул, однако не покидала уверенность: со мной будет именно так, а не иначе. Плавать я не умел и за горькой славой первопроходца не гнался.
Не каждый сходу отваживался на опасную прогулку, а рискнувшие, шествовали с непроницаемыми маскообразными напряжёнными лицами, демонстрируя разинувшим рты соплякам, мол, уж они–то ни капли не боятся, ни прозрачной выси, ни бурлящего водопада. Переходили и Панчо, и Гоша, и Банан, и «ботаник» Алик Светлов. А я — пасовал, высоты страшась неимоверно, и омут, чуя это, шептал, манил, убеждал сигануть в пучину. Не единожды я, передвигаясь на корточках и хватаясь за узкие неласковые края с пузырящейся краской, добирался до середины, трясясь, разворачивался и, сглатывая горечь, не думая ни о чём, шоркая коленками по перхоти ржавчины, волокся обратно. Приходилось, пыхтя, карабкаться отвесным склоном к дороге и по ней перебегать на противоположный берег, а тянуло лечь у явора, у ракитова куста, сжаться в комочек, обиженно расплакаться.
Приятели посмеивались, обзывали «ссыкуном», но преодолеть дрожь в коленях у меня не получалось.
В полыхнувшем рябиной сентябре, набравшись решимости, когда рядом никто не мешался, не хихикал, не тыкал пальцем, я, скрипя зубами, вновь тронул сандалией спящую сталь и сделал шажочек к пропасти. Шлюзы в тот раз не открывали, и Светловка была ленива, добродушна и снисходительна, хотя и притягивала внимание. Кружилась голова. И кашляло, обрываясь, сердце. Шажок за шажком, осмотрительно, размеренно и осторожно, я продвигался вперёд, и незаметно большая часть пути осталась позади. Отступать оказалось поздно, и вскоре я спрыгнул на земную твердь, запнулся за корягу и содрал ладонь. Особой, запоминающейся радости я сперва не испытал, шок от пережитого гасил остальные эмоции. Лишь отдышавшись, я уяснил, дивясь простору и раздолью души несломленной, что, как и прочие, прошёл безрассудный тест.
По–прежнему содрогаясь от испуга, я ещё и ещё, становился, закусив губу и сжав кулаки, на холодную и мокрую металлическую площадку, задерживал дыхание. С возрастом я в значительной мере излечился от акрофобии, а вместе с ней пропало и желание выкидывать неоправданные фортели, кого–то в чём–то убеждая. Совершать отчаянные поступки стоит, доказывая нечто — себе, не посторонним. Наши фобии существуют, пока существуем мы, умение заглушить страх не гарантирует полного избавления от него. Оно позволяет поверить: ты — крепче, а, следовательно, в критический момент оттолкнёшь слабость, свернёшь ей шею. Мужество — не бесстрашие, а способность трансформировать архаичные комплексы неполноценности в силу.
Добежав до дамбы, я не воспользовался ненадёжной переправой, ибо замыслил совершенно другое. Мне хотелось наловить медлительных пучеглазых раков, приобщившись к страсти проходящего года. Усачей тем незабвенным летом волокли с пруда, выуживая целыми выводками. Я предвкушал, что играючи наберу и по аллее, устеленной шкурой тигровою, принесу пяток хвостатых, чем удивлю маму, друзей. Судачили: зверюги прячутся меж валунов. Опытные и везучие, вытаскивая добычу на свет божий, бросали её в кастрюле, разводя костёр прямо на камнях. Пищей огню служили притащенные сверху старые сухие черёмуховые, тополиные и яблоневые ветки, расколотые ящики из-под фруктов, щепки и поленья, тайно позаимствованные у калиток беззаботных пасторальных домишек неподалёку. Выеденные панцири, клешни, выбрасывались тут же и похрустывали под подошвами. Порой попадались трупы странных, сероватых, с белым брюшком, продолговатых рыбин, и, мечась, замирал звук помятой трубы. Они походили на недоразвитых змеёнышей, слыли ядовитыми, на жарёху не годились и, вытряхивались из сака на прибрежную щебёнку, где корчились, безуспешно пытаясь доползти до спасительного гремящего потока. Среди прочего ужаса, про кошмарных злобных обитателей глубины ходила байка, будто они вцепляются зубами в обнажённую человеческую голень и высасывают кровь. Пацаны подозрительных тварей опасались и, видя извивающееся тельце, целили в него безжалостным гранитом, стремясь добить. Разумеется, угорь абсолютно безобиден, но тогда я обходил их, пусть мёртвых, раздавленных и нагих, за метр.
И вот, очутившись у реки, я улёгся животом на плиты, сразу намочив и замарав единственную выходную ветровку и брюки. Закатав рукав, я пошарил под первой глыбой, под второй, под третьей. В сапог неведомым образом просочилась до дрожи противная вода, мне пришлось его снимать, вздыхая, засучивать и отжимать трико. И ничего, ни намёка на раков!
Даже рыбаков, взмахивающих изредка длинными бамбуковыми удилищами, в описываемый промозглый день на плотине не наблюдалось. В неясной дымке, в колыбели русской скорби, под тополями, у чьего–то подкрадывающегося к осоке огорода, маячила непонятная одинокая фигурка. Знай я, кто это, наверное, не задержался бы долго на валуне, отдыхая и болтая ногами.
Поднявшись, отряхнувшись и спустившись ниже по течению, я повторил заход. Но и он не дал эффекта.
Куртка пропиталась влагой, стало совсем неуютно и зябко. Запястья полиловели, я подышал на них и вытер о штаны. Запах водорослей, смешиваясь с вонью мочи, гниющей рыбы и сгоревших досок, вызывал тошноту.
Вконец отчаявшись, я собрался было перебраться чуть дальше, и вдруг у меня за спиной раздалось:
— Чё, раков ищешь?
На полузасыпанном глиной бревне, стоял Колька Налим, деревенский пятнадцатилетний уркаган, худой и высокий, с желтоватой прыщавой мордашкой, редкими тараканьими бровями, пушком усиков, куривший папиросы и пивший вино, картинно сплёвывавший табачные крошки, постоянный клиент детской комнаты милиции. С ним не справлялись, ни мать, чередовавшая мужиков с пьянками, ни завучи. Инспектор по делам несовершеннолетних говаривала Налиму: каким бы скользким он ни притворялся, непременно загремит под фанфары в колонию. Прогнозы её, на платье тёмное надетые, в итоге сбылись.
Колька часами торчал на берегу, не брезговал мелкой костлявой рыбёшкой, варя из неё уху, прикармливая невзрачную серую кошку. Ребята моих лет Налима побаивались, он запросто отбирал червей, снасти, а сопротивлявшимся с наслаждением отвешивал подзатыльник.
Колька и являлся примеченным у деревьев типом, и теперь, подогнув болотники, покачивая спиннингом, возвращался с рыбалки. Побрякивала крышка порожнего зелёного бидона.
— Ага, — невесело пробормотал я. И пожалел, что не смылся раньше и вообще потащился сюда.
— И много? — спросил Налим и сплюнул в пену.
— Ничё, пусто! — кукольно пожал я плечами.
— Дык, ты неправильно ловишь. Без приманки не поймать.
— У-у-у… А чем приманить? — неподдельно изумился я.
— Дык, шапкой. Все ими таскают. Во, давай, покажу. На неё–то они хорошо прицепятся. Цапнут, а ты тащишь. А! Чего достану, половину заберу. Лады?
И Налим, стирая строчки об отчизне, аккуратно прислонил удилище к обрыву, опять харкнул, сдёрнул у меня с макушки вязаную демисезонную синюю шапочку с вышитыми красными оленями и лохматым помпончиком. Я отпрянул, уклоняясь, но убор уже перекочевал к Налиму. Колька склонился и макнул его в волны.
Я ждал, а Налим, расправив сапожищи, наклонялся и наклонялся, исследуя укромные уголки под скалами.
— Не, не парься, нету щас раков, лучше ночью их караулить, они на фонари идут. На! — он, выпрямившись, разочарованно шлёпнул на булыжник измочаленную тряпку, с которой текло ручьём, почти такую, какой у нас мыли полы. Без помпончика, он, видимо, задев за острый выступ и оторвавшись, сгинул на дне, где бледная лазурь глядится в луны.
— Колпак натяни, уши надует, — выпустив дым, кивнул Налим и протянул пачку, — будешь?
Я отрицательно помотал башкой:
— Не, не хочу.
— Тоже верно… Гы-гы-гы! Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт! — и гадёныш, загоготав, не оглядываясь и посвистывая, поднял удочку и, ловко поскакал в горку.
— Эй! — крикнул я ему вслед. — А шапка?! Меня убьют за неё…
Налим обернулся:
— Чё, «ашапка»? Не брал никакой «ашапки»… Хы-хы-хы! И ты меня не видел, и я тебя. А сдашь…!
Налим многозначительно погрозил кулаком.
— Сечёшь, «ашапка»? Я тя поймаю и…
Возле моей щеки пролетел окурок. Захрустела бурая полынь, задребезжал бидончик.
Я сидел на крошащемся колючем щебне, постепенно сознавая, — меня ожидает выволочка. И за измазанные бриджи, и за вымокшие носки, и за… Вечно в гадости влипаю! Ещё и раки… Тьфу, блин!
Вечерело, и матушка, вероятно, воротилась с работы, оттого, я с сырой и грязной ветошью в кармане, шёл на прямую расправу. Морось грядущей любви в поднебесье иссякла, одежда на пронзительном недобром ветру подсохла и выглядела отвратительно.
Лихорадочно соображая, удастся ли выкрутиться, представляя недобрую ухмылочку Налима, я решил прибегнуть к испытанному ранее способу.
Мама, узрев меня, мявшегося в прихожей, печатающего узкие влажные следы на линолеуме, отреагировала вполне стандартно.
— Это как называется? Где ты шлялся, свинья? Пошевеливайся! Ишь копается? И шапку испортил, дрянь! — принялась кричать она, повышая голос, словно под воздействием вращения невидимого рычажка, регулировки тембра, настройки эквалайзера, сдёргивая с меня одёжку и выворачивая из ладони шапчонку. — Признавайся, где шатался, скотина безмозглая?
— А-а-а! Мам, это не я, — понеслись мои завывания в ответ на её тычки и демонстрацию приготовленного для порки отцовского армейского ремня. — Это не я, я не виноват!
— А кто, кто виноват? Я тебе её изорвала?! Ты гляди, сволочь, что натворил! Тебе каждую неделю новую покупать? Я миллионерша, по–твоему? Обнаглел! От рук отбился! Твердишь, твердишь тебе, и никакого результата! Смертным боем лупцевать, да? Хлыстом, да?
— Нет, чесслово, не я! Меженин! Он шапку у меня отобрал, в лужу кинул и меня туда столкнул! А-а-а! Не бей! Прошу, мама! — увернуться не вышло, и ремешок, голодно щёлкнув, приласкал мои ляжки.
— Прекрати тень на плетень наводить? Снова Меженин? Очень удобно! — орала мать. — Хватит на Меженина шишки валить?
— Меженин! У пруда! В лужу! У магазина! Не вру! — жалобно скулил я.
— Может, и правда Меженин? — вступилась за меня бабушка Анна. — Ты слыхала, он маленьких часто обижает, то деньги отнимет, то стукнет? У Воропаевой Люськи-то внучке крапиву за ворот сунул…
— Меженин?! Не мели чушь! Я в школу завтра утром пойду разбираться, к директору! Пускай-ка, они там с этим Межениным поговорят, пускай! А ты, заразина, переодевайся, жри быстро и садись за уроки. Почему по математике «двойку» за «проверочную» не исправил, а? А в дневнике кто замечание лезвием подтёр? Меженин? У-у-у, ирод, наказание за грехи!
Убедившись, что гроза миновала, я, покуда матушка отправилась за порошком для стирки устряпанных мною вещей, сбиваясь, поведал баб Анне впопыхах придуманную историю, добавляя новые сочные подробности, лепя ярлык незрелых слов. Она слушала и осуждающе жевала беззубыми дёснами. А дед, заскочив к нам назавтра, сызнова наведался к Меженину, и весьма некстати застал его дома.
Неприятный случай забылся. Подростковая память избирательна, светлое припоминается легко и свободно, обнадёживая, даруя иллюзию счастливой и достойной жизни, а мерзость, совершённая когда–то давно, таится глубоко в подсознании, выскребать её тяжело. Время от времени его полагается встряхивать, перелистывать, подчёркивать, дабы не зазнаваться и не множить деяния, укорачивающие мгновения наши и окружающих людей. Всего лишь подпись под доносом о намеренно осуществлённом в институтской лаборатории гидравлическом ударе, направленном против «товарища Рудимента», способна обернуться роковым визитом преданного и проклятого друга. И уже не извернуться, сколь ни старайся. Но это в кино.
Да только ли в кино?
С тех пор, издали завидев Меженина, я, избегая сталкиваться с ним, сочащимся презрением, нырял в подворачивающуюся щель, в акацию, шарахался в проулок, торопился к своему палисаднику, студил сквозь пыль ледяные глаза.
Нежелательная, пугающая встреча состоялась внезапно, закончилась — непредсказуемо.
29
«Наш отряд, приветствуемый местным населением и гусями, несколько раз торжественно входил в село и уютно располагался среди его жителей»
Попандопуло. «История гражданской войны в сельской местности»
Лето сверкало, сияло и щедро расточало ультрафиолет, когда на безоблачном горизонте глумливой судьбы, среди коней, колосьев, кепок и косынок появились два новых человека. Первым стал Зяма, отсидевший в колонии для несовершеннолетних год за хулиганство. Редкостная гнида, сущее воплощение всего самого отвратительного и злого, мелкий бес, способный причинить крупные неприятности. Зяма приехал в гости к бабке, а затем и вовсе перебрался к ней жить от родителей–алкоголиков. Осел он на Почтовской нежданно-негаданно, и скоро заблистал эполетами генерала песчаных карьеров. Столь же неожиданно он потом и исчез, как–то в сумерках подколов финкой подвыпившего мужчину, ковылявшего из кино.
Зяма быстро объединил доморощенные подростковые отбросы и сколотил из них нечто вроде шайки, закономерно вобравшей в себя и Налима с Межениным. Днём эта компашка тусовалась на зяминой верандочке, откуда слышались музыка, крики, мат и глухой стук, то ли ломали что–то, то ли наоборот, чинили. А вечером они неузнанными мускусными овцебыками выходили на охоту, сшибая деньги у пьяных, избивая их в случае сопротивления.
Роста Зяма для своих 16 лет был среднего, чуть выше меня, и заметно крепче, мускулистее. Светлые жёсткие вьющиеся волосы благодаря короткой стрижке не прикрывали покатый лоб. Грязные кисти лап с наколками букв, на плече грубо выполненная синеватая татуха — оскаленная волчья пасть. Зямины серые глаза, узкие, словно щели ДОТа всегда щурились подозрительно, недоброжелательно и с угрожающей усмешкой. Щеголял он в заношенном синем спортивном трико и в распахнутой на солнцепёке, замазанной солидолом, безрукавке. Слова растягивал на блатной манер: ну-у, шке-ет, вали сю-юда!
И всё б ничего, поселись он на отшибе, в тупике, в проулке, в конце концов, мало ли у нас в деревне отиралось подонков, одним больше, одним меньше, не особо и критично. Но этот говнюк обустроился на полпути от маминой квартиры к дому бабушки, где мы обычно околачивались допоздна. Улица простилась с безопасностью, т.к. хорёк из кодлы, маявшейся на травке у зяминых ворот, обязательно выпрыгивал на дорогу и, просто ради удовольствия давал мне, или моему спутнику, оплеуху, затрещину. Пару раз Зяма лично перехватывал меня, останавливал и хватал за футболку:
— Ста-аять, фуфел! «Бабосы» есть? Гони полтинник за проход!
— Нет у меня денег… — отвечая, я помнил, что гордость — удел городов, и смотрел на его губы с коростой сбоку, тянущие фразы.
Я, и вправду, не имел монет, неоткуда им взяться у 13-летнего пацана — безотцовщины из не слишком обеспеченной семьи…
— А поискать? — и Зяма запускал пятерню в мои карманы, вытаскивал большим и указательным пальцем носовой платок и театрально фукая, швырял его в пыль, и едва я нагибался поднять, он, развернувшись, пинал мне под зад. Я закономерно падал, сбивая ладони о землю.
Зяма ржал, поквохтывая и щёлкая дорогой бензиновой зажигалкой.
Что мог я противопоставить ему, прошедшему огонь и воду, бывшему сильнее и старше меня? Я, заворачивавшийся от потерь в промозглые перины облаков, трусливый книжный ребёнок, не знавший битв и не умевший сражаться ни на мечах, ни на кулаках? Пожаловаться? Кому? Дети обитают в странном возвышенном замкнутом пространстве, зачастую не пересекающемся с приземлённым миром взрослых. Не хотел я и просить помощи, очень надеясь, что Зяме вскоре надоест меня третировать и он сам собой «рассосётся» в бесконечности. А он никак не «рассасывался»…
Причём, даже тормозя меня не в одиночку, а с кем–то из друзей, Зяма чаще обращал навязчивое внимание преимущественно на мою скромную персону, вызывавшую у него дикую и необъяснимую антипатию. Хотя, обождите, пожалуй, он пробовал докопаться и до Панчо. Но долговязый Панчо дерзко и хлёстко парировал его выпад, и Зяма, осклабившись, отступил.
Однажды, я за яблоком и стрекозой с радужной сеткой крыльев, направлялся к бабушке вместе с приземистым, по воробьиному вертлявым Бызей, белобрысым хохотунчиком из нашего класса, без умолку болтавшим и хихикавшим. Как назло, мы избрали не совсем удачное время для прогулки и, напротив кирпичной закопчённой кочегарки, перед нами внезапно материализовался, точно из воздуха, чёртов Зяма.
— Чё, до-одик, хочешь получи-ить? — и, не дожидаясь отклика, он легко двинул меня по скуле. — Кароч, в субботу бу-уешь у меня во дворе драться со своим длинным ко-орешом. (Зяма подразумевал Панчо) До крови! А кто проиграет, тому вло-омим. Ты поял?
— Понял, — тихо произнёс я, глядя снизу–вверх Зяме в переносицу, и аккуратно потирая покрасневшую щёку.
— Чё ты пони-ил, ка-а-зёл? — и он снова взял меня за воротник рубашки.
— … драться будем…
— И чё? Буешь, ще-егол?
— Да, — твёрдо и спокойно, вопреки внутренней дрожи, отозвался я, переведя взгляд на уровень его глаз и, думая про себя, мол, надо быть идеальным кретином, чтобы добровольно явиться к нему в ограду и изображать там гладиаторов на потеху уродам.
Зяма слегка удивился подобному повороту, ухмыльнулся.
— Хм… Ну ладно, тогда, па-ашёл!
И он попытался напоследок меня огреть, но я увернулся. Компания под окнами загоготала и заулюлюкала, а мы с Бызей рысью отбежали на безопасное расстояние, в тишину, создаваемую роком обстоятельств.
— Чётко он тебя, а! — восхищённо пискнул Бызя и потянулся к моему подбородку:
— Вот так, кажись?
— Ты–то чего лезешь? Крутой? — я отбросил его руку и, отвернувшись, ускорил шаг.
Жизнь сделалась мне не мила. Везде попадался проклятый кровосос с подпевалами, и приходилось под нестройное гоготание получать незаслуженную порцию унижений.
Взвесив и разложив по полочкам ситуацию, я постановил обходить Почтовскую, пробираясь к пункту назначения дальними закоулками. Существовало минимум три окольных пути, неунывающих, задиристых и вольных.
Предпочитаемый пролегал меж разлинованных картофельных гряд, и упирался в полутораметровый забор. Преодолев его, я оказывался за Бытовым Комбинатом, в саду, полностью заросшем крапивой и сиренью. Извилистая неприметная тропка, пересекавшая одичавший сквер, уводила к разваливавшейся изгороди с наполовину выломанными досками. Шмыгнув в дыру, она бежала к заболоченной речке, шныряла средь хлёстких ив и вековых загрубелых неохватных тополей, в чьих кронах, дразнивших молнии, виднелись тёмными кляксами грачиные и вороньи гнёзда. С десяток ворон, потревоженных чужаком, начинали орать и кружиться над деревьями, проливая шнапс из фронтовой фляжки, придавая этому мрачному месту зловещий колорит.
Выбравшись на обрывистый откос, я, сливаясь с гнилушками частокола, вслушиваясь в птичий гвалт, осторожно ступал скользким маслянистым берегом, стараясь не скатиться в гнилой вязкий ил. Метров через 50—60 я облегчённо выдыхал, т.к. опасная зона, а именно — участок зяминой хозяйки, подступавший к топи, оставалась позади. Пара минут и, еле видная стёжка, проскакивая выложенный камнями родник с прозрачнейшей ледяной влагой, от которой ломило зубы, расширяясь, выплёскивалась на Коммунарскую, к избе деда Николая. Добравшись до неё, я шагал далее без опаски.
Ещё один кружной путь вёл Калининской, неумолимо сталкивавшейся по перпендикуляру с Коммунарской. Выбирая его, я спускался к шаткому деревянному мостику, с торчащими из перил ржавыми шляпками гвоздей, и у книжного магазина сворачивал направо, топая до Коммунарской — авеню. Впрочем, описанный маршрут, не исключал свидания с Зямой на 100%. Он запросто мог шариться в районе Коммунарской — авеню и Калининской — стрит, обделывая сомнительные махинации.
Третий запасной вариант толкал к школьному парку. Его аллеи, напоённые вечным духом крушины, горьким и унылым, упирались в улицу Леонова, параллельную Почтовской, и ею я достигал бабушкиного огорода. Оказавшись возле жавшегося к колее плетня, я, вскарабкавшись на груду тёса, преодолевал его, попадая сандалиями прямо в ботву с картошкой, зарываясь ступнями и коленями в мягкий, прогретый солнцем чернозём. Это уже не играло роли. Главное, я чувствовал себя неуязвимым как Д’Артаньян и хитроумным как дон Кихот.
Упомянутые дублирующие дорожки крали драгоценные секунды, оттого, ощущая запах сонных лекарств, использовал я их не охотно и лишь при железной уверенности, что Зяма, наточив клыки, выполз из норы за добычей и перекрыл центральную трассу.
30
«Никогда не позволяйте своим друзьям садиться на неподкованную лошадь»
Бен Джойс-Айртон. «Коневодство в Австралии»
В июне деду получил письмо из города Лозового, от младшей сестры Марии. Она сообщала о намерении навестить его, избрав, наконец, игрушечный закон робкого удела круговорота сутолоки. Мария уехала в упомянутый южный степной городишко, по распределению, окончив строительный техникум в Губернске. Обустроившись, она обзавелась мужем и родила дочурку Галю. Десятилетиями родственники поддерживали вялую переписку, перезванивались и теперь, когда старший брат зазвал её в гости на пару недель, Мария, понимая, что они — люди пожилые и в силу возраста вряд ли свидятся, приглашение приняла. Попроведать нас она вознамерилась не в одиночку, а с внучкой, тринадцатилетней Леной. Галина, дочь Марии, в Лозовом вышла замуж за сослуживца, смуглого, белозубого деловитого азиата. Лена носила странно звучавшую фамилию — Хтоидзе, и отчество Томазовна. (Я с присущим мне злоязычием в шутку назвал её «Камазовной» и она, свирепо, по-женски, обидевшись, отправила меня в игнор без права на реабилитацию).
Первоначально, мы с Владленом не обратили на новость никакого внимания. Подумаешь, какая–то баб Маша с девчонкой! Ну, поживут дней десять, велика важность! Не мирового масштаба событие! Мне было однозначно не до приезжих, Зяма к тому времени вырос до размеров глобальной проблемы.
А ещё с началом каникул мы, расцветивши крыло попугая, случайно открыли для себя таинственную мансарду бабушкиного дома. Я и прежде пытался пробраться туда чуланом, по затянутой тенётами деревянной лестнице, ведущей вверх. Попытки мои не увенчались успехом, люк заколотили на совесть, и сколько б я в отсутствие взрослых не долбил в него молотком, ни налегал плечом, он не приподнимался ни на сантиметр.
На чердак удалось проникнуть совершенно неожиданно. К хате примыкали хозяйственные постройки, загон со стайками. Родители отца в течение десятка лет разводили разную живность. Помимо крупного рогатого скота водились у них индюшки и куры с петухом, пущенные под топор раньше прочих, хотя я и успел застать чёрную птицу и рыжего склочного кочета, редкостного задиру и драчуна, победно гонявшего меня по ограде. Вслед за пернатыми избавились от быка и коровы, а вот свиньи продержались в хозяйстве подольше. Они владели и лошадью, но незадолго до моего рождения её продали, о каурой жилистой коняге я знал по рассказам. Уздечка, седло, вожжи, медные колокольца хранились в заваленном отжившими вещами сосновом занозистом коробе в дальнем углу пристроя. Роясь в прозрачных венчиках фарфоровых цветов, в ворохе корзинок без ручек и истёртых до трухи половиков, чихая и кашляя, я наткнулся на упряжь и спугнул хлопотливых воробьёв в саду звяканьем сбруи.
С конца мая по сентябрь, покуда тепло не сгорало в пожаре предзимья, коровёнок на день отправляли под надзор пастуха Лёхи Мельника, пятидесятилетнего хромого мужичка, рассекавшего по Питерке на пегом коне и размахивавшего плетью. Утром Мельник уводил ораву в поля, поближе к лесу, а к закату препровождал обратно. Мы с дедом несколько раз прогуливались до околицы встречать нашу коровушку Марту, но в большинстве случаев, достигнув села, скотина сама разбредалась по дворам, останавливаясь и мыча у своих ворот. Хм… И как они запоминали, куда идти?
Стадо в Питерке насчитывало более сотни голов, ведь бурёнка для крестьянина, это не только молоко, мясо, масло, сливки, но и удобрения на огород. Марта радовала нас нежнейшим молочком, слегка сладковатым по моему мнению. Доили её вечером, предварительно протерев набухшее вымя, и струи с звонко били в дно блестящего ведра, обдавая белыми брызгами мои вязаные шорты с якорем, исцарапанные коленки и возмущённо подёргивающуюся спинку мордатого чёрно-белого кота Феди, тёршегося о галоши, вылизывавшегося, и тревожно наблюдавшего за процессом дойки. Никогда потом я не пил вкуснее молока, чем свойское, свежее, парное.
Израсходовать его всё мы, конечно, не могли, поэтому из излишков с помощью жужжащего, тугого ручного сепаратора изготовляли сметану. Она, чуть сжелта, придавала супам, борщам, соусам, подливам и куриным отварам неповторимый смак, помнящийся на протяжении века. Ложка застревала в ней, точно оловянный солдатик в сиропе, рискующий подхватить божественный насморк и бессмертный кашель. Представьте, мы мазали её ножом на хлеб и посыпали сахаром. Объедение, доложу я вам!
На хлеву держали запасы сена. Оно, ароматное, пряное, отборное, упиралось почти в шифер амбара, и не всегда удавалось влезть на тюки. Так продолжалось осень и в первую половину зимы. После сенокоса сухую траву утрамбовывая, набивали до стропил. А к весне оставалась примерно треть, неуклонно убывавшая, и в эти–то моменты появлялась возможность взобраться на сеновал, поваляться на колючих стеблях, пахнущих летом, пачкая с бледным рисунком тонкий батист, а заодно и проползти вглубь. Однажды я обнаружил, что с сенника прямо на основной сруб переброшены четыре неширокие доски. Осторожно ступая, я незамедлительно скользнул по ним и очутился над кладовкой, возле забитого крест–накрест люка.
В общем, место сие достопримечательностями не отличалось. Чердак, как чердак. Среднестатистический. Грязновато, темновато, окошечко на улицу невелико, в него едва башка просовывалась, по центру — уходящая ввысь, наружу, квадратная печная труба, вместо пола — слой шлака. Но он представлялся неведомым, счастливо разведанным мною миром.
Я вернулся на землю прежним путём, через хлев. А уже на завтра выяснил: наверх реально попасть и с веранды, вскарабкавшись, подобно скалолазу, по брёвнам стены дома, цепляясь за толстые гвозди, кем–то предусмотрительно в них вбитые. И спускаться тоже оказалось проще, — хватаешься за массивную балку, сучишь ногами, а затем разжимаешь пальцы и прыгаешь на пол. Я поспешил сообщить об обретении и Владлену, и друзьям.
Ни ругань, ни угрозы на нас не действовали. Мы втащили туда два сиденья и кучку книг, но читать из–за господствовавшего полусумрака получалось лишь у оконца. Частенько с нами тусовался и серый полосатый бесхвостый котяра Гаврик. Хвост ему прихлопнули в дверях в декабре, когда он застрял на пороге, не решаясь выскочить на мороз. Перерубленная половинка болталась на коже, и вскоре отвалилась, с тех пор Гаврик помахивал коротким обрубком. Зверюга символизировал уют, и любил дрыхнуть, развалившись, на свободном табурете, исполняя колыбельные и потаённые сказки.
Мансарда стала укрытием. Сюда не совались чужие, здесь царили спокойствие и убаюкивающая тишина, создавая видимость надмирного существования, вечности, парения над суетой. Ты — один, никто не тебя сыщет, не потревожит, часы, неразборчиво журча голосами, текут мимо, не задевают.
Пока развлечение было в новинку, под крышей набиралось сразу человек пять. Внизу, в комнате, от нашего топота, нарушая мёртвый сон обители глухой, в щели потолка на клеёнку стола, на свёрнутые вчетверо газетки, на треснувший футляр из-под очков, на перекидной календарь, перетянутый резинкой от трусов, в чашки с недопитым утренним чаем, в сахарницу с торчащей из белоснежной горки кристалликов ложкой, сыпалась зола. Отшвырнув сборник морских повестей, в сени выскакивал дед и до нас доносилось:
— Да еттивашу мать! Чего вы там, бляха-муха, сабантуй устраиваете? Серёга, альпинист бумажный, я те хлыста всыплю! Слазьте нахрен, быстро, все! Топочете, как медведи в цирке!
Шёпотом высказывались сомнения в его способности согнать нас сверху, но проверять спорное утверждение на практике, дураков не находилось. Вечно на чердаке не просидишь, рано или поздно придётся спуститься. Руку дедушка имел тяжёлую и скорую на расправу, рефлексией не страдал, и убеждаться в его педагогических талантах отчего–то не хотелось. Оптимальным вариантом являлось — сойти по–хорошему и, выбрав удобный миг, потихонечку снова подняться. Постепенно острота новизны ощущений у многих пропала, а я по-прежнему уединялся с упорством, достойным лучшего применения и, восседая на стуле в невесомых пыльных лучах золотой паутины света, согнувшись зверем в тесной клетке, размышлял, насколько же поганая штука — жизнь.
И действительно, ситуация виделась неразрешимой.
31
«Мама всегда говорила, что умение с выгодой обманывать мужчину, дорогого стоит»
Жильберта Сван. «Мои свидания с Марселем»
Приезжие появились в бабушкином доме буднично, обыденно. Хозяева не порхали всполошено и не кудахтали, протирая зеркала, полируя стаканы, роняя герань с подоконников и посуду с полок: «Идут! Идут! Они идут!» Ранним туманным утром того дня дедушка отправился в город, дабы встретить путешественников с автобуса, помочь им тащить сумки и доставить в Питерку. Баба Маша, естественно, не помнила, как добираться на малую родину. Дед заказывал междугородние переговоры, злясь на качество связи, багровея, напрягая жилы непробритой загоревшей шеи, надсадно орал в трубку, сдерживая мат, и втолковывал детали, а в итоге решил, что гораздо надёжней будет, если он самолично съездит на вокзал Тачанска и заберёт оттуда родню.
Когда они, звякнув щеколдой, разулись в сенях, проследовали, поскрипывая приветливыми говорливыми половицами во двор, я находился на чердаке. Он перестал быть для моих друзей тем притягательным местом, в котором хочется проводить уйму времени, а я стоически просиживал наверху по несколько часов, пристроившись у оконца с увлекательным журналом, гордо упиваясь смутным мерцанием брезжившего в лампадке одиночества.
Услыхав хлопанье тесовых ворот и негромкие реплики входящих, я, пасуя перед любопытством, неслышно припал к щели меж брёвен, с жадностью наблюдая за происходящим внизу. И разочарованно чертыхнулся, — гости, не задерживаясь, прошествовали в помещение, и вскоре сквозь потолок и слой шлака послышались неразличимые слова бабушки, Марии Ивановны и писклявые девичьи комментарии Лены.
Меня подмывало незамедлительно спуститься и глянуть на новеньких, но являясь крайне стеснительным подростком, я никак не решался это осуществить. Вот так с бьющимся сердцем, под аккомпанемент неясно звучащего «бу-бу-бу» я и сидел, похлопывая свёрнутой газеткой по коленке, в полюбившемся закутке, пока проулки гнулись зыбко, словно призраки, и баб Катя не вышла в коридор и укоряюще не произнесла:
— Чего ты там прячешься букой? Спускайся, поздоровайся хоть с людьми–то. Они ждут…
— Щас! — обрадованно пообещал я, и неторопливо направился к краю убежища. Цепляясь за гвозди, я с грохотом молодцевато спрыгнул на веранду, скинул сандалии и, отворив тяжёлую, обитую кошмой дверь, вошёл, смущённо, торопливо буркнул, заикаясь:
— З-здравствуйте!
Отделавшись дежурным приветствием, я прошмыгнул на узенькую кухню, где стояли бачки с питьевой водой, вхолостую побрякал сырым ковшом, прикидываясь, будто безумно хочу пить. Повесив черпак, я, не мешкая, прошёл в другую комнату, достал из холодильника хлеб, молоко и копчёную колбасу, нервно плюхнулся за стол у выключенного телевизора, развернул кроссворд, но меня без сантиментов заставили отложить пиршество и присоединиться к честной компании. Перечить, противиться — означало расписаться в вопиющем неуважении к Марии Ивановне, к чьей седине легко и сладко льнул полдень, поэтому в прихожей я послушно и немо уселся на деревянный, с высокой спинкой стул и стал смотреть то в пол, то в окно на яблоньку и соседский забор Ложкиных, то на лампочку с ползающими по ней мухами изредка щекоча приехавших взглядом.
Мария Ивановна, худенькая, среднего роста, обладала ровным невозмутимым бархатным голосом, неуловимо походила на старшего брата и английскую писательницу Агату Кристи, представляясь очень бодрой, деятельной старушкой, живо всем интересующейся и излучавшей обволакивающее замшей дружелюбие.
Внучка её не произвела на меня глубокого впечатления. Сходство с бабушкой проявлялось у Лены едва заметно. Кожа её носила смуглый оттенок, собранные в хвост, ниспадавшие на спину волосы, отливали чернотой. Угловатая Лена поджимала тонкие губы, касалась заострённым мизинцем угольных бровей, и в изумлении распахивала вишнёвые глаза. Немного портил её продолговатое личико, в принципе, симпатичненькое, островатый носик, который она обожала совать чужие дела.
Неспешный разговор, пытая пустоши небес, не нарушал границ дорожных вариаций: как доехали, как семья, не пообедают ли, не желают ли отдохнуть, не выпьют ли чая. Рутинную болтовню я слушал, по–прежнему посиживая у печки и иногда отзываясь на обращённые ко мне вопросы бабы Маши, естественные и предсказуемые: «В каком классе учишься? С хорошими ли оценками закончил год? Куда у вас в Питерке Лену сводить, чтобы она не скучала?» Программу развлечений, надо признаться, не предусмотрели, а я почти никуда не ходил, дичился. Незамысловатые мои развлечения заключались в гонках по окрестностям Питерки, купании в Светловке, редких походах в кинотеатр, баталий с друзьями в логу и чтении фантастических и приключенческих романов. Пруд и кино ещё могли увлечь Лену, а велосипед (о, как жестоко я ошибался!), и книжки, — ей совсем не интересны. Скоро я убедился, — Гарри Гаррисон и Николай Носов её действительно абсолютно не привлекают, а ве́лик — вполне, и, ёлки-палки, лес густой, именно мой.
Вскоре дед намекнул: я — мужчина, рыцарь, и должен без выкрутасов отдать технику Лене. Сейчас я понимаю: мне самому полагалось, над горами взмыв на вёснах, предложить навязываемый вариант; нынче я, разумеется, не принял бы подобную просьбу в штыки, излишне беспокоясь за сохранность двухколёсного коня. «Разве девчонка разбирается в машинах? Камеру проколет, „восьмёрку“ посадит, на чём я буду потом рассекать?» — такие мысли роились в моей взбудораженной голове.
Однако, несмотря на явное моё неудовольствие, «взрослик» передали Лене на весь период её пребывания у нас, а она приметила мою кислую мину и скрытое недовольство, с коим я согласился поделиться с ней. Вероятно, это и определило, что установившиеся между нами отношения не попадали под определение родственных или элементарно приятельских. «Камазовна» взирала на меня исподлобья, с плохо скрываемой брезгливостью, да и я в душе отвечал ей взаимностью. Сюда, конечно, примешивался тот нехитрый факт, что отныне подавляющая часть внимания доставалась ей, а я остался глубоко в тени, невидимый и ничем не выдающийся среди передовиц последних известий, приютивших мою обиду.

Считается, первое мнение о человеке — наиболее точное. Вряд ли данное утверждение справедливо на сто процентов, но в случае знакомства с Леной, оно попало в десятку. Я не понравился ей корявой игрой на камышовой флейте грядущей осени, жлобством, жмотством, неуверенностью, рефлексией, бесполезностью, трусоватостью и патологической застенчивостью. А она вызывала отторжение наглостью, нахрапистостью, бесцеремонным стремлением поучать.
В противовес мне, Владлен, харизматичный, хулиганистый, не пай мальчик, пришёлся ей по вкусу, они сдружились сразу. Не последнюю роль сыграло то, что он позволял собой командовать, выполнял её распоряжения.
Я всего дважды бегал с ними на речку, хотя они отправлялись купаться ежедневно. На воде Лена держалась отлично, заплывала далеко, с берега казалась еле видимой и кричала нам присоединяться к ней. Нормально плавать ни Владлен, ни я не умели, предпочитая позорно бултыхаться на мелководье. Владлену прощалось, ведь он — младше, а мне не отпускалось ни крохи снисхождения.
Да я и не помышлял о нём, баюкая школьную любовь в колыбели безответности.
32
«Следует тщательно следить за своим личным оружием, регулярно его чистить и смазывать. Вот, был у меня один случай в Сараево…»
Гаврило Принцип. «Рассказы охотника»
В снисхождении я не нуждался. У меня имелся свой мир, совершенно не похожий на её, и я, ни тогда, ни сейчас, не согласился бы променять мой опыт на её комфорт. Многим капризным женщинам, томным боннам, арфисткам на эстраде, свойственно ошибочно полагать, будто мужчины обязаны соответствовать неким их идеалам. При этом они свято убеждены, что не должны отвечать ничьим запросам, ибо такие–растакие оригинальные, неповторимые и талантливые. И от претендентов на покровительственную ободряющую улыбку требуется принимать их в том виде, в каком они есть. Эй, курвицы, топайте лесом к ближайшему болоту с набитыми рюкзаками! Впаривайте примитивную лажу слюнявым пацанятам пубертатного возраста.
История с Зямой на фоне приезда родственников, чей визит подходил к концу, ни шатко, ни валко приблизилась к апогею. Дед с сестрой наведались в Тачанск и запаслись билетами на обратный путь.
Тем душным, звенящим пустотой вечером по 1 программе транслировали «Золотую речку», и я, ждавший потрясений мировых, прочитав в анонсе, что фильм — приключенческий, надеялся оценить его в максимально благоприятной обстановке. Там, где резвились Лена и Влад с друзьями, уединиться перед экраном не представлялось ни малейшей возможности, им подобные картины не нравились.
Боясь опоздать к началу кино, я направился домой обычной дорогой, хотя следовало проявить предусмотрительность и пробираться по-партизански, огородами. Однако Зяма неделю не показывался, я потерял бдительность и рассуждал: фигня, на сей раз обойдётся.
Не обошлось.
Возле Быткомбината, у забора, из–за ворот, гнусно улыбаясь и поигрывая рябиновыми чётками, материализовался один из деловитых корешей Зямы, поманил меня длинным ногтем с белым ободком, приобнял:
— Ну–ка, тихо! Тихо, я сказал! Тебя–то нам и надо! Отойдём, потрындим.
— Давай, отойдём, — судорожно сглатывая слюну, кивнул я, точно у меня оставался выбор.
— Кабан, хрюкни Зяме, чтобы в школьный сад чапал, его сюрприз ждёт, — уводя меня, крикнул в сторону избы подручный Зямы.
— Ща, — лениво отозвался Кабан.
И зямин упырь потащил меня от любопытных глаз в дебри парка. Я шёл механически, не сопротивляясь, агнцем на заклание, вкушая блаженство чаши горькой. Мимо проходили люди. Старушка с батожком и батоном в плетёной штопаной сумке, молодая пара, вероятно, муж с женой, но я физически не мог заставить себя броситься к ним, и умолять о помощи. «Что будет, то и будет», — с безнадёжностью размышлял я.
«Авось пронесёт, чем чёрт не шутит».
И вот, мы уже переминались на небольшом, вытоптанном тетраэдре, усеянном окурками от сигарет с фильтром, и тускло поблёскивавшими, вдавленными в грунт, пивными пробками. Закуток скрывали высокие, густые акации с покрытыми пылью овальными листьями. Отсюда не просматривалось ни главной аллеи, ни тропинок. Наваливалась духота, в воздухе разлилось напряжение, зловеще ныли комары, крошились плоды чернобыла.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.