
Бесплатный фрагмент - ПЬЕР
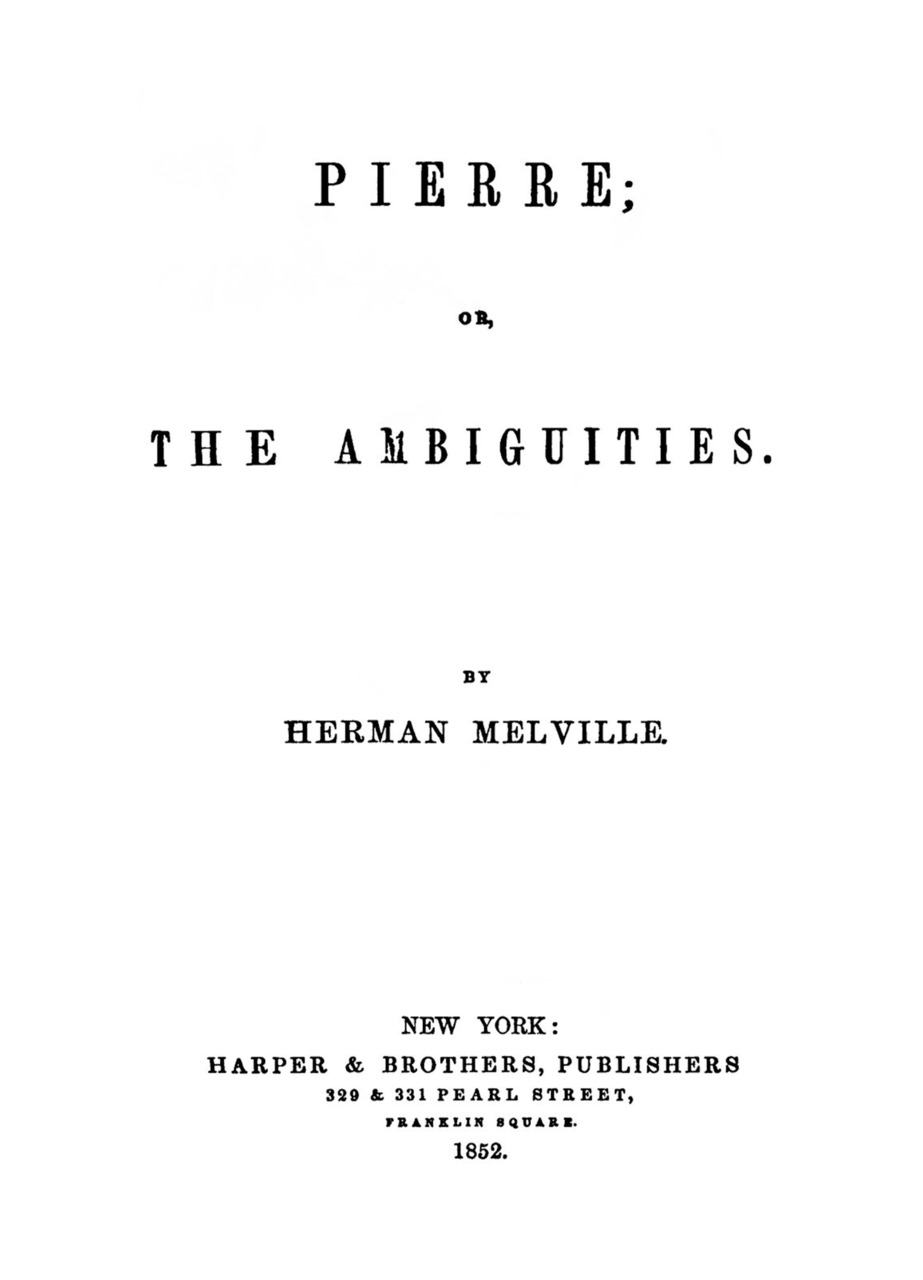
К 200-летию Германа Мелвилла
Книга I
Пьер
в подростковом возрасте
I
Бывает так, что неким необычным летним утром в деревне приезжий горожанин, идущий по дороге, оказывается сраженным удивительным, подобным сну, зеленым и золотым пейзажем. Ни один цветок не шевелится, деревья забывают махать ветками, трава сама собой, кажется, прекращает расти, и вся Природа будто внезапно узнает о своей собственной глубокой тайне и, ощущая потребность скрыться от неё, не иначе как в тишине, погружается в этот замечательный и неописуемый покой.
Таким же было июньское утро, когда, выйдя из дверей старого островерхого отеческого дома, Пьер, умытый и выспавшийся, весело пошел по длинной, широкой пригородной улице, обрамленной арками из вязов, и с её середины подсознательно направил свои шаги к дому, который выглядывал почти в самом конце аллеи.
Повсюду простиралось зеленое сонное царство, не потревоженное ничем, кроме пестрых коров, мечтательно бредущих к своим пастбищам, даже не погоняемых румяными мальчиками с белыми ногами.
Тронутый и околдованный очарованием этой тишины, Пьер приблизился к дому и, резко застыв, поднял свой взгляд, устремив его на одну из открытых верхних оконных створок. Почему сейчас он так возбудился, юный молодец? Почему загорелись его щеки и глаза? На подоконнике покоилась белоснежная глянцевая подушка, и роскошный темно-красный цветок с вьющегося куста мягко улегся на неё.
Хорошо, что тебе, ароматному цветку, дозволено было найти эту подушку, подумал Пьер, ведь час назад её собственная щека, должно быть, покоилась там.
«Люси!»
«Пьер!»
Поскольку сердце отзывается на звон сердца, то в яркой утренней тишине оба они несколько мгновений стояли тихо, пылко слушая друг друга, взаимно наполненные безраздельным восхищением и любовью.
«Всего лишь „Пьер“?», — рассмеялся, наконец, юноша, — «ты забыла пожелать мне доброго утра»
«Этого было бы маловато. Доброго утра, добрых вечеров, добрых дней, недель, месяцев и лет тебе, Пьер; — умный Пьер! — Пьер!»
Действительно, подумал юноша, глядя тихо и пристально с невыразимой нежностью; воистину, небеса открылись, и этот ангел призывно смотрит вниз. — «Я верну тебе твое множество разных хороших дней, Люси, не зависимо от того, каковы будут пережитые ночи; и, слава Небесам, но ты принадлежишь местам, где день бесконечен!»
«Фу, ну вот, Пьер; почему-то вы, молодые люди, всегда клянетесь, когда влюблены!»
«Потому, что в нас живет любовь земная, а с вами она достигает смертельных небес!»
«Тут ты снова воспарил, Пьер, ты всегда очень искусен в стремлении обмануть меня. Скажи мне, почему вы, молодые люди, всегда демонстрируете столь милое мастерство по превращению всех наших пустячных достоинств в ваши трофеи?»
«Я не знаю, так ли это, но когда-то это было в вашей манере». И, задев оконную створку, он сорвал с куста цветок и демонстративно закрепил его на своей груди. — «Теперь я должен идти; Люси, смотри! с этим цветком я и промарширую»
«Брависсимо! о, мой единственный рекрут!»
II
Пьер был единственным сыном богатой и надменной вдовы, леди, которая внешне представляла уникальный образец консерватизма и склонности к украшательству, здоровья и богатства, соединенного с тонким умом средней культуры, не испорченного каким-либо безутешным горем, и никогда не отягощенным низменными заботами. В зрелом возрасте румянец все еще чудесным образом играл на её щеках, но ещё не совсем расплелась ее гибкая талия, морщины не избороздили гладкость ее чела, алмазный блеск не покинули ее глаз. Поэтому в свете огней танцевального зала г-жа Глендиннинг все еще затмевала гораздо более молодых кокеток, и избирательно ободряла их, сопровождаемая шлейфом страстно увлеченных волокит, ненамного старших по возрасту её собственного сына Пьера.
Но почтительный и преданный сын оказался для этой вдовы самым любимым Цветком, и помимо всего этого Пьер, будучи неузнанным, раздражался от ревности, движимый слишком горячим восхищением красивых молодых людей, которые время от времени, случайно попав в ловушку, казалось, лелеяли некие безумные надежды на женитьбу на этом недосягаемом существе; Пьер несколько раз с наигранной злобой открыто клялся, что кавалер — седобородый или безбородый — который осмелится предложить брак его матери, должен будет неким неведомым путем безоговорочно исчезнуть с поверхности земли.
Эта романтичная сыновняя любовь Пьера, казалось, полностью находила ответ в триумфальной материнской гордости вдовы, которая в ясных чертах и благородном характере сына видела свою собственную грацию, определенным образом спроецированную на противоположный пол. Между ними имелось разительное личное сходство, и поскольку мать, казалось, надолго застыла в своей красоте, не учитывающей пролетающие годы, то Пьер, казалось, обзавелся этой красотой середины жизненного пути в великолепном раннем развитии форм и черт, почти продвинувшись к той зрелой точке Времени, где на пьедестале так долго стояла его мать. В игривости их безоблачной любви и с этой странной привилегией, обеспечивавшей чистейшее доверие и взаимопонимание во всех взаимоотношениях, что так долго развивалась между ними, они имели привычку называть друг друга братом и сестрой. И на публике, и вне её они так и поступали, но когда оказывались среди незнакомцев, эти обращения иногда провоцировали забавные предположения, в первую очередь, в адрес неувядающей г-жи Глендиннинг, всецело переносящей эти юношеские притязания. — Так свободно и светло для матери и сына текла чистым течением их совместная жизнь. Но пока еще чистая река несла свои волны, отражаясь от береговых скал, где впредь ей было предназначено стать навсегда разделённой на два несмешиваемых потока.
Один прекрасный английский автор тех времен, перечисляя начальные свойства предписанной ему по рождению судьбы, сообщает в первую очередь о том, что он появился на свет в деревне. Так же обстояло и с Пьером. Это была его судьба, родиться и быть взлелеянным в стране, окруженной пейзажем, чье необычное очарование было чистейшей формой тонкого и поэтического ума, в то время как популярные названия его самой прекрасной родословной относились к самым величавым патриотическим и фамильным ассоциациям исторической линии Глендиннингов. На лугах, которые уходили вдаль от затененной задней части поместного особняка, дальше к извилистой реке, в более ранние дни колонии происходило сражение с индейцами, и в том сражении прадед Пьера по отцовской линии, смертельно раненный и потерявший лошадь, сидел в траве на своем седле, все еще подбадривая умирающим голосом своих сражающихся однополчан. Так и появились Оседланные луга, название от которых перешло на особняк и деревню. Вдали от этих равнин, на расстоянии пешеходного перехода для Пьера высились легендарные высоты, где в войне за независимость его дед в течение несколько месяцев защищал простой, но важный укрепленный форт от повторных нападений совместных войск индейцев, тори и английских солдат. Перед этим из форта бежал наполовину джентльмен и наполовину разбойник Брандт, но выжил и отобедал с генералом Глендиннингом в мирное время, которое последовало за этой мстительной войной. Все ассоциации с Оседланными Лугами преисполняли Пьера гордостью. Дело Глендиннингов, на котором так долго держалось их благосостояние, пробило себе путь при помощи секрета трех Индийских королей: местными и только законными операциями с этими благородными лесами и равнинами. Поэтому многозначительным в эпоху описанной его юности становился взгляд Пьера, когда он смотрел на основу благосостояния своего рода, обращая мало внимания на свою зрелость, а больше — на внутреннее развитие, которое должно было навсегда лишить его великой гордости в душе за все эти богатства.
Но воспитание Пьера оказалось бы неразумно ущербным, если б его молодость непрерывно проходила только на деревенских просторах. В очень раннем возрасте он начал сопровождать своих отца и мать — впоследствии одну только мать — в их ежегодных визитах в город, где, вполне естественно смешиваясь с многочисленным и изысканным обществом, Пьер незаметно формировался в более воздушных грациях жизни без ослабления энергии, происходящей из военной составляющей и взлелеянной в чистом деревенском воздухе.
Но пока столь свободно развивались его личность и манеры, Пьер познавал высшее совершенство и в культуре прекрасного. Не напрасно потратил он свои долгие летние дни в глубоких нишах приличной по размеру и привередливо собранной библиотеки своего отца, куда во множество лабиринтов изумляющей всех красоты нимфы Спенсера завели его еще в раннем возрасте. Таким образом, благородный жар его конечностей и мягкий, воображаемый огонь в его сердце продвигали Пьера к зрелости, эгоистичному периоду беспощадной проницательности, когда все это нежное тепло должно было казаться ему холодным, и он был бы должен безрассудно потребовать более горячего огня.
Но гордость и любовь, которые в изобилии повлияли на юношеское воспитание Пьера, пренебрегли его культурой в самой глубине всего сущего. Такой же принцип был у отца Пьера, — что все благородство это тщета, все его требования нелепы и абсурдны, если изначальная мягкость и золотые человеческие качества религии могут быть основательно испорчены, переплетясь со структурой характера, и тот, кто объявляет себя джентльменом, может также полноправно принимать кроткий, но царственный образ христианина. В возрасте шестнадцати лет Пьер со своей матерью принял участие в Святом Причастии.
Возможно, что излишне и еще более тяжело точно отследить абсолютные побуждения, которые были порождены этими юношескими клятвами. Достаточно сказать, что Пьер унаследовал и другие многочисленные благородные качества своих предков и, поскольку он нес теперь звание наследника их лесов и ферм и на основе того же самого неощутимого движения, казалось, унаследовал их смиренное уважение к почтенной Фейт (Судьбе), которую первый из Глендиннингов перевез через море, похитив из-под тени английского министра. Таким образом, в Пьере находилась настоящая полированная сталь джентльмена, подпоясанного Шелковым поясом религиозности, и воинская судьба его прадеда преподнесла ему урок, гласящий, что этот крепкий пояс должен в последнем горьком испытании предоставить его владельцу саван Славы так, чтобы тот, кто всю жизнь носил пояс ради Благодати, в смертельный час смог бы быть им убережен. Но одновременно, как и все живые люди, осознающие красоту и поэзию веры его отца, Пьер совсем не догадывался, что у этого мира есть тайна, более глубокая, чем красота, и в Жизни есть такие трудности, которые тяжелее смерти.
К настоящему времени настолько прекрасной казалась Пьеру светлая летопись его жизни, что только один пробел не был заполнен в этом слащаво написанном манускрипте. В тексте не хватало сестры. Он горевал, что настолько восхитительное чувство, как братская любовь, не было ему доступно. Не могло фиктивное обращение, которое он так часто расточал на свою мать, как ни крути, наполнить действительность. Эта эмоция была самой естественной, и полную причину и ее первооснову даже Пьер в это время не мог полностью оценить. Поскольку, само собой, нежная сестра — едва ли не лучший подарок мужчине, и она оказывается первым жизненным подарком, поскольку жена появляется после. Тот, кто лишен сестер, тот словно холостяк в своей перспективе. Восхищение женой уже таится в сестре.
«О, лучше бы у моего отца была дочь!» — восклицал Пьер. — «Кто-то, кого я мог бы любить и защищать, и драться за неё, если нужно. Это же великолепно, участвовать в смертельной схватке за имя милой сестры! Теперь за все, что у меня есть, я попросил бы у небес себе сестру!»
Таким образом, прежде чем оказаться в более нежных узах с возлюбленной, Пьер часто призывая небеса подарить ему сестру; но Пьер тогда еще не знал, что если человек заранее о чем-то будет хорошо молить, то потом получит ответ, удовлетворяющий самые искренние молитвы его юности.
Возможно, случилось так, что эта странная тоска Пьера из-за сестры частично проистекала из-за еще более необычайного чувства одиночества, которое он иногда испытывал, не только как одинокий глава своей семьи, но и единственный мужчина — живой прямой представитель рода Глендиннингов. Сильная и многочисленная фамилия постепенно перетекла в женские ветви, так что Пьер оказывался окруженным многочисленными родственниками и родственницами, но все же не компанией, состоящей хотя бы из одного живого мужского представителя рода Глендиннингов, за исключением двойника, отражавшегося ему в зеркале. Но, по большей части, в обычном естественном настроении эта мысль совершенно не доставляла ему печали. Нет, иногда она становилась ликующе волнительной. Поскольку в румянце, возбуждении и тщеславии его юной души, он нежно надеялся иметь монополию на славу капители колонны, поставленной его благородными родителями.
Обо всем этом наш Пьер не был предупрежден из-за того, что усвоил уроки о предзнаменованиях и о пророчествах об успехах Пальмиры лучше, чем про её руины. Среди этих руин стояла разрушенная, незаконченная колонна, одна на несколько лиг вокруг, давным-давно оставленная в карьере, с соответствующей ей капителью, столь же одинокой. Это Время захватило её и обтрепало, это Время было сосредоточилось в яйце, и гордую горную вершину, которая должна была парить среди облаков, Время оставило похороненной в земле. О, это самое злостное право собственности, когда Время овладевает сыновьями человеческими!
III
Как уже говорилось, красивый сельский пейзаж, окружавший Пьера, напоминал о славных событиях. Путем простых возможностей эта прекрасный край облагородился трудами его прародителей, и из-за долгого и непрерывного владения его родом все его холмы и трясины в глазах Пьера казались ему священными.
Этот изначальный идеализм, который, при любящем взгляде был освящен, как минимум, пустяками, хоть раз бывает знаком человеку, потерявшему любовь, и для Пьера весь земной пейзаж вокруг него касался талисманом: из-за воспоминаний, что с этих холмов пристально глядели его собственные прекрасные отцы, что через эти леса, вот по этим полянам, вдоль этих ручьев, вдоль этих запутанных тропинок, будучи девочками, весело прогуливалось множество великих дам; из-за ярких воспоминаний Пьер считал всю эту часть земли символом любви, а сам горизонт был для него кольцом на память.
Монархический мир обычно любит воображать, что в демагогической Америке у священного Прошлого нет твердо стоящих статуй, а всё без почтения кипит и варится в вульгарном котле, никак не кристаллизуясь. Это самомнение, как оказывается, вряд ли применимо к социальным обстоятельствам. Разве без раздачи дипломов аристократии не может существовать какой-либо закон, согласно которому любая семья в Америке способна увековечить собственное величие? Конечно, существует общепринятое мнение, которое гласит, что семья, заметная на протяжении одной половины столетия, должна будет узреть свою важность; этот принцип, несомненно, распространяется и на третье сословие. В наших городах случается взрывное возвышение семей, подобное появлению пузырей в чане. В действительности элемент демократии воздействует на нас в качестве кислотной подпитки; новое производство всегда разъедает созданное прежде, подобно тому, как на юге Франции ацетат меди, примитивный материал для одного из видов зеленой краски, производится из виноградного уксуса, вылитого на медные пластины. Сейчас в целом ничего не может быть более значительным для распада, чем идея коррозии; однако, с другой стороны, ничто не может более ярко представить богатство жизни, нежели идея зеленого цвета, поскольку зеленый — всеобщая своеобразная отличительная метка плодородия самой Природы. Здесь, следуя аналогии, мы созерцаем заметную аномалию Америки, чей дух за рубежом — не стоит удивляться — понимается неверно, когда мы видим, что он по-особому противоречит всем предшествующим человеческим понятиям о природе вещей; и в нем замечательно то, что сама Смерть преобразовывается в Жизнь. Поэтому политические институты, которые в других землях кажутся, прежде всего, весьма искусственными, в Америке кажутся обладающими божественным достоинством естественного права; самый главный из законов Природы состоит в том, что из Мертвого она создает Живое.
Однако есть что-то в видимом мире, на что постоянно меняющаяся Природа не имеет такого неограниченного влияния. Трава ежегодно меняется, но ветви дуба в течение долгого количества лет бросают вызов этому ежегодному правилу. И если в Америке огромные массы семейств подобны травинкам, то всё же есть немногие — те, что стоят как дубы, которые вместо распада ежегодно выбрасывают новые ветви, вследствие чего Время вместо своего противостояния вынуждено сдаваться при своем многократном преимуществе.
В этом вопросе мы будем — не с чувством превосходства, но взвешенно, — сравнивать родословные с английскими и, как это не непривычно на первый взгляд, без некоторого требования равенства. Осмелюсь сказать, это в этом случае «Книга званий пэров» — хороший статистический стандарт, соответствующий суждению о ней; с тех пор составители этой работы не могут быть совершенно отстраненными от тех, на чей патронаж они больше всего полагаются; и общего понимания нашего собственного народа будет достаточно, чтобы судить о нас. Но великолепие имен не должно вводить нас в заблуждение относительно их скромности. Поскольку дыхание всех наших легких наследственно, и мое дыхание в данный момент происходит и будет дальше продолжаться, в отличие от тела нынешнего иудейского Первосвященника, насколько до конца можно будет проследить за ним, — то поэтому простые имена, которые также не эфемерны, сообразно этому наслаждаются этим бесконечным обновлением. Но если Ричмонд и Сент-Олбэнс, и Графтон, и Портленд, и Баклед, это имена почти столь же стары, как сама Англия, то нынешние Герцоги к тем именам относят свои собственные подлинные родословные до Карла II и не находят там совсем чистого источника, начиная с которого мы бы увидели менее славное происхождение под солнцем, как например, точное происхождение Бакледа, чья прародительница не смогла избежать материнства — что является истиной — но случайно пренебрегла предварительным обрядом. Все же король был родителем. Только это еще хуже: ведь если нищий наносит маленькое оскорбление, то получить удар от джентльмена смертельно оскорбительно, и, следовательно, все подзаконные удары королей оказываются весьма нелестными. В Англии звание пэра поддерживается его непрерывными восстановлениями и присвоениями. Только Георг III присвоил титул пэра пятистам двадцати двум человекам. Графство, временно бездействуя в течение пяти веков, внезапно принимается неким простым человеком, к которому оно не перешло никак иначе, чем путем искусства адвокатов, повернувших дело в нужном направлении. Темза не так извилиста в своем естественном течении, и не столь искусно русло Канала Бриджуотер, как ток крови в извилинах вен этой искусственной знати. Непрочные как солома и эфемерные как грибы, эти титулованные семьи в должной последовательности живут и умирают на вечной почве имени. В Англии на сей день две тысячи пятьсот званий пэра лишились первоначальных хозяев, но их имена живы. Поэтому, чтобы пустой воздух имени был более прочен, чем человек или человеческая династия, дух наполняет легкие человека и оживляет его, но сам человек не может наполнить и оживить им воздух.
Теперь я отдаю честь и все свое почтение людям и их именам, но если Сент-Олбанс говорит мне, что он всегда был благороден и всегда вечен, то я должен все же вежливо отослать его к Нелл Гвинн.
До Карла II, действительно, очень немногие — едва достойные упоминания — представляют английские семьи, которые могут отследить прямую неискаженную родословную от нормандских рыцарей. После Карла II их прямые генеалогии кажутся тщетными, подобно тому, как некий еврейский старьевщик с чайницей на голове перевернул бы первую главу Евангелия от Матвея, чтобы установить причастность к крови царя Саула своего предка, умершего задолго до начала царской карьеры.
Теперь, не распространяясь заранее о том, что, в то время как в Англии огромная масса государственной каменной кладки пускается в ход в качестве опоры для поддержки наследственного существования определенных домов, скажем, что с нами невозможно допустить ничего подобного и, опустив всякое упоминание о сотнях незаметных семей в Новой Англии, которые, тем не менее, могли бы легко проследить свое неразрывное английское происхождение до правления Карла Первого, нельзя не сказать о старых и восточных английских семьях плантаторов Вирджинии и Юга: например, о Рэндольфах, один из предков которых более чем двести лет назад во времена короля Якова был женат на индейской княжне Покахонтас и из-за чей крови лишился исконных королевских привилегий; посмотрите на те же древние и великолепные голландские Поместья на Севере, чьи шесты — в мили длиной, чьи луга покрывают смежные страны и чья высокая рента держится на тысячах фермеров-арендаторов, пока трава растет и пробегают воды, намекая на удивительную вечность дел, и, кажется, делает адвокатские чернила неисчерпаемыми, как море. Возраст некоторых из этих поместий составляет два столетия, и их нынешние покровители или лорды покажут вам стойки и камни своих поместий, уложенные там — камни, по крайней мере, — до рождения Герцогини-матери Нелл Гвинн, и генеалогии которых, как и их собственная река Гудзон, проистекает совсем издалека и более пряма, чем Змеиный ручеек в Гайд-парке.
Эти уходящие вдаль голландские луга лежат, погрузившись в гиндукушский туман; восточная патриархальность дрожит своей плавной дугой над пастбищами, где должен кормиться скот арендаторов, пока не вырастет их собственная трава, пока не убегут их собственные воды. Такие состояния, кажется, бросают вызов зубу Времени, и обстоятельства, при которых берут власть над неразрушимой землей, кажется, согласовывают наследственные права с вечностью. Невообразима смелость червя, не проползшего сквозь почву, которую он столь высокомерно требует!
В округе Мидленд в Англии они хвастают старыми дубовыми столовыми, где во времена господства Плантагенетов в дождливый день могли упражняться триста воинов. Но наши Господа не обращаются к прошлому, а указывают на настоящее. Каждый покажет вам, что население графства — всего лишь часть списка его арендаторов. Горные цепи, высокие как Бен-Невис или Сноудон, это их стены; и регулярная армия, с офицерскими денщиками и с артиллерией пересекая реки, проходя через первобытные леса и пробираясь по теснинам между огромных скал, накладывает арест на имущество трех тысяч фермеров-арендаторов одного владельца, если судить по записям. Факт, более чем наводящий на обоюдные размышления, и об обоих здесь говорить не стоит.
Но независимо от того, что можно думать о существовании их могущественных светлостей в сердце республики, мы можем задаться вопросом об их выживании, подобно Индейским насыпям в Революционном потопе; все же они выжили и существуют, и теперь принадлежат своим нынешним владельцам, как какой-нибудь крестьянин с добрым именем владеет старой шляпой своего отца, а какой-нибудь герцог — старой диадемой своего двоюродного деда.
Учитывая все это, мы теперь не сильно ошибемся, если кротко осмыслим, что, приняв решение прославить себя саму на незначительном отрезке времени, наша Америка разберется с Англией в этом основном различии в небольшом коротком вопросе о больших состояниях и длинных родословных — родословных, как я подозреваю, в которых нет недостатков.
IV
В общих чертах мы все-таки разобрались в утверждении великой генеалогии и в относящемуся к недвижимости величию некоторых семей в Америке, поскольку при этом мы поэтично обосновали наполненное аристократизмом положение Господина Пьера Глендиннинга, для которого мы прежде потребовали некоего особого фамильного отличия. И наблюдательному читателю продолжение покажет, насколько важны эти обстоятельства, которые отсылают нас к рассмотрению особого развития характера и исключительного своеобразия жизненного пути нашего героя. И при этом ни один человек не помыслит о том, что последняя глава будет отдана просто глупой браваде, а не твердой цели.
Теперь Пьер стоит на этом благородном пьедестале; мы увидим, удержит ли его это прекрасная опора, мы увидим, заключена ли частица Судьбы в этом маленьком слове или в паре слов. Но это не значит, что Глендиннинги жили до Фараонов, или что события в Оседланных Лугах имеют отношение к Трем Волхвам в Евангелиях. Тем не менее, эти дела, как мы прежде намекнули, действительно относятся ко времени трех королей — индийских королей — только к более прекрасным периодам.
Но если Пьер не относился ко времени Фараонов, и если английский фермер Хэмпденс был несколько старше даже самого старого Глендиннинга, и если некоторые американские поместья не превышали его поместья на несколько дополнительных лет и квадратных миль, все же не стоит думать, что юноше девятнадцати лет вообще возможно — просто ради пробы — усыпать свою наследственную кухонную каменную плиту под очагом сжатыми пшеничными колосьями и, встав там в дымоходе, начать молотить это зерно цепом, чьи воздушные эволюции превратились бы в свободную игру среди всей этой каменной кладки; возможно ли молотить цепом пшеницу в своем собственном наследственном кухонном дымоходе, не почувствовав хотя бы один или два приступа боли, которую можно назвать семейной гордостью? Я должен сказать, что нет.
И как вы считаете, что было бы с этим юным Пьером, если бы каждый день, спускаясь к завтраку, он не видел старое изодранное британское знамя или два, нависающие над арочным окном в его зале, которые были захвачены его дедом, генералом, в битве за справедливость? И как вы считаете, что было бы, если бы каждый раз, слыша музыку военной компании в деревне, он отчетливо не опознавал особый сигнал британской литавры, также захваченной его дедом в честной битве — о чем гласила надпись на меди — и ставшей наградой Артиллерийскому Корпусу Оседланных Лугов? И как вы считаете, что было бы, если когда-нибудь тихим задумчивым утром Четвертого июля в деревне, он вышел бы в сад, опираясь на церемониальный посох, длинный, величественный, посох с серебряным наконечником, жезл генерал-майора, когда-то послушный кивающему перу и указывающий цель мушкету того же самого деда несколько раз выше упомянутого? Я должен сказать, что описываю Пьера пока еще довольно молодым и совсем не философом, и, кроме того, довольно благородного происхождения, иногда читавшего Историю Революционной Войны и имевшего мать, которая очень часто делала туманные дружеские намеки на эполеты генерал-майора его дедушки; — я должен сказать, что во всех этих случаях, история, с которой он жил бок о бок, была наполнена гордостью и ликованием. И если в Пьере окажется не только любовь и безрассудство, и если вы скажете мне, что эти черты его характера не открывали в нем подлинного демократа, и что действительно благородный человек никогда не должен хвастать какой-либо силой, кроме как своей собственной, то тогда я прошу вас снова обратить внимание на то, что этот Пьер был пока всего лишь мальчиком. И поверьте мне — вы объявите Пьера радикальным демократом в свое время, возможно даже, что немного более радикальным, чем вы можете вообразить.
В заключение не обвиняйте меня, если здесь я повторюсь и сошлюсь на свои собственные слова и высказывания о том, что судьбоносным уделом Пьера было родиться и вырасти деревне. Ведь для благородного американского юноши действительно — больше, чем в любой другой стране — это очень редкий и избранный жребий. Замечено, что в сравнении с другими странами предмет главной и прекрасной семейной гордости это дом, и это более заметно среди нас, гордо ссылающихся на город, как на место его расположения. Вот также часто американец, который сам наживает состояние, строит свой великий столичный дом на самой столичной улице большинства столичных городов. Примем во внимание, что европеец того же самого уровня с этой целью мигрирует в деревню. То, что там европейцу лучше, этого ни один поэт, ни один философ и ни один аристократ не будет отрицать. Ведь сельская местность почитается им не только как самая поэтичная и философская, но и как самая аристократическая часть земли, и многочисленные барды облагораживают её множеством прекрасных эпитетов. Примем во внимание, что город это более плебейская часть страны, которая, помимо многих других вещей, демонстрирует постоянно грязное немытое лицо, тогда как деревня, словно Королева, постоянно посещается щепетильными камеристками под личинами времен года, а у города есть только одно платье из кирпича, водруженного на камень; но у деревни есть нарядное платье в течение всех недель в году; иногда она меняет свое платье двадцать четыре раза за двадцать четыре часа; и еще деревня носит свое солнце днем как алмаз на челе Королевы, и звезды ночью смотрятся как золотые ожерелья, тогда как солнце города — дымное месиво и совсем не алмаз, и городские звезды — поддельные и не золотые.
Сама Природа растила в деревне нашего Пьера, потому что Природа предназначила Пьеру редкое и особое развитие. Не берите в голову, доказала ли она таким образом двусмысленность его конца; тем не менее, в начале она поступила смело. Она унесла свой горн от синих холмов, и Пьер припадал от лирических мыслей, подобно тому, как при вое трубы боевой конь сам бьет копытами в лирической пене. Она шептала в сочельник из своих густых рощ, и нежные шепоты человечности, и сладкие шепоты любви бежали по венам Пьера, журча как вода, переливающаяся через гальку. Она сняла свой украшенный блестками гребень, тускло светившийся ночью, и направила в душу Пьера в блеске их божественного Капитана и Господа десять тысяч мыслей об истоках героизма, ярко светя вокруг для некоторых обиженных, служа им хорошей защитой.
Таким образом, деревня стала для молодого Пьера великолепным благословением; мы увидим, исходило ли это благословение от него так же, как и божественное благословение от «Послания к Евреям»; мы еще раз увидим, как я уже говорил, сможет ли сказать Судьба в этом мире простое скромное слово или пару слов; мы увидим, насколько крошечные остатки латыни далеки от принципа — «Никто против Бога, кроме самого Бога»
V
«Сестра Мэри», — сказал Пьер, вернувшись со своей прогулки на восходе солнца и постучав в дверь покоев своей матери, — «ты знаешь, сестра Мэри, что деревья, которые простояли всю ночь, этим утром снова выстроились перед тобой? — Разве ты не чувствуешь что-то вроде запаха кофе, сестра моя?»
Легкими шагами он переместился к двери, которая отворилась, открыв взору госпожу Глендиннинг, одетую в великолепную веселую утреннюю одежду и держащую в своей руке яркую широкую ленту.
«Доброе утро, мадам», — сказал Пьер медленно и с поклоном, чье подлинное и самопроизвольное почтение забавно контрастировало с охотничьей манерой, которая ему предшествовала. Столь сладка и благоговейна была его дружеская привязанность, что она достигала максимальной глубины сыновнего уважения.
«Доброго дня тебе, Пьер, ведь день, как я полагаю, уже наступил. Но входи же, ты должен завершить мой туалет, — здесь, брат» — протягивая ленту — «теперь смело за дело» — и, встав подальше от стекла, она стала ждать помощи от Пьера.
«Первая леди в ожидании вдовы, герцогини Глендиннинг», — рассмеялся Пьер и, поклонившись своей матери, он изящно обвил ленту вокруг ее шеи, просто перевязав концы впереди.
«Ну, что ты держишь её там, Пьер?»
«Я собираюсь прикрепить её при помощи поцелуя, сестра, — сюда! — о, какая жалость, что такое крепление не всегда будет держаться! — где камея с оленями, что я дал тебе вчера вечером? — Ах! на плите — ты пришла, чтобы потом надеть её? — Спасибо, моя внимательная и благоразумная сестра — сюда! — но постой — вот завиток, прямо непоседа — поэтому теперь, уважаемая сестра, надень вот этот ассирийский обруч на голову»
Когда в высшей степени счастливая мать встала перед зеркалом, чтобы подвергнуть критике украшение, полученное от ее сына, Пьер, заметив ее разбросанные тапочки, встал на колени и схватил их. «И теперь к самовару», — вскричал он, — «мадам!» — и с насмешливой галантностью предложил руку своей матери. Пара спустилась к завтраку.
Госпожа Глендиннинг бессознательно исповедовала один из тех принципов, согласно которому женщины иногда преданы без каких-либо размышлений, — никогда не появляться в присутствие своего сына наполовину одетой, что было абсолютно неподобающе. Ее собственное независимое наблюдение за вещами открыло ей множество очень общих принципов, которые на деле часто становятся безжизненными из-за опосредованного их применения. Она отлично сознавала, насколько огромно было это влияние, при котором даже при самых близких сердечных связях, самое простое появление воздействует на сознание. И поскольку в восхищенном любовании и изящной преданности Пьера состояла теперь ее самая высшая радость в жизни, то она не упускала ни малейшего пустяка, который хоть как-то способствовал сохранению настолько сладких и лестных чувств.
Помимо всего этого, Мэри Глендиннинг была женщиной, и с тщеславием бо́льшим, чем обычное женское, — если это можно назвать тщеславием — которое за почти пятьдесят лет жизни ни разу не предавало ее в случае нарушения приличий, или вызвало бы у нее известную только ей острую сердечную боль. Кроме того, она никогда не тосковала по восхищению, потому что вечная привилегия красоты была ее неотъемлемым правом, она всегда обладала ею; она не поворачивала ради него свою голову, так как оно самопроизвольно всегда окружало ее. Тщеславие, которое при большом скоплении женщин приближается к душевному пороку, а потому и к видимому изъяну, в ее особом случае — пусть и в высшей степени — все еще было символом самого крепкого здоровья; не зная, что такое тоска по удовлетворению, она почти совсем не осознавала, что обладает этим чувством целиком. Многие женщины несут этот свет своих жизней, пылающий на их лбах, но Мэри Глендиннинг бессознательно носила его внутри себя. Всеми бесконечными узорами женского очарования она невозмутимо пылала как ваза, которая, будучи освещенная изнутри, не показывает внешний признак освещающего её пламени, но, как кажется, сверкает самыми изысканными достоинствами мрамора. Но то обманчивое материальное восхищение, какое испытывают на балу некоторые женщины, не было восхищением матери Пьера. Ни всеобщее уважение мужчин, ни избранное уважение самого благородного мужчины не было таким, какое она ощущала по принадлежащему ей праву. И так как её собственные материнские пристрастия были добавлены к славным, редким и абсолютным достоинствам Пьера, то она видела добровольную преданность его нежной души, всеохватную верность вассала феодалу, избранному гильдией его рода. Таким образом, помимо пополняемого через все ее вены самого тонкого тщеславия она уже была удовлетворена уважением одного только Пьера.
Но что касается ощущений и духа женщины, то восхищение даже самым благородным и самым одаренным человеком никак ею не ощущается, пока она остаётся под непосредственным влиянием практической магии на её душу; и потому, несмотря на все интеллектуальное превосходство над своей матерью, Пьер, из-за неизбежной слабости неопытной и незрелой юности был необычно внимателен к материнскому обучению почти всем вещам, к которым у него к настоящему времени имелся интерес или же они его касались; следовательно для Мэри Глендиннинг это почтение Пьера было сполна наделено всем самым гордым восхищением и чарами самодовольства, которые только может чувствовать большинство завоевательных девственниц. Более того. Этот несказанный и бесконечно тонкий аромат невыразимой нежности и внимания, каждый раз становясь всё более изящным и благородным, присутствует одновременно с ухаживанием и предшествует заключительному оглашению имен вступающих в брак и брачной церемонии, но — как букет самых дорогих немецких вин — слишком часто испаряется с потоков любви при питье из кубков разочарований от супружеских дней и ночей; эта самая высокая и самая эфемерная вещь среди всех переживаний нашей смертной жизни; эта небесная эфемерность — еще более эфемерная в сыновней груди — была для Мэри Глендиннинг, теперь не очень далекой от своего великого критического периода, чудесным образом возрождена в учтивом и подобном любви обожании Пьера.
Чисто случайная комбинация самых счастливых и самых редких моментов на земле целиком преобразуется в замечательный, но не ограниченный по продолжительности кульминационный период времени, который столь фатален для обычной любви; этот нежный период, во время которого мать и сын все еще вращались на одной орбите радости, казался проблеском прекрасного шанса на то, что самая божественная из тех эмоций, которые являются прологом к самому сладкому сезону любви, способна на безграничные изменения во множестве незаметных отношений среди нашей разнообразной жизни. Отдельным и самостоятельным путем, она, казалось, здесь и дальше почти реализовала сладкие мечты тех религиозных подвижников, которые рисуют нам приближающийся Рай, когда в эфемерности всех платьев и красок самые святые страсти человека будут объединять все кланы и страны в одном кругу чистого и неослабевающего восхищения.
VI
Существовала, однако, одна небольшая приземленная черта, которая, по мнению некоторых, могла уронить романтические достоинства благородного Пьера Глендиннинга. У него всегда был превосходный аппетит, и особенно за завтраком. Но когда мы полагаем, что, несмотря на то, что руки Пьера были маленькими, и его манжеты белыми, его рука все же ни в коем случае не была изящна, и цвет его лица был близок к коричневому; и что он обычно поднимался вместе с солнцем и не мог уснуть, не проездив верхом свои двадцать, или не пройдя пешком свои двенадцать миль в день, или не порубив больших болиголовов в лесу, или не побоксировав, или не пофехтовав, или не позанимавшись греблей, или не свершив некий другой гимнастический подвиг; когда мы говорим об атлетическом сложении Пьера и мощной мускулатуре и мышцах, составлявших его тело, то стоит упомянуть, что вся эта мускульная сила и мышцы три раза в день громко требовали внимания, и мы очень скоро почувствуем, что в наличии хорошего аппетита нет никакого вульгарного упрека, а есть лишь признак королевского изящества и чести Пьера, характеризующие его как мужчину и джентльмена, поскольку полностью развитый джентльмен всегда крепок и здоров, а крепость и здоровье — великие гурманы.
Таким образом, когда Пьер и его мать спустились к завтраку, и Пьер внимательно посмотрел, все ли там максимально удобно для нее, и дважды или трижды приказал солидному и старому Дейтсу, слуге, опустить и поднять оконные рамы так, чтобы ни один сквозняк не смог свободно овладеть шеей его матери, после чего проследил за всем этим, но очень тихо и незаметно; и после приказа невозмутимому Дейтсу отойти в сторону, в горизонтальном особом свете нарисовалась прекрасная радостная картина в веселом фламандском стиле (в подобном стиле живопись и так висела на стене, как образец для сравнения), а затем с места, где он сидел, после несколько вдохновленных взглядов на заливные луга, уходящие вдаль за голубые горы, Пьер подал таинственный масонский знак сиятельному Дейтсу, который, автоматически повинуясь, угодливо перенес с особого маленького подноса очень пышный холодный мясной пирог, оказавшийся при осторожной пробе ножом пышным пикантным гнездом для нескольких необыкновенно нежных голубей, собственноручно подстреленных Пьером.
«Сестра Мэри», — сказал он, снимая при помощи серебряного трезубца один из множества отборных прекрасных кусочков голубя, — «Сестра Мэри», — сказал он, — «стреляя в этих голубей, я очень старался сбить их таким способом, чтобы оставить грудки неповрежденными. Они были предназначены для тебя! и они здесь. Теперь, старина Дейтс, помоги ближней тарелке своей любимицы. Нет? — ничего кроме крошек от французского рулета и несколько взглядов в кофейную чашку — это что, завтрак дочери вон того смелого Генерала?» — указывая на своего во весь рост обшитого золотым галуном деда на противоположной стене. «Ну, это же несчастье, если я должен буду завтракать за двоих. Дейтс!»
«Сэр».
«Удали эту подставку для гренков, Дейтс, и эту тарелку с языками, и поставь рулет поближе, и откати столик подальше, славный Дейтс»
Таким образом, создав требуемую для себя обстановку, Пьер приступил к завтраку, прерывая наполнение рта множеством веселых шуток.
«Ты, кажется, находишься в потрясающе прекрасном настроении этим утром, братец Пьер», — сказала его мать.
«Да, в очень сносном; по крайней мере, я не могу точно сказать, что я подавлен, сестра Мэри. — Дейтс, мой славный друг, принеси мне три миски молока»
«Одну миску, сэр, — вы имеете в виду», — сказал Дейтс серьезно и невозмутимо.
Как только слуга покинул комнату, мадам Глендиннинг сказала: «Мой уважаемый Пьер, ты часто просил меня никогда не разрешать твоей веселости переходить за грань и перешагивать через четкую линию достоинства в твоем общении со слугами. Давешний взгляд Дейтса был почтительным выговором тебе. Ты не должен говорить Дейтсу „Мой добрый приятель“. Он прекрасный человек, весьма прекрасный человек, воистину, так; но совсем нет надобности сообщать ему об этом за моим столом. Очень легко быть совершенно добрым и приятным для слуг без малейшей тени намека на кратковременную общительность с ними»
«Хорошо, сестра, несомненно, ты в целом права; после этого я буду пропускать слово „добрый“, и не говорить Дейтсу ничего, кроме слова „приятель“, — „Приятель, поди сюда!“ — как ты на это ответишь?»
«Никак, Пьер — но ты не Ромео, ты знаешь, и поэтому для присутствующих я пропускаю твою чепуху»
«Ромео! о, нет. Я далек от того, чтобы быть Ромео», — вздохнул Пьер. «Мне смешно, но он кричал, бедный Ромео! увы Ромео! горе — мне, Ромео! он дошел до скорбного конца, покойный Ромео, сестра Мэри»
«Все же это была его собственная ошибка»
«Бедный Ромео!»
«Он не слушался своих родителей»
«Увы, Ромео!»
«Он женился против их исключительной воли»
«Горе — я, Ромео!»
«Но ты, Пьер, собираешься жениться в ближайшее время, как я уверена, не на Капулетти, но на одном из своих Монтекки, и потому злость Ромео едва ли появится у тебя. Ты будешь счастлив»
«Совсем несчастный Ромео!»
«Не будь настолько смешным, брат Пьер; итак, ты собираешься взять Люси в эту долгую поездку среди холмов этим утром? Она — милая девушка, очень милая девушка»
«Да, это — скорее мое мнение, сестра Мэри. — слава Богу, мама, в пяти округах так не считают! Она — такая — хотя я и говорю так — Дейтс! — он теряет много драгоценного времени, неся это молоко!»
«Позволь ему не торопиться. — Не будь тряпкой, Пьер!»
«Ха! моя сестра немного язвительная этим утром. Я догадался»
«Никогда не неси бреда, Пьер, и никогда не говори напыщенно. Твой отец никогда не делал так, этого нет у Сократа, а ведь оба они были большими мудрецами. Твой отец был глубоко любящим — что я знаю по себе — но я никогда не слышала его напыщенных речей об этом. Он был всегда чрезвычайно благородным: и господа никогда не говорят напыщенно. Бесхарактерность и шумная проповедь маглетонианцев совсем не для господ»
«Спасибо, сестра. — Сюда, поставь его, Дейтс; действительно ли лошади готовы?»
«Просто ездят по кругу, сэр, честное слово»
«Почему, Пьер», — сказала его мать, выглядывая в окно», — ты едешь в Санта-Фе-де-Богота на этом огромном старом фаэтоне? Почему ты вытащил этого старого Джагернаута?»
«Юмор, сестра, юмор; мне нравится он, потому что он старомоден, и потому что его сидение — это широкая софа, и, наконец, потому, что девушка по имени Люси Тартэн испытывает к нему уважение. Она поклялась, что хотела бы видеть его в качестве своего свадебного экипажа»
«Ну, Пьер, все, что я должна сказать, так это то, что хочется быть уверенной, что Кристофер положит каретный молоток и гвозди, и много шнуров и винтов в коробку. И ты должен позволить ему следовать за тобой в одной из сельскохозяйственных повозок с запасной осью и несколькими досками»
«Ничего страшного, сестра, ничего страшного, — я проявлю должную заботу о старом фаэтоне. Причудливые старые ручки на панели всегда напоминают мне о том, кто ездил на нем первым»
«Я рад, что ты помнишь об этом, братец Пьер».
«И я тот, кто теперь ездит в нем».
«Будь здоров! — Да благословит тебя Господь, мой дорогой сын! — всегда думай о нем и никогда не ошибешься; да, всегда думай о своем дорогом уважаемом отце, Пьер»
«Ну, поцелуй меня теперь, уважаемая сестра, поскольку я должен идти».
«Вот сюда; это — моя щека, а другая — для Люси; хотя теперь, когда я смотрю на них обеих, то полагаю, что ее сторона более цветущая; более сладкие росы выпадают на нее, я уверена»
Пьер рассмеялся и выбежал из комнаты, поскольку старый Кристофер проявлял нетерпение. Мать подошла к окну и встала там.
«Благородный мальчик, и послушный», — пробормотала она, — «у него есть вся юношеская шаловливость и некоторое легкомыслие. И он не вырастет тщеславным в самоуверенном невежестве. Я, слава Богу, не послала его в колледж. Благородный мальчик, и послушный. Прекрасный, гордый, любящий, послушный, энергичный мальчик. Молю Бога, чтоб он никогда не стал другим. Его будущая молодая жена не отстранит его от меня, поскольку она также послушна, — красива, почтительна и само послушание. Редко бывают такие голубые глаза, как у нее, у тех, кто непослушен, и она не последует за смелым черным цветом, как две кротких овцы в синих лентах следуют за своим воинственным вожаком. Насколько же довольна я, что Пьер любит ее, а не кого-то из надменных темноглазых недотрог, с кем я никогда не смогла бы жить в мире; но кто бы ни поставил ее молодое супружество впереди моего старого вдовства, я требую всеобщего уважения к моему уважаемому мальчику — прекрасному, гордому, любимому, послушному, сильному мальчику! — родовитому, благородному мальчику и такому ласковому! Посмотрите на его волосы! Он действительно, честно говоря, служит иллюстрацией прекрасного высказывания о своем отце: если самые благородные жеребята по трем признакам — пышной гриве, выпуклой груди и кроткому послушанию — должны напоминать прекрасных женщин, то так же обстоит дело с благородной молодежью. Ну, до свидания, Пьер, и веселого утра тебе!»
Сказав эти слова, она пересекла комнату и остановилась в углу — ее довольный гордый взгляд пал на жезл старого генерала, который Пьер, накануне находясь в шаловливом настроении, взял со своего привычного места и перенес в зал с картинами и знаменами. Она сняла его и задумчиво покачала им из стороны в сторону, затем остановилась и перехватила своей рукой. Ее величественная красота имела когда-то некоторую воинственность, и теперь она смотрелась дочерью Генерала, каковой она и была; поэтому Пьер был дважды потомком революционеров. С обеих сторон он происходил от героев.
«Здесь — его наследие — этот символ власти! и меня наполняют мысли о нем. Пусть так, но сейчас мне льстит, что Пьер стал таким послушным! Тут, безусловно, очень странное противоречие! Для такого послушного — генеральский символ? и этот жезл? Но как тогда с женским уделом — послушанием? — Здесь открывается простор для ошибок. Теперь я почти желаю ему иного, нежели быть нежным и послушным мне, видя, что человеку, видимо, трудно быть бескомпромиссным героем и предводителем своего рода и одновременно никогда не заставлять морщиться кого-либо из близких. Молю Бога, чтоб он проявил свой героизм в спокойное и благое время, но не призываю стать героем в момент появления темной отчаянной надежды, как у человека, обреченного на погибель; — некой темной отчаянной надежды обреченного, чья суровость делает человека дикарем. Пошли ему, о Боже, почтительные бури! Укрепи его непоколебимое процветание! Тогда он целиком останется послушным мне и одновременно явит миру великого героя!»
Книга II
Любовь, восхищение и тревога
I
Предыдущим вечером Пьер с Люси составили план дальнего путешествия среди холмов, которые простирались вокруг к югу от широких равнин Оседланных Лугов.
Хотя экипажу уже исполнилось шестьдесят лет, животные, которые тянули его, были шестилетними жеребцами. Старый фаэтон пережил несколько поколений своего содержимого.
Пьер поехал под деревенскими вязами, подпрыгивая на неровной дороге, и вскоре натянул вожжи перед белыми дверями дома. Бросив удила, он вошел в дом.
Оба жеребца были его избранными и верными друзьями, родившимися на одной с ним земле и вскормленными тем же самым зерном, которое, в составе индийских пирогов сам Пьер часто имел привычку есть на завтрак. Один и тот же фонтан одним отводом снабжал конюшни водой, другим — кувшин Пьера. Они были своеобразными фамильными кузенами Пьеру, эти лошади, и они были великолепными молодыми кузенами с очень эффектной внешностью из-за своих пышных грив и мощной поступи, но нисколько не тщеславными и не высокомерными. Они признавали Пьера бесспорным главой дома Глендиннингов. Они хорошо знали, что были всего лишь подчиненной и зависимой ветвью Глендиннингов, в бесконечной феодальной верности связанной с его ведущим представителем. Поэтому эти молодые кузены никогда не позволяли себе убежать от Пьера; они были нетерпеливы в своем беге, но очень терпеливы при остановке. И еще они были преисполнены хорошим настроением и ребяческим видом, словно котята.
«Благослови меня Бог, но как ты можешь позволить им выдержать в полном одиночестве этот путь, Пьер», — вскричала Люси, как только они с Пьером отошли от двери дома, а Пьер поднял платки, пляжный зонтик, сумочку и маленькую корзинку.
«Подожди немного», — крикнул Пьер, опуская свой груз, — «Я покажу тебе, каковы мои жеребцы»
Сказав так, он ласково заговорил с ними, подошел к ним поближе и похлопал их. Жеребцы заржали, почти как жеребята, ржущие немного ревниво, как будто из-за какой-то несправедливости. Затем, согнувшись, с долгим, почти неслышным свистом, Пьер пробрался между жеребцами, среди упряжи. Затем Люси привстала и слабо вскрикнула, но Пьер попросил её сохранять спокойствие, поскольку вокруг не было никакой опасности. И Люси действительно, так или иначе, соблюдала тишину, хотя всегда приподнималась, когда Пьер мог оказаться в малейшей опасности, хотя, в основе своей она скорее лелеяла мысль, что Пьер заколдован и по метафизическим понятиям не может умереть из-за нее или как-то пострадать, когда она находится в тысяче лиг от него.
Пьер, все еще находясь между лошадьми, уже наступил на ось фаэтона, затем нагнулся, исчез на неопределенное время и частично скрылся среди живой колоннады из восьми тонких и блестящих лошадиных ног. Он вошел в колоннаду одним путем и после многих блужданий вышел другим; во время всей этой гужевой работы оба жеребца продолжали весело ржать и добродушно двигать своими головами вверх и вниз, иногда поворачивая их вбок в сторону Люси, словно говоря: «Мы понимаем молодого хозяина, мы понимаем его, мисс; не бойтесь, симпатичная леди: все потому, славное и восхитительное маленькое сердце, что мы играли с Пьером задолго до вашего появления»
«Ты действительно боишься, что они сейчас побегут, Люси?» — спросил Пьер, возвратившись к ней.
«Не очень, Пьер; прекрасные малые! Да, пожалуй, Пьер, они стали твоими офицерами — смотри!» — и она указала на два клока пены, эполетами лежавшими на их плечах. «Брависсимо снова! Я назвала тебя моим рекрутом, когда ты отошел от моего окна этим утром, и вот, пожалуйста, доказательство»
«Очень красивая самонадеянность, Люси. Но посмотри, ты не восхищаешься их костюмами; они носят только самый лучший генуэзский бархат, Люси. Посмотри! Ты когда-нибудь видела таких ухоженных лошадей?»
«Никогда!»
«Тогда почему бы тебе не назвать их друзьями жениха, Люси? Великолепные друзья жениха, лучше не придумаешь, я заявляю. У них должно быть по сто локтей чистой благодати во всей длине их грив и хвостов; и когда они повезут нас в церковь, то все время будут расточать чистое благословение из своих глоток, как они делают это здесь и при мне. По-моему, так они должны быть моими друзьями жениха, Люси. Величественные олени! игривые собачки! герои, Люси. У нас не будет никаких свадебных колоколов; они должны ржать для нас, Люси; мы будем связаны узами брака под звуки военных труб, Люси. Прислушайся! Они ржут сейчас, думая об этом»
«Ржут в твоем лиризме, Пьер. Ну, хватит об этом. Здесь — платок, пляжный зонтик, корзина: почему ты так на них смотришь?»
«Я думаю, Люси, об удручающем состоянии, в котором нахожусь. Не далее как шесть месяцев назад я видел бедного помолвленного парня, моего старого товарища, тащившегося рядом со своей Люси Тартэн, с узелками в обеих руках; и я сказал самому себе: „Вот идет навьюченный мул, вот он, дьявольски несчастный, и он — влюблен“. И теперь посмотрите на меня! Ну, жизнь это бремя, как говорится, почему бы не быть обремененным радостью? Но посмотри, Люси, я иду на формальное объяснение и противостою нашим грядущим трудностям. Когда мы будем женаты, я не буду таскать узлы, кроме как в случаях реальной потребности; и, более того, когда какая-нибудь из твоих знакомых девушек окажется в поле зрения, меня вовсе не обязательно будет отзывать для особого наставления»
«Теперь я действительно раздражена из-за тебя, Пьер; это — твой первый гнусный намек. Будет ли там в поле зрения хотя бы одна из знакомых мне юных леди, хотела бы я знать?»
«Шесть из них прямо по пути», — сказал Пьер, — «но они прячутся за занавесками. Я никогда не доверяю твоим уединенным деревенским улицам, Люси. Меткие стрелки вслед каждому экипажу, Люси»
«Тогда умоляю, дорогой Пьер, действительно, давай поедем!»
II
Пока Пьер и Люси катаются под вязами, позвольте рассказать вам, кем была Люси Тартэн. Само собой разумеется, она была красавицей, потому что молодые люди с румяными щеками, каштановыми волосами, как у Пьера Глендиннинга, редко влюбляются в кого-либо, если тот некрасив. И во времена грядущие так должно быть — как и в настоящее время, так и в прошедшие времена — некий великолепный мужчина и некая прекрасная женщина; и как с этим еще могут обстоять дела, если всегда во все времена и тут и там красивые молодые люди женятся на красивых девицах!
Но хотя вследствие вышеназванных условий мадам Природы в мире всегда будут красавицы, мир все же никогда не увидит другую Люси Тартэн. Ее щеки были тончайшего белого и красного цвета, с преобладанием белого. Ее глазами некая богиня глядела с небес, ее волосы были волосами Данаи, украшенными блестками золотого дождя, за перлами ее зубов пришлось бы нырять в Персидское море.
Если надолго остановить взгляд на том, кто продирается через более скромные слои общества и смят неоправданно тяжелым трудом и бедностью, то этот человек должен будет случайно увидеть некую справедливую и добрую дочь богов, которая из-за неведомых краев очарования и богатства вплывает в свет, со всех сторон гармоничная и сияющая; и как только она попадает в мир, столь же полный порока и страданий как наш, то должна будет там же сиять и дальше, как видимое подобие небес. Ведь прекрасная женщина не совсем земная. Ее собственная чувствительность не ощущает себя таковой. Толпы женщин следят за женщиной с превосходящей их красотой, входящей в комнату, как будто это сияющая на подоконнике птица из Аравии. Скажите, будете ли вы ревновать, если кто-либо не последует их открытому восхищению. Будут ли мужчины завидовать богам? И женщины завидовать богиням? Красивая женщина это урожденная Королева, как для мужчин, так и для женщин, подобная Марии Стюарт, урожденной Королеве Шотландцев, все равно, мужчин или женщин. Все человечество — её шотландцы, лояльные ей кланы будут причислены к её народам. Истинный джентльмен в Кентукки будет готов умереть за красавицу в Индостане, хотя он никогда не видел ее. Да, его сердце начнет смертельный обратный отсчет из-за нее и отправится к Плутону ради того, чтобы она могла войти в Рай. Он прогонит турка, прежде чем тот будет отрицать преданность, унаследованную всеми благородными мужами с того часа, как их Великий Предок Адам первым преклонил колени перед Евой.
У некрасивой Королевы Испании нет и половины славы красивой модистки. Ее солдаты могут свернуть головы, но своей Высотой она не в состоянии пронзить сердце, а красивая модистка способна нанизать сердца на нитку, как ожерелье. Несомненно, Красота создала первую Королеву. Если когда-либо снова наследование в Германской Империи будет оспариваться, то всего лишь одному бедному несообразительному адвокату нужно будет представить стране первую же исключительной красоты женщину, которую он случайно увидит — она вслед за этим единодушно будет избрана Императрицей Священной Римской Германской Империи; — что тут сказать, — о, если бы все немцы были бы настоящими, откровенными и великодушными господами, вообще способными к пониманию такой великой чести.
Тут не имеет смысла рассказывать о Франции как о месте всеобщей любезности. Не у тех ли самых французов-язычников существовал Салический закон? Трое из самых очаровательных существ, — бессмертные цветы линии Валуа — были исключены из претендентов на французский трон согласно этой печально известной мере предосторожности. И это Франция! Эти миллионы католиков все еще поклоняются святой Небесной Королеве Марии, и как раз десять поколений отказались от кубка и колен множества ангельских Марий, законных королев Франции. Вот причина для вселенской войны. Посмотрите, как ужасны нации, где мужчинам позволено принимать и без возражений носить избранные титулы, не имея заслуг. Американцы, а не французы, являются примерами в мире галантности. Наш Салический закон предусматривает, что вселенское уважение должно быть платой всем красавицам. Никакие самые незыблемые права человека не должны мешать их самым воздушным прихотям. Если вы покупаете лучшее место в экипаже, чтобы поехать и проконсультироваться с доктором по вопросам жизни и смерти, то стоит с готовностью отказаться от лучшего места и тащиться вдаль пешком, если симпатичная женщина, путешествуя, взмахнет единственным пером у крыльца здания.
Сейчас, — с тех пор как мы начали говорить об определенной девушке, которая отправилась в поездку в карете с определенным молодым человеком вскоре после сцены у окна дома, — такое веселое продвижение может показаться скорее периодическими записками. Но куда действительно приведет нас Люси Тартэн, если не в мир могущественных Королев и прочих других знатных существ и, наконец, отправит нас в странствие, чтобы мы смогли узреть, действительно ли огромный мир настолько прекрасен и удивителен. Разве я с незапамятных времен не обязан славить эту Люси Тартэн? Кто остановит меня? Разве она не мой герой, со мной обрученный? Где здесь противоречие? Где под покровом ночи спит другой такой же?
И всё же никак не могла Люси Тартэн уклониться от всего этого шума и грохота! Она хвалилась, но не хвасталась. К настоящему времени она безмолвно плыла по жизни, как вниз по лугам плывет чертополох. Она была безмолвна, кроме как с Пьером, и даже с ним она провела множество безмолвных часов. О, эти любовные паузы, — как зловеще то, что грядет за ними; ведь паузы предшествуют землетрясению и всякому ужасному волнению! Но некоторое время их небо будет синим, и вся их беседа светлой, а шутки их — игривы.
Никогда я не буду опускаться до столь низменного описания! Ну как можно с бумагой и карандашом выйти в звездную ночь заняться учетом небес? Можно ли рассказывать о звездах, как о чайных ложках? Кто способен передать очарование Люси Тартэн на бумаге?
И об остальном; ее происхождение, её состояние, количество платьев в ее гардеробе и количество колец на ее пальцах — я бы с радостью посоветовал специалистам по генеалогии, сборщикам налогов и драпировщикам обратить внимание на все это. Меня интересует ангельская кротость Люси. Но поскольку кое у кого превалирует образное предубеждение против ангелов, которые являются просто ангелами и больше никем, то я измучаю самого себя, допустив таких господ и леди в некоторые детали из истории Люси Тартэн.
Она была дочерью старого и самого заветного друга отца Пьера. Но этот отец был теперь мертв, и она, единственная дочь, жила со своей матерью в прекрасном городском доме. Но хотя ее дом стоял в городе, ее сердце два раза в год пребывало в деревне. Она не всецело любила город и его пустые, бессердечные, церемониальные дороги. Это было очень странно, но наиболее красноречивым в её собственном природном ангельском характере было то, что, хотя она и родилась среди кирпича и раствора в морском порту, она все еще тосковала по несожженной земле и целинной траве. Она была подобна милой коноплянке, пусть и родившейся за прутьями клетки в палате леди на океанском побережье, и не знавшей всю свою жизнь какого-либо другого места; однако, когда приходит весенняя пора, её охватывает трепет и неопределенное нетерпение, и она не может есть или пить из-за этой дикой тоски. Не ведающая никакого опыта, но уже вдохновленная коноплянка согласно божественному вмешательству осознает, что время для миграции пришло. И именно так обстояло с Люси и ее первой тоской по зелени. Каждую весну этот дикий трепет сотрясал ее, каждую весну эта сладкая девочка-коноплянка действительно мигрировала внутрь страны. О Боже, разреши, чтобы эти и другие, — и как можно дольше после неописанных и сокровенных трепетаний ее души, когда вся жизнь станет утомлять ее, — Боже, допусти, чтобы более глубокий трепет в ней оказался одинаково важным для её заключительного ухода на небеса с этой тяжкой земли.
Для Люси было большой удачей, что ее тетушка Лэниллин — задумчивая, бездетная, седоголовая вдова — жила в собственном симпатичном доме в деревне Оседланные Луга, и совсем удачей было то, что эта прекрасная старая тетя была очень неравнодушна к ней и всегда ощущала тихое восхищение Люси от её присутствия возле себя. Таким образом, домом тетушки Лэниллин, в действительности, была Люси. И теперь в течение нескольких минувших лет она ежегодно проводила несколько месяцев в Оседланных Лугах; и это проходило среди настолько чистых и мягких деревенских соблазнов, что Пьер первым почувствовал к Люси любовную страсть, которая теперь совершенно поглотила её.
У Люси было два брата: один старше её на три года, а другой на два года моложе. Но эти молодые люди были офицерами в военно-морском флоте, и поэтому они не постоянно жили с Люси и ее матерью.
Г-жа Тартэн была вполне удачлива. Она, кроме того, абсолютно сознавала этот факт и была несколько склонна обращать на это внимание других людей, вовсе не заинтересованных этим вопросом. Другими словами, г-же Тартэн, вместо того, чтобы гордиться дочерью, что было бесконечно правильно, больше нравилось гордиться кошельком, для чего у нее не было малейшей причины, отмечая, что Великий Могол, вероятно, обладал большим состоянием, чем она, не исключая Персидского Шаха, барона Ротшильда и тысяч других миллионеров, тогда как Великий Турка и все другие величества Европы, Азии и Африки при всем своем богатстве не смогли бы во всех своих объединенных землях похвастаться такой милой девочкой, как Люси. Тем не менее, г-жа Тартэн была самой прекрасной леди, когда-либо пришедшей в этот благовоспитанный мир. Она занималась благотворительностью, ей принадлежало пять церковных скамей во многих церквях, и еще она выступала с идеей приблизить всеобщее мировое счастье путем женитьбы знакомых красивых молодых людей друг на друге. Другими словами, она была антрепренером — не антрепренером Люцифера — хотя, говоря по правде, она, возможно, разжигала супружеский блюз в груди определенных неудовлетворенных господ, которые были связаны узами брака при её конкретном покровительстве и ее особом совете. Ходили слухи — но слухи всегда выдумка — что существовало тайное общество неудовлетворенных молодых мужей, которые изо всех сил старались частным образом распространить листовки среди всех не состоящих в браке молодых незнакомцев, предостерегая их от коварного подхода г-жи Тартэн и, ради упоминания, именуя себя под псевдонимом. Но это, возможно, было не так: из-за тысяч раздутых фитилей — горящих синем или ярким пламенем, что неважно, — г-жа Тартэн плавала в морях высшего света, заставляя все топсели кланяться ей, и буксировала флотилии, состоящие из девушек, для всех из которых она обязывалась подобрать самую прекрасную гавань в мире.
Но разве создание факела благотворительности не начинается дома? Почему её собственная дочь Люси остается без помощника? Но не так скоро: г-жа Тартэн несколько лет назад расчертила четкий план относительно Пьера и Люси; но в этом случае ее программа, как оказалось, совпала, в определенной степени, с предыдущей программой Небес, и только по этой причине случилось так, что Пьер Глендиннинг стал счастливым выбором Люси Тартэн. Кроме того, поскольку все это касалось её самой, г-жа Тартэн была, по большей части, довольно осмотрительной и осторожной во всех своих маневрах с Пьером и Люси. Более того, для всего этого не потребовалось вообще никаких маневров. Две платонических частицы после скитаний в поисках друг друга со времен Сатурна и Опис одновременно и вместе предстали перед собственными глазами г-жи Тартэн; и чего большего могла хотеть г-жа Тартэн для их навеки неразделимого соединения? Однажды, и только однажды, вялое подозрение пронеслось в голове Пьера, что г-жа Тартэн была женщиной — шулером и умела хитро уходить от разоблачения.
В момент их совсем раннего знакомства он завтракал с Люси и ее матерью в городе, и как только г-жой Тартэн была налита первая чашка кофе, она объявила, что услышала запах спичек, горящих где-то в доме, и что она должна видеть их погашенными. Поэтому, стремясь все погасить, она поднялась для того, чтобы найти зажжёные спички, оставив пару в покое для обмена кофейными любезностями, и, наконец, послала им с вышеупомянутой лестницы фразу о том, что спички или что-то еще вызвали у неё головную боль, и попросила Люси послать ей какой-нибудь тост и чай, поскольку хочет позавтракать этим утром в своих собственных покоях.
При этом Пьер перевел взгляд от Люси на свои ботинки, и как только отвернул его, то увидел на одной стороне дивана Анакреона и «Мелодии Мура» на другой, и немного меда на столе, и немного белого атласа на полу, и своеобразную кружевную вуаль на люстре.
Не бери в голову, — тем не менее, подумал Пьер, остановив свой пристальный взгляд на Люси, — я полностью приготовился быть пойманным, когда приманка установлена в Раю, и эта приманка — ангел. Он снова поглядел на Люси и увидел бесконечно подавленную досаду и некоторую непривычную бледность на ее щеке. Тогда он охотно поцеловал бы восхитительную приманку, которая так слабо противилась попаданию в ловушку. Но снова поглядел вокруг и заметил, что партитуру г-жа Тартэн под отговоркой наведения порядка поставила на фортепьяно, и, отметив, что эта же партитура стояла теперь в вертикальной стопке напротив стены, — «Любовь была однажды маленьким мальчиком», — как наиболее удаленный и единственно видимый лист, решил, что при этих обстоятельствах это замечательное совпадение, и не смог удержаться от веселой улыбки, хотя она была очень нежной, и немедленно раскаялся, тем более, что Люси, видящая и пытающаяся понять его, немедленно поднялась с необъяснимым, возмущенным, ангельским, восхитительным и все-убеждающим «г-н Глендиннинг?», крайне смущенная наличием у него мельчайшего зародыша подозрения относительно тайного сговора Люси с предполагаемой хитростью ее матери.
Действительно ли г-жа Тартэн контролировала любой процесс вообще прежде, чем он происходил или на него появлялся намек, и деликатность в вопросе любви Пьера и Люси было ничуть не меньшей, чем весьма беспричинной и кощунственной? Были ли фальшивкой лилии г-жи Тартэн, когда они играли? Приступала ли г-жа Тартэн к созданию партии между сталью и магнитом? Нелепая г-жа Тартэн! Но весь этот мир нелеп со множеством нелепых людей в нем, главой которых была г-жа Тартэн, национальный антрепренер.
Это поведение г-жи Тартэн было более абсурдным, если заметить, что она могла не знать, чего желала г-жа Глендиннинг. И была ли Люси богатой? — то есть, собиралась стать очень богатой, когда ее мать умрет, — (печальная мысль для г-жи Тартэн) — и не была ли семья ее мужа лучше остальных, и разве отец Люси не был закадычным другом отца Пьера? И хотя для Люси можно было подобрать партию, то где среди женщин нашлась бы ровня Люси? Чрезвычайно абсурдная г-жа Тартэн! Но когда такая леди, как г-жа Тартэн, не может сделать нечего положительного и полезного, то она делает такие абсурдные дела, какие г-жа Тартэн и делала.
Но прошло время, и Пьер полюбил Люси, а Люси Пьера; и тут как раз два благородных молодых военных моряка, ее братья, как оказалось, прибыли в гостиную г-жи Тартэн из своего первого путешествия — три года по Средиземноморью. Они сразу уставились на Пьера, обнаружив его на диване, и на Люси, сидевшую поблизости.
«Умоляю, присаживайтесь, господа», — сказал Пьер. — «Комната просторная»
«Мои дорогие братья!» — вскричала Люси, обнимая их.
«Мои дорогие братья и сестра!» — вскричал Пьер, обнимая их всех.
«Умоляю, сэр, сдержитесь», — сказал старший брат, который служил уже проэкзаменованным гардемарином в течение последних двух недель. Младший брат немного отступил и, хлопнув своей рукой по своему кортику, сказал, «Сэр, мы со Средиземноморья. Сэр, разрешите мне сказать, что это совсем неуместно! Кем вы нам тут приходитесь, сэр?»
«От радости я не могу этого объяснить», — вскричал Пьер, снова весело обхватывая их всех.
«Весьма странно!» — вскричал старший брат, высвобождая из объятий воротник своей рубашки и с силой вытягивая его.
«Обрисуй!» — бесстрашно крикнул младший.
«Мир, глупыши», — крикнула Люси — «это ваш старый приятель Пьер Глендиннинг»
«Пьер? почему, Пьер?» — закричали парни. — «Обними всех снова! Ты вырос с морскую сажень! — кто бы тебя узнал? Но здесь Люси? Я спрашиваю, Люси? — какое дело у тебя здесь — а? а? — подобрала себе пару, не так ли?»
«О! Люси, не думай об этом», — вскричал, Пьер — «обойди еще один раз всех по кругу»
Таким образом, они все снова обнялись, и тем же вечером стало публично известно, что Пьер должен будет жениться на Люси.
После чего молодые офицеры взяли его на себя, чтобы подумать — хотя они ни в коем случае не планировали отдыхать — на что они имели право, хотя и косвенное, — и закрепить ранее неоднозначно истолкованное и достойное высокой похвалы положение между теперь уже помолвленными влюбленными.
III
В прекрасные старые здравые времена дед Пьера, американский джентльмен внушительного телосложения и состояния, проводил свое время в стиле, несколько отличном от стиля оранжерейных джентльменов настоящего времени. Дед Пьера был ростом в шесть футов и четыре дюйма; во время пожара в старом поместном особняке он одним ударом своей ноги разбил дубовую дверь, чтобы впустить своих чернокожих рабов с ведрами; Пьер часто примерял свой военный жилет, все еще остававшийся семейной реликвией в Оседланных Лугах, карманы которого оказывались ниже его коленей, и посещал множество дополнительных комнат с большемерными опоясанными четвертными бочками; в ночной схватке в диком краю перед Революционной войной дед уничтожил двух дикарей-индейцев, превратив их головы в дубинки друг для друга. И все это было сделано кротким, сердечным и самым синеглазым джентльменом в мире, который, согласно патриархальной моде тех дней, был благородным белоголовым почитателем всех домашних богов, самым нежным мужем и самым нежным отцом, самым добрым хозяином своим рабам с самым замечательным невозмутимым нравом, безмятежным курильщиком своей послеобеденной трубки, прощающим многие раны добродетельным христианином со мягким сердцем, прекрасным, чистым, веселым, искренним, голубоглазым, божественным стариком, в чьей кроткой, величественной душе соединились лев и ягненок — подходящее изображение его Бога.
Никогда не мог Пьер смотреть на его прекрасный военный портрет без бесконечной и жалобной тоски из-за невозможности встретиться с ним живым в реальной жизни. Величественная сладость этого портрета была действительно отмечена влиянием на любого чувствительного и молодого наблюдателя с широкой душой. Для него этот портрет обладал небесной убедительностью ангельской речи; великолепное евангелие было вставлено в рамку и повешено на стену, и объявило всем людям, как с горы, что человек — благородное, богоподобное существо, наполненное отборным соком, состоящее из силы и красоты.
Тогда этот великий старый Пьер Глендиннинг был великим любителем лошадей, но не в современном значении этого слова, поскольку он совсем не был жокеем; одним из самых близких его друзей был огромный, гордый, серый конь с удивительным запасом привычек, со своим звериным седлом, у которого были свои конские кормушки, вырезанные наподобие старых мисок из крепких кленовых бревен; ключ от этих закромов висел в его библиотеке, и никто не задавал зерна его коням, кроме него самого; в его отсутствие дома ему в его благородной службе помогал Мойяр, неподкупный и пунктуальный старый негр. Он говорил, что человек не любит своих лошадей, если собственными руками не кормит их. Каждое Рождество он наполнял меры до краев. «Я отмечаю Рождество со своими лошадьми», — говорил великий старый Пьер. Этот великий старый Пьер всегда поднимался на восходе солнца, мыл свое лицо и грудь под открытым небом и затем, вернувшись к своему туалету и полностью одевшись, наконец, шагал дальше, чтобы произвести церемониальную перекличку в своих конюшнях, обещая своим весьма благородным друзьям очень хорошее и радостное утро. Горе было Кранцу, Киту, Дьюи или любому другому из его постоянных рабов, если великий старый Пьер находил одну лошадь непокрытой или хоть один сорняк среди сена, которое наполняло стойло. Не то, чтобы он когда-либо порол Кранца, Кита, Дьюи или любого другого из них — явление, неизвестное в стране в это патриархальное время, — но он отказывался говорить им свои обычные добрые слова, и для них это было очень горько, для Кранца, Кита, Дьюи и всех тех, кто любил великого старого Пьера, как любили пастухи старого Авраама.
Что это за чинный, барский, седой конь? Кто этот старый халдей, ездящий повсюду? — Это великий старый Пьер, который каждое утро, прежде чем поесть, идет гулять со своим оседланным зверем и не садится на него, не испросив сначала разрешения. Но время прошло, и великий старый Пьер постарел: великолепные гроздья его жизни теперь лопались от соков; совесть не позволяла ему обременять своего величественного зверя столь мощным грузом мужественности. Кроме того, благородный зверь сам постарел и его большие, внимательные глаза приобрели трогательный задумчивый взгляд. Нога человека, поклялся великий старый Пьер, никогда уже не будет в стремени на моем коне, его нельзя больше использовать, не трогайте его! Тогда каждую весну он стал засевать поле клевером для своего коня и в разгар лета сортировал все луговые травы, отбирая сушеное сено на зиму и обмолачивая предназначенное коню зерно цепом, древко которого когда-то несло флаг в жаркой битве, где тот же самый старый конь гарцевал под великим старым Пьером: один махал гривой, другой — мечом!
Теперь великий старый Пьер должен был отказаться от утренней езды; он больше не ездил на старом сером коне. Ему построили фаэтон, пригодный для толстого генерала, чей пояс мог бы опоясать трех обычных людей. Удвоенными, утроенными были огромные S-образные кожаные рессоры, колеса казались украденными с некоего завода; сидение было похоже на укрытую кровать. Из-под старой арки уже не одна лошадь, а две каждое утро вывозили старого Пьера, как выводят китайцы своего толстого бога Джа один раз в год из своего храма.
Но время прошло, и пришло утро, когда фаэтон не появился, но все дворы и корты были заполнены, шлемы выстроились в линию, взятые наизготовку обнаженные мечи ударялись о каменные ступени крыльца, на лестнице зазвенели мушкеты, и печальные военные мелодии раздались во всех залах. Великий старый Пьер умер, и, как герой старых сражений, он умер в канун другой войны; перед тем, как уйти стрелять в неприятеля, его взводы салютовали над могилой своего старого командующего: великий старый Пьер умер в лето от рождества Христова 1812-е. Барабан, что выбивал медь его похоронного марша, был британской литаврой, которая когда-то помогла разбить тщеславный марш, направленный на захват тридцати тысяч предназначенных к заключению человек и уверенно ведомый известным хвастливым мальчиком Бургойном.
На следующий день старый серый конь отвернулся от своего зерна, развернулся и бессильно заржал в своем стойле. Теперь он отказывался быть похлопанным рукой доброго Мойяра; понятно, что если бы лошадь могла говорить, то старый серый конь сказал бы — «Я не чувствую обычного запаха рук; где великий старый Пьер? Нет моего зерна, нет моего конюха. — Где великий старый Пьер?»
Он спит недалеко от своего хозяина, под посевной травой на мягком ложе; и задолго до того великий старый Пьер и его конь прошли через эту траву к славе.
Но его фаэтон — словно украшенный перьями катафалк, пережил тот благородный скучный груз, который он возил. И подобно тому, как темно-гнедые кони тащили великого старого живого Пьера, так и его завещание влекло его мертвого и следовало за гордым седоком темно-серого коня: эти темно-гнедые кони все еще существовали, но не в себе самих или в своем потомстве, но в двух потомственных жеребцах своей породы. Ведь на землях Оседланных Лугов человек и лошадь — оба — наследники; и этим ярким утром Пьер Глендиннинг, внук великого старого Пьера, теперь ехал вместе с Люси Тартэн, усаженной там, где сидел его собственный предок, и правил конями, чьих прапрапрадедов прежде держал в узде великий старый Пьер.
Какую же великую гордость чувствовал Пьер, воображая двух конных призраков, парой запряженных в фургон. «Это не коренники», — кричал молодой Пьер — «это вожди поколений»
IV
Но Любовь ближе к своему собственному возможному и реальному потомству, нежели к когда-то жившим, но теперь несуществующими прежними родословным. Поэтому румянец Пьера от семейной гордости быстро уступил место более глубокому колориту, когда Люси заставила его поднять на щеках знамя любовного румянца.
Это утро было выбрано из тех глубин, что есть у Времени в его сосуде. Невыразимая чистота мягкой сладости неслась с полей и холмов. Фатальное утро для всех обрученных влюбленных. «Идите к собственному осознанию», кричало оно. «Полюбуйтесь нашим воздухом, влюбленные», — щебетали птицы с деревьев; далеко в открытом море матросы больше не вязали свои булини; их руки потеряли свою сноровку; они или не они, но Любовь связала любовные узлы на каждой украшенной блестками штанге.
О, похваляющиеся стать красой этой земли, красой и цветком, и испытывающие радость от этого! Первые созданные миры были зимними мирами; вторые — весенними мирами; третьи и последние — чистейшие — стали летом нашего мира. В холодных и нижних сферах проповедники вещают о земле, как раньше мы вешали о Рае. О, там, мои друзья, они скажут, что там есть сезон, на тамошнем языке называемом словом «лето». В эту пору их поля прядут себе зеленые ковры, снег и лед лежат не по всей земле, и тогда же миллион странных, ярких, ароматных частиц осыпают этот луг благовониями; и высокие, величественные существа, немые и великие, стоят с протянутыми руками и держат свои зеленые навесы над веселыми ангелами — мужчинами и женщинами — которые любят и женятся, и спят, и мечтают под одобрительными взглядами видимых ими бога и богини, радующегося сердцем солнца и задумчивой луны!
О, похвалявшийся быть красотой этой земли; красота и цветение, и переполняющая радость от этого. Мы жили прежде и будем жить снова, как надеемся на более справедливый мир, чем тот, что пришел, поскольку сами произошли из того мира, что менее прекрасен. От каждого последующего мира демон Принципа отходит все больше; он — проклятая помеха родом из хаоса, и с каждым новым переходом мы оставляем его все дальше и дальше позади. Осанна этому миру! Он сам по себе красив, и он — преддверие к более красивому. Из некоего Египетского прошлого мы пришли в этот новый Ханаан, и из этого нового Ханаана мы направляемся в некую Черкессию. Хотя корни зла, Нужда и Горе, все еще сопровождают нас на пути из Египта, и теперь нищенствуют на улицах Ханаана, все же Врата Черкесии не должны пропустить их; они, с их родителем, демоном Принципа, должны отступить в хаос, из которого они вышли.
Любовь была первым, что породили Радость и Мир в Эдене, когда мир еще был молод. Человек томился от осторожности, он не мог любить; человек мрака не находил бога. Поскольку молодость, по большей части, не отступает и не знает мрака, то с тех пор, как время начало свой действительный отсчет, молодости принадлежит любовь. Любовь может закончиться с горем и с возрастом, и с болью, и с потребностями, и со всеми другими признаками скорбящего человека, но начинается любовь с радости. Первый вздох любви никогда не заканчивается выдохом, только смехом. Любовь сначала смеется, а после вздыхает. У любви нет рук, но есть цимбалы; уста Любви разделены на камеры как горн, и инстинктивные вдохи её жизни наполнены праздничными приметами счастья!
Тем утром две гнедые лошади тянули хохочущую пару вдоль дороги, которая вела к холмам Оседланных Лугов. Все время они непрестанно громко болтали: Пьер Глендиннинг — молодым мужественным тенором, Люси Тартэн — девичьим сопрано.
С поразительно красивым лицом, голубоглазая, со светлыми золотыми волосами, Люси была одета в цвета, гармонирующие с небесами. Голубой — твой нескончаемый цвет, Люси; светло-голубой для тебя лучше всего — такую повторяющуюся голубизну советовала мать Люси Тартэн. С обеих сторон от ограды к Пьеру обращались цветки клевера Оседланных Лугов, а изо рта и со щек Люси исходил молодой аромат свежей фиалки.
«Это пахнут цветы или ты?» — кричал Пьер.
«Я вижу озера или глаза?» — кричала Люси, сама заглядывая в его душу подобно тому, как пристально смотрят две звезды в альпийское озеро.
Ни один корнуэльский шахтер никогда не погружался в шахту, настолько уходящую глубже уровня моря, насколько глубже взгляда пловцов погружалась Любовь. Любовь глядит на десять миллионов морских саженей вниз, пока её не ослепит жемчужное дно. Глаза — собственное волшебное стекло Любви, через которое все неземное предстает в сверхъестественном свете. В море меньше рыб, чем сладких видений в глазах влюбленных. В этой удивительной полупрозрачности плавают странные глазастые рыбы с крыльями, которые иногда выпрыгивают от инстинкта радости, влажные крылья рыб это влажные щеки влюбленных. Глаза любви святы, в них поселились тайны жизни; вглядываясь в любые другие глаза, влюбленные видят скрытую первооснову мироздания и при помощи обостренных ощущений, извечно непереводимых, чувствуют, что Любовь — бог всего. Мужчина или женщина, которые никогда не любили, никогда не проникали в глубину своих собственных влюбленных глаз, не знают самую сладость и самую высшую религию этой земли. Любовь для человечества это евангелие Создателя и Спасителя, a его томик обернут лепестками розы, перевитыми фиалками, клювами колибри, и персиковым соком припечатан к листьям лилий.
Бесконечна летопись Любви. Время и пространство не могут вместить историю Любви. Все, на что сладко смотреть или пробовать, или чувствовать, или слышать, все это было создано Любовью, и ничего другого Любовь не создала. Любовь не создает арктические зоны, но Любовь иногда меняет их. Скажите, не жестоко ли ежедневно и ежечасно происходящее на этой земле? Где теперь ваши волки в Великобритании? Где теперь в Вирджинии вы найдёте пантеру и леопарда? О, любовь находится везде. Везде у Любви есть моравские миссионеры. Нет Проповедника, которому не нравилось бы любить. Южный ветер дразнит северный варварский ветер; на многих дальних берегах более нежный западный ветер увлажняет засушливый восток.
Вся эта Земля обручена с Любовью; безуспешно демон Принципа требует не оглашать имена вступающих в брак. Почему вокруг центра этого мира находится столь богатая буйной тропической зеленью зона, если она не одежда для финальных обрядов? И почему она предоставляет апельсиновые цветки и лилии из долины, если они не предназначены для тех мужчин и девиц, что желают любить и жениться? Каждой свадьбой связанные узами брака истинно влюбленные помогают маршу вселенской Любви. Кто-то из невест должен будет стать подружками невесты-Любви в мире брака. Поэтому со всех сторон Любовь очаровательна; сможет ли сдержать себя тот юноша, который видит чудо прекрасной женщины мира? Где есть красивая женщина, там есть вся Азия и все её Базары. Италия не видела красоты Девочки-американки, но небеса шлют благословение из-за пределов ее земной любви. Разве ангелоподобные Лотарио не спускались на землю, на которой они могли бы испытать Любовь и Красоту смертной женщины? Разве ее собственные глупые братья после не тосковали о том же самом Рае, который они покинули? Да, те, кто завидовал ангелам, спустились, воистину ушли; и кто эмигрирует, если не в поисках лучшей доли?
Любовь — этот великий всемирный избавитель и реформатор; и поскольку все красивые женщины — ею избранные эмиссары, то и Любовь одаривает их магнетической убедительностью, которую ни одна юность не способна отразить. Собственный сердечный выбор каждого юноши иногда кажется ему загадочными чарами, как и десять тысяч концентрических периодов и круговых заклинаний, доносящихся со всех сторон, как только он повернется, бормотание слов неземного происхождения, сбор для него всех подземных эльфов и гномов и очистка всего моря для наяд, чтобы те плавали вокруг него; и так как эти тайны вызваны вздохами Любви, то зачем тогда удивляться тому, что эта Любовь и есть мистика?
V
И это же самое утро казалось Пьеру весьма мистическим, хотя и не всегда; но самым мистическим был один момент, изобиловавший безумным, необузданным весельем, о котором будет рассказано позже. Он одновременно казался юным волхвом и почти шарлатаном. Халдейская импровизация вырывалась из него быстрыми Золотыми Стихами на грани остроумия и находчивости. Более того, ясный взгляд Люси передался ему. Теперь, пока безрассудство лошадей с обеих сторон держало Люси в его объятиях, он, как сицилийский ныряльщик, нырял в адриатическую глубину души ее глаз и доставал оттуда некий королевский кубок радости. Все волны в глазах Люси казались ему волнами бесконечного ликования. И словно настоящие моря, они действительно ловили отраженные всполохи этого прозрачного голубого утра; в глазах Люси, казалось, засияла вся небесная синева главного дня и вся непостижимая небесная сладость. И, конечно же, голубизна глаз женщины, как море, не может не зависеть от атмосферы. Только под открытым небом некоего самого божественного, летнего дня вы увидите ультрамарин, — его жидкую ляпис-лазурь. Затем Пьер с силой взорвался в некоем пронзительном крике радости, и полосатые тигры его каштановых глаз запрыгали в своих исхлестанных клетках с жестоким восхищением. Люси уклонилась от него на пике любви, из-за самой острой сути высочайшей вершины Любви, Страха и Восхищения.
Вскоре быстрые лошади примчали этого истинного бога и богиню к почти заросшим холмам, чья далекая синева уже поменялась на разные оттенки зелени, вставшей перед ними как старые мшистые вавилонские стены, в то время как повсюду расставленные на одинаковом расстоянии пики казались стеновыми башнями, а собравшиеся в группу сосны возвышались над ними во всю ширь, будто высокие лучники, выглядывающие, словно наблюдатели, в дни славного Города Вавилона. Ловя воздух холмов, скачущие лошади ржали, потешаясь ликующими ногами над землей. Они почуяли веселый восхитительный позыв дня, поскольку день обезумел от чрезмерной радости, и высоко в небе было слышно ржание лошадей Гелиоса, пена из ноздрей которых выпадала вниз густыми кудрявыми туманами с холмов.
С равнин медленно поднимался туман, с трудом оставляя столь сочный луг. На этом зеленом склоне Пьер обуздал своих коней, и скоро парочка уселась на берегу, пристально глядя вдаль, и еще дальше, на множество рощ и озер, рогатые хребты и низменные пастбища, растянувшиеся ярко-зеленые топи, служащие признаком того, что сама зеленая щедрость этой земли ищет свои извилистые каналы, и того, что, как всегда, больше всего небесная щедрость ищет тихие места, создавая зелень и счастье для множества скромных смертных, и уходит к своему собственному сухому одиночеству во множестве высокогорных княжеств.
Ни Горе, ни Радость не бывают моралистами; и из этой сцены Пьер уловил маленькую мудрую мораль. Пока он сжимал руку Люси своей рукой и чувствовал, мягко чувствовал её мягкое покалывание, ему казалось, что он был перевязан летними молниям и посредством нежных последовательных ударов получает намеки на неземные сладости земли.
Теперь, распростершись на траве, он направил свой неподвижный и внимательный взгляд на глаза Люси. «Ты — моё небо, Люси; и здесь я лежу, твой пастух-король, наблюдающий за новыми глазами-звездами, оживающими в тебе. Ха! Теперь я вижу прохождение Венеры; — Ло! там новая планета, и позади всего — бесконечная звездная туманность, как будто твое существо было фоном для некоего сияния, уступающего место таинственности»
Действительно ли Люси оставалась глуха ко всему этому бреду его лирической любви? Почему она глядела вниз и дрожала, и почему теперь с ее бесценных век стекало такое тепло? Никакой радости уже не было в глазах Люси, и казалось, что у неё дрожат губы.
«Ах! Ты слишком горяч и порывист, Пьер!»
«Нет, ты слишком сырой и изменчивый апрель! Ты разве не знаешь, что сырой и изменчивый апрель сопровождается веселым, уверенным и радостным сухим июнем? И разве этот, Люси, этот день не должен стать твоим июнем, как раз как эта земля?»
«Ах Пьер! Для меня нет июня. Но скажи, не сладок ли июнь сладостью апрельских слез?»
«Да, любовь! но здесь падение более глубокое, — все больше и больше; — эти дожди дольше, чем апрельские, и не свойственны июню»
«Июнь! Июнь! — Ты — месяц летних невест, — следующий за весной сладкий ухажер земли, — мой июнь, мой июнь всё же должен наступить!»
«О! он все же придет, но будет устойчив, — станет хорошо, когда он придет, и лучше».
«Тогда нет существует такого цветка, которого в зародыше не питали бы апрельские ливни; а разве такой цветок не может безвременно погибнуть, не распустившись к июню? Ты не хочешь в этом поклясться, Пьер?»
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
