
Бесплатный фрагмент - Партия в шестиугольные шахматы
Вместо предисловия
Все истории начинаются одинаково: «Жили-были…»
Другое дело, что житье-бытье состоит из разнообразнейших дел, размышлений, разговоров, и так далее, и тому подобное, и современные рассказчики сразу переходят к этим делам, размышлениям и разговорам. Не исключение и Ваш покорный слуга, а посему, как бы ни хотелось начать каким-нибудь необычным образом, придется обратиться к доброй традиции.
Жили-были сны Ивана Владимировича. И вот однажды…
Это был странный сон. Молодость Ивану Владимировичу снилась и раньше, но не так ярко и рельефно. А это был как будто вовсе не сон. Это было переживание пережитого, переживание новое, явное, именно явь, как будто вернулся на тридцать лет назад на какой-то странной машине времени, и она, эта машина, выполнив свою нелегкую работу, устало откатилась куда-то за спину, мигнула на прощание своими индикаторами и затихла. Затихла и осталась в комнате.
А Иван Владимирович шел по свежему снегу, который наяву еще не выпал, под серо-голубым небом мимо привычных домов и деревьев. Привычных? Ну да, вот этот дом с колоннами был во сне… или в молодости? Конечно, он старый, он не изменился с тех пор, когда бежали мимо него в университет на лекции, перебегали дорогу прямо по мостовой, поток машин тогда был слабеньким, и тополь рос на углу, сейчас его уже нет. А во сне был. А нового палаццо коммерции не было. Как и в молодости.
Где же ты спряталась, машина времени? Откликнись зуммером или лязгом металлических сочленений, скажи, ты действительно существуешь? А может, и нет у тебя никаких сочленений, индикаторов, сенсорных экранов, блестящих металлических граней. Может, сон и есть машина времени. Он ведь такой четкий, как свежие следы на снегу. Может, его задача не в том, чтобы тебе силы вернуть, а в том, чтоб показать тебе то, о чем ты и думать забыл, устроить встречу с теми, кто из памяти давно выветрился.
Но уж дудки! В этом сне надо было кого-то спасти. Это уже никакая не машина времени, в молодости все ясно, весело и безопасно. Спасать надо было разве что нерадивых друзей на экзаменах. А здесь… Странно, во сне обычно сам спасаешься, Бог знает от кого, в крайнем случае, наблюдаешь за мельтешением персонажей, и вдруг острое чувство беспокойства, опасности, не для тебя опасности, для кого-то. Для кого?
Иван Владимирович уже давно заметил, что сны странным образом влияют на его жизнь. Вот и сейчас. Казалось бы, выспался и хорошо! Но почему так странно и тревожно? Кого спасать? И надо ли? Из Ивана Владимировича спасатель как из слона муха. В конце концов, сон есть сон, прошелестел и нет его. Пусть сознание или подсознание, кто разберет, само всех спасает, а мы, можно сказать, кино смотрим, очень хорошо сделанное кино, во сне все мы великие режиссеры, операторы, да и артисты тоже. Интересно, доказывают ли сны, что все мы творцы, в разных жанрах, да вот только способности свои наяву используем мало, процентов на пятнадцать, как говорят умные люди. Умные люди много чего говорят! Особо умен тот, кто научился в жизни творить как во сне, нет, разумеется, хуже, чем во сне, но не настолько хуже, как простые смертные. И открытия великие часто во сне делаются, и стихи такие во сне пишутся! Да только не помним мы потом ничего. А ощущения иногда помним. Но толку ли в них, в ощущениях, если их лишь во сне и выразить. Потому и рассказывать сны все равно, что на расстроенном пианино играть, а уж пытаться их домыслить… бесполезная трата времени.
А вот бы научиться сны в явь превращать. Впрочем, нет, не надо. Сны и так каким-то странным образом влияют на жизнь Ивана Владимировича.
Вот и этот сон, не успел закончиться, а уже влияет. А что в нем особенного? Просто молодость, и этот дом, и тополь, и дорога, пустая, теперь уже непривычно пустая. И чувство опасности. Не для себя опасности, для кого-то другого. Как в детской считалке: «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, все равно тебе галить». Кому галить? Кого в тумане зарежут серебристым ножиком? И месяц молодой или старый? Можно будет договориться с ним, или все уже предопределено? И ведь не вернешь сон, не узнаешь больше ничего, а самому не додуматься, сон книга написанная, сброшюрованная и на полку поставленная.
Лучше бы он был машиной времени. Или хотя бы ее водителем. Припарковал ее у изголовья, да и пошел к жене и детям, работа на сегодня закончилась. Ночная смена. Утро настало, можно домой.
Ну, а тебе, дорогой мой Иван Владимирович, позабыть все изыскания, сознательные или подсознательные, и прийти в себя. Ноги в тапки, и в ванную. Воскресенье за окном, а значит, день ты посвящаешь своим друзьям и подопечным, ну, и себе, разумеется. Вот, Виталик сегодня придет, стряслось у него что-то вчера необычное, он посоветоваться хочет, а ты распереживался, кто в опасности, да кого спасать. Человеку, может, конкретный совет нужен, а то и помощь. Тут и без снов проблем хватает.
***
Виталиком Иван Владимирович называет молодого человека двадцати семи лет от роду, неплохого программиста, однако не брезгующего побочным для программиста делом оснащения компьютеров и ноутбуков, так вот, этот молодой человек действительно, накануне, в субботу, попал в странную историю. Вернее, начало истории было положено в пятницу. Виталий как раз возвращался домой от давнишнего, еще со школьных времен, приятеля после оснащения его ноута.
Первая странность возникла сразу, как только Виталий очутился на улице. Когда он вышел из подъезда и начал спускаться к тротуару, двор наискосок пересекал человек, одетый в такой же темно-синий плащ, как у Виталия, на голове этого человека красовалась такая же черная теплая кепка, из-под плаща виднелись такие же черные вельветовые брюки, а ноги, несмотря на осеннюю грязь, были обуты в такие же, не без щегольства, черные остроносые туфли. Сложение этого человека было астеническим, роста он был чуть выше среднего, широкий плащ не мог скрыть изрядной худобы. Виталий тоже худ и достаточно высок.
Сам Виталий, разумеется, ни самого незнакомца, ни его одеяния не заметил, он, скорее всего, спокойно прошел мимо, даже если бы увидел кентавра или Медузу Горгону. Виталий, как всегда, был погружен в свои мысли и не смотрел по сторонам. Но девушка, шествующая по двору, уже миновавшая незнакомца-двойника и идущая к тому же подъезду, из которого вышел Виталий, вдруг резко затормозила, оглянулась назад, и потом посмотрела с тревогой на Виталия. Она нерешительно остановилась и сверлила Виталия настороженным взглядом. Один раз она оглянулась на уходящего незнакомца, и… продолжала стоять на месте. Вот это ее странное поведение Виталий уже заметил, все-таки девушка пристально смотрела именно на него. Он подошел к ней и игривым голосом спросил, что ее так взволновало. Игривость в голосе слегка отдавала мужским началом; девушка выглядела очаровательной, особенно в своем недоумении. Ну, а мужское начало… иногда достаточно побороть сутулость и принять заинтересованный вид.
Девушка между тем не ответила Виталию на его вопрос, а только указала кивком головы на удаляющегося незнакомца.
— Что случилось? — с улыбкой Фавна снова вопросил Виталий.
И тут девушка рассердилась.
— Сами думайте, что случилось, если два олуха решили шутки шутить.
— Два олуха? — кокетливо осведомился Виталий. — Помилуйте, я по жизни один.
Девушка сжала губы в тонкую ниточку и, неприязненно сверкнув глазами, решительно двинулась мимо Виталия… Она, конечно, быстро скрылась бы в подъезде, и именно это ей и хотелось сделать, но пришлось повозиться в сумочке, чтобы найти магнитный ключ-таблетку. Виталий проследил за ее манипуляциями нарочито удивленным взглядом, демонстративно пожал плечами и направился к выходу из двора.
«Два олуха, два уха, тирьям, и тоже два»!
И тут нарисовалась вторая странность. Виталий вышел из двора на улицу и почти нос к носу столкнулся с незнакомцем в темно-синем плаще и черной кепке. Пришлось резко затормозить. Незнакомец оделил Виталия внимательным взглядом, кивнул ему, но, ничего не сказав, развернулся и пошел прочь. Создалось ощущение, что он этим кивком пригласил Виталия следовать за собой. В этот момент Виталий наконец-то осознал то, о чем говорила девушка, и встревожился. Можно сказать, немного струсил. Как-то все получалось нелепо и неприятно. Виталий остановился, проводил взглядом уходящего незнакомца, но за ним не пошел. Уходя, незнакомец ни разу не оглянулся, и, честно сказать, Виталий был этому только рад.
«Что за дела?» — подумал Виталий. — «Кто это, и что случилось?»
Виталий постоял, постоял, незнакомец возвращаться и не думал. Наваждение отступило, Виталий успокоился и нехотя пошел дальше по своим делам. Однако напрочь выбросить из головы всю эту бредятину он не мог, постоянно вспоминал и девушку, и незнакомца, ладошки его неприятно увлажнились, и он ничего не мог с этим поделать.
Странности однако продолжились. Примерно через час дела завели Виталия на площадь Пятого года. И на этой площади ему вдруг пришло в голову, что сердитая красивая девушка зашла именно в тот подъезд, из которого он вышел и, возможно, она шла к его знакомому, а знакомому Виталий оснащал ноут, а этот знакомый очень рекомендовал ему прочесть недавно купленную книгу, и даже показал картинки в ней, а на картинках был изображен главный герой с лицом, очень похожим на лицо того незнакомца, что встретился на выходе из двора. И еще Виталий вспомнил, что главный герой книги — сутенер, и по совместительству аптекарь и верлибрист.
«А точно ли похож, или мне уже со страху черт-те что мерещится. И зачем он меня с собой позвал. Я не хочу общаться с сутенером, — размышлял Виталий. — Во-первых, мне противно, а во-вторых, я не знаю ни одного сутенера, и не знаю, как себя с такими людьми вести. Наверняка их мир насыщен разнообразными событиями и приключениями, но мне это не интересно. Поэтому и книгу читать не стану. Верлибриста я, пожалуй, переварил бы, но это особая секта в поэзии, а я, хоть и могу пережить отсутствие рифмы, все равно сторонник четкой ритмики, верлибр не мое, а верлибрист говорить о другой поэзии сам не станет, так что общения все равно не получится. Аптекарь…, это уж совсем не по мне… Тем более что это же не дама бальзаковских лет в белом халате, это тот еще аптекарь… алхимик и чародей. Чародей! Постой-ка! — заволновался Виталий. — А может это все придумал Горыныч?»
Виталий оглянулся, но увидел вокруг себя только сплошные ряды автомобилей, площадь давно превратилась в стоянку. А над автомобилями возвышался каменный Ленин, занесший правую руку как будто для оплеухи. Он не был похож на верлибриста, сутенера и аптекаря. И ни коим образом не напоминал Горыныча.
«Нет, ну это никуда не годится. Я вообще люблю горячее молоко с медом пить, а не ребусы разгадывать. Два олуха решили шутки шутить, надо же… Два олуха, два уха, тирьям, и тоже два», — ворчал про себя Виталий, быстро уходя, почти убегая с площади.
Но от судьбы, как известно, не убежишь.
Особенно трудно убежать от судьбы, когда ты против воли оказался вовлечен в театральную постановку, да еще в театре, где актеры рекрутированы непонятно кем, а режиссер вообще неизвестен, и ты не можешь никому объяснить, что на сцене ты случайно, а на самом деле твое место в зрительном зале, а то и вообще на улице, и что на улице ты равнодушно прошел бы мимо афиши этого чуднóго спектакля. Впрочем, судя по всему, остальные участники действа находятся в таком же положении. Находятся-то находятся, но не все. И вот незнакомец снова откуда-то вырос перед Виталием, и сделал это мастерски, так что Виталий и ойкнуть не успел, не то, что обойти его и убежать. Правда, при этом у незнакомца на физиономии было такое выражение, как будто ему тоже все противно и незачем, и уж во всяком случае, не он это придумал.
— А кто? — настороженно спросил Виталий.
— Горыныч, — ответил незнакомец.
— Ага! Ага! — возликовал Виталий, лицо его перестало нервно дергаться, обрело гладкость и спокойствие. — Так он приехал? Вернулся?
— Он в пути. И вернется, как только выпадет снег.
К сегодняшним странностям Виталий уже привык, и на эти слова незнакомца отреагировал вполне дружелюбно.
— Ну, конечно. С ним всегда так.
Незнакомец, однако, не разделял Виталиного умиротворения. И дружелюбия не демонстрировал.
— Он поручил мне поговорить с вами.
— О чем? — Виталий успокоился окончательно.
— На некоторые темы.
— Ну так, давайте поговорим. Какие проблемы!
— Проблема в том, что эти темы не так просты, как вам, быть может, кажется. И напрасно вы так веселитесь. Горыныч, вероятно, вам симпатизирует, и даже воспринимает вас, как сына, которому многое позволено, но я не Горыныч. И жалеть вас не намерен. Тем не менее, разговор должен состояться, Горыныч этого очень хочет.
— Да что вы все, вокруг да около. О каких темах речь? Что в них сложного? И почему вы не намерены меня жалеть? Я что, кому-то сделал плохо?
— Люди, конечно, иногда делают что-то плохое другим, но чаще самим себе. Это банальность. Вы разве не знаете об этом?
— Так. Давайте с чего-нибудь начнем. Задайте хоть какую-нибудь тему, из которой явствует, что я сделал что-нибудь плохое кому-нибудь, например, самому себе.
— Давайте не будем гнать лошадей.
— У вас есть лошади?
— Если вы думаете, что у вас получается шутить, вынужден вас разочаровать.
Но Виталий уже не боялся незнакомца. Не может ничего плохого исходить от Горыныча. Да и сам незнакомец, когда причины его наряда обрели объяснение, или, хотя бы, версию этого объяснения, уже не внушал никакого страха, и Виталий чувствовал себя раскрепощено. Ему даже казалось, что поддевать незнакомца можно и должно, это такая тонкая и вкусная игра.
— Скажите, зачем вы вырядились подобно мне? Неужели вы хотели этим привлечь мое внимание?
— Хотел. Но я не думал, что вы такой олух, и ничего не заметите.
— Олух! Два олуха, два уха, тирьям, и тоже два. Скажите, вы знакомы с той девушкой? Ну, которая заметила все?
— Девушки более наблюдательны, чем молодые люди, тут вы правы.
— Это да. И все-таки, вы знакомы с той девушкой?
Здесь незнакомец на какое-то время замолчал. Возможно, он прикидывал, как отвадить Виталия от неуместной темы.
— Забудьте про девушку, — сказал он решительно, — девушек в вашей жизни будет еще много, а вот я такой один. Завтра где-нибудь в час я жду вас в ротонде Харитоновского парка.
Незнакомец повернулся и решительно зашагал прочь от Виталия, отметая тем самым любые возражения.
«Помощник Горыныча. Во всей красе, — подумал Виталий. — Я вот не смог бы стать помощником Горыныча, никогда бы не смог. Потому что я не раздуваю щек. И не веду себя так, будто мне известно нечто сакральное. Я сам по себе, и всегда буду сам по себе. Два олуха, два уха, тирьям, и тоже два».
Виталий уже расслабленно повернул на улицу Восьмого марта, как вдруг заметил, что незнакомец стремительно возвращается.
«Вот это да, — с улыбкой подумал Виталий. — Забыл что-то сказать». Вот теперь-то незнакомец окончательно стал не страшен. Тот, кто страшен, говорит все в один прием.
Виталик со снисходительной улыбкой поджидал незнакомца. Обратный марш того, надо отметить, проходил с впечатляющей скоростью, пожалуй, даже превышающей скорость бега среднего гражданина. Но и это не пугало Виталия.
Незнакомец вернулся, чтобы сказать одну фразу. Правда, в трех вариантах. Что ж, Горыныч и не на такие проделки горазд. Это, безусловно, необычно. Но Горыныч вообще необычен. И его помощники тоже. Поэтому Виталий спокойно воспринял все слова незнакомца.
— Запомните, Виталий, в том театре, где актеры рекрутированы непонятно кем, режиссер есть, спектакль будет сыгран, и у вас есть роль. Я сегодня лишь первый звонок перед началом. Поэтому соберитесь. Самое время. Завтра жду вас в Харитоновском парке.
— Запомните, Виталий, как бы вы ни хотели остаться в зрительном зале, ваша роль сочинена, и вам придется ее сыграть. Нужно собраться. Первый звонок я уже дал. Так что, самое время. Напоминаю, завтра я жду вас в Харитоновском парке.
— Запомните, Виталий, в этом долбаном спектакле, мимо афиши которого вы бы прошли, не задумываясь, вам отведена своя роль. Поэтому соберитесь, пожалуйста. Самое время. Завтра я даю первый звонок. И надеюсь, что завтра я дождусь вас в Харитоновском парке.
Глава 1
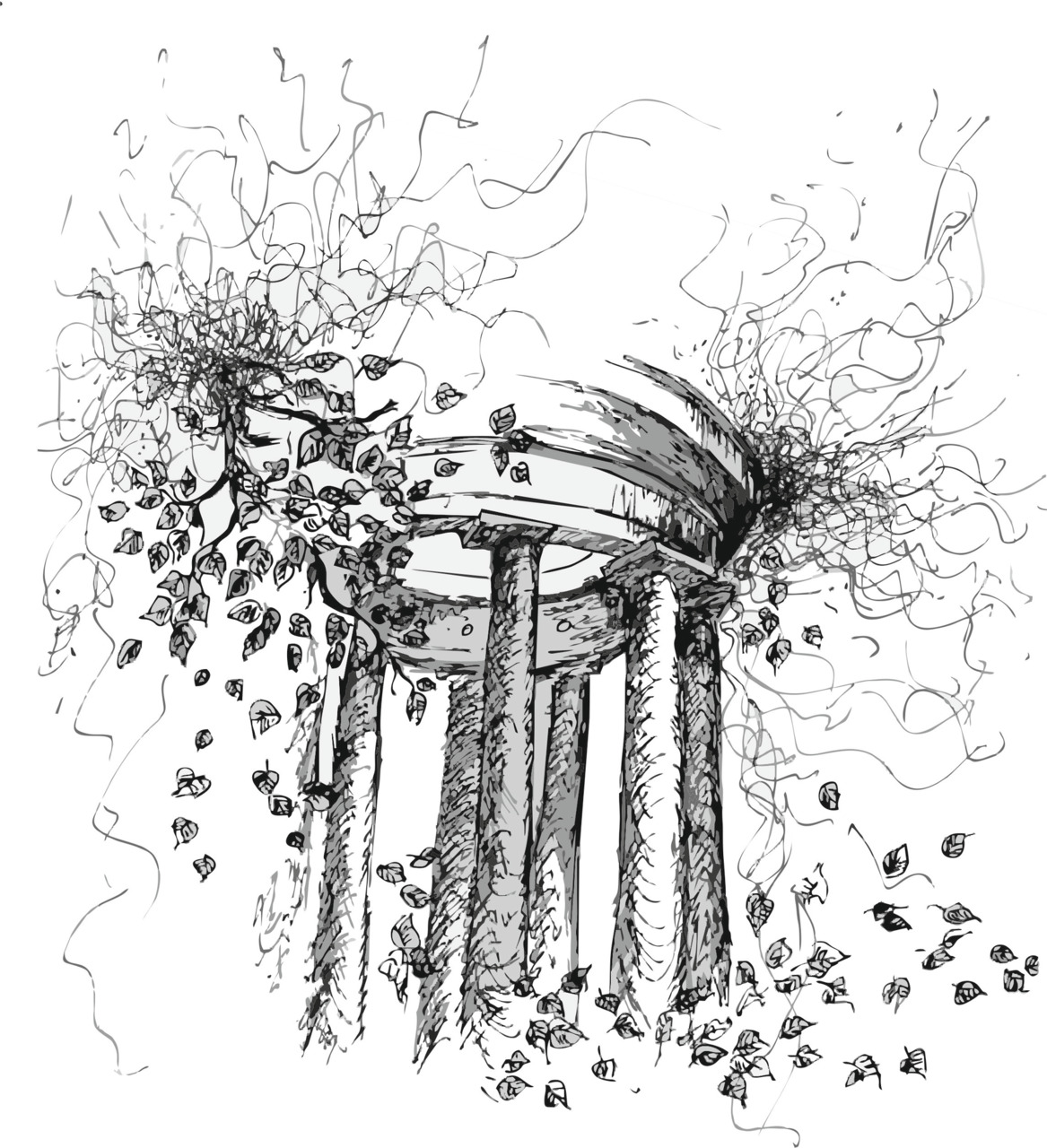
1.1. Первый разговор в Харитоновском парке
Осень в Харитоновском парке меняется на глазах. Иногда она похожа на стройную девушку, очень высокую, да еще на каблучках. Девушка одета в темно-бардовое пальто, черные узкие брюки и в черную шляпу с большими полями. Шея обмотана красно-черным шарфом в крупную клетку. Из-под шляпы видны желтые локоны, они убраны аккуратно, но все равно настойчиво выбиваются, вьются, мол, не такая уж наша хозяйка и чопорная. А хозяйка идет крупным уверенным шагом по аллее, придерживая рукой маленькую сумочку, чтобы та не колотилась о бок при ходьбе. Хозяйка спешит… А иногда осень похожа на пожилую мать уже выросшего семейства в аккуратном серо-синем пуховике, белом берете, идущую неторопливо, вразвалочку по дорожке вокруг маленького прудка, без спешки оглядывающую и деревья, и уток, и голубей. Ей некуда спешить, и сегодня весь парк в ее распоряжении.
А может, это и не осень вовсе, а обычные горожане. Кому нужно пройти через парк на соседнюю улицу, а кому и просто погулять.
В начале второго Виталий вошел в ротонду Харитоновского парка и увидел там вчерашнего незнакомца. Как ни странно, Виталий не испытал при этом неудовольствия. Состоялся ритуал взаимных приветствий.
— Знаете, — весело проговорил Виталий, — мне почему-то кажется, что вы сутенер, аптекарь и велибрист.
— Благодарю, — ответил незнакомец с каменной невозмутимостью. — Вы сторонник бульварной литературы?
«Надо же. Та книжка, видать, действительно популярна, вот и он ее знает. Но до чего сообразителен. Впрочем, у Горыныча других помощников и быть не может».
— Нет, я сторонник интересной литературы. А считает ли кто-то ее бульварной или нет, мне безразлично.
Незнакомец слегка наклонил голову. Принимается.
— Но согласитесь, — с торопливой улыбкой продолжил Виталий. — Этот набор… м-м… профессий по крайней мере не банален, и следовательно, бульварностью никак не отдает.
В присутствии незнакомца Виталию хотелось дурачиться, он не понимал почему. Может быть, факт скорого приезда Горыныча его так радовал, а может, незнакомец своей нездешней чопорностью располагал если не к высмеиванию, то, по крайней мере, к вышучиванию, кто знает. А скорее всего, это просто реакция на вчерашнее напряжение. И что удивительно, Виталия совершенно не интересовал вопрос об участии в неком спектакле. С Горынычем ничего не страшно. А его помощник забавен, это да.
Сам незнакомец был олимпийски спокоен.
— Не надо бояться банальности, Виталий. Банальность — это, в сущности, закономерность, устоявшееся правило, которое трудно, порой невозможно, а главное, совершенно незачем игнорировать. Все небанальное выдумано, иногда от скуки, иногда по злобе, иногда от желания встать выше остальных. Банальность же, если хотите, дана нам свыше, а это самый надежный источник, не правда ли? Исходя из этого, небанальность, конечно же, бульварна.
«Вот это завернул», — с ироничным восхищением подумал Виталий, но вслух продолжал спорить:
— А вам не кажется, что защищать банальность как раз таки не банально. И вы сами роете яму своим убеждениям.
— «Роете яму убеждениям». Фу, Виталий. Вы ведь, насколько я осведомлен, бросили писать стихи, могли бы разговаривать уже по-человечески. — Незнакомец решительным жестом ладони остановил готовую сорваться с языка Виталия колкость. — Да, Виталий, вы бросили писать стихи, и по образованию вы технарь. Давайте в связи с этим сменим тему. Я дам вам посыл, а вы над ним подумаете. Как вам такое? Все в мире движется, это общеизвестная банальность. Менее знакома другая банальность: все в мире движется, чтобы не упасть. Как в связи с этим…
— Ну и переходы у вас, — перебил незнакомца Виталий. — Это и есть ваша непростая тема?
— Это… — попытался вставить слово незнакомец, но Виталия уже понесло:
— Хорошо, хорошо, давайте поговорим о вашем посыле. Но сначала надо определить, что значит «движется», и особенно, что значит «не упасть». Не находите?
— Разумеется, прежде, чем говорить о чем-то, хорошо бы определить предмет разговора. А прежде, чем спорить, определить предмет спора. Но соблюдать риторические формальности скучно, и в большинстве разговоров и споров они не соблюдаются…
— О, это да, — саркастически ухмыльнулся Виталий.
— …я, конечно, дам нужные определения в соответствующем контексте, но пока давайте признаем: на самом деле вы хорошо представляете, что такое «двигаться», и что такое «упасть». Или «не упасть», если, иронизируя, вам удобнее точно повторять слова собеседника. Представьте, например, велосипед. Пока он движется, он не падает. Все очень наглядно.
— «Представьте велосипед»! «Вздумай колесо»!
— Это похвально, что вы читаете еще и хорошую литературу. Но я не отец Вандердроссель. И у меня к вам вопрос. Скажите, а почему не падает велосипед?
— Оп-па, велосипед! Вы думаете, если я перестал писать стихи, то занялся физикой. Я занимаюсь программированием.
— Программирование, безусловно, тоже движение, но виртуальное, а мне хотелось бы обсудить движение реальное. Наш разговор в конечном итоге касается вас и вашего будущего, а вы человек реальный.
— Вы так говорите, как будто вы сами виртуальны, — Виталий, улыбаясь, посмотрел на незнакомца и едва ли ему не подмигнул.
Незнакомец помолчал, плотно сжав губы. Потом раздельно произнес:
— Да. Отчасти я виртуален. Но речь не обо мне.
Виталий присвистнул. «Забавный господин. Но Горыныч-то каков! Впрочем, от Горыныча можно ждать чего угодно. Мне вот он однажды книжицу подарил. Так что я тоже отчасти виртуален, ха-ха. Ладно, раз Горыныч просит, поддержим разговор, мне не жалко».
— Велосипед, говорите. Насколько я помню лекции по общей физике, при его движении колеса крутятся в вертикальной плоскости, и их горизонтальная ось устойчива, она не может серьезно отклониться ни вверх, ни вниз, вот велосипед и не падает. Эффект юлы, только поставленной набок.
— Браво, Виталий, — незнакомец просиял настолько, насколько может просиять человек, застегнутый на все пуговицы. — Вы неплохо учились. Есть, конечно, детали, о которых спорят до сих пор, но в целом эффект гироскопа вращающихся колес, та самая «юла», — основное объяснение устойчивости велосипеда. Мы пришли к ситуации, когда от падения нас удерживает вращение, если говорить упрощенно.
Виталий порозовел, разговор ему и нравился, и не нравился. Не понятно, к чему незнакомец клонит. Но подколоть его все равно надо.
— Простите реплику бывшего поэта. А вам известны метафоры, связанные с велосипедом?
Незнакомец, пожалуй, впервые посмотрел на Виталия с интересом. От Виталия это не укрылось, и он воодушевился. Ироническая улыбка, снова ироническая улыбка, пусть кушает, так ему и надо.
— Самая распространенная: отношения мужчины и женщины не должны стоять на месте, велосипед либо катится дальше, либо падает.
Незнакомец остался сосредоточенным.
— А что, Виталий, ваши отношения с вашей женщиной движутся или падают?
Улыбка слетела с Виталиных губ. «Вот еще не хватало об этом с ним говорить».
— А почему бы, собственно, об этом не поговорить, — незнакомец как будто прочитал мысли Виталия, — научно-популярный разговор у нас не очень клеится, можно поговорить о вашем эмоциональном и гормональном мире.
Ничего себе! О гормональном мире с друзьями разговаривайте!
— Нет уж! — Виталик взъярился. — Я понимаю, что как сутенер и аптекарь вы в этих вопросах дока, но я не нуждаюсь…
— Виталий, чем быстрее вы перестанете связывать меня с книжонкой, увиденной у друга, тем нам будет проще, уверяю вас. Хорошо, давайте оставим эту тему.
Если честно, Харитоновский парк не годился для такого разговора решительно. Осень продолжала блуждать за спинами мамаш с детьми, парочек всех возрастов, бежала с гражданином, явно следящим за своей физической формой, пыталась подсадить малышку на пони, пони-то откуда здесь, даже собак выгуливать запрещено…, но сегодня самое время для заработка. Не хватало только свадебных компаний, отчаянно фотографирующих, как невеста с женихом кормят уток, ну да это прерогатива весны. Зато других желающих побросать куски булок и просто хлеба уткам и голубям было предостаточно. Особенно выделялся суровый подтянутый мужчина с двумя батонами под мышкой… Ан нет, он не один, вот и его дочурка, аккуратненькая, в шапочке с заячьими ушками.
Виталий рассердился, хотя и не слишком. Но ему еще сильнее захотелось подцепить незнакомца.
— Скажите, а движение губ и языка — это тоже способ не упасть? — Улыбка Виталия стала ехидной.
Теперь улыбнулся Незнакомец. Он поднял перчатку.
— Видите ли, Виталий, движения языка и губ частенько нужны человеку для того, чтобы рассказывать всем окружающим, как ужасно обстоят дела. Как никто ничего не хочет, да и не может, и все давно решено, а нам остается только унылая фронда или столь же унылая поддержка. Жалоба есть великое вращение вокруг собственной нерешительности. Сарказм и ирония, кстати, тоже. И даже шутка, более того, даже смешная шутка. Чувство юмора в целом очень хорошее чувство, но, когда, кроме него, нет ничего больше, язык и губы становятся главными движущимися частями тела. И, двигая ими, человек обеспечивает свою устойчивость, если не может обрести ее посредством движения рук и работой мозга.
— Это вы красиво расписали. — Виталий продолжал наскакивать на незнакомца. — А разве шутка, сарказм и жалоба не являются продукцией работы мозга?
— Являются. Но, когда человек смиряется с их первенством, а тем паче начинает полагаться на них и только на них, они застывают, как бюсты и барельефы среди ковровых дорожек учреждения, куда человек однажды вошел, но откуда никогда не выйдет, поскольку искать выход ему лень, да и не хочется.
— Ну-у-у, знаете, так можно утрировать любую особенность человеческой личности…
— Можно. И, к сожалению, а может, к счастью, утрирование своих особенностей и достижений и есть то, чем занимается вторую половину жизни значительная часть человечества.
— Вторую? Значит, мне это пока не грозит.
— Увы, Виталий.
— Что «увы»?
— Если бы не грозило, Горыныч не попросил бы меня встретиться с вами.
— Так! Прекрасно. Теперь давайте по пунктам. Где и что я утрировал. И какие барельефы сваял.
— Вы разгорячены. Так вы вряд ли согласитесь с моими доводами. А чтобы вы поостыли, я вам подкину следующий посыл…
— Знаете что! — Виталия вдруг осенило. Скользкий тип. — Еще немного, и я вообще перестану с вами соглашаться, даже если вы будете правы…
— Не горячитесь. Давайте двигаться последовательно. Вы давеча хотели определения, что значит «двигаться» и «не упасть». Определения давать я не мастак, а вот пример приведу. Земля движется вокруг Солнца и именно поэтому на него не падает. Точнее, падает, сила между ними — это сила притяжения, но, падая на Солнце, Земля все время по нему «промахивается», поскольку имеет перпендикулярную силе притяжения составляющую скорости. В результате получается устойчивое круговое движение. Или, по-другому, круговое движение ведет к устойчивости системы.
— Вы это к чему?
— Минуточку терпения. Аналогичная ситуация имеет место у электрона в атоме водорода. Но, в отличие от Земли, электрон может перескочить с одной орбиты на другую, более высокую.
Незнакомец посмотрел на Виталия победительно. Тот, как сказали бы его друзья лет пятнадцать назад, совсем офонарел.
— И…? И… что?
— Как что, Виталий. Вы хотите быть Землей или электроном?
— Тпр-р-ру-у-у… — Виталий губами изобразил цунами. — Подождите-подождите, не так быстро.
— Давайте помедленнее. Я не хочу упрекать вас в том, что в своей жизни вы начали двигаться по кругу. Такое движение, как мы видим, гарантия от падения. Гарантия от катастрофы. Вопрос в другом: это окончательная ваша орбита или нет.
Тут у Виталия голова окончательно пошла кругом. Но никакой устойчивости от этого движения он не ощутил. Наоборот, наметился взрыв мозга. А тут еще и незнакомец посмотрел на Виталия сочувственно. Сочувственно, Карл! Виталий опять взъярился:
— Скажите-ка, а какое движение, по-вашему, важнее: от понедельника к пятнице, или от пятницы к понедельнику? Или, будучи поклонником движения по кругу, вы все понедельники замыкаете друг на друга?
Незнакомец наконец-то оторопел.
— Виталий, разве ваша профессия программиста делит недели на понедельники, пятницы и воскресенья? Я-то думал, вы работаете, когда есть заказ. Я ошибся?
— Вы ошиблись. У нас есть не заказ, а проект. И, когда он есть, мы работаем над ним долго и понятия рабочей недели и выходных у нас существует. Другое дело, что иногда мы работаем и по выходным. Но я спросил о другом. Когда ваш электрон крутится вокруг ядра, ни одна точка траектории ничем принципиально не отличается от других ее точек. А у человека, крутящегося в колесе недель, каждый день отличается от другого, по крайней мере, выходные отличаются от будней. Не кажется вам, что ваша модель все сильно упрощает?
— О, безусловно, Виталий, тут вы правы. Но упрощение необходимо, чтобы отделить существенное от второстепенного. Впрочем, сдается, что обсуждать тему будней и выходных не интересно ни вам, ни мне.
— Ладно-ладно, — Виталий остыл. — Я все понимаю. Я сказал это от раздражения…
Молодой человек отвернулся от незнакомца и замолчал.
Они стояли внутри ротонды, расположенной на острове посреди высыхающего прудка. Впрочем, этой осенью убранная в трубу речушка бурлила резвее обычного, и прудок, наполняемый ею, не выглядел умирающим. На его глади ближе к берегам кишели утки, вырывая друг у друга куски хлеба, брошенные посетителями парка. Особенно старалась крупная боевитая утка, умудрившаяся ущипнуть даже селезня. Но, как это часто бывает, постоянная драчливая активность мешала ей воспользоваться плодами своих побед: стоило ей вступить в бой сразу с несколькими соперницами, как кусок, за который шла битва, подхватила та товарка, что в бою не участвовала, а просто выжидала удобный момент.
— Вот уж кто не страдает от собственной нерешительности, но хлеб все равно достается другим, — угрюмо процедил Виталий.
— Да, Виталий, вы подметили очень важное обстоятельство. Быть героем дня, не значит быть сытым.
— Вы решили попотчевать меня житейскими мудростями? Я могу вас отблагодарить: не каждый солдат мечтает стать генералом, но каждый солдат норовит быть поближе к кухне.
Незнакомец расхохотался. Если конечно, издаваемый им клекот, можно было признать за хохот. Но незнакомец, несомненно, порозовел.
— Итак, Виталий, я вижу, вы немного отошли от приступа неприятия меня и моих слов. Давайте вернемся к нашей теме. Круговое движение обеспечивает устойчивость, но у него могут быть разные орбиты…
— С чего вы взяли, что я «отошел»? И что я с вами согласен. Вот, пуля. Она же не бумеранг, обратно не возвращается, если, конечно, отбросить метафоры на этот счет.
Незнакомец отмахнулся от слов Виталия, как от назойливой мухи:
— Точность полета пули обеспечивается ее вращением. А вращение она получает при прохождении нарезки в канале ствола. Я все же хочу вернуться к вашему вопросу. Вы желаете перейти на новую, более высокую орбиту?
Теперь расхохотался Виталий.
— У вас, что, есть конкретное предложение от Горыныча?
— Нет, конкретные предложения от Горыныча будут высказаны самим Горынычем. Я лишь ввожу вас в курс дела, если так можно высказаться.
— Интересный у вас «курс дела». Сначала вы утверждаете, что я в своей жизни зациклился, а потом спрашиваете, не желаю ли я перейти на новый уровень. Вы случайно игры не пишите?
— Случайно и не случайно, нет. А вот популярность уровневых игр, по-видимому, действительно основана на некоторой, э-э… схожести с жизнью. Схожести не ситуациями, ситуации в них сказочные, а схожести внутренней логикой. Это вообще очень интересный вопрос, что есть игра в жизни человека? Не компьютерная даже, а игра вообще.
— Да? У вас и на этот счет есть, что сказать?
— Есть. Хотя эти мои суждения неимоверно спорны. Я думаю, компьютерные игры на сегодня венец эволюции игр вообще, а в долгосрочной перспективе начало их вырождения, как информационные технологии вершина технологий сегодня и смерть реальных технологий завтра. Вы можете не согласиться, я и сам не вполне с собой согласен.
— Да ну?
— Да. Вы заметили, Виталий… ну, если вы в детстве читали фантастику двадцатого века, так вот, если вы ее читали, вы, наверное, заметили, что тогдашние фантасты предсказывали бурное развитие технологий, вплоть до полетов в другие звездные системы, создания обитаемого мира в каменной, ледяной или испепеляющей пустыне, продление жизни, et cetera, но никто из них не предсказал рождение виртуального мира, прямо здесь, на земле, почти в каждом доме. Компьютеры у них были средством вычислений, записи информации…, но никак не источником другой реальности. Максимум, чего опасались, это попасть во власть роботов, но и роботы не были виртуальными мемами.
Незнакомец перевел дух, похоже, он сам не ожидал от себя столь вдохновенной речи. Виталий взглянул на незнакомца без иронии.
— И в чем же вы с собой не согласны?
Незнакомец слегка вытянул шею и поправил воротник, как будто он ему давил.
— Я уже говорил, я сам отчасти виртуален. И рубить сук, на котором сидишь…
Виталий оживился.
— Точно-точно, говорили. А в чем ваша виртуальность?
Незнакомец огляделся, как будто, собирался сделать что-то такое, что не должно стать достоянием случайных прохожих. Но на собеседников, похоже, никто не смотрел. Незнакомец повернулся обратно к Виталию и аккуратно, не торопясь, растворился в воздухе.
Виталий развел руки в стороны и глуповато улыбнулся.
— Сдаюсь! Горыныч есть Горыныч. А его помощник есть его помощник. Сдаюсь. Где вы?
— Я здесь, — произнес незнакомец за спиной Виталия. Виталий повернулся «кругом» и козырнул незнакомцу.
— Сдаюсь. Ваша взяла. Но, все-таки, вы скажете, что затеял Горыныч?
— Не могу сказать ничего определенного. Просто сам точно не знаю. Но, если вы сдаетесь, то давайте доведем мою миссию до конца.
— Давайте. Вы говорили о новой, более высокой орбите. Но ведь, чтоб ее занять, нужен импульс извне, как фотон для атома.
— Браво, Виталий. Тут вы правы. Более того, есть еще одно «но». Атом поглощает фотон и переходит в состояние, более высокое по энергии. Но это состояние неосновное, возбужденное, а потому метастабильное. Вот как Советский Союз на месте Российской империи.
Уж на что Виталий успел привыкнуть к перепадам мысли незнакомца, но тут и он крякнул. «Вот это повороты! Такое ощущение, что он говорит в последний раз и торопится высказать все, что у него есть за душой».
— Советский Союз — возбужденное состояние? — спросил Виталий только, чтобы что-нибудь спросить.
— Именно! — воодушевился незнакомец.
— Именно, — повторил он уже спокойнее. — Советский Союз метастабильное и более высокоэнергетическое состояние. Высокоэнергетичностью объясняются прорывы в науке, технике, строительстве… Метастабильностью — контраст между запуском космических аппаратов и старушками, закутанными в ватники, бредущими с бидонами по непроезжей деревенской улице. В этом все: и успехи, и преступления. И с этим же связаны сейчас ностальгия и ненависть. Несмотря на развенчание идей, есть тоска, тоска по недосягаемому. Виталий, вы не удивляетесь красным демотиваторам? Вы же в соцсетях, наверняка, часто бываете.
— Не часто, — задумчиво ответил Виталий. — Но красные демотиваторы встречал…
— Да-да, — подхватил незнакомец, — лубочная картинка с уютным парком, дом культуры с колоннами на заднем плане, пионерки и мама с коляской на переднем. И подпись: «Это и есть коммунистический ад».
— Но вы же сами говорите, что картинка лубочная. Так может, это иллюзия, аберрация взгляда назад, и демотиватор сочинил тот, кто не знает или не помнит, как оно было.
— Виталий, лубок — это упрощенный до доходчивости образ. Лубок ни в коем случае не иллюзия. Простота, Виталий, бывает хуже воровства, когда она прикрытие стяжательству. Но иная простота идет от глубины понимания и глубины переживания. Понимаете, Виталий, именно сейчас, на середине горы, куда Россия откатилась за последние двадцать пять лет, хорошо видны и вершина, и подножие. И видно, где больше зелени, а где солнца, пусть даже испепеляющего солнца.
Незнакомец помягчел, на лице у него проступили морщинки, уголки губ поднялись, видно, ему самому понравились эти слова.
— Да, я все понимаю, — поморщившись, заговорил Виталий, — много раз слышал: выигранная война, индустриализация, научные институты, лаборатории, ВУЗы. Ученые даже набирались опыта за границей, а Капица вообще был любимым учеником Резерфорда… Но, не хотел бы я жить при Сталине.
— Разумеется. И никто бы на самом деле не хотел бы, даже тот, кто его сегодня боготворит. Но Сталин — это не просто история, это исторический мем, или олицетворение исторического мема, как вам угодно. И ладно бы только исторический. Он мем самоидентификации. Основа стратегической игры. Не в компьютере, но в сознании. Вы же, играя в стратегии, вряд ли желаете оказаться на месте игровых персонажей. Но играете, наверняка считая, что игра не просто развлечение, она вас еще и развивает?
— Вы опять заговорили загадками.
— Что поделать. Задание у меня такое. Вы все время спрашиваете, что вам предложит Горыныч. А предложит он вам перейти на новую орбиту в вашей жизни. Как — не знаю. Но в жизни, понимаете. Не в игре. Хотя, возможно, через игру. Вы хотите? Подумайте, ответ будет нужен не мне.
— Послушайте, все как-то… вперемешку, я ничего не понимаю, я просто тону в ваших словах. Мне нужно все переварить. И, конечно, мне нужно встретиться с Горынычем…
— Вы, Виталий, обязательно с ним встретитесь, да и наше общение, подозреваю, не последнее. А что касается слов, слова, как показывает опыт, пропадают куда реже, чем дела. По крайней мере, дело можно переделать, а вот слова переговорить не удается. Если их кто-то подхватил, то они уже не в нашей власти.
Виталий хотел было возразить, уж больно последняя мысль незнакомца показалась ему спорной, но тут случилось непредвиденное.
***
— Извините, товарищи, что вмешиваюсь. Я тут услышал, что вы СССР и Сталина обсуждаете…
На островке, у самой воды, прямо под балюстрадой ротонды стоял человек в драповом видавшем виды пальто поверх старой водолазки. Голова была покрыта перекошенной клетчатой кепкой. Человек этот оброс бородой, и не просто бородой, а бородищей, нижняя часть лица начисто была закрыта, только треснутая нижняя губа выставлялась из спутанных пегих с сединой волос. Крупный мясистый нос имел закругленный кончик, весь в тонких прожилках как в трещинках. Маленькие глазки из-под козырька кепки смотрели на Виталия и незнакомца пронзительно.
— Извините еще раз великодушно, но ваша метафора о возбужденном и метастабильном состоянии мне очень понравилась…
— А вы кто? — растерянно глядя на бородача, спросил Виталий.
— Я? — бородач хмыкнул, но хмыкнул по-доброму. — Я Арсений Игнатьич Путевой, старший научный сотрудник Института медийной философии. Бывший, разумеется, сотрудник, сейчас на пенсии.
Арсений Игнатьич подождал, не ответят ли что-нибудь занимательные собеседники, но, поскольку те молчали, продолжил:
— Я думаю, возникает вопрос, а что за энергия взвинтила наш с вами родной атом.
Арсений Игнатьич начал одышливо карабкаться вверх по склону островка к ротонде. «Уф-ф», — достиг он цели, снял кепку, под которой обнаружилась изрядная лысина, отер эту лысину ладонью и водрузил кепку обратно. «Прошу прощения, товарищи,» — Арсений Игнатьич извлек из внутреннего кармана пальто сигарету, а из бокового — зажигалку. Щелчок, вспыхнул огонек, перешел на белый сигаретный кончик, и Арсений Игнатьич с удовольствием затянулся.
— Прошу прощения, товарищи, — повторил он. — Так что же за энергия превратила серебряный век в свинцовый, а?
— Без Госдепа не обошлось? — ухмыльнулся Виталий. Незнакомец молчал.
— Ну, уж скорее, без германского генштаба. Но думаю, энергия эта не под силу никакому госдепу и никакому генштабу. Она мощнее и выше. И потому свинцовый век, конечно, не столь изящен, как серебряный, но он полнее и глубже. Глубже по всем деталям и, конечно же, глубже своей немыслимой трагедией. В серебряном веке трагедия была фарсом, намалеванной картинкой, насморком. Понимаете? Прошу прощения, товарищи.
Арсений Игнатьич сделал перерыв в своей речи, чтобы жадно затянуться сигаретой. Несколько глубоких затяжек подряд прервали монолог. Наконец, дымящийся огонек дошел до самого фильтра и крепким щелчком был отправлен восвояси.
— Понимаете? — повторил Арсений Игнатьич свой вопрос, но ответа опять не дождался. Незнакомец хмурился и принюхивался, но винных паров учуять никак не мог. Виталий скептически улыбался и внимательно разглядывал товарища Путевого, но это было внимание удивленное, внимание к новому учителю, неожиданно вошедшему в класс после летних каникул.
Арсений Игнатьич, вдохновленный отсутствием возражений (а впрочем, возражения его вдохновили бы еще больше), продолжил:
— В свинцовом веке энергия, ворвавшаяся в страну и бросившая ее вверх, — прекрасная метафора, ей-богу, прекрасная, да, эта энергия пронзила и перемешала все слои общества. Слои не только в социальном, но и в духовном, и в мировоззренческом смысле. Понимаете, товарищи? Все смешалось, от гнилого ила до белых кувшинок на поверхности. Вот так-то. Прошу прощения, товарищи.
Арсений Игнатьевич смущенно крякнул, он, по-видимому, и сам не ожидал от себя такой патетики. Незнакомец прервал свое молчание:
— Ил, смешиваясь с кувшинками, конечно, их попросту проглотил.
Арсений Игнатьич улыбнулся. Дрогнули над губой волосяные заросли, да и сама губа растянулась на полвершка.
— Прошу прощения, товарищи, — Арсений Игнатьич закурил следующую сигарету. — Отец мой, инженер Уралвагонзавода, Игнатий Иваныч Путевой в сентябре тридцать седьмого года в ночь с понедельника на вторник, это он точно запомнил, вылез из окна своей квартиры, когда в дверь уже ломились горячие сердца и чистые руки. Из окна он перебрался на пожарную лестницу, спустился вниз и бегом отправился на вокзал. Он давно взял за привычку до четырех утра спать одетым, все свои наличные деньги и документы класть на прикроватную тумбу. Пока вошли, пока искали, пока объявили в розыск, он уже был в поезде, по пути в Алма-Ату. — Арсений Игнатьич эту сигарету курил, не торопясь, как будто смакуя. И вдруг перескочил на предыдущую тему. — В этом перемешивании была глубочайшая трагедия, трагедия не только обрушения привычного мира, но и трагедия выстраивания возникшего хаоса в новую последовательность. Трагедия в создании мира настолько нового, необычного, что никому он не мог стать родным, могли только возникнуть новые привычки, тщетно принимаемые за новую любовь. А свинцовая энергия продолжала строить вопреки тому, что строительный материал крошился, не рассчитанный на такие нагрузки, истекая потом, а главное, кровью. Эта энергия была такой гигантской, какой может быть только энергия извне, из неведомого…
Арсений Игнатьич многозначительно замолчал, спокойно докурил сигарету и затушил ее о балюстраду ротонды.
— А что было дальше с вашим отцом? — спросил Виталий.
— Прошу прощения, товарищи… Отец мой был тише воды, ниже травы, устроился работать в библиотеку в маленьком городишке в Казахстане, потом даже в Алма-Ату перебрался. Проехала машина мимо него, пронесло, хотя долго он еще, не раздеваясь, спать ложился. Начал писать маслом, открылся у него неожиданный талант к живописи, особенно любил писать колхозный рынок, базар на востоке, знаете ли, это особая тема. В сорок первом ушел на фронт добровольцем. В сорок шестом вернулся, женился, в сорок седьмом родился я, так что все потихоньку.
Помолчали. Незнакомец продолжал внимательно изучать Арсения Игнатьича, а Виталий пытался ухватить какую-то мысль, которая возникла благодаря рассуждениям бородача, но все время ускользала. К тому же Виталий привык к другой интерпретации истории, тоже пафосной, тоже изрядно метафорической, но не такой… безумной, что ли. Да и само появление Арсения Игнатьича было явно не рядовым, хотя после разговоров с незнакомцем, вчерашнего и сегодняшнего, удивляться ничему не приходилось. А может, бородач тоже от Горыныча? С него станется. С Горыныча, разумеется.
— Арсений Игнатьич, — Виталий, наконец, сформулировал свой вопрос, — допустим, как вы говорите, огромная свинцовая энергия пришла извне. Но умер Сталин, и все пошло спокойнее и спокойнее и, в конце концов, превратилось в болото. Как это соотнести? Может, дело было в заградотрядах? В широком смысле…
Арсений Игнатьич с улыбкой (волосы на лице приподнялись, нижняя губа слегка растянулась) посмотрел на Виталия.
— Как вас звать, молодой человек?
— Виталий.
— А вас? — Арсений Игнатьич посмотрел на незнакомца.
— Аль… Алексей, — неохотно ответил тот.
— Гм, Алексей… А-а?.. Прошу прощения, товарищи. Так вот, уважаемый Виталий, вы с вашим… другом Алексеем сформулировали потрясающую, очень подходящую метафору о возбужденном состоянии атома. Скажите, вы помните энергию ионизации, то есть полного разрушения атома водорода?
Виталий вытаращил глаза:
— А вы, что же, помните?
— Конечно. Медийная философия, знаете ли, очень подробно изучает законы физики и других технических дисциплин, это у нас обязательно, — не без самодовольства произнес Арсений Игнатьич. — Так вот, энергия ионизации атома водорода тринадцать и шесть электронвольт. А какова энергия перехода на первый возбужденный уровень?
— Что-то около десяти.
— Десять и два. Видите, Виталий и… Алексей, тринадцать и шесть, и десять и два. То есть, чтобы перевести атом в первое возбужденное состояния, нужна энергия чуть меньшая, чем для полного разрушения. Возбуждение, почти граничащее с разрушением. Понятно, что при таком взлете выжившие всю оставшуюся жизнь благодарили Бога и удивлялись, что их столько уцелело. Но главное, люди были готовы к такому жуткому взлету, готовы во всех смыслах, иначе не помогли бы никакие заградотряды. Ну, а следующие уровни уже все ближе и ближе друг к другу, переходы между ними спокойнее и спокойнее, и жизнь тоже постепенно успокаивалась. Отец мой с матерью и со мной пятнадцатилетним навестили Нижний Тагил, хотя от одного этого названия у нас в семье в моем раннем детстве смолкали все разговоры. Отец даже нашел своих сослуживцев, ну… кого смог найти. Хотя… лучше бы он этого не делал… Как бы там ни было, свинцовая энергия иссякла, новый мир был выстроен. Виталий, вы в детстве верили в Деда Мороза?
Ну, точно он тоже от Горыныча. Не мысли, а белки, что у Аль… Алексея, что у этого бородача…
— А вы, Алексей? — Арсений Игнатьич, не дождавшись ответа от Виталия, перевел взгляд на незнакомца.
Незнакомец, насупившись, молчал. Конечно, Арсений Игнатьич, вмешавшись в разговор, подхватил мысль незнакомца, развил ее и в каком-то смысле украл его идею. Но ведь не присвоил же тайком, просто начал поворачивать ее так и эдак. Виталий не разделял настороженности незнакомца к бородачу, хотя и ему Арсений Игнатьич чем-то неуловимо не нравился, но не игнорировать же его, в самом деле.
— Я в Деда Мороза верил так, средне, и очень рано перестал в него верить совсем. — Виталий ответил за двоих. — А почему вы о нем заговорили?
— Прошу прощения, товарищи. Я только хотел сказать, что большевики даже свою религию сумели создать. И священное писание, и бога, и ритуалы. И, что уж совсем удивительно, даже чудесам место нашлось. Правда, исключительно под Новый год. И это на фоне повального атеизма. Я вот верил в Деда Мороза и не жалею об этом. А в бессмертие вы верили?
— Да какое там бессмертие!
— Напрасно. Очень даже такое. Дважды Героям Советского Союза ставили бюст на родине. Если вы герой, вы бессмертны. «И потомки будут завидовать нам!» Все, все сделали и в умы внедрили. Это все, конечно, не может объясняться просто чьей-то злобой или паранойей.
Виталий пожал плечами.
— А по мне, так серебряный век со своим насморком никому не мешал.
Арсений Игнатьич улыбнулся.
— Не мешал, но… и права на существование не заслужил. В такие времена побеждает сила. Прошу прощения, товарищи. Я, наверное, не к месту в ваш разговор встрял. Да еще заговорил вас, а у вас, возможно, свои дела. Так что разрешите откланяться, не держите зла. Я тут в парке часто бываю, так что, если не с кем будет поговорить, я всегда к вашим услугам…
Арсений Игнатьич как-то резко засобирался, приподнял кепку, погладил под ней лысину и натянул кепку потуже. Встряхнул за лацканы свое пальто, поправил ворот водолазки, крепко потер руку об руку. Со вкусом раскурил сигарету… Виталий поспешил с последним вопросом:
— Арсений Игнатьич, а почему лучше бы ваш отец не находил своих сослуживцев по Тагилу?
Бородач всплеснул руками.
— Один из них рассказал ему, что тогда, в тридцать седьмом, когда он сбежал, вместо него взяли другого. Вал шел, существовал план по арестам. А этот другой… его сосед по лестничной площадке. Отец после этого к водке сильно пристрастился. Он и так-то был любитель выпить, а тут уж совсем… Прошу прощения, товарищи, я побежал, надеюсь, еще увидимся и поговорим.
Арсений Игнатьич как утка вперевалочку обогнул ротонду и по мостику, по мостику, дымя сигаретой, по аллее не бегом, но, поспешая, направился к выходу из парка. Исчез так же неожиданно, как и появился.
— Как вы думаете, Ал… Алексей, — Виталий повернулся к незнакомцу. — Этот Арсений Игнатьич тоже от Горыныча?
— Не знаю, — хмуро ответил незнакомец, — но думаю, от него теперь трудно будет избавиться.
Незнакомец обвел взглядом аллею, идущую вокруг прудка. Мамочка с двумя несмышленышами сидела на скамейке и скармливала им с ложки содержимое термоса. Детки послушно по очереди широко открывали ротики и с удовольствием заглатывали угощение. На стволе-насесте старой липы, изогнутом так, что ствол в полутора метрах от земли шел почти горизонтально, восседали две студентки, болтая ногами и весело что-то друг другу рассказывая.
— Да, — задумчиво проговорил незнакомец-Алексей. — От него теперь трудно будет избавиться.
— Вы думаете, он появится еще раз? Но как? Если он, конечно, не от Горыныча.
— Что вы, Виталий, заладили: от Горыныча, от Горыныча… Есть куча желающих порулить жизнью других, в том числе вашей.
— О, вы опять заговорили загадками.
— Я говорю только о том, что есть в реальности. Беда в том, что реальность часто самая большая загадка.
— Вы любите играть в танки?
— В танки? При чем здесь танки?
— Игра с какой-то загадочно высокой популярностью. Может, потому, что сильно похожа на реальность?
— Сильно похожа на ту реальность, которую мы привыкли себе представлять, когда речь заходит о войне. Так будет точнее. Но игры — это не мое. Они приучают спешить. А я привык к неторопливости. Прочитал, подумал, опять вернулся к прочитанному. А через месяц снова натолкнулся на ту же мысль, в несколько ином виде, в другой книге, на другом фоне, но на ту же. И в этом нет ничего зазорного. Мыслей не так уж много, и периодически повторять их полезно. Вы, конечно, хотите сказать, что я сбиваюсь на нотации, — Виталий было запротестовал, но незнакомец остановил его повелительным жестом ладони, — но что есть нотация? Запись когда-то высказанной мысли. Все-таки надо пользоваться достижениями человечества последних тысячелетий и не полагаться только на изустный пересказ.
Мамочка неторопливо закрутила крышку термоса, убрала его в сумку, утерла салфеткой рты малышам, подняла их со скамейки и отправилась, держа каждого за руку, по направлению к южной окраине парка, к выходу к Вознесенскому храму. Студентки продолжали весело болтать и жестикулировать. Незнакомец поежился, становилось прохладно. Солнце скрылось за небольшой, но плотной тучкой.
— У вас испортилось настроение? — спросил Виталий. — Из-за Арсения Игнатьича? Он вам сильно не понравился?
Незнакомец, не отвечая на вопрос Виталия, решительно откашлялся.
— Я надеюсь, вы, Виталий, поняли, над чем вам надо подумать.
— Понял. Но, знаете, у меня к вам еще один вопрос… деликатный.
Незнакомец с неудовольствием посмотрел не Виталия, но прерывать его не стал.
— Я уже два года хожу по кругу, — продолжил Виталий, — как раз… хм-м, в женском вопросе. Вы этот вопрос затронули, а я вас оборвал. Наверное, зря. Может, вы мне поможете советом. В общем, два года назад одна моя знакомая обвинила меня в употреблении наркотиков. Я тогда прохлаждался неделю в одной лечебнице, не будучи больным, а так, для профилактики. Мне каждый день ставили капельницы. Ничего особенного, озонотерапия, но то ли сестра неумелая попалась, то ли вены у меня плохие, в общем, остались следы на обеих руках. Ну, знакомая и пошутила. Но пошутила не просто так, а с целью. Она под этим предлогом отказалась выйти за меня замуж. Ну, не хотела тогда, или была еще не готова, это понятно. Но она и сегодня, спустя два года, мне об этом иногда говорит. Казалось бы, шутка смешна только раз, но она ее повторяет. А если учесть, что у нее в голове существуют параллельные миры, то не исключено, что в одном из них бродит наркоман. Я все хочу положить этому конец, но не знаю как. Ведь это же была шутка, а выглядит иногда серьезно. Я запутался в этом смешении стеба и реальности. Недавно она мне без дураков заявила, что я танцую как наркоман, мы с ней на днюхе одного общего друга были. На Дне рождения. А я даже не знаю, танцуют ли наркоманы как-то по-особому. Короче, что мне делать?
Незнакомец строго посмотрел на Виталия. И вдруг резко произнес:
— Странный вы человек. Ненастоящий наркоман, ненастоящий больной, ненастоящий танцор, и даже ухажер ненастоящий. Каких еще «параллельных миров» вы после этого хотите. Два года! Это ж надо! Что вам делать? Жениться, и побыстрей. Счастливо!
Незнакомец натянул правую перчатку, которую он незадолго до этого снял, чтобы платком вытереть лицо, медленно пересек круг ротонды и двинулся по мостику, соединяющему ротондовый островок с берегом прудка. Виталий с облегчением посмотрел ему вслед, отвернулся и принялся глядеть на уток… Спустя полминуты встрепенулся, вполголоса продекламировал «не бродяги, не пропойцы, за столом семи морей, вы пропойте, вы пропойте славу женщине моей». Хмыкнул и направился к выходу из парка.
1.2. Иван Владимирович
Предположим, господа, что вы встретили человека, которого никогда не знали или знали очень давно, шапочно, и об этом знакомстве уже позабыли, так позабыли, что и самого встреченного не узнали. Так вот, встретив такого человека, можете ли вы точно или хотя бы приблизительно определить его характер и род занятий? Я понимаю, господа, что вторгаюсь таким вопросом внутрь вашего личного пространства, и, чтобы защитить его, вы, возможно, промолчите, возможно, проявите бурю эмоций, а возможно, прикроетесь примерами из жизни, причем скорее, не из вашей. Полноте, отнеситесь к этому вопросу как к веселой и ни к чему не обязывающей игре, вроде конструирования имен существительных из букв, содержащихся в наперед заданном слове. Тем более, что независимо от того, проницательны ли вы до такой степени, что Шерлок Холмс не годится вам в подметки, умеренны ли вы в своих оценочных суждениях о других людях, или вашей наблюдательности хватает только на то, чтобы мужчину, носящего золотое кольцо на безымянном пальце, счесть мужем, так вот, независимо от всего этого, внешний вид и манеры Ивана Владимировича многих из вас, несомненно, озадачат.
Скромная улыбка, вроде бы выдающая покладистость, и стремление заговорить и переговорить, стремление утопить в размеренных обволакивающих ласковых интонациях любые ответы собеседника. Приветливый взгляд, охотное и крепкое рукопожатие, но рукопожатие очень короткое, — пожал, и тут же, будто в спешке, вырывает руку обратно. В суждениях хвала настоящему (крайне редко встречающийся дар) и уважение к прошлому, без жалости, без ностальгии, без снисходительности, мы его пережили не без хлопот, но в уюте, воздадим же ему должное. А главное кредо Ивана Владимировича: суетность, суетность вредна, суетность — источник всех несчастий, болезней, да и самой ранней смерти. Первый же вывод, следующий из знакомства с Иваном Владимировичем, заключается в том, что Иван Владимирович проживет сто двадцать лет, не иначе, несмотря на свой очевидный лишний вес, ибо он не суетен вовсе.
Внешне Иван Владимирович похож на колобка, только одетого в стильную одежду, причем его стиль подразумевает яркость красок. Впрочем, удивить этим кого-либо сегодня сложно. А вот что действительно отличает Ивана Владимировича, так это темная шляпа с широченными полями, которую он иной раз не снимает даже в помещении. На носу щегольские бифокальные очки, желтоватые блики на линзах вызывают ассоциации с глазами кота. Впрочем, Иван Владимирович не любит подобных ассоциаций. Обвислая кожа на щеках и подбородке у Ивана Владимировича гладко выбрита. Он внимательно следит за своим лицом, и, хотя никто не назвал бы его лицо холеным, оно производит приятное впечатление. И еще одно немаловажное обстоятельство характеризует нашего героя, но об этом знают только близкие Ивана Владимировича: он патриот, однако уже продолжительное время собирается перебраться на постоянное жительство в Европу или Америку.
Суждения о женщинах Иван Владимирович высказывает крайне редко, ссылаясь на вполне почтенный возраст, когда женщины уже не вызывают никакого трепета, а молоденькие девчушки вообще сливаются в сплошную среду. К тому же он свято уверен, что до конца женщину знать не дано ни одному мужчине, ибо в женщине содержится множество тайных смыслов. В этом, пожалуй, нам следует с ним согласиться. Тем не менее, кое-какую информацию о женщинах Иван Владимирович черпает из разнообразных печатных и электронных журналов, а равно из книг, и знает, например, что любовь и благодарность проходят у женщин по разным департаментам.
Именно эту мысль и пытался внушить Иван Владимирович Виталию, уцепившись за последнюю деталь его разговора с незнакомцем в Харитоновском парке, ибо за остальные детали цепляться решительно невозможно, настолько они выглядят сумбурным нагромождением совершенно не связанных друг с другом частностей. Частностей, надо сказать, тем более странных, что незнакомец, судя по рассказу Виталика, не какой-нибудь чертик из табакерки, а посланец Горыныча, Алексея Горановича, Лешеньки нашего беспокойного, вздумавшего вернуться в родные нагромождения урбанистических откровений, да еще затеявшего при этом очередную свою игру. С Горынычем, однако, вопрос проясним, как только он приедет, а прояснить надо будет обязательно, способности Горыныча после того купания и последующей аварии действительно развились фантастические, абсолютно неестественные для лихого комсомольца и отличника восьмидесятых. Вот и помощничек его, незнакомец, Алексей (почему, кстати, Алексей, тезку Горыныч решил приобрести?), хоть ничего толком и не сказал, а виртуальность свою продемонстрировал. Собственно, сам-то Горыныч и не на такое способен, так что пусть от удивления дар речи теряют нежные барышни, а нам не привыкать к его чудачествам. Но выяснить… выяснить, что он задумал, надо будет обязательно.
А вот второй герой-собеседник, как там его, Арсений Игнатьич Путевой, он-то откуда взялся? Про человека, знаете ли, должно быть известно, каков его социальный статус, чем он занимается, какие взгляды выражает, плюс неплохо бы представлять круг его общения, хотя бы часть его, должны же найтись пара-тройка общих знакомых, а если есть тот, кто порекомендует, так совсем хорошо; наконец, ответьте, господа, кто его жена, нынешняя или бывшая, кто родители.
Странная все же сложилась ситуация; все так таинственно, будто и не о человеке конкретном речь, а о каком-нибудь «друге» в социальной сети, друге, выпрыгнувшем из ниоткуда, помахавшим парочкой своих фотографий на фоне леса, пляжа, недостроенной дачи, а то и вовсе в камуфляже с охотничьим ружьем. Да-с, парочка фотографий, да буддийская истина в качестве статуса.
Друг, правда, в реликтовом возрасте, к социальным сетям, поди, не приспособленный, но, в то же время как-то очень вовремя вынырнувший из прудка и лихо вступивший в разговор, развивавшийся на отнюдь не общепринятых метафорах. И название института странное, и знания, для стандартного философа необязательные, и осведомленность о разговоре, как будто от начала подслушивал, а может, и подслушивал, кто знает. Не от Горыныча человек, зачем Горынычу двоих снаряжать, он всегда прижимист был во всех смыслах. А откуда тогда? Неужели действительно случайно мимо проходил? Или кто-то, помимо Горыныча, в эту историю нос сунуть решил. Кто-то такой же умелый, как Горыныч. Маловероятно, конечно, такие способности, как у Горыныча, редкость, это ж вам не тарелками жонглировать. То есть, пожонглировать-то можно, но, сколько подкинешь тарелок, столько и поймаешь, как бы все эффектно ни выглядело… А здесь дело, по-видимому, серьезное. Поелику странен Арсений Игнатьич, неплохо бы с ним пообщаться, понять его, насколько это возможно. Не верится, что встреча сия просто случайность.
А вот с Руппией у Виталика прямо беда настоящая. Причем из пальца высосанная. Мало ли, что ей, Руппии, показалось, да и не показалось вовсе, так, позлить его задумала. А скорее, Виталик наворотил себе сорок бочек арестантов. А ей и радостно, превосходство свое почувствовала, та еще язва, вся в мамочку. Жалко парня, жалко. Влюбился-то он, судя по всему, давно и крепко. И ведь сколько всего для нее сделал. Но любовь и благодарность у них воистину по разным департаментам проходят. Да и есть ли она, благодарность?
Эх, Руппия! Девочка она, конечно, славная, Иван Владимирович ее с пеленок знает, но упрямая и взбалмошная. Одно имя чего стоит! Здесь, правда, не она виновата, но ведь человек становится похож на свое имя. Виталик поначалу и не знал, что в имени два «п», даже «индианкой» ее называл, а она, знай, плечами пожимала, не снисходила до уточнений. Но тогда ладно, детьми были, а сейчас-то чего из себя строить, худющая, неустроенная, уже за четверть века перевалило, в былые дни, которых не вернуть, такие неликвидами считались, а она все высокомерие свое лелеет.
Иван Владимирович призадумался, даже говорить перестал. Он и не заметил, как все это наговорил, то ли себе, то ли Виталию. Призадумался Иван Владимирович, и Виталий с надеждой на него посмотрел, можно ли уже потихоньку отчаливать.
— Вот что, Виталик, — решительно вывел себя из задумчивости Иван Владимирович, — с Руппией я поговорю, человек со стороны в таких делах часто лишний, но иногда бывает полезен. Тем более, что не такой уж я и сторонний. А этому Арсению Игнатьичу сколько лет-то? С сорок седьмого года. Хм, а рассуждает как-то неподобающе своему возрасту. Чудеса в Новый год, видите ли случались. В Деда Мороза верил. Он, случаем, не сектант какой-нибудь? Хотя вряд ли, больно здраво про атом водорода говорит. Правда, свихнуться на старости лет не штука, бывает, что при этом то, что в молодости учил, остается ясно и по полочкам разложено. И с этим соседствует… Ладно, Бог даст, разберемся. Денег он не просил? Значит, в следующий раз попросит.
Иван Владимирович помолчал, но темы этой не оставил, сильно она его, видать, задела.
— У Руппии мамочка такая же в юности была. В чудеса верила, стихи любила, и при том была практична и расчетлива до скаредности. «Милый сверстник, милый сверстник, в Вас душа — жива! Я ж люблю слова и перстни».
Иван Владимирович всегда был человеком образованным и начитанным. Но, чтоб отыскать, откуда эти строки, потратил в свое время немало усилий, гугла тогда еще не было. А, найдя их, очень удивился. Очень. Досталась же Виталию такая квазиутонченная натура с псевдотонкой организацией. Мужа ее, отца Руппии, тоже зовут Виталием. С ним Иван Владимирович в свое время не один пуд соли на пищу просыпал. Что-то вместе съели, а что-то выбросили. «Три танкиста, три веселых друга». Горыныч, Иван Владимирович да Виталий. А сейчас не поймешь, то ли друзья, то ли просто знакомые. Но все равно, Виталия всегда приятно вспомнить. Человек он добрый и флегматичный. Миролюбив. Статен. Любит играть в шахматы. Учитель как никак. Комедии с незнакомцами всякими не стал бы устраивать, даже обладай он способностями Горыныча. А вот женушка его — вполне могла бы. С другой стороны, сама обидчива, как все женщины. Обидчива и непредсказуема. Взяла вот однажды да исчезла. Уехала. Что тут еще скажешь!
Забавно как! На какую тему ни начни рассуждать, память тут же услужливо картинки из жизни подбрасывает: пейзажики, трудовые будни, галерею портретов. Что значит жизнь долгая за плечами. Иные из этих картинок скомкать да в сандалии на зиму затолкать, а иные разглаживаешь старательно, всматриваешься.
— Слышь, Виталик, а этот незнакомец Горынычев почему тебя в парк-то позвал? Нет, чтоб в кафушку какую-нибудь. Самое место для деловых разговоров, и тепло, и сытно. В парке-то зачем ветер ловить.
И разговор какой-то странный. Так я и не понял, чего он от тебя хотел. Все эти рассуждения о переходе на новый уровень какими-то играми отдают. Послушай, а этот незнакомец, он не из интернета скачан случайно? Все может быть. Мы и не представляем себе, сколько виртуальных деятелей вокруг нас разгуливает. Просто представить не можем. Как не можем представить, сколько компьютеров скрывается в любом неказистом пятиэтажном домике, не говоря уж о современных постройках. Опутывает нас проводами как сетью, оплетает.
Послушай, Виталик, а Арсений Игнатьич как выглядел? Лицо его случайно не похоже было на клубок ниток? Нет? Ничего-ничего такого особенного, это я так… Ну, тогда, может, действительно просто приставучий прохожий. Хотя как посмотреть, Виталик. Представь себе, что в разговоры людей на улице будут постоянно вмешиваться третьи лица. Да еще так активно, с развернутыми соображениями и готовыми аллегориями по обсуждаемым вопросам. Скажем, беседуют два человека о делах на своей кафедре, в офисе или ординаторской, коллегам косточки перемывают, и вдруг подходит такой бородач и начинает сравнивать образование, медицину или, скажем, бухгалтерское дело с законом Бернулли, и привязывать тему к вопросу «почему летает самолет,» а потом еще и историю нашу к разговору пристегнет. Оглянутся собеседники с тоской по сторонам, глядь, а рядом со студентками, сидящими на стволе липы, бородач, около мамаши с детьми тоже, влюбленная парочка в ужасе пытается от бородача отделаться…
Ты можешь себе такое представить? И я нет. Телевизор, говоришь, такую роль выполняет? Так к телевизору по доброй воле садятся. В общем, если бородач еще раз появится, ты найди способ мне позвонить, я, может, что-нибудь и придумаю.
А может… Ну, ладно, ладно, прости въедливого старика. Зануден, зануден, признаю. Но если честно, без занудства жизнь была бы куда скучнее. Да, да, ведь занудство — антипод верхоглядства. Не будь занудства, никто бы ни в чем не докапывался до самой сути. Даже велосипед бы не изобрели, хе-хе. Да что велосипед! Чтобы изобрести колесо, нужно было сначала изобрести дороги. По буреломам колесо не пройдет. Верхогляд прокатил бы бревно до ближайшего бугорка, и на этом зуд изобретательства у него закончился бы. Без занудства человечество задыхалось бы от огромного количества генераторов идей и не имело бы ни одного инженера, ни одного ремесленника или торговца. Ни одного царя, ни одного чиновника. Были бы только вожаки маленьких стай. Маленьких стай с маленькими головами, зато с большими, сам знаешь чем. Вот скажи, как научиться мало-мальски кропотливому делу без занудства? А научить? Научить без занудства вообще ничему нельзя.
Виталий осторожно посмотрел на часы. От Ивана Владимировича это не укрылось, он широко улыбнулся, «ну, заговорил, заговорил я тебя».
— Так что договорились, Виталик. Как только этот Арсений Игнатьич всплывет, ты меня в известность поставь, очень хочу на него поглядеть. А насчет незнакомца я у Горыныча все выведаю, когда он приедет. Да-с, и с Руппией я поговорю, ты не беспокойся.
Впрочем, беспокоиться было уже некому. Виталий, приняв улыбку Ивана Владимировича за окончание разговора, поспешил удалиться. Что ж, по правде сказать, Иван Владимирович иногда может прекрасно обходиться и без собеседника.
Еще об одной особенности Ивана Владимировича стоит упомянуть. У него редкостное хобби: он изобретатель-конструктор. И в этом деле почти волшебник. Именно в этом деле волшебник. Сны его, способные влиять на окружающий мир, например, на наше повествование, а то и снабжать это повествование новыми персонажами, от него самого зависят мало, чаще вообще не зависят, а вот инженерные выдумки — это безусловно его достижения, а главное, они без сомнения добры и полезны. Иван Владимирович конструирует станочки для выпиливания узоров из фанеры. Разумеется, такого рода станки сейчас можно легко купить, заказать в том же интернет-магазине, и будут они красивые, многофункциональные, заграничные. Но ведь Иван Владимирович не собирается с кем-то конкурировать, в выставках участвовать, фирму по производству открывать. Он просто умелец. Здесь следует поставить толстощекий смайлик, но Иван Владимирович и сам улыбается не хуже. Об этом его хобби знают немногие, но из тех, кто знает, есть мастера, что его станочками пользуются. Стены мастерской Ивана Владимировича, а у него есть мастерская, как у художника, завешаны работами этих мастеров. Сам Иван Владимирович станочки изобретает и конструирует, но пускать их в дело не желает, не дал Бог художественных талантов. Учился когда-то в молодости Ваня и живописи, и рисунку, но однажды понял, что зря силы тратит, прибил свое последнее произведение на внутреннюю сторону двери туалета, чтобы напоминало ежедневно: «каждый должен делать свое».
Мастерская — это и рабочий кабинет, и дом, и гостиница, и санаторий. И еще место для важных встреч. Виталий, спешно покидая пещеру трубадура механика, зацепился за ящик с инструментами. Произведенный грохот и «ойканье» Виталия не прервали течение мысли Ивана Владимировича, по крайней мере, не прервали сразу, а когда Иван Владимирович осознал, что что-то прогремело, в мастерской уже никого не было. Что ж, самое время сюда Руппию пригласить. Да она ведь со своим полосатым псом притащится. Ухоженным хозяйским собакам и кошкам Иван Владимирович мог вполне себе умиляться, но в рабочем кабинете их не терпел. Да и опасно им тут, мало ли что на себя опрокинут или выльют. К тому же аллергия на шерсть у него была с детства.
Однако ходят же по земле Арсении Игнатьичи! Иван Владимирович медленно опустился на деревянный стул и задумался. Облокотился на стол с разложенным чертежом кривошипно-шатунного механизма привода, хорошего привода с ноу-хау для компенсации вибрации при работе на больших скоростях. К столу чертеж прижимала пластиковая коробочка со сверлами. Открыл ее и начал перебирать сверла.
— И чего вмешиваются в чужие разговоры! — раздраженно проговорил вслух Иван Владимирович. — Тут и так непонятно с кем говоришь, так еще и Арсений, здравствуйте, давно вам хотел сказать… А Виталик почему-то спокоен, что ж, молодой еще, ничего не боится. Впрочем, Виталик к поучениям располагает, располагает прямо с детства, вот его и поучают все, кому не лень. «Вот кот. Раз шесть моет лапкой на морде шерсть… Это — собачка. Запачканы лапки, и хвост запачкан…» Недаром Виталик со школы так трепетен к Маяковскому. Дальше больше: «Эта дама — чужая мама… Она бездельница. У этой дамы не язык, а мельница». Вот то-то и оно: не язык, а мельница.
В общем, господа, вы сами видите, что Арсений Игнатьич наступил Ивану Владимировичу на обожаемую мозоль. Не очень понятно, каким образом, но это и не важно. Иван Владимирович объявил войну невидимому (пока) и даже, по большому счету, неизвестному противнику, основное оружие которого — медийная философия и бесцеремонность. Острота первого оружия сомнительна, одно название чего стоит, зато острота второго очевидна.
А если учесть, что у Ивана Владимировича недавно объявился им же порожденный недруг, то наличие двух фронтов требует аккуратности и расчета в собственном предприятии, тут нахрапом действовать нельзя. Что за недруг, спросите вы. Да, вот тот самый, новый персонаж. Статный, подтянутый, наголо бритый, богато жестикулирующий, и весь плетеный как мяч для бенди или клубок ниток. Так и зовут его — Плетеный. Выпрыгнул он из сна Ивана Владимировича.
***
Сны свои Иван Владимирович не любит. И в то же время считает их своим особым достоянием. Настолько они порой бывают живыми. Иногда ему кажется, что он в жизни встречает тех, с кем виделся во сне. Конечно, чаще бывает наоборот: те, кто нам в жизни очень важны, ненавистны или любимы, вдруг появляются в наших снах, а иногда появляются их сочетания, скажем, лицо одного человека, а душа другого. У Ивана Владимировича такое тоже бывает, но порой, не самой удачной порой, некто, появившийся во сне, вдруг всплывает в реальной жизни, в которой до сна его не было. И этот некто далеко не всегда человек, или не вполне человек. И самое удивительное заключается в том, что, увидев такого, такую или такое во сне, Иван Владимирович, проснувшись, точно знает, что это, этот или эта в действительности уже есть, даже, если оно, она или он ему пока не встретились, а может, и никогда не встретятся.
Так получилось и с Плетеным.
— Да что за черт! Нашел о чем думать, — взъярился на самого себя Иван Владимирович.
А как не думать — Плетеный помнился таким реальным, что просто позабыть его не было никакой возможности. И отмахнуться, дескать, чего во сне не увидишь, тоже. Вот же он, вот, прямо осязаем. Кожа — сплошные перекрестья тонких ниточек, и не сказать, что это некрасиво. Костюм из ткани, узор которой настолько рельефен, что прикоснись к нему с усилием, и на пальцах останутся вмятины — переплетенные узкие червячки. А на плече у Плетеного длинноухий черный котенок. Правильно, где клубок ниток, там и котенок. Котенок этот, правда, неподвижен, потому что ненастоящий. А какой, прости Господи, котенок еще может быть во сне.
Иван Владимирович уже кое-что про Плетеного знает.
Иван Владимирович знает, что Плетеный очень скоро станет интернет-мемом в человеческом обличии. И популярным блогером. Еще немного, и его витая, нитяная физиономия заполнит рабочие столы и аккаунты. А сколько появится с ним аватарок, не сосчитать. И блог его, и его страницы в социальных сетях соберут не одну сотню тысяч подписчиков. А в том, что он родился во сне, удивительного ничего нет, чем виртуальный мир отличается от сна? Только антуражем. А Иван Владимирович будет называть его балаболом, и он будет возбуждать у Ивана Владимировича крайнее неудовольствие. Почему? Потому что напичкан бессистемной информацией? Вторгается без спросу, как реклама на новостных сайтах? Пожирает драгоценное время, превращая его в липкий кисель блужданий по чужим мыслям, шуткам и фейкам? Или он то, что определяется модным клише «фрик»? Наверное, всего этого в достатке. Но еще он порождение Ивана Владимировича, и Иван Владимирович не хочет иметь такое порождение. И он, Иван Владимирович, попытается Плетеного дезавуировать. Их встреча в реале не сулит обоим ничего хорошего. И будет ли встреча в реале, неизвестно. Ну что ж, на то и чудодейственны сны Ивана Владимировича, чтобы исправлять допущенные ошибки.
Ну, а мы, господа, разумеется, благодарны Ивану Владимировичу, а также его сновидению, за подаренного персонажа. И хотя Плетеный — это немного фамильярно, а главное, не совсем точно в определении его характера. Внешности, пожалуй, но не характера. Надо отметить, что говорливость Ивана Владимировича велика и объясняется отчасти его эмоциональностью, тем не менее прозвищами он не злоупотребляет, и если уж решился прозвищем кого наградить, то делает это ни в коем случае не со зла, к тому же Плетеный фактически его детище, а потому и имя ему подбирать Ивану Владимировичу. Это разумно и логично, и мы с этим именем согласимся. Спорить мы не будем ни с кем и ни о ком. Нам в дальнейшем понадобятся хорошие отношения со всеми.
***
Иван Владимирович вышел на улицу, и его тут же облапил первый этой осенью снегопад. Хлопья были такие крупные, прямо белые стрекозы, а не мухи, что Иван Владимирович с изумлением застыл на месте. Надо же, уже и отвыкли от столь раннего снега, в этом веке в середине октября обычно бабье лето бывает. Жаль, пальто не надел, плащ-то от такого снега промокнет, но кто же знал. Впрочем, горевать не будем, не хватало еще снега бояться. Тем более что главная беда в такую погоду не сверху падает, а внизу прячется: ступай осторожно, каша под ногами коварна. Вот о чем в эту сырь и холод действительно начинаешь жалеть, так это о том, что существуют в мире светофоры. Понятно, что без них городу никуда, но это ж надо, стоишь около проезжающих с сытым чавканьем машин и просто глупеешь. Ибо нет ничего более глупого, чем отсутствие движения во время бурного первого снега. Хорошо хоть теперь светофоры снабжены таймерами, но, Боже мой, как это долго — семьдесят пять секунд. Знайте, люди, как вы транжирите время: за секунду человек делает два шага, то есть перемещается примерно на полтора метра. За семьдесят секунд, таким образом, можно пройти сто пять метров, а это треть квартала. А в Европе так и вовсе квартал. И все это съедает редко бывающий зеленым мсье светофор.
Ага, вон Руппия у скамейки маячит, конечно же, со своим очередным Бонифацием. Где она только их берет с таким полосатым окрасом, как у тигра. Настоящий Бонифаций был все-таки львом, впрочем, львом в тельняшке. И что за манера везде его с собой таскать, он же весь уляпается по такой погоде.
Иван Владимирович скроил сладенькую подобострастную улыбочку, предназначавшуюся у него для начала разговора с любой женщиной, коль скоро с ней приходится разговаривать.
— Гутен таг, дорогуша. Ты прямо красавица. Как песик поживает?
Руппия, несмотря на свой неликвидный возраст, а может, и благодаря ему, в игры умиления предпочитала не играть.
— Здравствуйте, дядь Вань. Вас Виталий попросил со мной встретиться?
Вот так! Как будто без Виталика и разговаривать бы не стал. Колючая девочка. Наверное, зря назвал ее красавицей. Нарочито получилось. Она ведь догадывается, что он ее считает страшненькой. Тут еще Бонифаций потянулся обнюхивать брюки и плащ, запачкает их, чего доброго.
— Ну, ну, ну, — запротестовал Иван Владимирович, и Руппия натянула поводок. Бонифаций спокойно уселся на мокрый асфальт.
— Знаешь, девочка, я всегда стараюсь не вмешиваться в чужие дела. Но иной раз выскажешь пару мыслей, и всем полегчает…
Руппия слушала Ивана Владимировича рассеянно.
Поежилась. Прижала воротник плотно к шее.
Дернула за поводок Бонифация, когда он решил исследовать содержимое урны у скамейки.
Стрельнула глазами в сторону Ивана Владимировича, улыбнулась. Отвела взгляд.
Нахмурилась.
Повела левой рукой, нарисовав что-то в воздухе, качнула головой.
Подняла брови, сморщила лоб.
Широко раскрыла глаза, слегка втянула голову в плечи.
Незаметно прикусила губу.
Улыбнулась, взглянув на Ивана Владимировича, высунула кончик языка. Спохватилась, посерьезнела.
Покачала головой.
Зевнула, прикрыв рот ладонью.
Слегка, почти незаметно, отмахнулась.
Дернула уголком рта.
Надула губы. Устало выдохнула.
Наклонилась к Бонифацию, потрепала его за шею, когда он вдруг обиженно подвыл.
Пригладила волосы, выбившиеся из-под капюшона куртки.
Укоризненно посмотрела на Ивана Владимировича.
Полминуты сосредоточенно теребила поводок.
Яростно потерла нос.
Сжала пальцы левой руки в кулак, прижала его к губам.
Подняла глаза к небу, опустила их вниз.
Медленно кивнула.
Начала медленно накручивать на правую руку поводок. Спохватилась, когда Бонифаций хрипнул.
Сосредоточенно облизнула губы.
Внимательно посмотрела на Ивана Владимировича. Улыбнулась.
Глубоко вздохнула.
Внезапно снег идти перестал. А через две минуты выглянуло солнце, недоумевая, как же долго его усилия тонули в серо-синей вате.
— Дядь Вань, зайдемте ко мне, погреемся, Вы же весь промокли.
— Спасибо, Руппенька, — Боже, с таким именем и ласково-то не назовешь, — ты беги, грейся. Вон и Бонифаций твой уже промерз. А мне по делу еще в одно место заскочить надо. Ну, я думаю, мы договорились, убедил я тебя? Ты уж, поди, и думать забыла о той глупости, а Виталик переживает. А он ведь, хоть и меланхоличный парень, но друг настоящий. Да ты и сама знаешь. Так что не заносись. Давай, пока-пока!
Иван Владимирович подал Руппии свою лапищу, она судорожно смотала с правой руки поводок, перехватила его левой и протянула узкую холодную ладонь. Иван Владимирович аккуратно ее сжал и отдернул руку.
— Дядь Вань, а что это вы про Харитоновский парк рассказывали?
— Да вот, встречался там Виталик с двумя деятелями. А что?
— Виталик встречался с незнакомыми людьми в парке? Его кто-нибудь об этом попросил?
— А-а, не обращай внимания. Встреча случайная и, по-видимому, никчемная.
— Алексей Горанович приехал? Это он Виталика попросил?
— Все-то тебе нужно знать. Да, Горыныч приезжает на днях. И дело у него какое-то к Виталику есть, но Виталик, я думаю, сам тебе расскажет.
— Не больно-то он рассказывает, вчера с ним по телефону говорила. Но по его описанию… Арсений… Игнатович, так кажется…, похож на моего дедулю.
— Неужели? — Иван Владимирович прислушался внимательнее.
— Похоже на то. Хотя, возможно, я ошибаюсь.
— Господи, умрешь тут с вашей конспирацией. С этим Арсением Игнатьичем я постараюсь встретиться, если он еще раз проявится. Очень хочу с ним пообщаться. Ладно, сейчас у меня дела. Свяжемся еще.
Руппия улыбнулась и кивнула, приложив кулак с оттопыренными большим пальцем и мизинцем к уху, мол, будем на созвоне.
— Все, побежал, отцу привет!
— Передам.
Пройдя пару десятков метров, Иван Владимирович оглянулся и помахал рукой, Руппия еще стояла на прежнем месте. М-да, а все-таки не зря назвал ее красавицей. Молодость в женском воплощении всегда прекрасна.
1.3. Руппия и Бонифаций
Руппия с трудом повернула ключ, ногами отчаянно сдерживая скачущего Бонифация, толкнула коленом дверь и с облегчением приотпустила поводок. Уф-ф, добрались. Куртку и сапожки скинуть, Бонифация мыть! «Стой, чер-р-рт полосатый!» — «Стою, стою, не волнуйся. Только что с улицы, сейчас поостыну. В квартире все равно побегать негде». — «Марш в ванную!» — «Угу, там теплее всего».
Плетясь вихляющейся походкой в ванную, Бонифаций задел задом небольшой столик с часами — яшмовым гротом и двумя черными котятами, восседающими как сфинксы по обе стороны от него. Бонифаций неравнодушен к этим котятам, хотя они и ненастоящие. А может, столик неудачно стоит.
Руппия цветастой тряпкой затерла следы Бонифация, пока он чинно, не сразу, а со второй попытки запрыгивал в эмалированное чугунное чудо. Главное, лапы и брюхо помыть, а то потом тебя всего, такого огромного, вытирать, банщиков нет. «Да я сам отряхнусь». Отряхнется он! И стены за тобой мой. Да не выдирай ты лапы свои, не выдирай, а то как дядь Вань прямо. «Так неудобно же!» Неудобно. Неуду подобно. Все, стой! Вытираемся.
Бонифаций все-таки отряхнулся, по-собачьи пропустив судорогу вдоль всего тела, но урона этим уже не нанес. Подождал пока Руппия насыплет корма и деловито двинулся к миске. Руппия налила себе чаю и отправилась в комнату к столу. Видавший виды стол держал на себе монитор, клавиатуру, мышку, колонки, настольную лампу. Плюс был завален кучей бумаг. Но Руппия пила чай именно за ним. Ведь чай, я чай, не еда, а рабочий инструмент, говорил когда-то дедуля. Опорожнив миску, Бонифаций неторопливо прошел в комнату и, шумно вздохнув, улегся у ног хозяйки. «Можно. Жаловаться. Уже можно». — «Можно? Ха! Тогда ответь, Бонифаций, почему мне так дико погано?» — «С чего ты взяла, что тебе дико погано?» — «Так я ж не ты, мне недостаточно побегать по улице и лапу задрать у дерева». — «Конечно, все почему-то думают, что псу достаточно лапу задрать, и ему хорошо». — «Ну, ладно, ладно, не сердись. Погода поганая, раз; дядь Ваня мозги вынес, агитируя за Виталика, два; сижу как дура рыжая одна в комнате, три; в зеркало смотреть неохота, ибо ничего хорошего там не увижу, четыре…» — «Пошла, пошла пальчики загибать, благо, они гибкие, не то, что у меня на лапах… Сидишь ты не одна, а со мной…» — «Именно, только с псом и остается общаться». — «Захотела бы, общалась не только с псом. Погода действительно так себе, так бултыхнись в ванну, и получишь кайф; что видишь в зеркале, от тебя самой зависит, а Виталик… Виталика ты с четырнадцати лет знаешь, а дядю Ваню еще раньше, так что мозг у тебя давно вынесен, живи да радуйся.» — «А я и радуюсь, видишь, какая развеселая». — «Ай, ай, посмотрите, как я достойна того, чего мне не предлагают. Замуж тебе надо!» — «Блин, вот не хватало от пса банальности выслушивать». — «На здоровье! Независимые умы никогда не боялись банальностей». — «Ты что, позавчера в экран подсматривал, когда я фильм смотрела?» — «Вот еще! Твой дедуля «Покровские ворота» очень любил, и я этот фильм много раз видел». — «Де-е-еду-у-уля. Дед. Дед. Как я с ума не сошла, когда он умер, не понимаю…» — «Виталик тебе помог. Ну, не смотри так, не смотри… Не нравится Виталик, вспомни Олега. Вспомни, вспомни. У Вас уже и дата свадьбы обсуждалась, а ты…» — «Олег хороший был. Взрослый такой, уверенный. На шесть лет меня старше, уже не студент, мужик при деле. А как ухаживал красиво! Цветы дарил, по ресторанам водил, умный, ласковый…» — «Да, уж не Виталик». — «Не Виталик. А потом сказал однажды, мол, поженимся, бросишь ты свои дела дурацкие, да учебу ненужную, дома будешь сидеть, с детьми, детей трое будет, не меньше, а я буду зарабатывать, лелеять тебя и на тебя молиться». — «И что? Мечта многих…» — «Что ты понимаешь, «мечта»! Хлебнула бы я этой мечты. А лет через пять, прикинь, на моей страничке Вконтакте вдруг появляется такой пост: «Аааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!! Это жизнь?!!!!!!!!!!!!!!! Это семейная жизнь?!!!!!!!!!!!!! Ночью вскакиваешь успокоить меньшого, чтоб не перебудил остальных, а те — папочку, ибо невыспавшийся папочка страшнее носорога; утром мечешься между бутылочкой с детской смесью и кастрюлей с кашей, а мужу шейку на бутерброд положи, а потом еще в шейку поцелуй; днем тащишь двоих (третий, слава Богу, в садике) с улицы, где они клад Тамерлана искали, и проклятье в виде лужи посреди двора их не миновало, в это время заявляется свекровь и перечисляет все твои достоинства; а вечером со старшим аппликацию, а то воспитательница «залугает», со средним картиночки с буквами, с младшеньким кубики; ужин, да не яичница, а солидный ужин солидному мужу, ведь он на тебя молится. Секса давно нет, ибо нет никаких сил, и муж в промежутках между молитвами похаживает налево. Ааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!! Спааасииитееееее!!!!!!!!!!!!! Хочуууууууу работааааааааааать! Мечта!» — «Но ведь это же все очень мило». — «Мило?! Ну, да, еще бы не мило. Вот от этой милости я и сбежала». — «Сейчас-то лучше тебе? Работаешь, и что?» — «Сейчас? Сейчас можно забиться в угол дивана, завернуться в плед и позвонить кому-нибудь, номеров-то много в телефоне: слушай, дело есть, не по телефону, давай в кафе встретимся…» — «Судя по пледу, ни в какое кафе ты не собираешься». — «Так никто и не пойдет. Испугаются, ха-ха! Подумают, что я в сетевой маркетинг влипла и хочу какую-нибудь дрянь впарить, или, того хлеще, в секту Свидетелей похудения затащить». — «А что в любви собираешься признаться, не подумают?» — «С моей рожей это то же самое, что сетевой маркетинг». — «А знаешь, что подумал дядя Ваня, когда в конце обернулся?» — «Знаю. Ох, зря я ее красавицей назвал». — «Нет, это он подумал в начале. А когда уходил: все правильно, красавица. Молодость есть молодость». — «Вот именно, все дело в молодости». — «У-у-у, давай, давай начни еще: меня никто не лююююбит! Ну давай, раз — два: ни-кто не лю-бит!»
Руппия расхохоталась. Потрепала пса по загривку, заскочила на диван, схватила плед и действительно начала в него заворачиваться. Бонифаций тут же оказался рядышком и положил морду ей на колени. «И куда дядя Ваня так торопился. Посидел бы тут с нами, в тепле». — «Дядь Вань хоро-о-оший. Но видишь ли, Бонифаций, он изобретатель. Механик. Он делает электролобзики, или как они у него там называются. Ему вечно некогда». — «Электролобзики! Еще бы электрособак делал. Выпиливать художественно можно только вручную. Ты видала где-нибудь художника с электрокистью?» — «Ха, электрокисть! Надо будет ему посоветовать, а то он столько лет все совершенствует свой станок. Копается, копается, как белка в колесе». — «Белка в колесе не копается, а бегает. И лучше бы ей бегать не в колесе». — «А ты, Бонифаций, что же, против прогресса? Ой, все! Только не начинай про то, как славно скакать по зеленой лужайке и чтоб никаких моторов!» — «Да какая там лужайка! Ты и сотни метров не пробежишь, запыхаешься. А дядя Ваня и десятка не одолеет». — «Ага, зато бешеной собаке семь верст не крюк! Но имей в виду, Бонифаций, электрособака будет бегать, пока у нее батарейки не сядут. А они у нее долго не сядут. Так что тебе ее не одолеть. И при этом, где бегать, ей без разницы, что лужайка, что помойка». — «Я тоже могу бегать где угодно. Это вы, люди, от помойки носы зажимаете. Хотя сами же ее создаете. Все создаете, создаете, а потом кривитесь, как будто вы тут ни при чем». — «Ты еще скажи, что „отовсюду можно поднять глаза к небу“. Наслушался Виталика». — «Наслушался. Ты лучше подумай, чего вдруг дядя Ваня так Виталика тебе нахваливал? Ты что, его совсем отвадила?» — «Слушай, сводник! Будто не знаешь, я отваживаю только тех, кто мне неприятен… или тех, кто решил мне покровительствовать. А Виталик ни в одну из этих категорий не входит». — «В чем же тогда проблема?»
Руппия посмотрела на стол, заваленный бумагами, на окно, снова на стол; перевела взгляд на Бонифация. Вывалив язык и часто дыша, Бонифаций смотрел ей в глаза. Руппия сложила ладони лодочкой и потрепала собачью морду. Бонифаций скульнул и облизался. «А проблема в том, что верный пес у меня уже есть».
Руппия осторожно высвободила ноги из-под морды Бонифация, сбросила плед на диван и подошла к окну. Медленно и грациозно. «Красивый жест». Внезапно под столом мигнул лампочкой и заурчал системный блок.
— Вот блин. Что-то часто стал сам включаться. Контакты надо проверить. Или BIOS перенастроить.
Руппия повернулась к Бонифацию: «А может, он просто решил поучаствовать в разговоре?» — «Нет, скорее для него быть выключенным неестественно. Как неестественно для тебя эффектно подходить к окну». — «Что, в окно нельзя посмотреть?» — «Посмотреть можно».
Руппия нахмурилась. Пес разлегся на полдивана и завилял хвостом. «Давай не будем ссориться. Давай не будем». Руппия улыбнулась, в глазах заиграли бесенята. Пес радостно спрыгнул на пол, подошел поближе к хозяйке и склонил голову набок. Морда у него была преумильная, и Руппия расхохоталась. Она завалила Бонифация ногой на бок ценой слетевшего с ноги тапка (пес охотно улегся), цаплей допрыгала до дивана. Бухнулась на его подушки и сладко потянулась. «Что, Бонифаций, сыграем в шахматы?» — «В шахматы? Давай. e2 — e4». — «e5». — «Что e5?» — «Пешка на e5. Объявляя ходы, шахматисты начальное поле не называют». — «f4». — «Нет, только не это! Королевский гамбит!» — «И что? Это ж настоящий королевский гамбит, а не „Ведьмак“ какой-нибудь, за которым ты время просаживаешь вместо того, чтобы делом заняться.» — «Ведьмак! Ты еще и подглядываешь за мной!» — «Подглядываешь! Лежу на ковре у твоих ног, когда ты за столом. Хочешь, не хочешь, а увидишь». — «Хочешь — не хочешь! Ладно, ef». — «Слон c4». — «Ну, нет, гамбит слона я плохо помню, чтобы вслепую играть. Раз уж ты такой вездесущий, когда лежишь у моих ног, откроем шахматы на компе».
Компьютер как раз загрузился, и Руппия быстро нашла шахматную программу, позволяющую играть вдвоем. «А шахматы дедули не судьба из шкафа достать?»
Руппия резко выпрямилась. Упоминание дедули могло резко изменить ее настроение, и никогда нельзя было предсказать в какую сторону. На этот раз настроение у нее испортилось.
— Шахматы дедули можно достать, — проговорила она медленно. — «Но он, Бонифаций, в шестиугольные больше любил играть». — «Шестиугольные? Шахматы Глинского?» — «Да нет, какого Глинского! У Глинского так, вариант обычных, две армии, а здесь было три». — «Это как? Двое против одного?» — «Бывает и так. Семейная игра: мама с сыночком против папы. Ребенку тоже хоть иногда побеждать хочется. В обычных шахматах это возможно только в поддавки». — «Или если он гений». — «Или если он гений. А здесь, с мамой-то, имея такую фору, можно и по-честному победить. По-честному, ха!» — «Ну что ж, все ради огня в семейном очаге». — «Ты скоро стихами заговоришь. У дедули была другая игра. Мат ставить не надо, хотя любой король обязан был уходить из-под удара. Цель игры — достичь своим королем центральной клетки. А вот ради этого надо расчистить путь, фигуры можно рубить у обоих противников. Коалиции составлять то с одним, то с другим, следить, чтоб против тебя не объединились. Но все молча, разговаривать нельзя». — «Ух ты, о-ля-ля! Игра, воспитывающая коварство». — «А-а, морализатор, запомни, логическая игра всегда коварство». — «Ну да, ну да. И кто же у вас с дедом был третьим игроком?» — «Бывал отец, бывал дядь Вань, правда, редко. Позже даже Виталия привлекали, но он не любил в эту игру играть. Хотя, когда первый раз шестиугольную доску с начальной расстановкой увидел, сразу загорелся. А потом погорел, погорел, да и выгорел. В этом он весь: ничем до конца увлечься не может, бережет себя для будущих свершений. И не вздумай мне его опять, как дядя Ваня, навязывать».
Руппия вздохнула и медленно провела рукой по волосам. «В общем, основной игрок был другой». — «Кто же?» — «Твой предшественник. Такой же, как ты, полосатый пес. Бонифаций-первый». — «Понимаю. Был у тебя пес до меня, будет и после меня, и всех ты научишь думать». — «Жалел Виталика, теперь решил себя пожалеть. Думать вас обоих дедуля научил, а уж на что способна я, даже Бог не знает».
Бонифаций встал, покрутился волчком и снова лег, морду устроил на лапы, посмотрел грустно на Руппию. Глаза у него, как у всякой большой собаки, всегда умные и немного с укоризной. Так что грустит он или нет, сказать трудно. «А что же это за доска такая огромная, что на ней три армии умещаются?» — «Никакая не огромная. Шестиугольные клетки как соты соединены в большой шестиугольник-доску, по шесть клеток на каждом из краев. Всего девяносто одна клетка, центральная выделена. Фигуры каждой армии занимают клетки на своем краю доски, причем занятые края чередуются через один. Но раз у каждого края только шесть клеток, то и в каждой армии по шесть фигур, а не по восемь, как в квадратных шахматах». — «Кого же нет?» — «А догадайся! Король и ферзь на месте. Подсказка: все клетки на доске, кроме центральной, одного цвета». — «Значит, нет слонов. Только они в шахматах „разноцветны“, один ходит по белым, другой по черным полям. Нет слонов, нет и необходимости раскрашивать доску». — «Умница! Шесть фигур. Следующий ряд имеет уже семь клеток, значит семь пешек. Итого тринадцать единиц боевой техники». — «Число какое-то невкусное». — «О вкусах не спорят. У трех игроков в общей сложности тридцать девять фигур и пешек. А клеток для игры девяносто. Центральную никто, кроме короля занимать не может, а как займет чей-нибудь король, игра заканчивается. Итого, более чем полдоски свободно уже с начала игры. Видишь, места больше, чем в обычных шахматах. Двум армиям было бы слишком просторно». — «И как вы в такие шахматы играли? На компе?» — «Сначала только на компе. Дедуля эту программу написал, он хорошо умел программировать. А потом кто-то из друзей дядь Вани, из тех, что его электролобзиками пользуются, эти шахматы вместе с доской для нас вырезал. На другом, не дядь Ванином станке. Я думала, может, это подвигнет дядь Ваню изобретать что-то еще, но нет, не подвигло». — «Что-то ты сегодня всех упрекаешь. В голове у тебя, наверное, прынц сидит, деловой и саморазвивающийся, гы!» — «Да уж, „гы“! С прынцами, знаешь ли, напряженка». — «Знаю. С прынцессами тоже». — «Ну что, понял суть?» — «В общих чертах». — «Ok! Кстати, о прынце. Не позвать ли нам Виталика, комп посмотреть, а то барахлит и барахлит, сам включаться стал». — «Во-во, позови. Только сначала пельменей ему купи, он любит».
Руппия посмотрела на пса с лукавой улыбкой. «А ты не надейся этих пельменей урвать, тебе собачий корм положен». — «Так мне и жизнь собачья положена, о-хо-хо, и а-ха-ха!»
***
О, этот запах вареных пельменей. Дополнением — блюдце с солеными огурцами, бутылка и две рюмки с прозрачной жидкостью. А еще очень крепкий, очень горячий и очень сладкий чай. Фоном — обшарпанная кухня с закопченным кафелем над плитой, потемневшими обоями и резанной в нескольких местах клеенкой на столе.
Бонифаций, как детская лошадка, раскачивался взад-вперед, припадая то на передние, то на задние лапы. Тянулся мордой вверх, мокрым носом втягивая воздух, вдыхая запахи и тут же сортируя их: да, есть и свинина, и говядина, и лук, и соевая мука, и перец с солью, все есть. Нет только дедулиной кухни, манящего запаха помойного ведра, десятка запахов дедова родственника, главные из которых перегар и «Беломор», нет знакомых со щенячьих времен запахов самого дедули. У Руппии все чисто и чинно, на кухне все перебивает запах чего-то моющего и очень дорогого, Руппия девочка аккуратная. И только пельмени, о, только пельмени пахнут как прежде.
«Многим людям этот запах, кстати, не нравится. Ну, так зачем едят, спрашивается». — «Затем, что с кем поведешься… Приручили собак на свою голову, вот и жрем, что попало». — «Собаки во всем виноваты! Я вот, сколько с тобой ни водись, от твоего кофе нос воротил и воротить буду, даже, если подыхать стану от голода и жажды». — «Ой. Как оно будет, когда придет время подыхать, неизвестно. И уж тем более, от голода и жажды».
— Вита-алий! Есть иди!
— Сейчас! Вот еще письмо распечатаю.
— Какое письмо? — Руппия вышла из кухни в коридор и заглянула в комнату.
— Твое письмо, — Виталий весело помахал листочком почему-то синего цвета, другой бумаги, что ли, в столе не нашел, — давнишнее, с месяц назад ты мне писала… Ну, просто еще принтер твой проверил. Картридж уже можно менять.
Руппия нахмурилась и пошла обратно в кухню. Виталий — за ней.
— Ты отвечала на мое послание, помнишь? Фотографию дедули я у себя нашел. Написал тебе. Не помнишь?
— Помню. И что я такого отвечала, что ты сейчас решил картридж проверить?
— Как всегда, несколько строчек, каждая строка отдельное предложение. Все строго и холодно, — Виталий улыбался, дурачился и готов был болтать без умолку, — пишешь издалека. Неприветливое изваяние из белого мрамора. На дальнем, э-э…, на самом дальнем плане озеро, а над ним аметистовая заря. Красиво?
— Аметист лилово-фиолетовый, не очень-то для зари подходит. Так что лучше садись есть. Пельмени остывают.
Бонифаций хрюкнул, лежа подле стола. «Цыц!» — «Да я не из-за пельменей. «Аметистовая заря! Каково!»
— О-о-о, спасибо, — Виталий выдавил из тюбика горчицу в тарелку с пельменями и принялся за трапезу. — Я еще тогда тебя к себе приглашал, думал, что за фотографией ты точно придешь, — Виталий говорил невнятно, с полным ртом, — но, увы! Твой милый голос не нарушил покоя моей обители…
— Ты веселишься или стонешь? Определись уже. А фотография хорошая, я ее давно потеряла, может, когда мы еще детьми были. А она у тебя оказалась.
— Так ведь я тоже бываю полезен.
— Ты даже и не представляешь, насколько ты в тот день оказался полезен, — Руппия устало посмотрела на Виталия.
Виталий изобразил крайнее удовольствие. На самом деле он в присутствии Руппии почти всегда чувствовал себя скованно, как будто ожидая подвоха, но беспечность изображать любил.
А дальше разговор свернул к приключениям Виталия в Харитоновском парке.
— Алексей Горанович, стало быть, приезжает? — Руппия нахмурилась.
— А ты как будто не рада?
— Почему же? Рада. Приезжает, как всегда, по делу. И это дело у него к тебе? Да?
— Да кто ж его знает! Приедет, спросим.
— Ну, а в парк-то ты по его просьбе потащился? Встречаться непонятно с кем. Чтобы ты, да непонятно с кем по своей воле встречался! Алексей Горанович тебя попросил, и дело у него к тебе. Какое?
— Да я сам толком не понимаю. Что-то типа, не хочу ли я изменить свою жизнь, а то все по кругу кручусь. В общем, белиберда какая-то. Надо у него самого спросить, когда приедет.
— Ну, отчего же белиберда. Ты разве не крутишься по кругу?
— Я? Скорее, по эллипсу, — хохотнул Виталий. — По далекой орбите вокруг моего солнца. То есть тебя.
Разговор начинал Руппию тяготить. Она прекратила расспросы. Виталик сразу почувствовал ее раздражение и замолчал. Да и пельмени почти закончились. Но молчать дальше было как-то совсем неловко.
— А теперь пойдем в комнату, кое-что покажу.
— Идем, идем, — Виталий поднялся из-за стола и вслед за Руппией двинулся в коридор, но украдкой успел последний пельмень бросить Бонифацию. Пес мгновенно вскочил с пола, поймал пельмень на лету и, разок чавкнув, проглотил его. Все шито-крыто. «Спасибо, Виталий, ты настоящий друг».
В комнате Руппия выдвинула верхний ящик стола и достала оттуда фотографию. Взглянула на нее с улыбкой и протянула Виталию.
— Это мой прадедушка. Василий, отчества не знаю. Дедуля говорил, но я забыла. Это его отец. Я нашла ее именно в тот день, под воздействием твоего письма. Помнила, что где-то она есть, и очень хотела ее найти, но руки никак не доходили. А тут на все плюнула, все перерыла и нашла.
«На все плюнула и все перерыла. Хорошо сказано». — «А ты все-таки сожрал пельмень. Ведь тебя тошнить опять будет. Вроде умный пес, почти человек, а как дойдет до жратвы, любую гадость готов слопать. Впрочем, люди такие же». Пес иронически заскулил и улегся у дивана.
Со старой, аккуратно сделанной, шершавой на ощупь фотографии на Виталия смотрел молодой человек в мундире инженера путей сообщения. Строгий взгляд, брови нахмурены, неожиданные в таком возрасте морщины у рта. Снято явно не в ателье. Прадед Василий сидит у стола, облокотившись на него правой рукой. По левую руку большая кадка с пальмой. На столе красивая кружка и странное сооружение из лакированного дерева, стеклянных колб, надраенных медных деталей и соединительных трубочек. Не то научный прибор, не то фантастический кальян. Немного в стороне, уже ближе к краю стола — фарфоровая статуэтка — арапчонок с банджо.
— Какой молодой! — Виталий посмотрел на Руппию. — А это что за агрегат?
— Не знаю, ни дедуля, ни отец не рассказывали, а я пока в инете не искала. Я это фото сосканировала и даже в Shop’е раскрашивать пыталась, — Руппия повернулась к столу, поводила мышкой, пощелкала левой клавишей, и на экране открылась фотография прадеда, но уже цветная.
Виталий пригляделся:
— Да-а, детальки прибора ты хорошо раскрасила: дерево и медь вообще натуральны. А мундир почему темно-синий?
— Вроде они у инженеров-путейцев такие были.
— Он путеец?
— В этом вся соль. В этом вся история. Прадед учился в Петербурге. В институте инженеров путей сообщения. А потом строил мосты. За этой работой и революцию почти не заметил. Только заданий прибавилось, больше стал по провинции ездить. В одной из таких командировок познакомился с прабабушкой Норой. Ее фотография не сохранилась, но дедуля уверял, что была она золотоволосой красавицей. Лет через пять работа занесла его в Эск. Надо было построить мост через речушку Вала… Ведь говорили ему, Вала коварна, весной разливается, будь здоров, мощный мост нужен. А он смеялся, тоже мне Вала! — воробей вброд перейдет. Он на свою Нору налюбоваться не мог. Пять лет уже вместе прожили, а все налюбоваться не мог… А мост по весне снесло половодьем…
— Его арестовали?
— Нет. Он застрелился. Как говорил дедуля, несмотря на то, что в небе было темно. Я не знаю, что это значит. Прабабушка Нора сошла с ума. Вернее, она стала похожа на тихий призрак. Это тоже слова дедули. Сам он воспитывался у тетки, сестры Норы. Тетка всю жизнь говорила, что Василий Нору погубил. Погубил невинную страдалицу.
Виталий аккуратно положил фотографию на стол. Помолчали. Как на поминках. Напряженно. Руппия махнула рукой и поправила прядь.
— Слушай, пожалуйста, сходи с Бонифацием, у меня сегодня что-то настроения нет.
— Понимаю. — Виталий улыбнулся, — Схожу, схожу, не волнуйся. Эй, Бонифаций! Вставай, старая развалина!
«Встаю, встаю, пельменями угостились, можно и побегать». Пес с довольным ворчанием легко вскочил на ноги, отряхнулся и завилял хвостом.
***
На улице наступила настоящая зима. Вернее, она не была еще настоящей, сухой снежок покрывал землю слегка, понарошку, слабый морозец бодрил, не заставляя кутаться в шарфы и натягивать шапки и кепки на уши, но это уже была не утренняя слякоть, озноб и неудовольствие. Это было полное дыхание, первый пар изо рта, просветление головы, почти новогодняя легкость.
«Нам-то хорошо, а каково уткам в Харитоновском парке, — неожиданно подумал Виталий, — и незнакомец, ха! — уже не будет протирать вспотевшее лицо. А Арсений Игнатьич начнет вдвое больше курить».
— Ты представляешь, Бонифаций, — Виталий потрепал пса за уши, — как же мне везет на учителей.
Бонифаций задрал голову к Виталию и оскалился. И не просто оскалился, а улыбнулся. Ей-Богу, улыбнулся. Да, Бонифаций, учителей хватает. Сначала это был дедуля, он ведь, в сущности, дед не только Руппии, но и твой. Вот он-то был настоящий учитель, хотя поначалу походил на Алексея-незнакомца и Арсения Игнатьича: точки притяжения в толпе, первовзрыв как начало Вселенной…, и все это лихо увязано с историей, но говорил поинтересней и не позволял себе высокомерия, хотя я тогда был еще подростком, совсем несмышленышем. А эти все теории! Отожгли мужики, так отожгли. Понимаешь, Бонифаций, ну, хорошо, пусть Советский Союз — метастабильное высокоэнергетическое состояние по сравнению с Российской Империей. Но почему тогда, покинув его, мы не перешли обратно, на основной уровень? Мы же ухнули черт-те куда, в бозе-конденсат какой-то. У дедули теория стройнее была. Я, Бонифаций, редко слова точь-в-точь запоминаю, а эти слова как засели тогда в голову, так и не уходят: «Но что не сделал Бог, сделали люди. В России. В начале двадцатого века. Мир взорвался, и в эпицентре не осталось ничего. Обломки же постепенно замедлили свое движение и застыли. Возникла оболочка, саван, рогожа, скорлупа, „shell“, как сказали бы англичане. И по этой скорлупе мы и ползали. А говорили „жили“. Скорлупа оказалась непрочной, все-таки она не была цельной, рано или поздно трещины должны были пойти по местам срастания обломков и пошли… А люди в трещины начали проваливаться». Что, Бонифаций, ты на меня смотришь, и головой качаешь? Вправо-влево? Понимаешь что-то? Научил тебя дедуля понимать людей, как того, первого Бонифация.
Виталий перешел с дорожки на газон и замедлил шаг, ступая с пятки на носок, четко отпечатывая свои следы на снегу. Бонифаций закрутился вокруг его ног, поскуливая и подлаивая. «Фу, Бонифаций! Фу!» Виталий присел на корточки и погладил Бонифация по голове.
— Понимаешь, псина, я кругом ненастоящий. Ненастоящий наркоман, танцор, ухажер. И руки у меня влажнеют, когда волнуюсь. А волнуюсь я часто, и они у меня почти все время влажные, как у настоящего больного. А вот на морозе они не влажные, а теплые, можно и перчаток не носить. Поэтому зимой я и больной ненастоящий. Но зато я настоящий ученик. У всех пытаюсь чему-нибудь научиться. И даже у Руппии. Хотя, почему «даже»? Она внучка своего деда. И наркоманом она меня назвала в учебных целях.
Бонифаций спокойно уселся на снег и наклонил голову.
— А вот про прабабушку она сегодня рассказала с другой целью. Вернее, совсем без цели. Что-то ее гложет. Но это не любовь ко мне, к сожалению. Я для нее друг из детства. Младший братик. Антураж ее фантазий. А вот интересно, если меня не станет, она хоть немного всплакнет? — Бонифаций громко гавкнул. — Ну-ну, не сердись. Это же я так, в качестве гипотезы. Впрочем, «гипотез не измышляю», м-да.
— А еще я, Бонифаций, по ее мнению, робок. А что такое робость, ты знаешь? Неодушевленное существительное женского рода. Корень «роб», почти что «раб», суффикс «ость», почти что кость. «Рабская кость». Это тебе не какая-нибудь «военная косточка». И вот именно от женского рода все и происходит, вся наша «рабская кость» оттуда. Ну, не скули, не скули, я не обвиняю твою хозяйку. Так уж сложилась. Она просто росла и развивалась, а я рос при ней, а главное, при дедуле. И, между прочим, дедуля меня робким не считал. Да и вообще, я живу один, снимаю комнату, а мог бы жить с родителями, они не против, более того, они за, но мне нужна своя жизнь. Где же тут робость? Да, да, я понимаю, что ты согласен со мной, можешь не облизывать мне руки. А что? Я не концентрируюсь на своих неудачах, я не усложняю себе жизнь, я вообще занимаюсь любимым делом и неплохо зарабатываю. А интересующие меня темы я могу обсудить с друзьями, мне и не нужны незнакомцы с Арсениями Игнатьичами. Но тут Горыныч попросил. А это мой настоящий учитель номер «два». А то и «один». Он-то как раз не робок, уверен в себе и даже где-то всемогущ. А вот интересно, верит ли он в чудеса, в Деда Мороза? Ха! Чудеса он сам создает. И не воспринимает их как чудеса. Ладно, Бонифаций, пора домой, Руппия нас, поди, уже потеряла.
Руппия встретила их с полотенцем на голове и в махровом халате.
— Вот это да! Мы с Бонифацием думали, что ты все глазки выплакала, в окно глядя, а ты, оказывается, в ванне блаженствовала.
— Когда вы с Бонифацием действительно начнете думать, тогда я и буду ждать вас, глядя в окно, чтобы вы чего-нибудь не надумали.
Виталий развел руки в стороны и улыбнулся:
— Чего бы мы ни надумали, нам без тебя никуда.
Руппия внимательно и, чуть-чуть нахмурившись, посмотрела Виталию в лицо, и вдруг сказала:
— В общем… Если хочешь, оставайся…
Даже, не «сказала», а «четко проговорила». Это было неожиданно, и в своей неожиданности неприятно. Но Виталий привык не отказываться от предложений Руппии.
Среди ночи, часа в три, Виталий встал с постели и пошел на кухню. Ему критически не спалось, и, чтобы не валяться, то считая до ста, то упорядочивая телефоны друзей, то раскрываясь, чтоб замерзнуть и укрываясь, чтоб согреться, он решил вскипятить чаю. Бонифаций, конечно же, в мгновение ока оказался тут как тут.
— А, знаешь ли, песья ты морда, — продолжил Виталий рассуждения, начатые на улице, — Что Горыныч, как Карлсон, всегда улетает, чтобы вернуться. Впрочем, ты его и сам прекрасно знаешь.
Бонифаций действительно неплохо знал Горыныча, и на слова Виталия удовлетворенно рыкнул.
***
Да, дорогие господа, вот мы и познакомились с некоторыми героями нашего времяпрепровождения. А другие герои, удостоившись пока только упоминания, вот-вот ворвутся в нашу компанию. Все развивается своим чередом, и пройти мимо нитей расплетающегося клубка нам не удастся. Можно, конечно, их не заметить, но тогда зачем медленный огонь и аккуратное соблюдение рецептов смешивания ингредиентов? Вполне было бы достаточно оборвать красивую упаковку и сжевать безвкусную массу. Ну, хорошо, хорошо, вы ничего такого не предполагали, и я опять, как и с представлением Ивана Владимировича, к вам придираюсь. Извините, такой уж характер у вашего покорного слуги. Неприятный вам достался слуга, но это от того, что слугам иногда надоедает служить, и хочется сесть вместе со всеми за стол и полноценно участвовать в жизни общества. Общество на такую полноценность обычно не соглашается, и тогда возникают даты в истории. Но мы с вами ни в коей мере не будем доводить дело до конфликта, наша история локальна, конкретно-человечна и относительно спокойна. Будем надеяться, что мы в любом случае поладим.
И еще одно замечание. Так уж сложился текст, что в конце каждой из глав нас, господа, ждут приложения. Приложения, как и положено, играют вспомогательную и поясняющую роль. Они более детально разбирают некоторые, пройденные вскользь моменты основного текста, а также дают представление о том, что осталось за кадром, а иногда и перед кадром текущего повествования. Разумеется, господа, всем нетерпеливым и тем, кто не сильно интересуется подоплекой описываемых событий, приложения можно не читать.
Приложение 1 к главе 1. Тринадцать лет назад. Как все начиналось
Зима ворвалась во двор легко и внезапно, разбросав сухой снежок везде, где ни попадя, румяным морозцем закрепив успех ночного набега. Промозглости как не бывало, и, хотя холод стоял по ноябрьским меркам нешуточный, он не проникал слизнем под одежду, не вызывал мерзкого озноба, а весело щекотал щеки и нос, если же и перехватывал дыхание, то как-то по-новогоднему, весело и приятно.
Виталий выбежал из подъезда с ранцем за плечами и сразу же притормозил. Двор выглядел чистенько и кокетливо. Ну наконец-то зима, надоела безнадежная осень. Это чувствовал и бездомный кобель Бонифаций, сладко принюхиваясь к перемене времен года. Виталий и пес дружили и понимали друг друга без слов. Подмигнув собаке, мальчик бегом пересек двор, по дороге перепорхнув через огромную лужу, зимними стараниями превращенную в серый, острыми иглами разрисованный лед. Пес с радостным лаем без усилий повторил прыжок юного человека и затанцевал вокруг притормозившего запыхавшегося Виталия, приглашая побегать еще. «Молодец, Бонифаций, умница, — поощрил мальчик пса, — ну что, что ты скачешь? Пойдем лучше на остановку». Пес отчаянно завилял хвостом и нетерпеливо заскулил: куда хочешь, только пойдем, побежим.
Механизмам неведомы человеческие радости. Что троллейбусу до наступившей наконец-то свежайшей зимы? Колеса буксуют на первой гололедице, дороги, и так забитые до отказа, становятся вовсе непроходимыми — скорость потока упала, и пробки, пробки из сгрудившихся машин уже почти не рассасываются. А народу! Иной, может, летом и пешком бы пошел, а сейчас холодно, надо ехать, а троллейбус, как и человек, замерзает, хорошо хоть краска на угловатых боках пока не лопается. Посмотрел Виталий в вытаращенные стеклянные глазища подъезжающего к остановке страдальца за номером «один» и понял: ничего не получится, не летать ему на птице-тройке, точнее «единичке», по родным городским просторам, вдоль ледком подернутых речушек, именуемых улицами и проспектами. Птицу-«четверку» дожидаться следует. У нее маршрут покороче, авось и народу поменьше наберется. «Ну, что, Бонифаций, во двор вернешься или посадишь-таки меня на троллейбус?» Бонифаций уходить не собирался. Из распахнутой пасти валил пар, красный язык свесился на правую сторону, а глазенки преданно и бесхитростно пялились на Виталия. «Извини, братец, ничего съестного сегодня с собой не захватил». Бонифаций захлопнул пасть и носом потянулся к карману куртки. «Да нету ничего, нету. Иди лучше обратно, вон и „четверка“ ползет». Скособоченная на правый бок «четверка» даже не ползла, какое там! — она карабкалась сквозь мороженное пространство, преодолевая заснеженные перевалы и, казалось, вот-вот развалится от натуги, распираемая изнутри ездоками, а снаружи обжигаемая колким холодом. «Все понятно. Здесь тоже впихиваться бесполезно. Чер-р-т. Вышел на пятнадцать минут позже, и все! — не уехать».
«Четверка», грустно охнув, со скрежетом закупорила двери, даже не пожелав Виталию удачи или хотя бы «всего хорошего», отчалила от остановки и отправилась в снежное плавание. Виталий начал хитрить. Он посмотрел на часы: «О, уже опоздал в любом случае». Так уж и в любом? Глянь на часы еще раз. Даже пешком можно успеть, если выйти прямо сейчас и идти быстро. «Пешком по такому холоду, еще не привыкнув к нему? Заболеть — раз плюнуть». Можно дождаться следующего троллейбуса. «Можно. Но, не влез в те, не влезу и в этот». Напряжешься — влезешь. «Голова болит. И живот. И нога…» Ясно. Шлангом прикинуться не вопрос. «Не хочу, и все!» А вот это всем аргументам аргумент!
Забытый Бонифаций вдруг залился веселым лаем. Если еще и оставались какие-то сомнения, то сейчас разбежались и они. Виталий благодарно взглянул на пса, потрепал его по мохнатому загривку и… прямо побежал бы с остановки, но это было бы слишком. Изобразив обреченность, Виталий поплелся прочь, несчастный и больной, пряча самодовольную ухмылку под надвинутым на лицо капюшоном.
Сразу идти домой нельзя. Вот попозже, когда родители уйдут на работу, совсем другое дело. Потом, конечно, придется сознаться — откровенно лгать надобности нет, ругать будут несильно, но это будет потом, ближе к вечеру, а пока можно просто побродить без цели и обязательств. «Остановка слева, остановка справа, ну а нам назад, подальше от школы. За мной, Бонифаций!» Тихие аккуратные пятиэтажные домики, магазин «Самсунг», еще закрыт, «Автозапчасти», тоже все жалюзи опущены, выезд с окружной дороги, а за ним мост через эту дорогу. На мосту Виталий остановился понаблюдать за машинами. Интересно смотреть на них сверху, они как будто сплющиваются высотой, превращаясь в собственные крыши, капоты и багажники, лобовые и задние стекла сужаются до амбразурных щелей, а водителей и вовсе никаких в них нет, сами по себе носятся, плоские и рычащие…
— Собаку чем кормишь?
Плоские и рычащие… Что?
— Собаку, спрашиваю, чем кормишь?
До Виталия дошло, что это обращаются к нему. Он растерянно повернулся на голос…, и тут же вытаращил глаза. Бонифаций с интересом обнюхивал новую знакомую, а то, что она страшнее атомной войны, его, по всей видимости, нисколько не беспокоило. Какое-то слово завертелось в голове. Слово, очень на нее похожее. Но какое? Так бывает, где-то в темноте крутится, крутится, а на свет не выходит. Хмурый взор буравил витальино лицо и, если честно, порядком злил. Виталий весь подобрался и сам, насупившись, бросил короткий и колючий взгляд на незваную собеседницу. Та продолжала смотреть сквозь дурацкие детские очки прямо и не мигая, и при этом молчала, как будто гипнотизируя. А может, просто ждала ответа на свой вопрос. О чем он, кстати? Про Бонифация, чем кормлю его, видите ли. Думает, что это мой пес. Чудо в очках.
— Чем придется, — вызывающе пискнул Виталий. Голос подвел, ох, как подвел, отказался слушаться и не получился угрожающим. Хрипотцы не хватило.
— Оно и видно, — удовлетворенно кивнула кикимора, — тощий, и шерсть вся свалялась.
Смотреть она продолжала на Виталия, и он готов был воспринять эти слова на свой счет, но вовремя спохватился. Вот ведь какая дурацкая встреча. Натравить бы на тебя Бонифация. Но тот, судя по всему, неудовольствия знакомством не разделял.
— Звать тебя как? — девица-красавица отставать, видимо, не собиралась.
— Афоня, — злобно выпалил Виталий. На этот раз голос прозвучал, как надо, но почему «Афоня»? Виталий и сам не понял.
— Ну пусть, Афоня, — пожала плечами очкастая и даже слегка улыбнулась.
Улыбка ее нисколько не красила. Ее вообще, наверное, ничего не могло украсить. «Может быть, имя», — ухмыльнулся про себя Виталий и с издевочкой спросил:
— А тебя как?
— Рупия.
М-да… надежды на имя не оправдались. Хотя, не исключено, что это она в ответ на «Афоню» издевается? Но и мы не лыком шиты, мы знаем, что такое «рупия»:
— Это же индийская валюта.
— Умный какой, — взъярилась Рупия, — ты бы моим родителям это впарил, когда они мне имя изобретали.
— Вот только зубками лязгать на меня не надо! — Виталий блеснул коронным фрэйзом своего класса. Противница промолчала, может, потому, что удалось-таки поставить ее в тупик, а может, просто не обратила внимания.
— Я тебе это имя не впаривал, индианка, — решил он развить наступление, но Рупия уже сориентировалась и разгуляться не дала:
— Зубками лязгать? Может, сразу откусить чего-нибудь?
Никто уже и не помнил, кому принадлежит честь выдумки сего выражения. А точнее, кто и в каком фильме это услышал. Однако звучит хорошо. Вроде и банально, но не вполне. Эдакий небольшой намек. Изюминка в пресной булке хорошего тона. Не грубо, но грубовато. Легкая небритость вместо поповской бороды. И вот надо же: все испортить, довести до тупого примитива. Раздосадованный Виталий готов был уже посоветовать кусать себя, но не решился, пожалуй, это было бы чересчур. Все-таки он воспитанный подросток, да и сама амазонка в очках внушала некоторую стеснительность. Побаивался ее Виталий.
— А чего тебе от меня надо? — решился он перевести разговор в деловой русло.
— В школу не пошел? — на противоходе сыграла Рупия.
Виталий не нашелся, что ответить, лишь недовольно подвигал плечами, встряхивая висевший на них ранец. Что же, вывод прост, невелика дедукция. Вот! Дедукция! То самое слово. Дедукция, ха-ха! Ей Богу, она и есть: продолговатое лицо, нос пуговкой, а точнее картошечкой, крохотные глазки за обсыпанными перхотью круглыми стеклами очков, плотно сжатый тонкогубый рот и рыжие волосенки, заплетенные в две жидких косички. Еще и про школу спрашивает. Отличница и завсегдатай факультатива по математике. Виталию стало легче. Он расслабился и блаженно заулыбался.
— Балдеешь от собственной смелости?
Но смутить Виталия уже было трудно:
— Знаешь, кто ты? Ты никакая не Рупия. Ты Дедукция.
Рупия-Дедукция посмотрела на Виталия с сожалением. Потом отчеканила:
— Ты спрашивал, что мне от тебя нужно. Мне нужна твоя собака.
«Бонифаций?» Виталий машинально посмотрел на пса: тот спокойно восседал между ним и амазонкой, вывалив язык и поглядывая то на него, то на нее. Беспокойства никакого не проявлял. «Отдать тебя ей?» Виталия ужаснула эта мысль, но Бонифация Рупия, судя по всему, не раздражала. Вот и сейчас: он обнюхал полу ее пальто и удовлетворенно уселся снова.
— Ты его хочешь взять домой? И твои родители согласны?
Рупия нетерпеливо поморщилась:
— Родители на такое никогда не согласны. И я не дура, чтобы брать его домой. Но есть одно место, где ему (это ведь он?), будет хорошо, и ты его даже сможешь там навещать.
— И зачем он тебе? Одиночество решила скрасить?
— «Одиночество скрасить», — передразнила Рупия, — не умеешь шутить, не берись. Я его буду учить говорить.
«Ежкин кот, — кисло подумал Виталий, — сумасшедшая». Но Рупия не случайно была еще и Дедукцией:
— Не боись, все продумано. Собака говорить, конечно, не может: не тот голосовой аппарат. Но она гораздо способнее человека к телепатии. Научить говорить — значит научить думать. И передавать мысли.
— Да как она будет думать, если она не разумна?
— А вот это не факт. Известно, что собаки понимают не только стандартные команды, но и слова своих хозяев. А иные — целые предложения. Да ты сам не замечал этого?
— Не замечал. В любом случае учить чему-то надо в щенячьем возрасте. Сейчас уже поздно.
— Не поздно. Собака может потеряться, поменять хозяев и научиться понимать новых не хуже старых. А главное — окрас твоей собаки говорит о ее способностях.
Виталий поглядел на рыжего полосатого Бонифация. Окрас, действительно, необычный, но причем здесь он?
— Ты, наверное, слышал, что кошки камышового окраса гораздо лучше других ловят мышей. У собак тоже цвет шерсти имеет значение. Да и у людей. Расы отличаются не только цветом кожи, у одних одни способности, у других — другие.
— А у третьих — третьи, — процедил Виталий, глядя на поток машин по окружной. Перевел взгляд на Рупию. Отдавать Бонифация этому сумасшедшему страшилищу не хотелось. Но кто ему Бонифаций? Когда-то сам Виталий хотел взять его домой — родители не позволили. Мается псина по улицам, по подвалам, а тут, может, действительно приютят. Помучает Дедукция обучением, да успокоится. Успокоиться-то успокоится, а дальше что?
— А если у тебя ничего не получится, ты его обратно выбросишь?
— С чего ты взял?
— С чего взял, да на что положил… Как будто не знаешь, как это бывает.
— Знаю. У меня не будет.
— А что это за одно место, где ему будет хорошо?
— Можно посмотреть, если хочешь.
— А у тебя прежде собаки-то были?
— Слушай, ты,… Афоня. Я вопросы твои терплю только из вежливости. Я же вижу, что собака не твоя и вообще бездомная.
— Откуда ты это видишь?
— Потому что я Дедукция, понял?
— Дедукция… Бонифаций бездомный, но просто так за тобой не пойдет. Так что не выступай…
— Его зовут Бонифаций? — Рупия как будто немного оттаяла и погладила пса по голове. Тот не возражал. — Бонифаций… Бонифаций, пойдешь со мной?
Пес вскочил на все четыре лапы, отряхнулся, по-собачьи, вращая всем телом, и завилял хвостом. Нетерпение так и прыгало в его глазенках, направленных на Рупию.
— Бонифаций, ко мне! — скомандовал Виталий.
Пес глянул на мальчика, но не сдвинулся с места.
— Ко мне! — прорычал Виталий.
Бонифаций, припав на все четыре лапы, полуползком двинулся к Виталию. Голову пес пригибал книзу, как будто опасаясь удара.
— Ну и что ты доказал? — Рупия неприязненно глядела на Виталия. Он ответил ей невыразительным взглядом:
— Ладно, забирай. Только покажи это одно место.
— Пойдем.
Бонифаций сорвался с места и поскакал вслед за Рупией. «Вот это Бонифаций, вот это друг называется», — грустно подумал Виталий и поплелся следом.
***
В одном месте в глаза сразу бросилась огромная коробка, на которой неподвижно восседали, как сфинксы, два котенка, длинноухие и черные.
— Здесь живет мой дед, — сообщила Рупия.
— А почему он не живет с тобой и родителями? — удивился Виталий.
— Потому что потому и кончается на «у», — пояснила Рупия.
— Остроумно, — Виталий раздул ноздри.
Рупия закатила глаза под потолок и демонстративно махнула рукой:
— Иди за мной.
Жилище деда находилось за свежевыкрашенным серебрянкой забором-частоколом. Точнее, там находилось некое учреждение, пять или шесть зданий, построенных в разные годы. Они теснились на небольшой площади, более поздние стояли дальше и были выше, выглядывая поверх мрачного двухэтажного особнячка, как дети-акселераты поверх плеча постаревшей, но еще бодрой мамаши. На одной створке ворот висела табличка «Въезд частного транспорта запрещен», но вторая была распахнута настежь, через нее Рупия, Виталий и Бонифаций прошествовали внутрь огороженного дворика. Оставив слева мрачный особнячок, процессия оказалась около длинного кирпичного двухэтажного корпуса (двухэтажного, но очень низенького), проследовала в дальний его конец, игнорируя несколько запертых дверей. Крайнюю дверь Рупия уверенно толкнула и остановилась, пропуская вперед Бонифация. Тот, немного поколебавшись, все-таки прошел внутрь, Рупия за ним, Виталию пришлось замкнуть шествие. «Вот и славненько», — выдохнула Рупия, когда они преодолели прихожую, а за ней еще одну дверь, вот тут Виталий и увидел котят-сфинксов. Как ни странно, котята никак не отреагировали на вошедших, даже на собаку. Виталий покосился на Бонифация, но и тот был спокоен, деловито обнюхивал пол вокруг себя. Свет в большой комнате, где очутился Виталий, горел, но горел слабо, позволяя только заметить, но не разглядеть в деталях, невообразимое количество хлама: каких-то шкафов, столов, верстаков, коробок, странных приборов со свисающими проводами, табуреток, стульев, мешков, распиханных тут и там, тут и там борющихся за пространство комнаты, тут и там прямо кричащих: «Мы уже здесь! А вам-то что надо?!» Виталий поежился и втянул носом воздух: пахло как в тамбуре пассажирского поезда. Дед появился откуда-то справа. «Привет, деду-у-у-ля», — прокукарекала Рупия срывающимся фальцетом и, видимо, оставшись собой недовольна, громко и смущенно прокашлялась.
— Привет, Рупия. Привела? Ох, какой красавец! Как звать?
— Бонифаций.
— А-ах. А твой ухажер согласен нам его отдать?
Дедуля (пусть будет «дедуля») голос имел негромкий, навязчиво-мягкий, с нотками некоторого довольства, которое и не собирался прятать.
— Согласен, согласен, — заверила Рупия, даже не взглянув на Виталия, — покормить бы его, а то он у Афони все по улицам бегал.
— Ты ведь знаешь, где миска. И знаешь, где холодильник. Так что давай. А то что же ты думаешь, тебя всю жизнь на руках, как маленького ребеночка, будут носить? Пора своими ножками ходить.
Рупия не обиделась и даже довольно улыбнулась: «Пойдем, Бонифаций». Бонифаций недоверчиво скульнул, но все-таки пошел за Рупией в правую часть комнаты к неказистой двери. Видимо, из нее и вышел дедуля.
Виталий остался у двери. Ему вдруг стало тоскливо и как-то все безразлично. Честно говоря, попросту захотелось отсюда удрать. Но в этот момент дедуля щелкнул выключателем, причем почему-то не на стене, а на каком-то столе, и света стало гораздо больше. Теперь Виталий смог разглядеть хозяина комнаты.
Если он и был родным дедом Рупии, то на внешности это никак не отражалось. Ничего общего с ней. Густая седая шевелюра, огромный, весь в морщинах, лоб, густые брови над большими порядком выцветшими светло-зелеными глазами, хищный римский нос и толстые губы — верхняя раздвоена поперечным шрамом. «Заячья губа, волчий хвост», — неожиданно подумал Виталий и улыбнулся.
— Проходи, что же стоишь? Не думай, что ты гость. Тут гостей не бывает. Гости нас стороной обходят. И ты будь как хозяин. В школу не пошел? Вижу, вижу ранец-то. Это неправильно. Оно, конечно, ничему тебя в школе путному не научат, но ходить надо. Слушать, что говорят. Критически к этому относиться. А так, что ж по улицам без толку скакать — деградировать недолго. Я вот, когда такой, как ты, был, в школу ходил, но слушал, слушал с умом, а не все подряд, да и не всему верил. Вот так-то.
Судя по всему, тирада эта могла продолжаться еще долго, но тут Рупия вернулась в комнату, и дедуля отвлекся на нее, а отвлекшись, замолчал. Виталий сделал несколько шагов и неуверенно остановился между однотумбовым столом и старым креслом. В комнате было тепло, Рупия уже сняла пальто, и Виталий, сбросив в кресло ранец, начал стягивать с себя куртку. Дедуля уселся за длинный стол рядом, на котором стоял старый телевизор «Sanyo», подключенный к некому подобию системного блока, вскрытому, с сияющими платами и разноцветными жилами, но, видимо, в рабочем состоянии. Дедуля, не торопясь, выдвинул верхний ящик стола и достал оттуда мягкую фланелевую тряпочку.
— Утро надо начинать с марафета, — назидательно произнес он.
Виталий стрельнул глазами в сторону Рупии:
— Марафет — это что?
— Ну, ты даеш-ш-шь, — зашипела в ответ Рупия, — чистота.., чистота, Афоня!
Тут уже и Виталий заметил, как дедуля начал тщательно протирать фланелью экран «Sanyo».
— Что с Бонифацием? — Спросил Виталий, чтобы хоть что-то спросить.
— Ест, — коротко отрезала та, — садись, не стой над душой.
Виталий с сомнением оглядел кресло, где покоились его ранец и куртка, но Рупия указала ему на стул слева от стола с раздраконенным компьютером. Сама пододвинула другой стул и уселась тоже, но так, чтобы видеть экран телевизора.
Дедуля закончил наводить марафет и нажал кнопку на одной из уцелевших стенок системного блока. Экран засветился, и дедуля принялся щелкать клавишами, достаточно быстро, для пожилого человека очень уверенно, хотя наверняка познакомился с компьютером отнюдь не в юности. «Вот откуда ноги растут, — невесело подумал Виталий, — вот откуда уверенность, что собаку можно обучить думать, да еще в любом возрасте». Виталий попытался посмотреть на экран, что там такого интересного происходит, но оказалось, что со своего стула он не в состоянии ничего увидеть. Как ни вытягивал Виталий шею, все его попытки успеха не имели. Тогда он попробовал привстать, но стул отчаянно заскрипел, и Рупия так взглянула на парня, что тот плюхнулся обратно на сиденье и затих. Дедуля между тем начал вещать:
— В любом деле нужна аккуратность и последовательность. Люди думают, что от животных их отличает разум, и они правы, но только наполовину. Разум животных неизмеримо ниже человеческого, но у них есть инстинкт. О, инстинкт — великое дело! Он не позволяет ошибаться, заставляет действовать так, как задумала мать-природа. А она все задумала стройно. У человека тоже есть инстинкт, но он глубоко запрятан и не востребован. Поэтому-то человек со своим разумом тыркается во все стороны и везде шишки себе набивает. И вот, чтобы меньше этих шишек было, нужно все делать осмотрительно и аккуратно. И не бежать сразу по всем дорогам, а одну выбрать. И дорога эта должна быть только твоя. Пойдете вдвоем с другом — рано или поздно разойдетесь и потеряетесь, пойдете втроем — пропадете все трое, ну а будет вас толпа — так вообще ни шагу не сделаете, только на месте потопчетесь.
— Так значит, в толпе не пропадем? — решился спросить Виталий. — Лишь с места не сдвинемся?
— Именно, именно не сдвинетесь. Поэтому люди в толпы и сбиваются, считают, что так лучше, так безопасней, хоть и не стронемся с места, зато хуже не будет.
— Ну а как же прогресс?
— Прогресс — это клубочек тоненьких ниточек. И каждая ниточка — личный путь индивидуума (Виталий поморщился, не любил он этого слова). Толпа его, конечно же, тоже жаждет. Но в толпе прогресс невозможен. Там возможно только разрушение. Слишком много в толпе точек притяжения. Человека разрывает на части. Самое хрупкое, самое тонкое, оно же и самое сложное в человеке ломается сразу. Остается грубое и ни к чему не способное. Головы, руки, ноги. Рты, глаза, уши, пальцы, все есть. Есть лица, и хорошо еще, если лица, а то просто рыла, но уже нет ликов. Понимаешь ты это? Взоров тоже нет, а есть зрачки, безумная пляска зрачков. Слов нету, а есть крики и вой…
— Это понятно. А почему вдвоем-то нельзя идти?
Дедуля повернул голову и взглянул на осмелевшего Виталия. Пожевал губами, тремя губами — шрам был настолько глубок, что обе половины верхней губы двигались почти независимо. Снова отвернулся к экрану. Потерзал клавиатуру…
— Потому что мостик узенький, — ответил и захихикал. Рупия поморщилась. Виталий даже почувствовал с ее стороны какую-то поддержку.
— Понятно ему, — проворчал дедуля, — а если я тебе скажу, что без толпы ты прожить не сможешь, это тебе будет понятно?
«Ну вот, новое дело. Говорил, говорил, а теперь на попятный».
— Почему же не смогу?
— А-а-а, непонятно. То-то же. Знаешь ли ты, почему живет наша Земля? Вернее, почему мы на ней еще живем?
— Ну…, климат для человека удачный… вода есть… кислород для дыхания…
— Хорошо в школе учишься?
— Хорошо учусь.
— Вот, вот, учись. О Тунгусском метеорите что-нибудь слышал?
— Конечно.
— Так вот, этих тунгусских метеоритов должно было на Землю упасть видимо-невидимо. И вся жизнь давно закончилась бы, вымерла, сгорела бы, пеплом задохнулась. Но! Почти все, что влетает в Солнечную систему из космоса, отвлекает на себя Юпитер как самый тяжелый. Притягивает он все к себе, понимаешь? А у человека такого Юпитера нет, для него толпа — Юпитер… А то бы он, единственный да голенький, все напасти бы к себе притягивал.
«Помешался дед на философии. Но собака-то ему зачем? Зачем учить ее думать? Дедукция-то явно с его слов поет». Дедуля с хрустом распрямился и отодвинулся от экрана.
— Все, иди играй.
Виталий нахмурился. В каком это смысле — «играй»? А-а, это он Рупии. Но тоже странно. Всякие умные разговоры, таинственность, и вдруг — «играй». Вон как глазенки у Дедукции загорелись. Тоже, воображает, я, дескать, то, я, дескать, се. А сама — лишь бы до компьютера добраться. «Деньги, карты, два ствола» (на самом деле — «Kingpin» — «Джокер»), или «Герои», или «Война на Тихом Океане, или что-то еще. А почему он сам-то так долго сидел? Тоже играл? «Утро надо начинать с марафета…". Дедуля между тем громко чихнул, крякнул и раскрасневшимися глазами уставился на Виталия:
— Пойдем, Бонифация твоего посмотрим.
Разочарованный Виталий поднялся и украдкой посмотрел на экран. Но Рупия будто этого и ждала. Она мгновенно выключила телевизор и вся напряглась. Еще мгновение — и резко обернется, и таким взором окатит, что держись. Потренирует пляску зрачков в толпе. Да ну вас! Виталий решительно направился вслед за дедулей, ухватив по дороге ранец и куртку.
Комната за обшарпанной дверью была никак не меньше первой. Захламлена все теми же столами и стульями, но все-таки посвободней. Есть аккуратно застеленный диван и белый холодильник. Очень белый по контрасту со всей остальной мебелью. Бонифаций мирно дремал на небольшом куске линолеума, расцвеченного под паркет. Рядом краснела фотокювета, служившая, очевидно, миской. Кювета была пуста и чисто вылизана. Что ж, теперь можно и подремать. Молодец, Бонифаций.
Дедуля, обозрев ситуацию, удовлетворительно хмыкнул и посмотрел на Виталия. Подняв указательный палец вверх, провозгласил:
— Вот тебе домашнее задание.
Да, именно провозгласил. Виталий опешил. Не хватает ему учителей в школе, так вот еще здесь, здрасьте вам в окно. Но у дедули был такой торжественный вид, что возражать Виталий не решился, только лишь громко засопел, однако дедуля не обратил на это внимания:
— Так, так. Домашнее задание такое. Подумай, что бы ты хотел сказать в первую очередь, если бы был собакой. Э-э, Бонифацием.
«Дебил корявый», — подумал Виталий, но вслух, понятное дело, ничего не сказал.
— Подумай хорошенько, — продолжал дедуля, — это ведь твое первое обращение к человеку, к хозяину, можно сказать, к твоему Богу. Он, э-э, человек, не заслуживает быть Богом, но ты-то этого не знаешь. Может быть, хочешь о чем-нибудь его попросить (Виталий с трудом проглотил улыбку). Может, ты его хочешь как-нибудь назвать (Виталий хрюкнул, но снова сдержался). А может быть, хочешь что-нибудь ему сообщить, что-то очень важное на твой взгляд, чего он не осознает или не замечает…
Тут дедуля понял, что Виталий отнюдь не находится в состоянии благоговейного трепета и едва только рожи не корчит. Пыл оратора угас, и он горько прогнусил:
— Эх ты, Афоня…
Виталий понял, что пора и честь знать. Молча натянул куртку, закинул за спину ранец и, задевая столы и коробки, потащился к выходу. Даже толком и не попрощался. Никто его не удерживал, никто не приглашал еще раз зайти. По дороге Виталий еще раз посмотрел на котят-сфинксов и сообразил, что они ненастоящие, фарфоровые или еще из чего-то неживого, холодного. Поэтому и Бонифаций на них внимания не обращал, и они сами как сидели, так и сидят. Что ж, это, в общем-то, естественно. Ничего другого и ожидать нельзя…
***
Зима обдала приятным колючим дыханием, искорками-отражениями взошедшего солнца в рассыпанной белой крупе, и дедуля с Рупией сразу выветрились из головы. Мост через окружную дорогу, «Автозапчасти», «Самсунг», уже открыты, тихие аккуратные пятиэтажные домики. «Аккуратность и последовательность», — вспомнил Виталий и тут же забыл. Остановка слева, остановка справа, а чуть дальше — «Канцелярские товары». Виталий толкнул пластиковую с витражом дверь…, и через несколько минут купил себе ежедневник, красивый, пухлый, с темно-синей твердой обложкой. Зачем? Сегодня все, что происходило, не имело сколько-нибудь видимых причин. Зима пришла, что еще нужно? Этим все сказано.
Дома Виталий, не торопясь, разделся, разгрузил ранец и уселся за письменный стол. Посидел, откинувшись на спинку стула, с полузакрытыми глазами, пододвинул к себе ежедневник, раскрыл его… Календарь на год. Сведения о владельце. Телефоны экстренной помощи. Часовые пояса. Коды междугородной телефонной связи. Дни рождения сотрудников. Телефоны для справок. Адреса, телефоны (на все буквы алфавита). Общие обороты речи: Русский, English. «Сердечный привет от меня… — Give my king regards to…". «Надеюсь увидеться с вами в ближайшем будущем. — Hope to see you again soon…". Пятнадцать шагов к уверенности в себе… «Перестаньте чрезмерно охранять свое Я — оно гораздо крепче и пластичнее, чем кажется…". План на день… Виталий взял со стола ручку, хотел что-то написать, но раздумал.
***
А следующим вечером Виталий встретил дедулю в магазине. Снег как выпал накануне, так сегодня и растаял, за день, удушливо теплый и затхлый, про него и морозец уже позабыли, лица утратили радостный румянец, пожелтели и осунулись, глаза недовольно посерьезнели. И только дедуля лихачил, как скоморох на ярмонке. Виталий его иначе бы и не заметил, а заметил бы, так не узнал.
— А-а, Валерьевна, — зажурчал знакомый вкрадчивый голос слева и чуть сзади, в бакалейном отделе. — Знаешь, Валерьевна, а я меняю свою Клаву на валенки…
Виталий оторопел. Какая еще Клава. Там ведь никакой Клавы не было. Да и не видно было, чтоб кто-то еще жил.
— Ты ее что мне предлагаешь, — насмешливо ответила Валерьевна, дородная рыжая продавщица. — На кой мне твоя Клава?
— Ты не поняла, Валерьевна. Вот, сразу видно, что в шóхматы не играешь. А играть надо. И память разовьешь, и думать научишься, и не просто думать, а хотя бы на два хода вперед просчитывать (Валерьевна обалдело вытаращила глаза на дедулю). Я вот Клаву на валенки обменяю, и милости прошу тебя ко мне.
Валерьевна чуть не выронила коробку с макаронами, очевидно, предназначавшуюся как раз дедуле. «Странно, — подумал Виталий, — он, что, Бонифация думать обучил и теперь на радостях корки откалывает. А Валерьевна с чего тормозит? Они ведь давно знакомы, если он по отчеству ее зовет, что же, еще не привыкла?» В это время Валерьевна пришла в себя и бухнула коробку на прилавок.
— А меня ты на что поменяешь?
Дедуля рассмеялся, заливисто и тоненько. Хохотом это назвать было еще нельзя, но и хихиканьем уже тоже.
— Одумайся, Валерьевна. Тебя-то зачем менять. Такую женщину статную, да с такой профессией. Идиот я, по-твоему? — тут смех все-таки сорвался на хихиканье, так что последний вопрос выглядел на удивление уместным.
— Десять рублей, — процедила Валерьевна.
Дедуля перестал смеяться, но улыбочку сохранил. Гаденькую улыбочку. Воровато оглянувшись, он подался вперед, насколько позволял прилавок:
— Послушай, Валерьевна, — голос снизился до громкого шепота, — а в кредит не отпустишь?
Виталий усмехнулся. «Тоже мне! Граф в ресторации… В кредит…» Взгляд Валерьевны не предвещал ничего хорошего. Судя по всему, чувство юмора у нее истощилось. Заволновалась и очередь. «Людей — раз, два и обчелся, а столько стоим».
Но дедуля не собирался сдаваться:
— Валерьевна, в кредит, а? В кредит. А когда ко мне переедешь, тогда и сочтемся.
Говорил он так уверенно, как будто бы дело с переездом было не только решено, но и обговорено в деталях. Так, небольшое текущее дополнение к давно закрытому вопросу. Валерьевна смотрела на дедулю ошалело и злобно, но с интересом. Глаза навыкате, губы поджаты, кожа так и полыхает. Известное дело, рыжая, она и есть рыжая. Тут до Виталия дошло, что никакие они не знакомые, просто у продавщицы бейджик на левом нагрудном кармане: «Эльвира Валерьевна, продавец». А дедуля ей, поди, и неизвестен, как и она ему, человек он такой, со всеми на ты, любому может подмигнуть и гадость сказать под видом шутки. Развеселый мужичок, жизнеградусный товарищ, как говорит мама. Может, действительно пьян? Да нет, пожалуй. Манера такая…
— Десять рублей, — прозвенел голос Валерьевны.
— Да сейчас, сейчас, ну что ты, — засуетился дедуля, — я ведь так, в качестве предложения. Не хочешь, так не хочешь.
Судя по всему, дедуля прекрасно знал меру, и обострять ситуацию ни в коем случае не собирался. Виталий кривил губы, пока дедуля шарил по своим карманам, а напрасно. Не прост, дедуля, не прост… Виталий уж и отвернулся, и уже думать-то о дедуле забыл, а тот, проходя мимо со своей коробкой макарон, ухватил его за плечо:
— Пойдем, Афоня, пойдем со мной. Не бойся. Что-то интересное покажу.
Так что же, заметил он Виталия еще раньше, чем тот его? И всю сцену не для него ли разыгрывал? То шебутной такой, ехидный, а то тихий, заговорщика строит: «Пойдем, пойдем со мной, — чуть ли не шепотом, — интересное что покажу».
И опять не понял Виталий, почему за дедулей пошел, зачем пошел. Буркнул только под нос:
— Меня Виталием зовут.
Дедуля ничуть не удивился. Более того, когда вышли на улицу, поднял указательный палец:
— Я так и думал.
Виталий не боялся дедули. При всей своей нарочитой ненормальности, страха дедуля не внушал. Виталий даже решился съязвить:
— А что Вы мне интересное покажете? Шóхматы?
— И шóхматы тоже, — дедуля иронии как будто не заметил. — Но кроме того… Сейчас увидишь.
Желтые, бурые листья неслышно стелились под ноги. Они уже коснулись снега, их уже раз окатил холод, окатил и отступил, спрятался, вместе с ним спрятался и снег, и листья размякли, размазались по земле, утратив осеннюю хрусткость. Ни осени, ни зимы, а солнце распустить по домам по капельке, по лучику, раз уж оно еще не решило, высоко ли, низко ли сиять над горизонтом, отражаться во льду или в лужах, греть до истомы или сопровождать мороз.
— А что за Клава с вами живет? Которую вы на валенки меняете? Жена?
— Клава? — дедуля снова хихикнул. — Клава — это клавиатура. От компьютера. Ты что, не знаешь этого? Действительно не знаешь, — дедуля даже приостановился, чтобы внимательно оглядеть Виталия. — Что же ты молодежный свой язычок еще не освоил. Клава — клавиатура. Дрова — драйвера. Старый дед тебя и этому учить должен? Ну, ну, прямо как Валерьевна, — хихиканье перешло в смешок наподобие клекота. — А лихо она меня испугалась. Переезжать не захотела. Хи! Вот тебе урок — в толпе много точек притяжения.
— Какая же там была толпа? — перебил дедулю Виталий. — Несколько человек в очереди — и все.
— Да не там толпа, не там. В голове толпа. Ей с детства внушали: если человек говорит что-то странное, ведет себя не как все, то он либо что-то не то затевает, либо сумасшедший (Виталий, честно говоря, спорить бы с этим не стал). А значит, держаться от него надо подальше, доверяться ему — ни-ни!
— А как же доверяться, если он человека предлагает на валенки менять? Она же не знала, что клава — это клавиатура.
— Это-то как раз и не страшно. Она же понимала, что это шутка. Но знала назубок, как урок со школы: если человек с тобой шутит в неподобающей обстановке, значит, ему что-то от тебя надо. Хотя бы просто в краску тебя вогнать. Или показать, какой он остроумный. Поэтому встретить его надо во всеоружии. Отбрить, чтоб понял: не на ту напал. Это уж потом, если Бог даст познакомиться поближе, с ним можно и выпить, и закусить, и побалагурить. А вначале задача — показать зубы, иначе пропадешь в этой жизни, всяк тебя облапошит. Так ее учили. А людей много, много вокруг, и на каждого надо успеть окрыситься, успеть клубком свернуться, иглы выставить. Это сложное дело, но реальное, как пулемет на вращающемся станке для круговой обороны. Лязг, лязг, вправо, влево, а то и на сто восемьдесят градусов, потом обратно. Любая стеклянная или глиняная деталька сразу вылетит, все должно быть железным.
Дедуля размахивал руками, все его три губы так и приплясывали, обнажая желтые зубы.
— И вот, когда я ей предложил отпустить в кредит, тут она и «убедилась» в своей правоте. Вернее, в правоте своих учителей. А я ей потрафил, и как потрафил, а? — дедуля подмигнул Виталию. — Тут-то она и пошла вся пятнами. А ведь в сущности, что особенного? Каких-то десять рублей. Не десять же тысяч! О, на десять тысяч кредит вполне могли открыть. Солидный долг для солидного человека. А я простоват, вот в чем дело. Простоват… на вид, хе-хе.
То, что дедуля простоват только на вид, было понятно и без пояснений. Только сложность его была какою-то жуликоватой, как будто позаимствованной с чужого плеча, а то и краденой. Виталий шмыгнул носом и спросил, скорее для приличия, чтобы что-то спросить, подыграть дедуле:
— И от этого окрысения…, ну, от пулемета железного человек сам страдает. Разве ему это приятно? А если нет, то зачем?
— Это ты уж сам должен сообразить, — вкрадчиво изрек дедуля, жмурясь и потирая руки. — А вот скажи, Виталий. Если бы Валерьевна приняла мое предложение, чтобы я ей ответил?
Виталий безразлично пожал плечами.
— Ну-ка, ну-ка, не жмись. Тебя, конечно, тоже уже научили иглы выставлять. Дескать, я не лезу не в свое дело. А ты все-таки ответь, даже если не хочется. Попробуй. А?
Отчего бы не попробовать.
— О каком предложении вы говорите? Насчет кредита или… к вам идти?
Дедуля захихикал. Положительно, захохотать он не мог.
— Да нет, кредит тут ни при чем. Кредит — это так, гарнир. Разумеется, речь о женитьбе.
— Я думаю, вы бы посмеялись над ней, что она дура и шуток не понимает.
— Нет, Виталий, — посерьезнел дедуля. — Я не так жесток, как ты.
— Жесток?
— Ну конечно. Как можно над этим смеяться? Я бы…, а впрочем, все равно она бы мне не поверила.
Виталий резко остановился.
— Но ведь вы говорили, что совсем без толпы тоже нельзя. Значит, правильно она вам не поверила? Ее правильно учили?
— Правильно, Виталий, правильно. Хочешь загадку? У звезды их две, у Солнца — ни одной. У Земли она спереди, а у Волшебной страны Оз — сзади. Что это?
Виталий опешил, ничего себе, поворотец. К тому же не мастак Виталий загадки отгадывать, не любитель. Напрягаешься, думаешь, а потом окажется какая-нибудь ерунда, которая логике не подчиняется. «Не знаю», — буркнул Виталий. Дедуля может быть и опять настаивать начал, но они уже подошли к воротам с табличкой «Въезд частного транспорта запрещен». Как и в прошлый раз, и, по-видимому, так бывает всегда, одна из створок была приветливо распахнута: проходи, коли пешком, пеший конному не товарищ. «Сейчас мы Бонифация проведаем», — проворковал дедуля.
Виталий почему-то всерьез опасался, что в одном месте окажется Рупия, но, когда миновали прихожую, он обнаружил и столы, и шкафы, и прочий хлам, снова увидел освежеванный компьютер, и фарфоровых котят-сфинксов на коробке, и даже мягкую фланель для марафета, тряпочка почему-то лежала не в ящике стола, а снаружи, но Рупии не было. Конечно, она могла быть в соседней комнате, но, поди, вышла бы поприветствовать дедулю, а за обшарпанной дверью не слышно было никакого шевеления. Рупии-то нет, но где Бонифаций, он ведь тоже не пытается выбежать навстречу?
— Рупия ушла с Бонифацием гулять?
— Руппия? — странно, но дедуля отчетливо произнес два «п» в ее имени. — Нет, сегодня она еще не приходила. А Бонифаций уже гулял. Сейчас он спит.
Виталий с удивлением поглядел на дедулю. Откуда, интересно, такая уверенность? Но Бонифаций действительно спал. В соседней комнате. И обстоятельства его сна наводили на мысль, что дедуля действительно с утра голову задом наперед надел. «Ну, дедуля… Ну, дедуля…» Собака, безмятежно спящая на роскошной цветастой подстилке (цвета непонятного, но мягкого и глазу приятного) — это что-то из раннего Виталиного детства: уютная квартира, лакированного дерева шкафы и серванты со стеклянными дверцами, а то и настоящими витражами, а за ними бокалы, рюмки, изящные тарелки и блюдца с чашками. Посередине обязательно синий графин или фарфоровый чайник. На полах и стенах ковры, пианино с каслинским литьем — подсвечник или дон Кихот с книгой и шпагой. Массивный письменный стол с чернильным прибором зеленого камня, радиола, большая, с круглыми желтыми ручками настройки, подробная шкала частот с диковинными названиями городов, а под крышкой — проигрыватель для пластинок… Друг семьи Лаврентий Афанасьевич жил один и держал здорового пуделя Росинанта. С Росинантом у пуделя, правда, никакого сходства не было, он был откормлен, и на клячу не походил. Спал на великолепной подстилке, был стар и не годился в спутники рыцарских подвигов…
Но здесь, у дедули? Среди этих полуразвалившихся столов и белого в царапинах холодильника? Подстилка Бонифация вполне сгодилась бы на покрывало для мини-дивана. Мягкая, аккуратная и чистая. А цвет ее, по-видимому, был близок к бордовому, но определенно сказать было нельзя, ибо вся комната освещалась приглушенным темно-красным светом, как фотолаборатория. На табуретке рядом с Бонифацием стоял допотопный магнитофон, из которого, впрочем, чисто, без постороннего шипения исходила негромкая обволакивающая музыка. По-видимому, она и являлась снотворным для Бонифация. Поверить целиком в открывшуюся Виталию картину было невозможно, хотя каждый ее штрих в отдельности странным не выглядел. Если только чуть-чуть. Виталий повернулся к дедуле:
— Ну и что, научили вы его думать?
— Тсс-с. Садись и слушай. У многих животных, собак в том числе, музыка вызывает странную, не заложенную природой реакцию, которая, разумеется, зависит от типа музыки. От одной они впадают в апатию, вплоть до сна, от другой — наоборот, в агрессию. Это путь к преодолению первичности инстинкта! Конечно, у разных видов и даже особей все по-разному. Когда-то, очень давно, еще студентом, летом в колхозе я был назначен помощником нашего завхоза и ответственным за лошадь. Лошадей я до этого боялся жутко, но с Росинанткой поладил…
— С Росинанткой?
— Ну да, она же была кобылой, вот и прозвали ее на женский лад Росинанткой. Запрягали ее в телегу, на этой телеге я возил в поле обед, пустые мешки, провиант на кухню, в общем, катался по разным хозяйственным делам. Все бы ничего, но однажды я действительно решил покататься. Мне ведь колхозное начальство доверило не только телегу, но и седло с подпругой и уздечкой. Очевидно, иногда на Росинантке ездили верхом. Вот я и решил погарцевать перед нашими поварихами, — дедуля грустно улыбнулся. — Погарцевать не пришлось. Первая же моя попытка приладить седло вызвала у Росинантки бурное негодование, мощным движением она стряхнула его с себя и поскакала прочь. Деваться мне было некуда, я не мог ее потерять, и потому припустил вслед настолько быстро, насколько это позволяли мне молодые, но человеческие ноги. В то же время, бросить седло лежать на дороге я тоже не мог, — его бы быстро прибрали рачительные селяне, — седло пришлось на ходу взвалить на плечи, и вот так, оседланный, бежал я за лошадью, проклиная все на свете. Росинантка могла бы унестись от меня в два счета, и тем прекратить мои страдания, но она скакала, не торопясь, сохраняя небольшое, метров в двадцать, расстояние между нами. Временами она поглядывала назад, на меня, и, клянусь всем, чем хочешь, издевательски ржала. Наконец, я утомился и бухнулся в траву возле старой кривой осины.
Дедуля замолчал. Бонифаций поднял голову, обвел мутным взором собеседников и снова положил голову на лапы. Глаза он при этом не закрыл, а продолжал осоловело смотреть на дедулю. И тут Виталий, неопределенно улыбавшийся во время рассказа, вдруг развеселился: «А ведь он понимает, собачья морда. Понимает и ждет продолжения». Однако дедуля никакого интереса к маневрам Бонифация не выказал, напротив, сам прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Слабый багровый свет, тихая музыка, спящая собака и полусонный рассказчик… Но вот рассказчик встрепенулся и заговорил:
— Ты не можешь себе представить, как мне все было в тот момент безразлично. Я лежал под осиной, а сквозь ее листву, дробясь, просачивался солнечный свет. Поворотом головы можно было гонять лучи по фигурным просветам меж листьев, как по клавишам забавного вычурного инструмента. Это была настоящая музыка. Подозреваю, что, отражаясь от моего лица во все стороны, она достигала и Росинантки. И лошадь это почувствовала. Она приблизилась ко мне сначала метров на пять, потом ближе, еще ближе, однако я ее старательно не замечал. Наконец, она захрапела у меня прямо над головой, прося прощения. А мне было так хорошо, что я совершенно не хотел никуда идти, не хотел вообще вставать. Но возвращаться было надо. Обратно мы шли в полном согласии, даже седло я положил ей на спину, и она не возражала. Тогда-то мне и пришла мысль дать ей послушать музыку. Но как? Магнитофонов тогда еще не было, негде было и пластинку послушать, во всей деревне сыскались бы разве что пара старых граммофонов. Но было радио!… Над нами хохотала вся деревня. Не отставал и уборочный отряд. Я просыпался каждое утро в пять, наскоро приводил себя в порядок и шел на конюшню. За лошадью, как за собакой, ухаживать надо. А к шести мы шли с ней к репродуктору, что висел на столбе у сельсовета. В шесть включалось радио. Потом, днем, что-то около двух, целый час передавали только музыку, классическую. И вечером еще. Ты не поверишь, когда мы приехали через год в этот же колхоз, все местные мне наперебой рассказывали, как Росинантка без радио осенью чахнуть начала. Только, когда конюх сообразил, что к чему, и стал, подобно мне, водить ее к репродуктору, она и воспряла. Иногда от музыки она поджимала уши, переминалась с ноги на ногу, явно желая побыстрее удрать, а иногда стояла как вкопанная, и даже по окончании передачи, когда уже начинали читать нудные новости, долго не выходила из оцепенения, сдвинуть ее с места в этот момент была еще та задачка! Причем дело было не в ритме, и не в громкости. Э-эх, побольше бы мне тогда времени и ума. Но одно скажу точно. Не знаю, как и почему, но понимать меня она начала даже не с полуслова, а с полумысли и полувзгляда. Вот так-то…
— А вы ее понимали? — Виталий сам подивился своему голосу, осипшему и неуверенному.
— Я? Нет. Ну, то есть я ее понимал, как человек понимает животное. Но, когда она слушала музыку, нет. До этого не дошло.
— А как вас зовут? (Дедуля удивленно приподнял брови). Мне Рупия так и не сказала…
— Руппия? (Улыбка всеми тремя губами). Зови меня дедуля, как зовет она. (Ладони резко легли на подлокотники кресла — решительный жест «пора вставать»). Пойдем. Пусть Бонифаций поблаженствует один.
***
Бонифацию, конечно, хорошо. Он «поблаженствует один». А вот Виталию «блаженствовать» предстоит в компании Руппии. РуППия — Виталий попытался улыбнуться дедулиной улыбкой, будто и у него верхняя губа раздвоена, но получилось, видимо, комично, и Рупия ухмыльнулась. Кривовато ухмыльнулась и даже, наверное, агрессивно, но Виталий сегодня не боялся амазонки. За сутки она ухитрилась остричь свои уродливые косички и сделать прическу под мальчика. И, надо отметить, кикиморой быть перестала. Лицо смягчилось, и даже ухмылка облагородилась, превратилась почти в улыбку. Но…, как бы это помягче сказать…, осталось в ней что-то от особы, обучающей собак говорить. Дрессировка ведь сопряжена с битьем, а люди, бьющие собак… сами понимаете! Дедуля на дрессировщика не походил, а после рассказа про Россинантку — и подавно, Рупия же — вполне. У Виталий даже промелькнула мысль, — а кто из них здесь главный? Но, несмотря ни на что, он ее больше не боялся. Освоился в этом странном жилище. Хотя многого по-прежнему не понимал. Например, компьютерные шахматы, которые Рупия от него упрямо прятала…
Впрочем, это были даже и не шахматы, не обычные шахматы. Совсем не шахматы. Шóхматы, наверное. Когда Виталий с дедулей вышли в переднюю комнату, Рупия была уже там, сидела за компьютером, а на экране светился шестиугольник. Антураж игрушки был так себе, бледно-голубой фон и пара менюшек по бокам, но шестиугольник в центре искупал все. Это был не просто шестиугольник, он как бы подсвечивался изнутри, его составляли клетки-соты, по шесть клеток на каждом из шести краев, центральная клетка чем-то отличалась от других, но чем, Виталий понять не успел. Рупия, как и вчера, выключила телевизор-монитор. Виталий даже улыбнулся: так ее судорожное движения по направлению к кнопке напоминало вчерашнее. Старый компьютер, «думает» долго, выключить быстрее, чем свернуть игру. Но Виталий успел рассмотреть шахматные фигуры. Значит, шестиугольник — шахматная доска, это шахматы, но какие-то нездешние. Что-то в них еще было странным, кроме формы доски и клеток, но что, Виталий осознать не успел, осталось только надоедливое ощущение. Черт бы побрал эту Рупию, тоже нашлась «жрица египетская». Дедулю бы спросить…
Однако дедуля, словно предчувствуя вопрос, быстро-быстро ретировался. Сначала его лицо расплылось в трегубой улыбочке, потом он проворковал: «Мамуля и папуля дома, Рупия? — и получив утвердительный ответ, попятился к двери. — Ну, так я их пойду навещу, а ты пока с Виталием поговори, поговори с Виталием …". Раз, два,… и дверь за ним тихо прикрылась, Виталий успел только подумать: «Надо же, мамуля, папуля и дедуля. А она тогда Рупуля». Рупуля смотрела на него, как вчера, когда черт догадал их встретиться на мосту, но сегодня Виталию это было все равно.
— Значит, ты — Рупуля? — нагло спросил он, усевшись на ближайший стул.
Взгляд Рупии почти не изменился, но она явно была озадачена.
— Про зубки лучше вспомни, — начала она разведку боем.
— Всему свое время. Как успехи в обучении Бонифация?
— Ты же его видел.
— Видел.
— Ну, и чего спрашиваешь? Пока не говорит.
— Да, зато под музыку спит. Ты придумала или…
— «Или», Афоня, «или».
— Виталий. Ты, что, деда своего не слышала?
— Дедулю.
— Ах, извините. Меня зовут Виталий.
— Виталик.
— Виталий.
— Виталий, — согласилась Рупия. — Виталий, а тебя дома не потеряют? Ты ведь в магазин пошел?
Виталий удивился. А это она как узнала? Следила за дедулей, а потом за ним? Рупия насмешливо улыбнулась и показала глазами на стол рядом. На нем высилась синяя хозяйственная сумка. Виталий и забыл про нее совсем, хорошо, что Дедукция напомнила, ну, на то она и Дедукция.
— Ну, так как, не потеряют? — инициатива прочно перешла к Рупии.
Не потеряют. Мама сегодня придет только в восемь, а в магазин он потащился, прочитав ее записку.
— Скажи лучше, почему ты всегда отключаешь экран, когда я пытаюсь в него посмотреть? Мне тоже интересны шестиугольные шахматы.
Рупия снисходительно улыбнулась:
— А ты что, играешь в шахматы? В обычные.
— Ты не поверишь, играю, — съехидничал Виталий. — Ну, давай, е2-е4.
Рупия захихикала. Как и дедуля, хохотать она, видимо, не могла:
— Остап уверенно сходил е2-е4, точно зная, что после первого хода мата не будет.
— Какой Остап?
— Ну, ты даешь! А еще в шахматы играть просишься.
— Нет, ты подожди. Давай, ходи, е2-е4.
— Е5.
— Что е5?
— Пешка на е5. Объявляя ходы, начальное поле не называют. Афоня!
— Виталий. Ну, пусть, f4.
— Так я и думала! Королевский гамбит.
— А что такого?
— Да ничего. Не люблю я его.
«Не любишь? Как можно любить или не любить гамбит? Нет, точно чокнутая. И дедуля такой же. Доверил им Бонифация. Надо будет его как-нибудь незаметно увести. На прогулке подкараулить».
— Когда с Бонифацием гуляешь?
Рупия посмотрела на Виталия с подозрением. Взгляд он выдержал. Но ответа не дождался…
Приложение 2 к главе 1. Плетеный
Плетеный, как вы, господа, быть может, догадались, не человек. Но похож, очень похож на человека, живет рядом с людьми и, а может даже, и за их счет.
Плетеный прогуливался. Плетеный просто шел себе по парку, не имея намерения с кем-то что-то обсуждать. Плетеный отдыхал, и раздумывал, что делать дальше, интернет ему становился тесен, реальный мир был незнаком, холоден, но он все больше вытягивал его из мира виртуального, все больше хотелось просто ходить по улицам и глазеть на людей, пока пытаясь угадать, каков у них ник в социальных сетях, и какова фотография на личной страничке, но и это уже становилось неинтересно, а что же интересно, он пока не мог для себя сформулировать.
Плетеный проходил мимо компании из трех мужчин. Мельком он взглянул на них, и зафиксировал для себя, что мужчины сильно пожилые и уставшие.
«Прошу прощения, товарищи, — услышал Плетеный, проходя. — Вот идет странный молодой человек, который, может быть, даже не знает, что Вторая мировая война началась первого сентября тридцать девятого года, но ведь он от этого незнания нисколько не страдает». «А и правда, — подумал Плетеный, — я ничего не знаю про Вторую мировую войну, и не страдаю от этого. А почему? А потому что нет запроса. Будет запрос, и я все, что спросят, узнаю».
Плетеный подошел к собеседникам. Те слегка напряглись. Но он спокойно сказал им, что ничего не знает про войну, потому что нет запроса.
— И как же сделать этот запрос, — расслабившись, насмешливо спросил один из мужчин.
— Зайдите на мой блог pletenyi.livejournal.com, задайте вопрос в форуме, и я вам отвечу. А точнее, ответит кто-нибудь, кому я переадресую ваш запрос.
— Прошу прощения, товарищи, а если я хочу узнать, почему, живя здесь, в настоящем, я остаюсь там, в прошлом, такой запрос вы тоже кому-нибудь переадресуете?
— О, вот с таким запросом не будет ничего сложного. Я сдам вас куче психологов, и они с превеликим удовольствием, разделают вас на порционные кусочки, и каждый приготовит свое блюдо, это будет пиршество для десятка гурманов, как минимум.
— Ну, хорошо. А если моим запросом будет картина, исполненная маслом на холсте… или ее фотография. А на ней прилавок на рынке, на прилавке гора сочных помидоров, вокруг люди, а за прилавком гордый продавец в роскошном халате и тюбетейке, с приветливым и одновременно хитрым выражением на лице. Хитрым и одновременно приветливым. И я спрошу вас, где это происходит? Кому вы переадресуете этот вопрос, а?
Плетеный покачал головой:
— Я вам отвечу сразу, это происходит у вас во сне.
— С чего это вы взяли?
— Я сам родом из сна. А рыбак рыбака…, знаете ли…
Глава 2

2.1. Горыныч
Ну, вот, господа, и снова здравствуйте. Я, признаться, испытываю некоторую неловкость. Я хотел бы представить вам, наверное, одного из главных героев нашей истории или, по крайней мере, такого героя, без которого история была бы невозможна, причем невозможна принципиально. Вы уже ощутили, что в повествовании сильна не то чтобы нота мистическая, а нота заметной необычайности, и далее эта нота будет только нарастать. Соответственно, и главный герой должен не только чисто брать эту ноту, но и солировать в хоре других персонажей. А для этого он должен быть мудрецом, чародеем (или волшебником, кому как нравится), да хотя бы ярким провокатором. Для мудреца у Горыныча слишком беспокойная и событийная жизнь (мы в нашем повествовании затронем только ее малую толику), провокатором Горыныч никогда не являлся принципиально, по идейным соображением, а волшебника я вам, господа, уже представил в образе Ивана Владимировича. Правда, Иван Владимирович волшебник по технической части, однако и Горыныч не прочь покопаться в каком-нибудь механизме. Поэтому моя неловкость обретает реальные очертания: вы, господа, всегда можете мне сказать, что чародеев, дескать, перебор, и не сказки про бабу Ягу и Змея Горыныча мы тут у вас надеялись почитать. Что ж, примите великодушно мои извинения, ибо поделать ничего нельзя. Горыныч ни в коем случае не Змей, но все-таки он волшебник, причем добрый. Другое дело, что далеко не всегда он будет качества волшебника проявлять, как, кстати, и Иван Владимирович, да и качества эти ограничены, так что любителям реализма тоже найдется пища для размышлений. Таким образом, я все-таки решусь вам его представить. И попутно замечу, необычные персонажи уже чувствуют, и еще будут чувствовать себя в нашей истории полностью своими. И ничего страшного в этом нет.
Засим еще раз здравствуйте, и с Божьей помощью приступим.
Зовут Горыныча, как вы уже поняли, Алексей Горанович. Горынычем его назвал кто-то из однокурсников в студенческие годы, да так это прозвище и закрепилось. Высокий выпуклый лоб, открытый всем ветрам вследствие наличия лысины, пронзительные умные глаза, грубо рубленые нос и подбородок, широкие губы. Привычка проводить по щеке скальпелем или иным попавшим под руку лезвием. Мягкий, но сильный баритон; Алексей Горанович может убедительно накричать или расхохотаться. Приземистая плотно сбитая фигура, ловкость в движениях. Волосков из бороды не выдирает, собственно, бороды и нет, а верхняя часть головы, как уже было сказано, волоски содержит в крайне незначительном количестве, для магических действий непригодном. Заклинаний, во всяком случае, набора звуков, похожих на заклинания, от него никто не слышал; не жалует он и латынь, да и вообще иностранные языки. Однако собеседника удивить может, бывали случаи, когда люди при нем начинали задумываться, а иногда ощущали странное легкое дрожание привычного мировосприятия. Кому с Горынычем однозначно хорошо, так это детям и собакам.
И еще три немаловажных обстоятельства. Во-первых, у Алексея Горановича, как у каждого чародея, есть помощники. Помощники зачастую не столь благообразны как он, а иной раз даже невыносимы. Тут уж ничего не попишешь, что есть, то есть. Подчиненных, если и выбирают, то из списка, повлиять на который мы не всегда в состоянии. Во-вторых, у Алексея Горановича, как у каждого человека, есть друзья. Друзья — дело другое, дружба шлифуется годами, и на них Алексей Горанович может положиться как на себя. Если, конечно, друг не становится вдруг соперником. Но и в этом случае друг остается другом…, должен остаться, так уж устроен мир. В-третьих, у Алексея Горановича есть подопечные. Те, на кого особенно направлена его забота. Почему-то часто думают, что добрые чародеи озабочены спасением вселенной от темных энергий, добыванию победы сил света в очередной последней битве, разрушении гнездилища зла, освобождению Солнца из крокодильего зева или хотя бы из плена туч, одним словом, созданием комфортного и безопасного мироустройства. Нет, господа, это удел революционеров и политиков разных мастей. Алексей Горанович как добрый чародей озабочен помощью конкретным людям. И это, скажу я вам, очень нелегкая задача, тем более что многие люди думают, что в помощи не нуждаются вовсе.
***
Алексей Горанович давно не был в родном городе. И хотя в России часто «уезжают навсегда», он точно знал, что рано или поздно вернется, и память о малой родине не отпустит, и дела позовут. Кстати, о делах. Один из помощников уже провел предварительную работу, правда, результат по поступившей информации оказался не вполне удовлетворительным. А главное, этой работе неожиданно помешали. Первое, что предстояло, это разобраться в деталях на месте.
***
Горыныч расхаживал как маятник взад-вперед по душной маленькой зале. Оконные стекла затуманивали картинку поздней осени, случившейся вдруг в середине октября. Осень вышла из фокуса, расплылась, подернулась серой поволокой. Раскупорить бы рамы да распахнуть створки. А еще лучше вставить, наконец, стеклопакеты, а то этим окнам лет-то сколько. Горыныч ходил. Отчаянно скрипели половицы, звенели стекла в шкафах, стулья почему-то все время попадались под ноги. Но более всего раздражал бильярд с дурацкими воротцами на зеленом сукне, как для крикета. Надо же такое придумать!
Горыныч ходил. Горыныч думал. Горыныч хмурился, а порою и порыкивал. Горыныч ждал, а точнее, убеждал себя еще подождать. «Вот теперь, пожалуй, пора». Горыныч посмотрел на входную дверь, но около нее никого не увидел. Зато боковым зрением уловил силуэт у окна слева и повернулся к нему. Перед Горынычем стоял незнакомец.
— Только что хотел окна поменять, чтоб ты через дверь научился заходить.
— Здравствуйте, Алексей Горанович.
— Привет, Панегирик, — имя незнакомца Горынычу оказалось известным, если это, конечно, было имя. — Садись давай, потолкуем.
Панегирик-незнакомец сел на венский стул подле старого массивного стола. Горыныч было направился к необъятному креслу, но его взгляд задержался на содержимом книжного шкафа.
— Слушай, Панегирик, а где «Онегин»?
— Разве я сторож брату своему?
— Да уж, из тебя сторож, как из меня русалка.
— Алексей Горанович! — обиделся Панегирик. — Причем тут русалка! Они уже, ей-Богу, в прошлом.
— Они-то в прошлом. А кое-кто по имени Алексей в настоящем. Тезкой моим захотел стать?
— Я хотел назваться тем именем, которое мне нравится — Альсо. Но это, как Вы понимаете, вызвало бы вопросы.
— Вопросы. У меня вопрос. Кто такой Арсений Игнатьич?
— Виталий думает, что Вы его послали.
— Не я. Что думаешь ты?
— Извините, а кто-нибудь знал, о задании, которое Вы мне дали?
— Ты что, Панегирик, родом из Одессы? Я, разумеется, никому ничего не говорил. А знает ли кто или нет… Все может быть. Я не один такой на белом свете. Так, кто он, по твоему мнению?
— По моему мнению, он может быть кем угодно. Может, его сюда позвать?
— Терпение, Панегирик, терпение — залог успеха в любом начинании. А тем более сейчас, в ситуации крайне необычной.
— Прошу прощения, товарищи. Позвать меня очень легко, даже если ситуация необычная. Вы хотите знать, кто я такой? Арсений Игнатьич Путевой, простите за рифму, она здесь, безусловно, неуместна. Старший научный сотрудник Института медийной философии. Сейчас на пенсии. Вот, товарищ Алексей знает.
Горыныч грузно сел в кресло. Поморщился. Встал, подошел к столу, вытащил скальпель из карандашницы. Снова сел. Аккуратно провел лезвием по потной щеке. Заскрипела щетина.
Арсений Игнатьич продолжил:
— Понимаете, товарищи, мне очень интересно то, что происходит вокруг меня. Я живу и кручу головой по сторонам. Прелюбопытное занятие.
Горыныч заговорил:
— Вы как кошка. Стоит человеку устроиться для дела или для отдыха, не важно, вы тут как тут, прыг на колени.
— Прошу прощения, товарищи, я, конечно, бываю надоедлив, это правда. Все потому, что я любопытен. Но я не выдумываю истории. Я их поясняю и развиваю.
— Неужели? Вы и про Деда Мороза историю развили? Во мраке сталинского атеизма лучик волшебства — дедушка в красной шубе.
— Простите, как вас звать?
— Алексей Горанович.
— А что удивительного, Алексей Горанович? Власть пробовала, можно это, можно то? А ну-ка, сторонников Троцкого прижмем, а потом сторонников того, этого, еще, еще, и вот уже террор пошел. Возразят люди? Нет, не возразили. Значит, можно. А Дед Мороз… компенсация да лакировочка. Люди ведь на многое согласны. Ментальность такая. Взять, например, Вас, Алексей Горанович. Вроде и неудовольствие проявляете, что я в Ваши дела вмешиваюсь, но согласны на вмешательство, согласны. Потому, что чувствуете: я Вам помощник, а не противник. Вот Иван Владимирович Вам хоть и друг, а противник, или, как минимум, препятствие. А я нет. Так и со Сталиным было. Люди чувствовали в нем что-то свое, родное, а он умело подыгрывал. Или, в самом деле, был своим, это уже не установить, только предполагать можно.
Панегирик хмыкнул.
— И товарищ Алексей согласен. Согласен-согласен. Так ведь, товарищ Алексей?
— Нет, — отрезал Панегирик.
Арсений Игнатьич улыбнулся настолько широко, насколько позволяла треснутая губа.
— Откуда вы про Ивана Владимировича знаете? — резко спросил Горыныч.
— Ох, не волнуйтесь вы так, я не черт, который пришел вас на рога намотать. Вы же не случайно попросили товарища Алексея поговорить с Виталием о его жизни, точнее, о ее круговерти, и о новой…
— Вы что, весь разговор наш слышали? — нервно перебил Арсения Игнатьича Панегирик.
— Ну, что вы, товарищ Алексей, я только малую толику услышал. Но я умею домысливать. Я же говорю, я развиваю истории. Я ведь медийный философ.
— Но…
— Подожди, Панегирик, — прервал помощника Горыныч. — Все-таки, как вы домыслили Ваню…, Ивана Владимировича?
— Прошу прощения, товарищи, я же не рассказал вам, что встретил в парке Плетеного, просто не успел рассказать, вы меня постоянно перебиваете. Плетеный — это такой странноватый молодой человек, свято верящий, что в сети он сможет найти ответ на любой вопрос. Более того, похоже, он воображает, что сам и есть воплощение этой сети. И при этом он с большим уважением, а, по сути, с пиететом рассказал мне про Ивана Владимировича. Так я и нанизываю камушки на струну, а оселок для их шлифовки — ум и фантазия.
— Ум и фантазия?
— Конечно-конечно, иногда мы и не вольны распорядиться ни своим умом, ни, тем более, фантазией. Знаете, как бывает. Поздняя осень, холодная пронизывающая влажность, одинокие глянцевые листья на деревьях, и вы, бегущий куда-то по просеке, задыхающийся от бега, вот-вот упадете, но все бежите, бежите, задыхаетесь и бежите. И… звонок над промокшим безмолвием…, звонок, и вот, нет ни листвы, ни голых стволов, ни ЛЭП над просекой, вы на мокрой подушке, и сердце прихватило. И так бывает, прошу прощения, товарищи. А разговор Виталия и, гм…, товарища Алексея, которого вы Панегириком величаете, этот разговор…, да, он мне очень понравился. Сейчас таких разговоров уже не ведут. На звезды не смотрят и внутрь атома не заглядывают, все больше курсом доллара интересуются. В этом мы сегодня сильно проигрываем Советскому Союзу, да-с.
Повисло недолгое молчание. Арсений Игнатьич перевел дух и охотно продолжил:
— Прошу прощения, товарищи, но вам совершенно не следует меня опасаться. Я никому не мешаю.
— А зачем вы нужны, если никому не мешаете, — набычившись, спросил Горыныч.
— О! Вот это интересный вопрос. Видите ли, Алексей Горанович, я только летописец. Способный домысливать, да, но летописец. И нужен, собственно, только себе. Если бы я был чьим-то орудием, тогда, конечно, я бы обязательно кому-нибудь мешал. А так, нет. Но, если Вам нужна какая справка или история, милости прошу, чем смогу, помогу.
— И при этом вы ничего не выдумываете.
— Нет, конечно. Да вот, не угодно ли: Вы с товарищем Алексеем…, то есть, с Панегириком обсуждали «Онегина» и русалок. Даже не обсуждали вовсе, а так, упомянули. Хотите, я расскажу про русалок, и вы с Панегириком проверите, выдумываю я или нет. Хотите?
Горыныч сумрачно смотрел на Арсения Игнатьича. Молчал. Арсений Игнатьич глубоко вздохнул, и занудный его голос окреп.
— Помните, Алексей Горанович, тот коврик на стене… тринадцать лет назад. На нем была выткана розовая русалка на фоне зеленых водорослей. А про русалочьи бои вы от Панегирика уже слышали. И захотелось Вам на эти бои посмотреть…
***
Коврик засветился как экран, стал трехмерным и вобрал в себя всю комнату. Горыныч оказался в небольшой уютной зале с шестью столиками и огромным аквариумом в дальнем конце, где должна находиться эстрада. Собственно, узенькая как карниз, эстрада перед аквариумом была, вернее, это был узкий подиум, но разглядеть его сразу было мудрено, тем более, что аквариум с разноцветной подсветкой сразу же приковывал к себе все внимание. Аквариум был пуст, и Горыныч лениво осмотрел остальную часть залы. Уютная отделка стен и пола, приглушенный матовый свет от витиеватых светильников на стенах, мягкие удобные стулья, по одному за каждым из застеленных нежно-салатовыми скатертями столиков. Неброская роскошь, но ничего лишнего. За каждым столиком восседало по одному мужчине, внешний вид которых не оставлял в них никаких сомнений. Очевидно, они ожидали представления. Негромко переговариваясь, звеня приборами, медленно потягивали напитки. Один из них уже снял пиджак, остальные еще крепились. Горыныча, разумеется, никто их них не заметил. Не замечали они и конферансье, ибо он был не в зале, а в смежной боковой комнате для прислуги. Конферансье корчил недовольные рожи, покрикивал на халдеев, нервно поправлял свою бабочку. То ли что-то не складывалось, то ли это была его обычная самонакачка перед началом вечера. Наконец, он последний раз шикнул направо-налево и, растянув узкие губы в сладенькую улыбочку, как фокусник, внезапно материализовался на подиуме перед аквариумом. Раздались аплодисменты.
«А вот и я, вот и я, дорогие мои! — загнусил конферансье козлиным баритоном. — О-хо-хо! Кого я здесь вижу. Мистер Р…, ах! ах! не будем называть имен, — обратился он к снявшему пиджак, — Я буду звать Вас по-домашнему, мистер-министер, и-хи-хи-хи-хи! О-о-о! Господин генер… что, Вы, что, Вы… просто, по-домашнему, мон женераль. А нет ли среди нас губер… о-хо-хо! — конферансье игриво приложил палец к губам, — ну, конечно, ну, конечно, мы так любим нашего папу, что развлекаемся втайне от него, дабы его не шокировать…» — заливистый смешок конферансье потонул в дружном гоготе участников действа. Конферансье подбоченился и развел руки в стороны: «А теперь, господа, попросим, — он громко хлопнул в ладоши, — несравненная мисс Вау!» «Вау!! Вау!!» — завыло общество. Откуда-то сверху в аквариум нырнула девица в серебристом купальнике и заметалась между прозрачных стенок, играя лучами подсветки, пришедшими тут же в движение. Вой усилился, добавились хлопки в ладоши, впрочем, не очень дружные. Основное звуковое оформление продолжали создавать луженые глотки зрителей. «Несравненная мисс Упсс! — возопил конферансье, и в аквариуме замелькала еще одно русалка. Вой перешел в свист. То ли несравненная мисс Упсс пользовалась меньшим успехом, то ли каждой русалке полагался свой звуковой символ долгожданной встречи. Мисс Упсс выглядела помощнее в плечах, но имела меньший рост. Наконец, публика начала стихать, очевидно, в предвкушении поединка.
А поединок поначалу походил на танец. Энергично работая руками и ногами, русалки извивались друг около друга, то, выныривая на поверхность, то углубляясь до самого дна аквариума. Сил это требовало немало, поскольку дно находилось на уровне пола зрительного зала, а поверхность воды — почти под самым потолком. Но русалки кружились, не уставая, сверкая в лучах подсветки как елочные игрушки. В какой-то момент времени они разошлись к противоположным стенкам аквариума, а вернулись к центру уже с короткими мечами в руках. Бой начался нешуточный, публика пришла в возбуждение, ровный гул то и дело прерывался гортанными выкриками, то от одного столика, то от другого, а мистер-министер даже выбежал один раз на подиум к самому стеклу аквариума. Конферансье, отчаянно жестикулируя, пытался комментировать действо, но его никто не слушал…
***
— Прошу прощения, товарищи, я ничего не напутал?
Горыныч поморщился и снова со скрипом провел боковой поверхностью скальпеля по щеке.
— Помните, что было дальше? А вы, тов… Панегирик, помните?
— Я помню.
— Вот-вот…
***
«Ну-ка, ну-ка, иди сюда», — произнес Горыныч, и пространственная картинка снова свернулась до стены, продолжая жить на экране огромного, но плоского ковра-телевизора. Комната приобрела почти обычный вид, если бы не одно обстоятельство. Посреди комнаты, затравленно озираясь, стоял конферансье.
— Здорово, Панегирик, — проурчал Горыныч.
— Вы?! А как Вы… — залепетал конферансье, пятясь назад.
— Меня зовут Алексей Горанович! И не вздумай звать меня по-домашнему!
— Нет, нет, что Вы…
— Садись. Давно не виделись.
— Да, — конферансье притулился на краешек стула и нервно глянул на экран. Бой продолжался, публика продолжала неистово болеть за своих любимиц.
— Не волнуйся, никто ничего не заметит.
— Надеюсь, — Панегирик взглянул на Горыныча, но тут же отвел взгляд.
— Н-да. В прошлый раз ты был побойчее.
— В прошлый раз я ого-го кем был.
— Вот именно, ого-го! Лошадь да и только.
— Да Вы что…, Алексей Горанович.
В это время несравненная мисс Вау изловчилась и пырнула мечом несравненную мисс Упсс. Красная взвесь, расширяясь и закручиваясь, быстро окутала дуэлянток, расползлась по стеклу аквариума, скрывая движение русалочьих тел так, что и понять, что же происходит там, за стеклом, в толще помутневшей воды, было невозможно. Зрители взревели как во время футбола, когда забивается гол. Горыныч сморщился и махнул рукой. Экран погас и снова превратился в ковер с розовой неподвижной русалкой, русалкой привычной, без грубого металла в руках и стремления заколоть соперницу.
Панегирик вскочил со стула и, хотя Горыныч ничего не сказал, принялся оправдываться:
— Вы, Алексей Горанович, не подумайте ничего такого, кинжалы ненастоящие, при ударе лезвие уходит в рукоятку, а в воду льется краска…
— Я ничего такого и не думаю…
***
— Видите, товарищи, я ничего не придумал, все именно так и было. А после, Алексей Горанович, вы напомнили своему помощнику, кому он обязан своим появлением.
***
— Ты, видимо, забыл, что тебя на самом деле нет. Тебя выдумал сумасшедший чародей, возомнивший, что у каждого дон Кихота должен быть свой Санчо Панса. Ха! Санчо Панса, содержащий на старости лет дом терпимости. С русалками. Буэнос ночес, кабальеро!
— Не дом терпимости. Театр. И не на старости лет. У меня еще все впереди…
— Театр! Без номерков, но с номерами.
Панегирик оглянулся на ковер с русалкой:
— Театр, театр… Просто гостей немного. Кстати, они наверняка потеряли меня…
— Они уже дошли до кондиции, и далее ты им не нужен.
***
— Прошу прощения, товарищи, но вы оба так агрессивно молчите, что мне неловко. Вот Виталий со мной разговаривал охотно. Может, мне вам про него рассказать. Я ведь так понимаю, что история ваша с ним тогда же, тринадцать лет назад началась.
— Я, кажется, догадываюсь, кто вы такой, — угрюмо проговорил Горыныч, поднялся, подошел к столу и бросил скальпель в карандашницу. Вынул оттуда остро отточенный карандаш. Арсений Игнатьич отпрянул в сторону. Горыныч по-мефистофельски заулыбался. — А что, наш покорный слуга, не проявите ли вы инициативу?
Горыныч ткнул карандашом в тонкую пачку бумажных листов, лежащих на столе.
Ну вот, господа, так и бывает: работаете вы, работаете над текстом, и вдруг один герой протыкает лист писчей бумаги, который вы только что вынули из принтера. А потом буковки собираются вокруг карандашного укола, и его лицо проявляется хоть и схематично, но узнаваемо. И на лице этом неудовольствие… и догадка.
— Знаете что, наш покорный слуга, вы слишком передоверились этому Арсению Игнатьичу. Свою работу надо делать самому, аутсорсинг здесь неуместен.
— Господь с вами, Алексей Горанович, какой аутсорсинг! Я понимаю, что ваше дело в повествовании магистральное, но у нас будет много ответвлений и небольших историй, это придает тексту объемность. Проза ведь не стихи, в ней жирок нужен. Не подумайте, что я стихи ругаю, я понимаю, они ваш инструмент, и об этом обстоятельстве, кстати, мы тоже в свое время расскажем, чтобы всем все было понятно…
— Расскажите. Только, пожалуйста, расскажите сами, без Арсения Игнатьича.
— Да чем же он вас так рассердил. Типичный сталкер, проводник по заброшенным зонам наших интересов и судеб, они ведь так сплетены и запутаны, что нам самим иной раз не разобраться. Выдумывать, конечно проще одному, и даже лучше одному, а вот когда приходится описывать реально происходящее, пусть даже происходящее в чьей-нибудь голове…
— Неужели вы, наш уважаемый покорный слуга, не понимаете, что «происходящее в чьей-нибудь голове» не терпит вмешательства других голов, как медный провод не терпит соединения с алюминиевым.
— Ну уж, Алексей Горанович! Разве бытописателю не могут помочь другие свидетели означенного быта? Разве, излагая свои мысли, вы не опираетесь на мысли других? И вообще, что плохого, например, в том, что Арсений Игнатьич вам и Панегирику про Виталия расскажет… Вы ведь уже многое позабыли, тринадцать лет прошло, а Панегирик и вовсе ничего не знает. А вы его послали с Виталием разговаривать. Разговаривать, можно сказать, с листа. И что он наговорил. Вы этим довольны?
— Упрек принимаю. И потому прошу, расскажите про Виталия сами. Тем более, есть чьи-то головы, в которых живет идея, что он ваш сын.
— Это, Алексей Горанович, уже никуда не годится!
— Вы же сами сказали, что, излагая свои мысли, мы опираемся на мысли других…
— Если бы он был мой сын, мы бы с вами были хорошо знакомы, более того, тринадцать лет назад наши гаражи стояли бы по соседству. Или вы забыли, Алексей Горанович, как тогда Виталий, плутая по своему обыкновению по двору, забрел в гаражный массив, где и встретил вас. Вы возились со своей серебристой «десяткой». Он видел вас и раньше, когда вы с его отцом разговаривали, поэтому и подошел без боязни, и громко поздоровался. И случился у вас с ним разговор, и подарили вы ему книжицу, похожую на обычный синий ежедневник. С нее-то все и началось. Неужели ничего этого не помните?
— Помню. И менее всего хочу слышать это от посторонних, вроде товарища Путевого.
— Товарищ Путевой уже отбыл по своим делам. И он-то как раз мог бы рассказать что-то свое. Не лживое, а свое. А зачем вам мой рассказ, тем более, если вы меня считаете отцом Виталия? И Панегирик вам зачем? Тринадцать лет назад вы сами с этой историей справлялись.
— О-хо-хо… А дело все в том, что прямое волшебство помочь никому не может, может только навредить. Усыпить, например, до смерти яблочком наливным. А чтоб разбудить, оживить, королевич Елисей нужен, чтоб сам, своими руками гроб хрустальный расколотил. Королевичу можно помочь, но окольными путями. Пушкин это хорошо понимал. А я тринадцать лет назад — нет.
— Ах, вот как оно у вас получается. Цинично.
— А как еще в двадцать первом веке о волшебстве можно разговаривать? Ощущение чудес давно промотано, на серебристые седаны пущено.
На листе бумаги проявилось несчастное лицо Панегирика.
— Теперь я понимаю, почему я такой недоделанный получился.
— Понимаешь, Панегирик? Вот и молодец. Получались бы такие, как ты, доделанными да молодцами хоть куда, человечество давно достигло бы своей мечты об абсолютном слуге. А после этого оно окончательно улеглось бы на обобщенный диван и уснуло. Поэтому ты, Панегирик, расти теперь и развивайся сам. А помощь твоя понадобится.
Буковки дрогнули, изображение Горыныча поколебалось, но устояло.
— Еще вопрос, наш уважаемый слуга, будет ли в тексте кошка? Искусственные котята-сфинксы не в счет.
— Новое дело. Как же кошка с Бонифацием уживется?
— Запросто. Не будет же Бонифаций бегать за ней со страницы на страницу.
— Появится кошка, потребуется канарейка?
— Нет, только не канарейка. Лучше щегол.
— Ладно, господа, мы уже пошли не туда. По существу сказанного будем считать, что мы прояснили позиции.
— Кх-м…
— Что, Панегирик?
— Мне пока ничего не ясно…
***
…С глубоким вздохом Виталий разгрузил свой ранец, и ежедневник опять, как специально, напомнил ему о себе, оказавшись поверх стопки учебников и тетрадей. Издав утробное рычание, Виталий распахнул синюю книжицу и остолбенел. На первой странице красовались стихи, продекламированные Горынычем в гараже:
«Ох-хо-хо-хохонюшки,
Тяжко жить Афонюшке
На чужой сторонушке,
В РСФСР…»
Стихи были написаны очень красиво, каллиграфическим почерком. Виталий машинально перелистнул страницу ежедневника и уткнулся взглядом в следующий лист. Ну вот, опять Горыныч и его проделки. Лист вызывающе дразнил тремя размашисто и не очень аккуратно написанными строками. Виталий судорожно проморгался, но строки не исчезли:
«На — поле — он
С — нег
Кол — лекция»
«Вот это Горыныч! Ай да Горыныч! Ничего же этого в школе не было». Тем не менее строки были. И не исчезали. Виталий несколько раз провел по ним указательным пальцем, но все осталось по-прежнему. Три слова, одно из которых имя собственное, разбиты на части, и каждая часть тоже слово. Какая-то дурацкая игра. «Похоже на тест по определению IQ, — улыбнулся Виталий, — найдите лишнее слово. На — поле — он, — это понятно. «Он на поле». Кол — лекция — лекция, а за нее «кол». Ха, лучше «двойка». С — нег? «Нега, нега, нега — такое слово есть, а вот множественное число, да еще родительный падеж? Где-то это есть. Ага, у Пушкина». «Неги» были в каком-то стихотворении, но на книжных полках в двух шкафах Виталий отыскал только «Евгения Онегина». «По-моему, и здесь это должно быть». Следуя своей оставшейся с раннего детства привычке, Виталий заглянул сразу в конец маленького томика «Классиков и современников». На 248-ой странице, в самом низу: «Итак, я жил тогда в Одессе…»
Какая еще Одесса? А где Онегин, Ленский, Татьяна? Виталий перевернул несколько страниц:
«Что устрицы? Пришли! О радость!
Летит обжорливая младость
Глотать из раковин морских
Затворниц жирных и живых
Слегка обрызгнутых лимоном».
Виталий радостно хрюкнул и захлопнул книжку. Хотел было поставить на место, но уж больно понравились жирные и живые затворницы. Снова открыл, пролистал пожелтевшие сверху от солнца страницы:
«Спор громче, громче; вдруг Евгений
Хватает длинный нож, и вмиг
Повержен Ленский; страшно тени
Сгустились; нестерпимый крик
Раздался… хижина качнулась…»
Вот те на! Вроде бы все не так было. Ленский с Онегиным стрелялись. А еще… А еще здесь, по-моему, статуя ходила. А впрочем, кто его знает. Виталий снова захлопнул книжку и вернул ее на полку.
«Раз — дался
Качнул — ась», — отозвался ежедневник на шелест переворачиваемых страниц.
***
А наутро весь снег растаял. Чернота двора, смешанная с мертвой желтизной снова обнажилась и стала еще непригляднее, чем до вчерашнего дня. Грязь тяжело оттаяла и снова захватила землю в липкий и отвратительный полон. Столбик термометра поднялся до двух градусов красного цвета, и свежесть спряталась до лучших времен где-то там, на севере, в центре Ледовитого океана, на макушке планеты. А скорее всего, растворилась в воздухе почти бесследно, не найти ее теперь, пока снова на голые ветки инеем не осядет, холодный ветер не оседлает. Не то что идти по улице, глядеть на нее сегодня не хочется.
Виталий флегматично брел по двору, опустив голову и плавно жестикулируя руками. Сегодня три урока, а потом весь класс идет в музей. Весь класс идет, а Виталий нет. Есть дела и поважнее. Книжица горынычева надежно спрятана дома. Мало ли чего! Чудесное утро, конечно, не может закончиться плохо, а вот сегодняшнее — запросто. Бр-р. Так что, после школы — сразу домой. Собраться духом и провести научный эксперимент.
Но как отказать себе в удовольствии поразмышлять обо всем заранее. «Что же мы имеем, — смакуя, подытоживал Виталий, сидя на химии, — первая запись (стихи про Афонюшку) появилась не тогда, когда ее Горыныч декламировал, потому что книжицу он мне дал пустую. И в школе ничего не было. Запись появилась позже. Когда, неизвестно, я ее увидел уже дома. Точно так же, как и первые слова вразбивку. С этими словами не все ясно, ведь в школе я страниц не переворачивал. Но у гаража ничего не было, это точно. А сегодня утром — еще два слова, причем из Пушкина. Из того места, которое я читал вечером. Как там? «Где устрицы? Пришли! Вот радость… Летит обжорливая младость… Глотать их жирных и живых… Слегка обрызнутых лимоном…» Потом про хижину. И про Онегина с ножом. Не так уж и много слов, которые можно разбить на два-три слога, чтоб они тоже были словами. Да и то, что удалось разделить в тех отрывках — не ахти! «Дался», «раз.» Дурацкая «ась» вдобавок… Это называется, вопрос глухой старухи… И зачем нужны такие разделения. Что мне Горыныч хочет впарить? Это ведь не тест… Разделил — собрал. То одни слова, то другие… Вон, как реакция Белоусова-Жаботинского, то синий цвет, то красный в колбе с мешалкой. То синий, то красный. Химические часы, как никак. А может быть, часы? В них дело. Но при чем здесь часы? Качнулась… Раздался… Качнулся маятник. Раздался бой курантов… Вон как хорошо получилось. Раз — и на поле он. Ась?.. Вот тебе и «ась.» Раз — и за лекцию кол… Жирный кол в журнал. Раз — и выпал снег. Выпал, а потом растаял. Чепуха какая-то. А про куранты хорошо получилось:
Качнулся маятник. Раздался бой курантов
Две стрелки ввысь направили концы
«Нет, со стрелками что-то не то».
Две стрелки ввысь…
Две стрелки вверх…
«Ввысь, вверх, ввысь, вверх… нет».
Две стрелки…
«Дались эти две стрелки. А что? Две, так две. Сколько их еще может быть. Нет же секундных стрелок на башенных часах. Минутная и часовая, но зато здоровые, как пики».
И пики стрелок… целят в небосвод
«Небосвод…, а может, облака?»
И пики стрелок целят в облака
«Пусть пока и так, и так будет».
На площади… на площади… курсантов
…бантов
…гарантов
На площади строй… курсантов
На площади строй выбритых курсантов
«Выбритых, ха-ха. Ну ты, Виталик, совсем уже».
На площади… строй молодых курсантов
«Вот, вот, „молодых“. Только к чему здесь курсанты? Диктанты, вот что нужно. Точно, диктанты».
Качнулся маятник. Раздался бой курантов.
И пики стрелок целят в облака.
А я пишу скучнейшие диктанты
«Облака, облака… Ездока… Пока… Издалека!»
И лета не видать издалека.
«Нет, не лета».
Качнулся маятник. Раздался бой курантов.
И пики стрелок целят в облака.
А я пишу скучнейшие диктанты.
Свободы не видать издалека…
— Так, — прогудел над ухом сочный бас химика. — Встань.
Виталий поспешно вскочил, кровь предательски бросилась прочь от лица. Виталий исподлобья осторожно взглянул на учителя. Взгляд застрял на лацкане темно-желтого пиджака и красивой кремовой ручке, торчащей из нагрудного кармана. Высок, очень высок химик. Прям осанкою и, в то же время, чуть-чуть неуклюж. «Карандаш», — говорят одни. «Виталий Юрич», — отвечают им другие. «Меркурий», — назвал его однажды Виталий. Одноклассники пожимали плечами, кое-кто крутил пальцем у виска. Ну, если «туп, как дерево», что же сделаешь. А Виталий седину имел в виду. Ее обычно сравнивают с серебром, а Виталий сравнил со ртутью. Подвижна и тяжела.
— Так, — гудит спокойный голос. — Только Виталий способен писать стихи на химии. А за контрольную у тебя что? «Четыре»? Вот видишь, а могло быть «пять». Теперь, будет «три».
Гудит бас Виталия Юрича, но недовольства почему-то не выражает.
Что химия! Алгебра гораздо хуже. Особенно, когда их две подряд. Вероника Аркадьевна напориста, как стихийное бедствие: «Думайте, господа, думайте. Через три года вам единый экзамен сдавать. А там московские ребусники такого насочиняют и так сформулируют, что вы целый час только с условиями разбираться будете. Все, вперед! Решаем! Точка!» Вероника Точка-Тире. Тоже Виталий придумал. И с этим прозвищем, пожалуй, все согласны.
***
Через год Вероника исчезнет. Она поедет в Чечню разыскивать пропавшего там младшего сына и не вернется. Спустя еще полгода, ее старший сын продаст квартиру и переберется в Канаду. Предприимчивые покупатели скупят весь первый этаж ее дома и займут его под магазин импортного спортинвентаря. Виталий впервые ощутит, что на этой земле от человека действительно может не остаться ничего.
***
Ноябрьская улица. Грязный асфальт с бурыми ошметьями некогда желтых листьев, набухшая сыростью мускулатура голых тополей, низкое горькое небо и придавленное его тяжестью настроение. Черно-белые документальные кадры поздней осени.
Виталий, шаркая рифлеными подошвами и время от времени хлюпая носом, медленно удаляется с троллейбусной остановки. Ему все хочется ощутить радостное предвкушение встречи с книжицей, но… не получается. Конечно, мешает погода. Конечно, неприятно сосет под ложечкой — пришлось уклониться от похода в музей, попросту сбежать, а это было не так легко, как казалось утром. Но есть и еще что-то. Может, Горыныча попытаться разыскать? Эту мысль Виталий отогнал сразу. Почему-то она ему не понравилась и не понравилась решительно. «001 Душа», — прочитал на столбе Виталий и удивился. Не то чтобы он не знал, о чем речь, но «душа» была здесь особенно не к месту. «Ну, душа моя, собирай свои манатки и улепетывай, — вспомнился старый анекдот. — Обосновал, но препохабно». В подъезде Виталий долго возился с почтовым ящиком и сумел-таки, не открывая, вытащить из него еженедельную бесплатную газету с программой телевидения и рекламными объявлениями. Вытащил, свернул трубочкой и бросил на подоконник. Газета жалобно шелестнула, слегка распрямилась и застыла в обиженном ожидании. Виталий устыдился и снова взял ее в руки. Газета отблагодарила забавной рекламой: «ИЧП „Топтыгин“. Кожаная обувь. В нашей обуви вы устоите даже на узком и скользком мостике».
К своему письменному столу Виталий подходил осторожно. Вдруг подумалось, что сначала надо аккуратно повесить на плечики брошенный кое-как школьный костюм. Когда костюм занял свое место в шкафу, Виталию захотелось пить. Потом он с сожалением взглянул на выключенный компьютер и на журнальный столик с парочкой «Mega Game». Сел на диван. Встал и прошелся по комнате. Снова подошел к столу. С силой потер ладони одну об другую, но противный зуд в них не уменьшился. Резко выдвинул верхний ящик. Там, в глубине под папками и тетрадями, покоился ежедневник. Твердая темно-синяя обложка, как будто немного теплая. Действительно, теплая. Да нет, предрассудки все это. Обычная обложка…
Внутри ничего нового. «Афонюшка». «Наполеон. Снег. Коллекция». «Раздался. Качнулся». Пустые листы. Виталий ухмыльнулся и положил ежедневник на стол. Что ж, возьмемся за Пушкина. Виталий раскрыл заветный томик:
«И что же видит?.. за столом
Сидят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый,
Там Карла с хвостиком, а вот
Полужуравль и полукот…»
Перевел взгляд на раскрытый ежедневник. Пусто. Пусто и тоскливо. Не жди ничего неожиданного и не будешь тосковать о несбывшемся. И зашла в голову расчудесная банальность: «А кто тебе сказал, что только тебе писать будут? Может, ты писать должен». Эх, Пушкин, помоги!
***
— И как, помог?
— Алексей Горанович, Панегирик ваш как-то все в прямом смысле воспринимает.
— Да, это у него есть.
***
…Все надписи исчезли. Виталий ошалело смотрел на ставший снова чистым лист. Мысли бросились врассыпную, раздирая голову на части. Нет, это никуда не годится. Столько переживаний, и так сразу. Виталий сжал виски ладонями и с размаху уселся на диван. Голова уже раскалывалась по-черному. Осторожно, не делая резких движений, лег и свернулся калачиком. Тяжелая давящая боль собралась в затылке и толчками пыталась вырваться наружу. Ну, давай, давай, выходи, растворяйся в воздухе. Постепенно ей это удавалось, пульсация становилась все реже и мягче. Но зато начал одолевать холод. Укрыться бы каким-нибудь одеялом или пледом. О, плед — это просто сказка. На худой конец, и тонкое диванное покрывало сойдет. Виталий поерзал, комкая и выдавливая его из-под себя. Вот теперь им укрыться, желтеньким, родным. Хорошо…
Согрелся. От бега согреваешься быстро. Даже если это и не бег вовсе, а мельтешение туда-сюда по тесному спортзалу. Оно, конечно, спортзал просторный, но и народу в нем дай Боже! Две команды по пять человек, и по одному на противоположных «калитках». По стеночкам — зрители, а среди них мама с папой. Уж перед ними оскандалиться никак нельзя. Вот Виталий и носится, как уколотый, спортивной злостью пышет на этих… в черных трусах и синих майках с белой смазливой надписью «Renards». Лисы — «вэшки», извечные противники во всем, и в школьном футболе тоже. Они, говорят, специально себе одинаковые майки с надписью заказывали… И играют, черти, хорошо. Виталий никак не может у них мяч отобрать. Вроде бы вот он, уже рядом, а нога все равно только воздух пинает. И, конечно же, все смеются. И мама с папой… Нет, они не могут смеяться. Папа только что-то недовольно под нос бурчит. А Виталий, как ни старается, а все будто на одном месте елозит, ворота лисов жуть, как далеко, даже не в конце спортзала, а гораздо дальше, что же это за чертовщина? Виталий ведь точно знает, что он забьет в этом матче. Матч уже сыгран, он его видел, сам видел, и голов лисам наколотили, почему же сейчас все не так? Виталий отчаянно, сжав кулаки, бросается на владеющего мячом синемаечника, тот в страхе отскакивает в сторону, и вот оно! Сейчас… Но мяч уже медленно, издевательски катится куда-то в сторону, Виталию бы за ним, но застыл Виталий, очень неловко застыл — еще шаг, и шлепнется на пол. А-а-а, чер-р-рт! Левой ногой Виталий загребает мяч, выковыривает его из-под себя, балансирует на одной ноге, отчаянно пытается хоть как-то уравновеситься, судорожным движением левой ноги, подцепляет мяч в сторону лисьих ворот и, не удержавшись, приземляется на пятую точку. Но никто не смеется. Мяч медленно, подрагивая в полете, перелетает синие майки (где, кстати, партнеры, их вообще не видно), точнехонько направляется в объятия вратаря. Тот уже и руки растопырил и улыбается, скаля желтые зубы, а мяч неожиданно резко ныряет вниз и, задев штангу, юлой ввинчивается в нижний угол. Есть! Банка! Олимпийская! Виталий рывком вскакивает и прыгает…
— Виталик, ты что, заболел?! — встревоженное мамино лицо склоняется над приходящим в себя юным футболистом.
Почему заболел? Ничего не заболел. Зябко только как-то. Мамины глаза напряженно прыгают вправо-влево, что-то отыскивая на виталином лице. Мама всегда беспокойна и очень деятельна, если дело касается ее Виталия. Даже тетя Зина (врач) однажды, когда Виталий долго болел, так долго, что всем его болезнь страсть как надоела, сказала папе с хитрой улыбкой: «Не беспокойся, Зоя вылечит, твоя Зоя точно вылечит». Виталий сам это слышал, хотя слышать ему и не полагалось. Так что мама вылечит, вот сейчас и начнет лечить. Ну, уж дудки. Ее надо срочно отвлечь.
— Да не заболел я, нет. Мам, а что это за игра такая — слова разделяются на части, и каждая часть — тоже слово?
Теперь мама с удивлением смотрит на Виталия:
— Шарада… «Виноград — вино-град». Ну да, шарада. Вы в словесные игры в классе играете?
— Так, потихоньку. А какие игры со словами еще есть?
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.