
Бесплатный фрагмент - Осёл во львиной шкуре
Ф. Энсти. (Томас Гатри Энсти)
Осёл во львиной шкуре

The Giant’s Robe
by Thomas Anstey
Говорят, что «книги имеют свою судьбу». В этом романе книга не только вмешалась в судьбу молодого человека, но и круто переменила её, вознесла его на Олимп литературной славы, послужила ему пропуском в высший свет и обеспечила ему руку и сердце прекрасной девушки, а затем низвергла его на самое дно позора и унижений, уничтожила его морально и поставила на грань гибели… И всё это безо всякой мистики — просто книга поделилась с ним своей судьбой.
© Леонид Моргун. Литобработка, примечания. 2018.
Ф. Энсти. ПАНЦИРЬ ВЕЛИКАНА
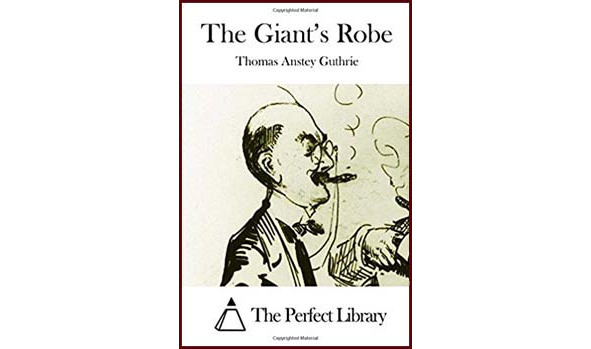
— «Теперь он чувствует, что царский сан
висит на нем, как панцирь великана,
надетый карликом».
Макбет.
The Giant’s Robe
by Thomas Anstey
Глава I. Заступник
В самом центре Сити, но отделённая от торгового шума и суеты кольцом лавок и под сенью закопчённой классической церкви, находится — или, вернее сказать, находилась, так как её недавно перевели большая школа св. Петра.
Входя в массивные старые ворота, к которым с двух сторон теснятся лавки, вы попадали в атмосферу схоластической тишины, царствующей в большинстве училищ во время классов, когда с трудом верится, — до того безмолвие велико, — что внутри здания собрано несколько сот мальчиков.
Даже поднимаясь по лестнице, ведущей в школу и проходя мимо классов, вы могли слышать только слабое жужжание, долетавшее до вас сквозь многочисленные двери, — пока, наконец швейцар в красной ливрее не выйдет из своей коморки и не позвонит в большой колокол, возвещавший, что дневной труд окончен.
Тогда нервные люди, случайно попавшие в длинный тёмный коридор, по обеим сторонам которого шли классы, испытывали очень неприятное ощущение: им казалось, что какой-то разнузданный демон вырвался внезапно на волю. Взрыву обыкновенно предшествовал глухой ропот и шелест, длившийся несколько минут после того, как замолкнет звук колокола, — затем дверь за дверью раскрывались и толпы мальчишек с дикими и радостными воплями вылетали из классов и опрометью бежали по лестнице.
После того, в продолжение получаса, школа представляла собой вавилонское столпотворение: крики, свистки, народные песни, драки и потасовки, и непрерывный топот ног. Всё это длилось не очень долго, но затихало постепенно: сначала песни и свистки становились все слабее и слабее, все одиночнее и явственнее, топот ног и перекликающиеся голоса мало-помалу замирали, суматоха прекращалась и робкое безмолвие водворялось снова, прерываемое лишь торопливыми шагами провинившихся школьников, отправлявшихся в карцер, медленной поступью расходившихся учителей и щётками старых служанок, подметавших пол.
Как раз такую сцену застаём мы в тот момент, как начинается наша история. Толпа мальчишек с блестящими, чёрными ранцами высыпала из ворот и смешалась с большим людским потоком.
В центре главного коридора, о котором я уже упоминал, находилась «Терция», большая, квадратная комната с грязными, оштукатуренными и выкрашенными светлой краской стенами, высокими окнами и небольшим, закапанным чернилами, письменным столом, окружённым с трёх сторон рядами школьных столов и лавок. Вдоль стен шли чёрные доски исписанные цифрами, и в углу стояла большая четырехугольная печь.
Единственное лицо, находившееся теперь в этой комнате, был Марк Ашбёрн, классный наставник, да и он готовился оставить её, так как от спёртого воздуха и постоянного напряжения, с каким он удерживал весь день порядок в классе, у него разболелась голова. Он хотел, прежде чем идти домой, просмотреть для развлечения какой-нибудь журнал или поболтать в учительской комнате.
Марк Ашбёрн был молодой человек, — моложе его, кажется, и не было среди учителей, — и решительно самый из них красивый. Он был высок и строен, с чёрными волосами и красноречивыми тёмными глазами, имевшими способность выражать гораздо больше того, что он чувствовал. Вот, например, в настоящую минуту, сентиментальный наблюдатель непременно прочитал бы во взгляде, каким он окинул опустевшую комнату, страстный протест души, сознающей свою гениальность, против жестокой судьбы, закинувшей его сюда, тогда как на самом деле он только соображал, чья это шляпа осталась на вешалке у противоположной стены.
Но если Марк не был гением, то в его манерах было что-то обольстительное, какая-то приятная самоуверенность, тем более похвальная, что до сих пор его очень мало поощряли в этом смысле.
Он одевался хорошо, что производило известное действие на его класс, так как школьники склонны критиковать небрежность в костюме своего начальства, хотя сами и не слишком заботятся о том, как одеты. Они считали его «страшным щёголем», хотя он и не особенно щегольски одевался, а только любил, возвращаясь домой по Пикадилли, иметь вид человека, только что расставшегося с своим клубом и ничем особенно не занятым.
Он не был непопулярен между школьниками: ему было до них столько же дела, сколько до прошлогоднего снега, но ему нравилась популярность, а благодаря своему беспечному добродушию, он без всякого усилия достигал её. Школьники уважали также его знания и толковали о нем между собой, как о человеке, «у которого башка не сеном набита», так как Марк умел при случае щегольнуть учёностью, производившей сильное впечатление. В этих случаях он уклонялся от своего предмета и по всей вероятности знал, что его учёность не выдержит слишком серьёзной критики, но ведь зато и некому было серьёзно критиковать его.
Любопытство, возбуждённое в нем шляпой и пальто, висевшими на вешалке в то время, как он сидел за своим пюпитром, было удовлетворено: дверь, верхняя половина которой была стеклянная и защищена переплётом из толстой проволоки, — предосторожность, конечно, не лишняя в данном случае, — отворилась и показался маленький мальчик, бледный и расстроенный, держа в руке длинную полосу синего картона.
— Эге! Лангтон, — сказал Марк, завидев его: — так это вы не ушли домой? В чем дело?
— Ах, сэр! — начал жалобно мальчик: — я попал в ужасную беду.
— Очень жаль, — заметил Марк: — в чем же дело?
— Да я вовсе и не виноват, — отвечал тот. — Дело было вот как. Я шёл по коридору, как раз против дверей старого Джемми… т.-е. я хочу сказать м-ра Шельфорда, а дверь-то стояла раскрытой. А возле как раз стоял один ученик; он гораздо старше и сильнее меня; он схватил меня за шиворот, втолкнул в комнату и запер дверь на ключ. А потом пришёл м-р Шельфорд, выдрал меня за уши и сказал, что я это делаю уже не в первый раз и что за это меня посадят в карцер. И вот дал мне это и велел идти к директору за подписью.
И мальчик протянул билет, на котором было написано дрожащим почерком старика Шельфорда:
«Лангтон. 100 линеек за непростительную дерзость. Ж. Шельфорд».
— Если я отнесу это наверх, сэр, — продолжал мальчик, дрожащими губами, — мне наверняка достанется.
— Боюсь, что да, — согласился Марк: — но все же вам лучше поторопиться, потому что иначе они запрут карцер и тогда вас накажут ещё строже.
Марку в сущности было жаль мальчика, хотя, как мы уже сказали, он не очень любил школьников; но этот в частности, круглолицый, тоненький мальчик, с честным взглядом и некоторой деликатностью в голосе и манерах, заставлявших думать, что у него есть мать или сестра, благовоспитанная женщина, был менее антипатичен Марку, нежели его сотоварищи. Но всё же он не настолько сочувствовал мальчугану, чтобы догадаться, чего тому от него нужно.
Юный Лангтон повернулся-было, чтобы уходить, с унылым видом, затем вдруг вернулся назад и сказал:
— Пожалуйста, сэр, заступитесь за меня. Я бы перенёс наказание, если бы в чём провинился. Но я ни в чём не виноват, а потому мне обидно.
— Что же я могу сделать? — спросил Марк.
— Замолвите за меня словечко м-ру Шельфорду. Он вас послушает и простит меня.
— Он, вероятно, уже ушёл, — возразил Марк.
— Вы ещё застанете его, если поторопитесь, — настаивал мальчик.
Марк был польщён этим доверием к его красноречию: ему также нравилась мысль разыграть роль защитника своего класса, а добродушие, присущее ему, тоже побуждало его согласиться на просьбу мальчика.
— Хорошо, Лангтон, я попытаюсь. Сомневаюсь, чтобы из этого что-нибудь вышло, но… вот что, вы молчите и держитесь в стороне… предоставьте мне действовать.
Они вышли в длинный коридор с оштукатуренными стенами, целым рядом дверей по обеим сторонам и с тёмным сводчатым потолком.
Марк остановился перед дверью, ведущей в класс м-ра Шельфорда и вошёл. М-р Шельфорд, очевидно, готовился уходить, так как на голове у него была надета большая широкополая шляпа, сдвинутая на затылок, а вокруг шеи он завёртывал платок; но он вежливо снял шляпу, увидев Марка. То был маленький старичок с большим горбатым носом, красным как кирпич, морщинистыми щеками, большим ртом с тонкими губами, и маленькими, острыми серыми глазками, которыми он поглядывал искоса, точно рассерженный попугай.
Лангтон отошёл к одному из отдалённых столов и сел, тревожно ожидая решения своей участи.
— В чем дело, Ашбёрн? — спросил достопочтенный Джемс Шельфорд, — чем могу служить вам?
— Вот что, — начал Марк, — я…
— Что, что такое? — перебил старший учитель. — Погодите… опять тут вертится этот дерзкий мальчишка! Я думал, что уже разделался с ним. Слушайте-ка, сэр, ведь я отправил вас в директору на расправу?
— Точно так, сэр, — отвечал Лангтон необыкновенно почтительно.
— Ну, так каким же образом вы тут, сэр, а не на расправе? извольте отвечать мне, каким образом вы ещё не наказаны, как бы следовало?
— Вот что, — вступился Марк, — он один из моих учеников…
— Мне всё равно, чей он ученик, — сердито перебил тот: — он дерзкий мальчишка, сэр!
— Не думаю.
— Знаете ли, что он сделал? Вбежал с криком и гиканьем в мою комнату, точно это его детская. И он постоянно так делает.
— Я никогда этого не делал раньше, — протестовал Лангтон, — и в этот раз это случилось не по моей вине.
— Не по вашей вине! Разве у вас пляска св. Витта? Не слыхал, чтобы здесь водились тарантулы. Отчего вы не врываетесь в комнату директора? вот он даст вам урок танцев! — ворчал старый джентльмен, усевшись на место и напоминая собой Понча.
— Нет, но выслушайте меня, — вмешался Марк, — уверяю вас, что этот мальчик…
— Знаю, что вы мне скажете, что он образцовый ученик, конечно! Удивительно, какая пропасть образцовых учеников врываются во мне по каким-то непреодолимым побуждениям после классов. Я хочу положить этому конец, благо один из них попался. Вы их не знаете так, как я, сэр; они все нахалы и лгуны, только одни умнее других, вот и все.
— Боюсь, что вы правы, — заметил Марк, которому не хотелось, чтобы его считали неопытным.
— Да, жестокая вещь иметь дело с мальчишками, сэр, жестокая и неблагодарная. Если мне случится когда-нибудь поощрять мальчика в моем классе, который, по моему мнению, старателен и прилежен, то, как вы думаете, чем он отблагодарит меня? Сейчас же сыграет со мной какую-нибудь скверную штуку, только затем, чтобы доказать другим, что он ко мне не подлаживается. И тогда все они принимаются оскорблять меня… да что, этот самый мальчик сколько раз кричал мне сквозь замочную скважину: «Улитка».
— Я думаю, что вы ошибаетесь, — успокаивал Марк.
— Вы думаете? Хорошо, я спрошу у него самого. Слушайте: сколько раз вы кричали мне «Улитка», или другие ругательные эпитеты, сквозь дверь, сэр?
И он наклонил ухо, чтобы выслушать ответ, не спуская глаз с мальчика.
— Я никогда не кричал «Улитка», только один раз я закричал «Креветка». Это было уж очень давно.
Марк мысленно пожал плечами, не без презрения в такой несвоевременной откровенности.
— Ого! — произнёс м-р Шельфорд, беря мальчика потихоньку за ухо. — Креветка? эге! Креветка, слышите вы это, Ашбёрн? Быть может, вы будете так добры, объясните мне, почему вы зовёте меня «Креветкой»?
Для человека, который видел его красное лицо и вытаращенные глаза, причина была ясна, но, должно быть, Лангтон сообразил, что для откровенности есть границы и что на этот вопрос нельзя ответить, не подумавши.
— Потому что… потому что другие вас так называли, — отвечал он.
— Ах! а почему же другие меня называют «Креветкой»?
— Они мне не объясняли этого, — дипломатически заявил мальчик.
М-р Шельфорд выпустил ухо мальчика, и тот благоразумно удалился на прежнее место, подальше от учителей.
— Да, Ашбёрн, — жаловался старый Джемми, — вот как они меня величают, все как один человек: «Креветкой», да «Улиткой». Они кричат мне это вслед, когда я ухожу домой. И это я терплю уже тридцать лет.
— Негодяи мальчишки! — отвечал Марк, как будто бы эти прозвища были для него новостью и все учителя о них ничего не знали.
— Да, да; на днях, когда дежурный отпер мою кафедру, там оказался большой, нахальный котёнок, пяливший на меня свои глаза. Должно быть, он сам себя запер туда, чтобы досадить мне.
Он не сказал, что послал купить молока для незваного гостя и держал его на коленях в продолжение всего урока, после чего ласково выпустил на свободу! А между тем, дело было именно так, потому что несмотря на долгие годы, проведённые им среди мальчишек, сердце его не совсем очерствело, хотя этому мало кто верил.
— Да, сэр, эта жизнь тяжёлая! тяжёлая жизнь, сэр! — продолжал он спокойнее. — Слушать долгие годы кряду, как полчища мальчишек все спотыкаются на одних и тех же местах и перевирают одни и те же фразы. Мне уже это начинает сильно надоедать; а я ведь теперь уже старик. «Occidit miseros crambe» … вы помните как дальше?
— Да, да, совершенно верно… — отвечал Марк, хотя он и не помнил откуда и что это за цитата.
— Кстати о стихах, — продолжал старик, — я слышал, что нынешний год мы будем иметь удовольствие познакомиться с одним из ваших произведений на вечере спичей. Верно это?
— Я не слыхал, что это дело слажено, — отвечал Марк, краснея от удовольствия. — Я написал маленькую вещицу, так, род аллегорической святочной пьесы, знаете… masque… как их называют, и представил директору и комитету спичей, но до сих пор ещё не получал определённого ответа.
— О! быть может, я слишком поторопился, — заметил м-р Шельфорд: — быть может, я слишком поторопился.
— Пожалуйста, сообщите мне, что вы об этом слышали? — спросил Марк, сильно заинтересованный.
— Я слышал, что об этом рассуждали сегодня за завтраком. Вас, кажется, не было в комнате, но, полагаю, что они должны были решить этот вопрос сегодня после полудня.
— О, тогда, быть может, он уже решён, — сказал Марк: — быть может, я найду записку на своём столе. Извините… я… я пойду, погляжу.
И он поспешно вышел из комнаты, совсем позабыв о цели своего прихода; его занимало в настоящую минуту нечто поважнее вопроса, будет или нет наказан мальчик, вина которого находится под сомнением, и ему хотелось поскорее узнать о результате.
Марк всегда желал как-нибудь прославиться и в последние годы ему показалось, что литературная слава всего для него доступнее. Он уже делал многие честолюбивые попытки в этом роде, но даже те лавры, какие ему могло доставить исполнение его пьесы мальчиками-актёрами на святках, казались желанными. И хотя он написал и представил комитету свою пьесу довольно самоуверенно и беззаботно, но по мере того как решительная минута приближалась, он делался всё тревожнее.
То были пустяки, конечно, но все же они могли возвысить его во мнении учителей и директора, а Марк нигде не любил быть нулём. Поэтому неудивительно, если просьба Лангтона улетучилась из его памяти, когда он спешил обратно в классную комнату, оставив несчастного мальчика в лапах его мучителя.
Старик снова надел широкополую шляпу, когда Марк вышел из комнаты, и уставился на своего пленника.
— Ну-с, если не желаете, чтобы вас здесь заперли на всю ночь, то лучше уходите, — заметил он.
— В карцер, сэр? — пролепетал мальчик.
— Вы, полагаю, знаете дорогу? Если же нет, то я могу вам её показать, — вежливо произнёс старый джентльмен.
— Но право же, — молил Лангтон, — я ничего не сделал. Меня втолкнули.
— Кто втолкнул вас? Ну-с, довольно, я вижу, что вы собираетесь лгать. Кто вас втолкнул?
Было весьма вероятно, что Лангтон готовился солгать, — кодекс его понятий дозволял это, — но что-то ему, однако, помешало.
— Я знаю этого мальчика только по имени, — сказал он наконец.
— Прекрасно; как его зовут по имени? Я его пошлю в карцер вместо вас.
— Я не могу вам этого сказать, — прошептал мальчик.
— А почему, нахал вы эдакий? — вы ведь только что сказали, что знаете.
— Потому что это было бы неблагородно, — смело ответил Лангтон.
— Ага, неблагородно? — повторил старый Джемми. — Неблагородно, как же! Так, так, я стар становлюсь и совсем забыл про это. Может быть, вы и правы. А оскорблять старика, это благородно по-вашему? Итак, почему вы хотите, чтобы я вас освободил от наказания?
— Да, потому что я не виноват.
— А если я это сделаю, то вы завтра влетите сюда, крича мне «Улитка»… нет, я забыл, «Креветка» — это, кажется, ваше любимое прозвище?
— Нет, я этого не сделаю, — отвечал мальчик.
— Ладно, поверю вам на слово, хоть и не уверен, что вы того стоите.
И он разорвал роковую бумажку.
— Бегите домой пить чай и не надоедайте мне больше.
Лангтон убежал, не веря своему счастью, а старый м-р Шельфорд запер стол, взял большой дождевой зонтик с крючковатой ручкой, который получил странное сходство с своим хозяином, и ушёл.
— Вот милый мальчик, — бормотал он, — не лгун, кажется? Но, впрочем, кто знает: он, может быть, всё время водил меня за нос. Он способен, пожалуй, рассказать другим, как он перехитрил «старого Джемми». Но отчего-то мне кажется, что он этого не сделает. Мне кажется, что при моем-то опыте я могу отличить лгуна.
Тем временем Марк вернулся в свой класс. Один из привратников догнал его и подал записку, которую он поспешно распечатал, но увы! разочаровался. Записка была не от комитета, а от его знакомого Голройда.
«Любезный Ашбёрн, — стояло в записке, — не забудьте своего обещания заглянуть ко мне, возвращаясь домой. Вы знаете, это ведь будет наше последнее свидание, а у меня есть до вас просьба, которую я выскажу, прежде чем уехать. Я дома до пяти часов, так как буду укладываться».
«Я сейчас отправлюсь к нему, подумал Марк, надо проститься с ним, а возвращаться для этого нарочно после обеда слишком скучно».
Пока он читал записку, мимо него пробежал юный Лангтон, держа в руках ранец и с весёлым и благодарным лицом.
— Извините, сэр, — сказал он, кланяясь, — ужасно вам благодарен за то, что заступились за меня перед м-ром Шельфордом: если бы не вы, он ни за что не простил бы меня.
— Ага! — проговорил Марк, вдруг вспоминая о своей милосердной миссии: — конечно, конечно. Так он, простил вас? Ну, очень рад, очень рад, что мог быть вам полезен, Лангтон. Нелегко было отделаться, не так ли? Ну, прощайте, бегите домой и потвёрже выучите своего Непота, чтобы лучше, чем сегодня, ответить мне урок завтра.
Марк, как мы видели, был не особенно жарким адвокатом мальчика, но так как Лангтон, очевидно, думал противное, то Марк был последним человеком, который бы стал выводить его из заблуждения. Благодарность всегда приятна, хотя бы была и не совсем заслуженная.
«Клянусь Юпитером, — сказал он сам себе не то пристыжённый, не то рассмешённый: — я совсем позабыл про этого мальчишку, бросил его на произвол стараго рака. Но конец венчает дело!»
В то время как он стоял у решётки подъезда, мимо медленно прошёл сам мистер «Креветка», с согнутой спиной и безжизненными глазами, рассеянно устремлёнными в пространство. Быть может, он думал в эту минуту, что жизнь могла бы быть для него веселее, если бы его жена Мэри была жива и у него были сынки в роде Лангтона, которые встречали бы его после утомительного дня, тогда как теперь он должен возвращаться в одинокий, мрачный домик, который он занимал в качестве члена капитула ветхой церкви, находившейся рядом.
Но каковы бы ни были его мысли, а он был слишком ими поглощён, чтобы заметить Марка, проводившего его глазами в то время, как он медленно спускался с каменных ступенек, ведущих на мостовую.
«Неужели и я буду похож со временем на него? — подумал Марк. Если я пробуду здесь всю свою жизнь, то чего доброго и сам стану таким же. Ах! вот идёт Джильбертсон… я от него узнаю что-нибудь на счёт моей пьесы».
Джильбертсон тоже был учителем и членом комитета, распоряжающегося святочными увеселениями. Он был нервным, суетливым человеком и поздоровался с Марком с явным смущением.
— Ну что, Джильбертбон, — произнёс Марк как можно развязнее, — ваша программа уже готова?
— Гм… да, почти готова… из… то есть, не совсем ещё.
— А что же моё маленькое произведение?
— Ах, да! конечно, ваше маленькое произведение. Нам оно всем очень понравилось, да… очень понравилось… в особенности директор был от него в восторге, уверяю вас, мой дорогой Ашбёрн, просто в восторге.
— Очень рад это слышать, — отвечал Марк с внезапной тревогой, — так как же… вы, значит, решили принять мою пьесу?
— Видите ли, — уставился Джильбертсон в мостовую, — дело в том, что директор подумал, и многие из нас тоже подумали, что пьеса, которую будут разыгрывать мальчики, должна быть более… как бы это сказать?.. не так, как бы это выразить… более, как бы натуральна, знаете… но вы понимаете, что я хочу сказать, не правда ли?
— Несомненно, что тогда это была бы капитальная пьеса, — отвечал Марк, стараясь подавить досаду, — но я легко мог бы изменить это, Джильбертсон, если хотите.
— Нет, нет, — перебил тот поспешно, — не делайте этого, вы её испортите; нам это было бы очень неприятно и… кроме того, нам не хотелось бы понапрасну затруднять вас. Потому что директор находит, что ваша пьеса немного длинна и недостаточно легка, знаете, и не вполне отвечает нашим требованиям, но мы все очень восхищались ей.
— Но находите её тем не менее негодной? вы это хотите сказать?
— Как вам сказать… пока ничто ещё не решено. Мы напишем вам письмо… письмо об этом. Прощайте, прощайте! Я спешу к поезду в Людгет-Хилл.
И он торопливо убежал, радуясь, что отделался от злополучного автора, так как вовсе не рассчитывал, что ему придётся лично сообщать о том, что его пьеса отвергнута.
Марк постоял, глядя ему вслед с горьким чувством. Итак, и тут неудача. Он написал такие вещи, какие, по его мнению, должны были прославить его, если только будут обнародованы; и тем не менее оказывается, что его считают недостойным занять святочную публику ученического театра.
Марк уже несколько лет кряду гонялся за литературной известностью, которой многие всю жизнь тщетно добиваются, пока не сойдут в могилу. Даже в Кембридже, куда он перешёл из этой самой школы св. Петра с учёной степенью и надеждами на блестящую карьеру, он часто изменял своим серьёзным занятиям, чтобы участвовать в тех эфемерных студенческих журналах, сатирическое направление которых имеет дар оглушать многих, как поленом.
Некоторое время лёгкие триумфы в этом направлении сделали из него второго Пенденниса среди его товарищей по коллегии; затем звезда его, подобно звезде Пенденниса, закатилась и неудача последовала за неудачей. Его экзамены оказались далеко не блестящими и в конце концов он вынужден был принять третьеразрядное место учителя в той самой школе св. Петра, где учился.
Но эти неудачи только подстрекали его честолюбие. Он ещё покажет свету, что он не дюжинный человек. Время от времени он посылал статьи в лондонские журналы, так что, наконец, его произведения получили некоторое обращение… в рукописном виде, переходя из одной редакции в другую.
Время от времени какая-нибудь из его статей появлялась и в печати, и это поддерживало в нем болезнь, которая в других проходит с течением времени. Он писал себе и писал, излагая на бумаге решительно всё, что приходило ему в голову и придавая своим идеям самую разнообразную литературную форму, от трагедии, писанной белыми стихами, до сонета и от трехтомного романа до небольшого газетного entrefilet, все с одинаковым рвением и удовольствием, и с весьма малым успехом.
Но он непоколебимо верил в себя. Пока он боролся с толстой стеной предубеждения, которую приходится брать приступом каждому новобранцу литературной армии, но нисколько не сомневался в том, что возьмёт её.
Но разочарование, доставленное ему комитетом, больно поразило его, оно показалось ему предвозвестником более крупного несчастья. Однако, Марк был сангвинического темперамента и ему не стоило больших трудов снова забраться на свой пьедестал.
— В сущности, невелика беда, — подумал он. — Если мой новый роман «Трезвон» будет напечатан, то об остальном мне горя мало. Пойду теперь к Голройду.
Глава II. Последняя прогулка
Свернув из Чансери-Лейн под древние ворота, Марк вошёл в одно из тех старинных живописных зданий из красного кирпича, завещанных нам восемнадцатым столетием и дни которых, с их окнами в мелких пыльных переплётах, башенками по углам и другими архитектурными прихотями и неудобствами, уже сочтены. Скоро, скоро резкие очертания их шпилей и труб не будут больше вырезаться на фоне неба. Но найдутся непрактичные люди, которые пожалеют, хотя и не живут в них (а, может быть, и потому самому) об их разрушении.
Газ слепо мигал на винтовой лестнице, помещавшейся в одной из башен дома. Марк проходил мимо дверей, на которых были прибиты имена жильцов, и чёрные, блестящие доски с обозначением пути, пока не остановился перед одной дверью второго этажа, где на грязной дощечке, в числе других имён стояло: «М-р Винсент Голройд».
Если Марка до сих пор преследовала неудача, то и Винсент Голройд не мог похвалиться удачей. Он, конечно, больше отличился в коллегии, но получив степень и поступив в ряды адвокатов, три года провёл в вынужденном бездействии, и хотя это обстоятельство вовсе не беспримерно в подобной карьере, но здесь оно сопровождалось неприятной вероятностью на его продолжительность. Сухая сдержанная манера, происходившая от скрытой застенчивости, мешала Голройду сближаться с людьми, которые могли быть ему полезны, и хотя он сознавал это, но не мог победить себя. Он был одинокий человек и полюбил, наконец, одиночество. Из тех интересных качеств, которые, по общему мнению, считаются необходимыми для адвоката, он не располагал ни одним, и будучи от природы даровитее многих других, решительно не находил случая проявить своя дарования. Поэтому, когда ему пришлось расстаться с Англией на неопределённое время, он мог без сожаления бросить свою карьеру, обставленную далеко не блестящим образом.
Марк нашёл его укладывающим небольшую библиотеку и другие пожитки в тесной, меблированной комнате, которую он снимал. Окна её выходили на Чансери-Лейн, а стены были выкрашены светло-зелёной краской, которая вместе с кожаной обивкой мебели считалась принадлежностью адвокатской профессии.
Лицо Голройда, смуглое и некрасивое, с крупными чертами, приятно оживилось, когда он пошёл на встречу Марку.
— Я рад, что вы пришли, — сказал он. — Мне хотелось прогуляться с вами в последний раз. Я буду готов через минуту. Я только уложу мои юридические книги.
— Неужели вы хотите взять их с собою на Цейлон?
— Нет, не теперь. Брандон — мой квартирный хозяин, знаете — согласен приберечь их здесь к моему возвращению. Я только что говорил с ним. Идёмте, я готов.
Они прошли через мрачную, освещённую газом комнатку клерка, и Голройд остановился, чтобы проститься с клерком, кротким, бледным человеком, красиво переписывавшим решение в конце одного из дел.
— Прощайте, Тукер, — сказал он. — Мы с вами долго не увидимся.
— Прощайте, сэр. Очень жалею, что расстаюсь с вами. Желаю вам приятного пути, сэр, и всего хорошего на месте; чтобы вам там было лучше, чем здесь, сэр.
Клерк говорил с странной смесью покровительства и уважения: уважение было чувство, с каким он привык относиться к своему принципалу, учёному юристу, а покровительство вызывалось сострадательным презрением к молодому человеку, не сумевшему пробить себе дорогу в свете.
— Этот Голройд никогда не сделает карьеры в адвокатуре, — говаривал он знакомым клеркам, — у него нет ловкости, нет приятного обхождения и нет связей. Не понимаю даже, зачем он сунулся в адвокатуру!
Голройду нужно было распорядиться на счёт того, куда адресовать бумаги и письма, которые могут придти в его отсутствие, и кроткий клерк выслушал его инструкции с такой серьёзностью, точно и не думал всё время про себя: — «стоит ли вообще толковать о таких пустяках?».
Затем Голройд покинул свою комнату и вместе с Марком спустился по винтовой лестнице, прошёл под колоннадой палаты вице-канцлера, где у запертых дверей несколько клерков и репортёров переписывали список дел, назначенных для разбирательства на следующий день.
Они прошли через площадь Линкольн-Инн и направились к Пикадилли и Гайд-Парку. Погода стояла совсем не ноябрьская: небо было голубое, а воздух свеж лишь настолько, чтобы приятно напоминать, что на дворе глубокая осень.
— Да, — сказал Голройд печально, — мы с вами теперь долго не будем гулять вместе.
— Вероятно, — отвечал Марк с сожалением, звучавшим несколько формально, так как предстоящая разлука его не особенно печалила.
Голройд всегда больше любил Марка, чем Марк Голройда; дружба последнего была для Марка скорее делом случая, нежели личного выбора. Они вместе квартировали в Кембридже и потом жили на одной лестнице в коллегии и, благодаря этому, почти ежедневно виделись, а это в свою очередь установило некоторую приязнь, которая, однако, не всегда бывает настолько сильна, чтобы выдержать переселение в другое место.
Голройд старался, чтобы она пережила их учебные годы, так как странным образом любил Марка, не смотря на то, что довольно ясно понимал его характер. Марку удавалось возбуждать приязнь к себе в других людях без всяких усилий со своей стороны, и сдержанный, скрытный Голройд любил его больше, чем даже позволял себе это высказывать.
Марк, со своей стороны, начинал ощущать постоянно возраставшее стеснение в обществе приятеля, который был так неприятно проницателен и подмечал все его слабые стороны и в котором всегда чувствовал некоторое перед собой превосходство, раздражавшее его тщеславие.
Беспечный тон Марка больно задел Голройда, который надеялся на более тёплый ответ, и они молча продолжали путь, пока не вошли в Гайд-Парк и не перешли через Ротен-Роу, когда Марк сказал:
— Кстати, Винсент, вы, кажется, хотели о чем-то со мною переговорить?
— Я хотел попросить вас об одном одолжении, — отвечал Голройд: — надеюсь, это не будет для вас особенно затруднительно.
— О! в таком случае, если я могу это для вас сделать, то конечно… но что же это такое?
— Вот что, дело в том, что хотя я никому ни слова ещё не говорил об этом… я написал книгу.
— Не беда, старина, — заметил Марк с шутливым смехом, так как это признание, а вернее, некоторое замешательство, с каким оно было сделано, как будто приравнивало к нему Голройда. — Многие до вас писали книги, и никто от того хуже о них не думает, лишь бы только они их не печатали. Это юридическое сочинение?
— Не совсем; это — роман.
— Роман! — вскричал Марк, — вы написали роман?
— Да, я написал роман. Я всегда был мечтателем и меня забавляло передавать свои мечты бумаге. Мне не мешали.
— Однако, ваша профессия?
— Она мне не давалась в руки, — ответил Голройд, с меланхолической гримасой. — Я приходил обыкновенно в палаты в десять часов утра и уходил в шесть, проводя целый день в записывании отчётов и протоколов, но никто из поверенных не замечал моего прилежания. Тогда я стал ходить в суд и весьма старательно записывал все решения, но мне ни разу не удалось быть полезным суду, в качестве amicus cuiae, так как оба вице-председателя, по-видимому, отлично обходились без моей помощи. Тогда мне всё это надоело и пришло в голову написать эту книгу и я не успокоился, пока этого не сделал. Теперь она написана и я опять одинок.
— И вы желаете, чтобы я просмотрел и проредактировал её.
— Не совсем так; пускай в ней всё остаётся как есть. Я хочу попросить вас вот о чем: кроме вас, мне не хотелось бы обращаться ни к кому с этой просьбой. Я желал бы, чтобы мою книгу напечатали. Я уезжаю из Англии и по всей вероятности руки у меня будут полны другим делом. Я бы желал, чтобы вы попытались найти издателя. Вас это не очень затруднит?
— Нисколько; весь труд будет заключаться только в том, чтобы пересылать рукопись из одной редакции в другую.
— Я, конечно, не рассчитываю на то, что вам удастся увидеть её в печати; но если бы, паче чаяния, рукопись была принята, то я предоставляю вполне на ваше усмотрение все условия. Вы опытны в этих делах, а я нет, и к тому же буду далеко.
— Я сделаю все, что могу, — отвечал Марк. — Что это за книга?
— Я уже сказал, что это роман. Право не знаю, как описать вам подробнее: это…
— О, не трудитесь, — перебил Марк, — я сам прочту. Какое заглавие вы ему дали?
— «Волшебные чары», — отвечал Голройд, неохотно открывая то, что было так долго его тайной.
— Это не светский роман, я полагаю?
— Нет. Я мало бываю в свете.
— Напрасно; многие были бы весьма рады познакомиться с вами.
Но что-то в тоне Марка говорило, что он сам не уверен в том, что говорит.
— Неужели? Не думаю. Люди вообще добры, но они рады бывают видеть только того, кто умеет позабавить их или заинтересовать, и это вполне натурально. Я не могу похвастаться тем, что очень занимателен или интересен; во всяком случае теперь поздно об этом сожалеть.
— Вы не собираетесь, однако, жить пустынником на Цейлоне?
— Не знаю. Плантация моего отца находится в довольно пустынной местности острова. Не думаю, чтобы он был очень короток с соседними плантаторами, а когда я уезжал оттуда ребёнком, у меня было ещё меньше друзей, чем здесь. Но у меня там будет пропасть занятий, пока я ознакомлюсь с делом, как отец, по-видимому, желает.
— Он прежде не располагал иметь вас при себе?
— Он сначала желал, чтобы я занялся адвокатурой в Коломбо, но это было вскоре после того как я кончил курс, и тогда я предпочёл попытать счастья в Англии. Я ведь второй сын, и пока был жив мой старший брат Джон, меня предоставляли на произвол судьбы. Вы знаете, что я уже раз ездил в Коломбо, но не мог поладить с отцом. Теперь же он болен, а бедный Джон умер от дизентерии и он там — совсем один, а так как у меня тут нет никакой практики, то мне неловко отказаться приехать к нему. К тому же меня ничто здесь не удерживает.
Они шли через Ротен-Роу, когда Голройд говорил это. Вечер уже почти наступил; небо стало светло-зелёное; из южного Кенсингтона донёсся звон колокола, призывавшего к вечерне.
— Не напоминает вам этот колокол кембриджские времена? — спросил Марк. — Мне представляется будто мы идём после речной гонки и это звонит колокол нашей церкви.
— Я бы желал, чтобы это было так, — отвечать Голройд со вздохом: — в то время хорошо жилось, и оно никогда не воротится.
— Вы в очень унылом настроении духа для человека, возвращающегося на родину.
— Ах! я, видите ли, не чувствую, чтобы это была моя родина. Да и меня никто там не знает, за исключением моего бедного старика отца; мы там почти как иностранцы. Я оставляю здесь тех немногих людей, которые мне дороги.
— О! все наверное устроится, — рассуждал Марк с тем оптимизмом, с каким мы относимся к чужой будущности. — Вы наверное разбогатеете и скоро станете или богатым плантатором, или выборным судьёй. Там всякий должен составить карьеру. И друзей вы там легче приобретёте, нежели здесь.
— Я бы желал сохранить тех, которые у меня уже есть, — отвечал Голройд, — но, очевидно, надо покориться судьбе.
Они дошли до конца Ротен-Роу; ворота Кенсингтонских садов были заперты, и стоявший позади решётки полисмен подозрительно наблюдал за ними, точно опасался, что они вздумают насильно ворваться.
— Вам, кажется, тут надо повернуть? — сказал Марк.
Голройду хотелось бы, чтобы Марк проводил его до Кенсингтона, но так как тот сам не предлагал этого, то гордость помешала ему попросить его об этом.
— Ещё последнее слово насчёт книги, — сказал он. — Могу я поставить ваше имя и ваш адрес на заглавном листе? Я отошлю её сегодня к Чильтону и Фладгету.
— О, разумеется, — отвечал Марк, — как хотите.
— Я не выставил своего настоящего имени, и если бы даже книгу напечатали, я не желаю открывать своего анонима.
— Как хотите; но почему?
— Если я останусь адвокатом, то роман, хотя бы даже он и имел успех, не особенная рекомендация для клиентов, и кроме того, если меня ждёт фиаско, то мне приятнее оставаться неизвестным, не правда ли? Я поставил на книжке имя Винсента Бошана.
— Хорошо, хорошо, никто ничего не узнает до тех пор, пока вы сами не пожелаете открыться, и если книгу примут, то я с удовольствием буду следить за её публикацией и напишу вам. Об этом не беспокойтесь.
— Благодарю, а теперь прощайте, Марк.
В голосе его послышалось искреннее чувство, которое сообщилось даже самому Марку в то время, как он пожимал руку Винсента.
— Прощайте, — отвечал он, — будьте здоровы, счастливого пути и всякого благополучия. Вы не любите писать письма, но надеюсь, что время от времени напишете мне строчку иди две. Как называется корабль, на котором вы отправляетесь?
— «Мангалор». Он отплывает завтра. А пока прощайте, Марк. Надеюсь, что с вами ещё увидимся. Не забывайте меня.
— Нет, нет, мы слишком старинные приятели.
Ещё последнее рукопожатие, минутная неловкость, которую всегда чувствуют англичане, расставаясь, и они разошлись в разные стороны: Голройд направился в Безуотер через мост, а Марк повернул на Киннсгет и Кенсингтон.
Проводив приятеля, Марк поглядел с минуту вслед его высокой, мощной фигуре, пока тот не скрылся во мраке. «Я его, вероятно, больше не увижу, — подумал он. — Бедный Голройд, подумать только, что он написал книгу; он — из тех неудачников, которым ни в чем не бывает успеха. Я уверен, она ещё доставит мне много хлопот».
Голройд также ушёл с тяжёлым сердцем.
«Марк не будет скучать по мне, — говорил он самому себе. Неужели и Мабель так же простится со мной?»
Глава III. Прощание
В тот самый день, когда мы видели Марка и Винсента гулявшими друг с другом в последний раз, миссис Лангтон и её старшая дочь Мабель сидели в хорошенькой гостиной своего дома в Кенсингтонском парке.
Миссис Лангтон была женой богатого адвоката с обширной практикой и одной из тех изящно ленивых женщин, обворожительные манеры которых успешно прикрывают некоторую пустоту ума и характера. Она была всё ещё хороша собой и жаловалась на нездоровье всегда, когда это не представляло положительного неудобства.
Сегодня был один из её приёмных дней, но посетителей было на этот раз немного, да и те раньше обыкновенного разошлись, оставив след своего присутствия в поэтическом беспорядке кресел и стульев и пустых чайных чашках в различных местах гостиной.
Миссис Лангтон покойно раскинулась в мягком кресле и лениво следила за горящими угольями в камине, между тем как Мабель, поместившись на кушетке около окна, пыталась читать журнал при свете потухающего дня.
— Не лучше ли позвонить и велеть принести лампы, Мабель? — посоветовала мать. — Как ты можешь читать в такой темноте? Говорят, это очень вредно для глаз. Я думаю, что никого больше не будет, хотя мне странно, что Винсент не пришёл проститься.
— Винсент не любит приёмных дней, — отвечала Мабель.
— Всё же уехать не простившись, когда мы так давно с ним знакомы, и конечно были всегда с ним любезны… Ваш отец всегда приглашал адвокатов обедать, чтобы знакомить их с ним, хотя это ни к чему никогда не приводило. Он отплывает завтра. Мне кажется, что он мог бы найти время проститься с нами.
— И я так думаю, — согласилась Мабель, — это непохоже на Винсента, хотя он всегда был застенчив и во многих отношениях странен. Он не так давно у нас был, но я не могу поверить, чтобы он уехал не простившись.
Миссис Лангтон осторожно зевнула.
— Это меня не удивит, — сказала она, — когда молодой человек готовится… — но конец её фразы был прерван приходом её младшей дочери Долли с гувернанткой-немкой; за ними следовал слуга, нёсший лампы с розовыми абажурами.
Долли была живая девочка лет девяти с золотистыми волосами, красиво вившимися, и глубокими глазами, оттенёнными длинными ресницами и обещавшими стать со временем весьма опасными.
— Мы взяли с собой Фриска без шнурка, мамаша, — кричала она, — и он от нас убежал. Не правда ли, это так дурно с его стороны?
— Не беда, милочка, он вернётся благополучно домой… он ведь всегда так делает.
— Ах, но меня сердит то, что он убежал; вы знаете, в каком ужасном виде он всегда возвращается домой. Его надо как-нибудь отучить от этого.
— Я советую тебе хорошенько его пожурить, — вмешалась Мабель.
— Я пробовала, но он просит прощенья, а затем как только его вымоют, опять убегает. Когда он вернётся, я его на этот раз хорошенько вздую.
— Милая моя, — закричала миссис Лангтон, — какое ужасное выражение.
— Колин говорит так, — отвечала Долли, хотя отлично знала, что Колин не особенно щепетилен в своих выражениях.
— Колин говорит многое такое, чего не следует повторять девочке.
— Да, да, — весело подтвердила Долли. — Я не знаю, известно ли это ему? Я пойду и скажу ему это… когда он вернулся домой.
И она убежала как раз в тот момент, как кто-то позвонил у двери.
— Мабель, кто-то должно быть ещё с визитом; но я так устала, и теперь так уже поздно, что я оставлю тебя и фройляйн занимать гостей. Папа и я едем сегодня на обед и мне нужно отдохнуть, прежде чем одеваться. Я убегу, пока можно.
Миссис Лангтон грациозно выскользнула из комнаты как раз в ту минуту, как дворецкий прошёл в переднюю, чтобы отворить дверь очевидно какому-то посетителю, и Мабель услышала, как доложили о приходе м-ра Голройда.
— Итак, вы всё-таки приехали проститься? — сказала Мабель, протягивая руку с ласковой улыбкой. — Мамаша и я, мы думали, что вы уедете, не прощаясь.
— Вам бы следовало лучше меня знать.
Винсент согласился выпить предложенную ему чашку чаю только затем, чтобы ещё раз иметь случай полюбоваться весёлой, грациозной манерой, с примесью ласковой насмешки, с которой Мабель его угощала и которая была ему так хорошо знакома. Он разговаривал с ней и с фройляйн Мозер с тяжёлым чувством неудовлетворительности такого трио для прощального свидания.
Гувернантка тоже сознавала это. В последнее время она стала подозревать, какого рода чувства Винсент питает к Мабель, и жалела его.
«Этот бедный молодой человек уезжает далеко, я дам ему случай объясниться», думала она и села за фортепиано в соседней комнате.
Но не успел Винсент обменяться несколькими незначительными фразами с Мабель, как в комнату вбежала Долли, а так как ей никогда в голову не приходило, чтобы кто-нибудь мог предпочесть её разговору чей-нибудь другой, то она вскоре совсем завладела Винсентом.
— Долли, милая, — закричала гувернантка из-за фортепиан, — сбегай и спроси у Колина, не унёс ли он метроном в классную комнату?
Долли понеслась в классную и скоро забыла о данном поручении в споре с Колином, которому было желательно всякое развлечение, когда он сидел за уроками. Фрейлейн Мозер, конечно, предвидела такой результат, тем более, что метроном стоял около неё.
— Вы, конечно, будете нам писать, Винсент, оттуда? — сказала Мабель. — Кем вы рассчитываете там быть?
— Кофейным плантатором, — мрачно отвечал тот.
— О, Винсент! — с упрёком заметила молодая девушка, — прежде вы были честолюбивее. Помните, как мы строили планы на счёт вашей будущей знаменитости. Но вы не особенно прославитесь, если будете плантатором.
— Если я берусь за это, то по необходимости. Но я всё ещё честолюбив, Мабель. Я не удовлетворюсь этим делом, если другое моё предприятие удастся. Но в том-то и дело, что это ещё очень сомнительно.
— Какое ещё предприятие? — расскажите мне, Винсент; вы прежде всегда мне все говорили.
В характере Винсента было очень мало заметно его тропическое происхождение и по своей природной сдержанности и осторожности он предпочёл бы подождать до тех пор, пока его книга не будет напечатана, прежде нежели признаться в своём писательстве.
Но просьба Мабель поколебала его осторожность. Он писал для Мабель и его лучшей надеждой было то, что она со временем прочтёт и похвалит его книгу. Ему захотелось взять её в поверенные и увезти с собой её симпатию как поддержку в трудные минуты.
Если бы он успел поговорить с ней о своей книге и её содержании, быть может, Мабель почувствовала бы новый интерес к его особе и это предотвратило бы многие дальнейшие события в её жизни. Но он колебался, а тем временем возникла новая помеха, случай был упущен, и подобно многим другим, раз упущенный, он больше не представился. Неугомонная Долли снова явилась невинным орудием судьбы: она пришла с громадным портфелем в руках и положила его на стул.
— Я нигде не могла найти метроном, фрейлейн. Винсент, мне нужна ваша голова для альбома! Позвольте мне её снять.
— Мне она самому нужна, Долли, я никак не могу обойтись без неё в настоящую минуту.
— Я говорю не про вашу настоящую голову, а только про ваш силуэт, — объяснила Долли. — Неужели вы этого не поняли?
— Это не особенно страшная операция, Винсент, — вмешалась Мабель. — Долли мучит всех своих друзей последнее время, но она не причиняет им физической боли.
— Хорошо, Долли, я согласен, — сказал Винсент, — только пожалуйста будьте со мной помягче.
— Садитесь на стул возле стены, — приказывала Долли. — Мабель пожалуйста сними абажур с лампы и поставь её вот тут.
Она взяла карандаш и большой лист бумаги.
— Теперь, Винсент, сядьте так, чтобы ваша тень ложилась на бумагу и сидите смирно. Не двигайтесь и не говорите, иначе ваш профиль будет испорчен.
— Мне очень страшно, Долли, — объявил Винсент, послушно усаживаясь, как ему было велено.
— Какой вы трус! Подержи его голову, Мабель. Нет! — придержи лучше бумагу.
Винсент сидел тихо, в то время как Мабель опёрлась сзади на его стул, одной рукой слегка придерживая его за плечо и её мягкие волосы касались его щеки. Долго, долго, потом, в сущности всю свою жизнь, он не мог вспомнить об этих мгновениях без радостного трепета.
— Готово, Винсент! — с триумфом возвестила Долли, проводя несколько черт по бумаге. — У вас не очень правильный профиль, но силуэт будет похож, когда я его вырежу. Вот! — подала она голову в натуральную величину, вырезанную из чёрной бумаги. — Неправда ли, очень похоже на вас?
— Право не знаю, — отвечал Винсент, с сомнением поглядывая на бумагу, — но надеюсь, что похож.
— Я дам вам с него копию, — великодушно объявила Долли, вырезая другую чёрную голову своими проворными ручками. — Вот, возьмите, Винсент, и пожалуйста не потеряйте.
— Хотите, чтобы я всегда носил его у сердца, Долли?
Долли нашла нужным обдумать этот вопрос.
— Нет, полагаю, что этого не нужно, — ответила она. — Конечно, он бы вас грел, но, боюсь, что чёрная бумага марается. Вы должны наклеить его на картон и вставить в рамку.
В эту минуту вошла миссис Лангтон, и Винсент пошёл ей навстречу с отчаянной надеждой в душе, что авось его пригласят провести с ними последний вечер, — надеждой, которой не суждено было осуществиться.
— Любезный Винсент, — сказала она, протягивая ему обе руки, — итак вы всё-таки пришли. Право, я боюсь, что вы совсем про нас забыли. Почему ты не прислала мне сказать, что Винсент у нас, Мабель? Я бы поторопилась одеться. Мне так досадно, Винсент, что я должна проститься с вами второпях. Муж и я едем обедать в гости и он не вернётся домой, чтобы переодеться, а я должна буду за ним заехать. И теперь так уж поздно, а они так нелепо рано обедают там, куда мы едем, что мне нельзя больше терять ни минуты. Проводите меня до кареты, Винсент, пожалуйста. Что, Маршал не забыл положить плэд? Хорошо; так пойдёмте. Желаю вам всякого успеха там, куда вы едете, и берегите себя, и возвращайтесь домой с хорошенькой женой. Прикажите, пожалуйста, кучеру ехать в Линкольн-Инн. Прощайте, Винсент, прощайте.
Она приветливо улыбалась и махала рукой в длинной перчатке, пока карета не отъехала и он все время понимал, что если она больше никогда его не увидит, то это нисколько её не огорчит.
Он медленно вернулся в тёплую гостиную, где пахло фиалками. У него не было больше предлога оставаться здесь; он должен проститься с Мабель и уйти. Но прежде нежели он на это решился, доложили о новом госте, который, должно быть, пришёл как раз в ту минуту, как миссис Лангтон отъехала.
— М-р Каффин, — возвестил слуга с достоинством.
Высокий, стройный молодой человек вошёл в комнату, с чересчур спокойным и развязным видом. Его светлые волосы были коротко острижены; красивые глаза проницательны и холодны, а тонкие губы выражали твёрдость. Голос, которым он управлял в совершенстве, был звучен и приятен.
— Неужели вы пришли с утренним визитом, Гарольд? — спросила Мабель, которая, по-видимому, не очень обрадовалась посетителю.
— Да, ведь нас нет дома, Мабель, неправда ли? — ввернула смелая Долли.
— Меня задержали на репетиции, а потом я обедал, — объяснил Каффин: — но я бы не пришёл, если бы мне не надо было исполнить одного поручения. Передав его, я уйду. Что я вам такого сделал, что вы хотите меня прогнать?
Гарольд Каффин был родственником миссис Лангтон. Его отец занимал высокое место между заграничными консулами, а сам он недавно поступил на сцену, находя театр более привлекательным местом, нежели министерство иностранных дел, куда его сперва предназначали. Пока ему не приходилось жалеть о своей измене, так как он почти тотчас же получил очень выгодный ангажемент в один из главных театров Вест-Энда, причём общественное положение его от этого не очень пострадало, частью от того, что свет стал в последнее время либеральнее в этом отношении, а частью потому, что ему раньше удалось упрочить своё положение в свете своим приятным обращением и музыкальным, и драматическим талантом, что и заставило его избрать театр своей профессией.
Как и Голройд, он знал Мабель ещё девочкой, а когда она выросла, то влюбился в неё. Его единственным опасением, когда он поступал на сцену, было, что Мабель не одобрит этого. Страх этот оказался неосновательным. Обращение с ним Мабель не переменилось. Но его успехи, как аматора, не последовали за ним на сцену. До сих пор ещё ему не поручали ни одной значительной роли и он успел уже настолько разочароваться в своей новой профессии, что готов был от неё отказаться при малейшем поводе.
— Вы здесь, Голройд, я вас было не заметил. Как вы поживаете? — радушно сказал он, хотя в душе чувства его были далеко не дружеские, так как он имел основание считать Винсента своим соперником.
— Винсент приехал проститься, — объяснила Долли. — Он завтра уезжает в Индию.
— Доброго пути! — вскричал Каффин с повеселевшим лицом. — Но что же это вы так вдруг собрались, Голройд? Я очень, впрочем, рад, что успел проститься с вами. — И здесь Каффин, без сомнения, говорил правду. — Вы мне не говорили, что так скоро уезжаете.
Голройд знал Каффина уже несколько лет: они часто встречались в этом доме, и хотя между ними было мало общего, но отношения их были приятельские.
— А в чем заключается ваше поручение, Гарольд? — спросила Мабель.
— Ах, да! Я сегодня встретил дядю и он поручил мне узнать, согласны ли вы прокатиться в Чигбёр в одну прекрасную субботу и пробыть там до понедельника. Я полагаю, что вы будете не согласны. Он добрый старик, но можно умереть со скуки, проведя с ним целых два дня.
— Вы забываете, что он — крёстный отец Долли, — заметила Мабель.
— И мой дядя, — сказал Каффин, — но он от этого нисколько не занимательнее. Вас тоже приглашают, болтушка! («Болтушка» было прозвище, которым он дразнил Долли, которая к нему вообще не благоволила).
— Хочешь поехать, Долли, если мамаша позволит? — спросила Мабель.
— А Гарольд поедет тоже?
— Гарольда не приглашали, моя болтушка, — отвечал этот джентльмен напрямки.
— Если так, то поедем, Мабель, и я возьму с собой Фриска, потому что дядя Антони давно уже не видел его.
Голройд видел, что оставаться долее ему бесполезно. Он пошёл в классную проститься с Колином, который был так огорчён его отъездом, как только позволяла груда учебников, возвышавшаяся перед ним, и вернулся в гостиную проститься с остальными. Гувернантка прочитала на его лице, что её доброжелательные усилия ни к чему не послужили и с состраданием вздохнула, пожимая ему руку. Долли повисла у него на шее и заплакала, а чёрствый Гарольд подумал, что теперь ему можно быть великодушным и почти с искренней приветливостью напутствовал его добрыми пожеланиями.
Однако, лицо его омрачилось, когда Мабель сказала:
— Не звоните, Оттилия. Я провожу Винсента до передней… в последний раз.
«Хотел бы я знать, нравится ли он ей?» подумал Гарольд, с досадой.
— Пишите как можно чаще, Голройд, не правда ли? — сказала Мабель, когда они пришли в переднюю. — Мы будем часто о вас думать и представлять себе, что вы там делаете и как вам живётся.
Передняя лондонского дома вряд ли пригодное место для объяснения в любви; есть что-то фатально-комическое в нежных чувствах, изливаемых посреди дождевых зонтиков и шляп. Но хотя Винсент вполне сознавал это, он почувствовал страстное желание высказать Мабель свои чувства в этот последний миг, но сдержал себя: более верный инстинкт подсказал ему, что он слишком долго мешкал для того, чтобы рассчитывать на успех. И в самом деле, Мабель не подозревала о настоящем характере его чувств и он был прав, думая, что признание в настоящую минуту было бы для неё сюрпризом, к которому она не была подготовлена.
Сентиментальность фрейлейн Мозер и склонность Каффина видеть в каждом соперника делали их проницательными, и сама Мабель, хотя девушки редко последними догадываются об этом, никогда не думала о Винсенте, как о поклоннике, и в этом была главным образом виновата его сдержанность и скрытность. Сначала он боялся обнаружить перед ней свои чувства: «она не может любить меня, думал он, я ничего не сделал. чтобы заслужить её любовь; я — нуль». И ему хотелось чем-нибудь отличиться, а до тех пор он молчал и редко виделся с ней. Тогда-то он и написал свою книгу, и хотя он не был так глуп, чтобы воображать, что в женское сердце доступ возможен только путём печати, но не мог не чувствовать, перечитывая своё произведение, что он делал нечто такое, что в случае успеха может возвысить его в собственных глазах и послужить хорошей рекомендацией для такой девушки, как Мабель, любившей литературу. Но тут отец пригласил его приехать на Цейлон; он должен был ехать и увезти с собой свою тайну, и надеяться, что время и разлука (очень плохие, сказать мимоходом, союзники) будут говорить за него.
Он чувствовал всю горечь своего положения, когда держал обе её руки и глядел в прекрасное лицо и мягкие глаза, светившиеся сестринским чувством, — да! увы! только сестринским. «Она, может быть, полюбила бы меня со временем. Но это время может никогда не настанет», — думал он.
Он не решился прибавить ни слова; он мог бы получить братский поцелуй, если бы попросил, но для него такой поцелуй был бы чистейшей насмешкой.
Подавленное волнение делало его резким, почти холодным. Он вдруг выпустил её руки и отрывисто проговорил:
— Прощайте, дорогая Мабель, прощайте! — и поспешно вышел из дому.
— Итак, он уехал! — заметил Каффин, когда Мабель вернулась в гостиную, простояв несколько секунд в передней. — Милый он человек, но нестерпимо скучный, неправда ли? Ему гораздо лучше сажать кофе, нежели болтаться здесь, как он делал, с кофе ему повезёт больше, нежели с законоведением, надо надеяться.
— Как вы любите находить других скучными, Гарольд, — сказала Мабель, с неудовольствием наморщив брови. — Винсент нисколько не скучен; вы так говорите потому, что его не понимаете.
— Я говорю это не ради осуждения, напротив того, мне нравятся скучные люди. С ними отдыхаешь. Но как вы верно заметили, Мабель, я не понимаю его: право же, он не производит впечатления человека интересного. Сколько я его знаю, он мне очень нравится, но вместе с тем должен сознаться, что нахожу его именно скучным. Вероятно, я ошибаюсь.
— Да, вероятно, — заключила Мабель, чтобы переменить разговор.
Но Каффин заговорил не без намерения и рискнул даже рассердить её, чтобы произвести то впечатление, какое ему было желательно. И почти успел в этом.
«Неужели Гарольд прав? — подумала она. — Винсент очень сдержан, но мне всегда казалось, что в нем есть какая-то скрытая сила, а между тем, если бы она была, то проявилась бы в чем-нибудь? Но если даже бедный Винсент только скучен, то для меня это все равно. Я всё также буду любить его».
Но при всем том замечание Каффина помешало ей идеализировать Винсента, в разлуке с ним, и посмотреть на него иначе, как на брата, а этого-то самого и добивался Каффин.
* * *
Тем временем сам Винсент, не подозревая — чего дай Бог каждому из нас — как его характеризовал приятель в присутствии любимой девушки, шёл на свою холостую квартиру, чтобы провести последний вечер в Англии в одиночестве, так как ни к какому иному времяпрепровождению у него не лежало сердце.
Уже стемнело. Над ним расстилалось ясное, стального цвета небо, а перед ним виднелся Камден-Хилл, тёмная масса, с сверкающими на ней огнями. В сквере, сбоку, немецкий духовой оркестр играл отрывки из второго акта «Фауста» с таким отсутствием выражения и так фальшиво, как может только немецкий оркестр. Но расстояние смягчало несовершенство исполнения, и ария Зибеля казалась Винсенту верным выражением его собственной, страстной, но непризнанной любви.
— Я готов жизнь отдать за неё, — сказал он почти вслух, — а между тем, не смел ей этого сказать… но если я когда-нибудь возвращусь и увижу её… и если не будет слишком поздно… она узнает, чем она была и будет для меня. Я буду ждать и надеяться.
Глава IV. На Малаховой террасе
Расставшись с Винсентом на Роттен-Роу, Марк Ашбёрн пошёл один по Кенсингтон-Гай-Стрит и дальше, пока не дошёл до одной из тихих улиц лондонского предместья.
Малахова терраса, как называется это место (название это обозначает также и эпоху его возникновения), производила менее убийственное впечатление, чем большинство её современных соседок, по мрачному однообразию и претенциозности. Дома на террасе окружены были садиками и цветниками и украшены верандами и балконами, и даже зимою терраса выглядела весело, благодаря разноцветным ставням и занавесам на освещённых окнах. Но и тут, как и во всяком ином месте, были дома более мрачного вида. Не бедная внешность поражает в них, нет, но то, что они, по-видимому, принадлежат людям безусловно равнодушным во всему, кроме существенно необходимого, и неспособным придать какую-нибудь привлекательность своему жилищу. Перед одним из таких домов, угрюмый вид которого не смягчался ни балкончиком, ни верандой, остановился Марк.
На окнах не видать было цветных занавесей или горшков с цветами, а только ставни из толстой тёмной проволоки.
То была не наёмная квартира, но дом, где Марк жил со своей семьёй, которая хотя и не отличалась весёлостью, но была не менее почтенна, чем все остальные на террасе, а это во многих отношениях лучше весёлости.
Он нашёл всех своих за обедом в небольшой задней комнатке, обтянутой серыми обоями с крупным и безобразным рисунком. Его мать, толстая женщина ледяного вида, с холодными серыми глазами и складкой обиженного недовольства на лбу и около губ, разливала суп с торжественностью жреца, совершающего жертвоприношение. Напротив сидел её муж, небольшой человечек, кроткий и неизменно унылый. Остальные домашние: две сестры Марка, Марта и Трикси, и его младший брат, Кутберт, сидели на обычных местах.
Миссис Ашбёрн строго взглянула на сына, когда он вошёл.
— Ты опять опоздал, Марк, — сказала она: — пока ты находишься под этой кровлей (миссис Ашбёрн любила упоминать о кровле), отец твой и я, мы в праве требовать, чтобы ты подчинялся правилам нашего дома.
— Видишь ли, мамаша, — отвечал Марк, садясь и развёртывая салфетку, — вечер был столь прекрасен, что я прошёлся с приятелем.
— Есть время для прогулки и время для обеда, — проговорила его мать так, точно приводила текст из св. писания.
— А я их спутал, мамаша. Так? ну, прости, пожалуйста; в другой раз не буду.
— Поторопись, Марк, пожалуйста, и доедай скорее суп; не заставляй нас ждать.
Миссис Ашбёрн никак не могла освоиться с мыслью, что её дети выросли. Она всё ещё обращалась с Марком, как если бы тот был беспечным школяром. Она постоянно читала нравоучения и делала выговоры, и хотя давно уже это были холостые заряды, но тем не менее надоедали детям.
Идеальный семейный круг, собравшись вечером разнообразить своё сборище оживлённой беседой; кто выезжает из дому, тот передаёт свои впечатления и сцены, трагические или юмористические, каких был свидетелем в продолжение дня, а когда они истощатся, женский персонал сообщает более скромные события домашней жизни, и время проходит незаметно.
Такой семейный круг можно от души поздравить; но есть основания думать, что в большинстве случаев разговоры в семьях, члены которых ежедневно видятся, становятся крайне односложными. Так было, по крайней мере, у Ашбёрнов. Марк и Трикси подчас бывали подавлены безмолвием, царствовавшим в их семейном кружке и делали отчаянные усилия завести общий разговор о том или о другом. Но трудно было выбрать такой сюжет, который бы миссис Ашбёрн не убила в самом зародыше какою-нибудь сентенцией. Кутберт вообще приходил со службы утомлённый и немного сердитый. На любезность Марты никак нельзя было рассчитывать, а сам м-р Ашбёрн редко когда вмешивался в разговор и только тяжело вздыхал.
При таких обстоятельствах понятно, что вечера, проводимые Марком в его семействе, не были особенно веселы. Иногда он сам себе дивился, как может он их так долго выносить, и если бы средства позволяли ему нанять удобную квартиру и устроиться так же дёшево, как в семье, то он, по всей вероятности, давно бы уже свергнул иго семейной скуки. Но жалованье, получаемое им, было невелико, привычки у него были расточительные и он оставался в семье.
Сегодняшний вечер в частности не обещал особенного оживления. Миссис Ашбёрн мрачно возвестила всем, кому это надлежало ведать, что она сегодня не завтракала. Марта сказала вскользь о том, что приезжала с визитом какая-то мисс Горнбловер, но это известие не произвело никакого впечатления, хотя Кутберт порывался было спросить, кто такая мисс Горнбловер, но во время спохватился, что это его нисколько не интересует.
Затем Трикси попыталась было втянуть его в разговор, спросив доброжелательно, но не совсем удачно: не видел ли он кого (этот вопрос стал какой-то формулой), на что Кутберт отвечал, что заметил двух или трёх прохожих в Сити, а Марта сказала ему, что ей приятно его постоянство в шутках. На это Кутберт сардонически заметил, что он сам знает, что он весёлый малый, но что когда он видит вокруг себя их вытянутые физиономии, в особенности же физиономию Марты, то это ещё более подзадоривает его весёлость.
Миссис Ашбёрн услыхала его ответ и строго сказала:
— Не думаю, Кутберт, чтобы у твоего отца или у меня была «вытянутая» физиономия, как ты выражаешься. Мы всегда поощряли приличные шутки и невинную весёлость. Не понимаю, почему ты смеёшься, когда мать делает тебе замечание, Кутберт. Это совсем непочтительно с твоей стороны.
Миссис Ашбёрн продолжала бы, по всей вероятности, защищать себя и своих домашних от обвинения в вытянутой физиономии, если бы не произошла желанная диверсия. Кто-то постучал в наружную дверь. Служанка, поставив блюдо на стол, исчезла, и вскоре затем колоссальное туловище показалось в дверях и зычный голос произнёс: — Эге! они обедают! Ладно, милая, я знаю дорогу.
— Это дядюшка Соломон! — сказали за столом. Но никаких знаков радости не было выражено, потому что все Ашбёрны по природе были очень сдержанны.
— Ну что ж, — заявила миссис Ашбёрн, которая, по-видимому вывела свои заключения из этой сдержанности, — я знаю, что если где-нибудь мой единственный брат Соломон будет желанным гостем, то это за нашим столом.
— Разумеется, разумеется, душа моя, — ответил м-р Ашбёрн торопливо. — Он был здесь на прошлой неделе, но мы все ему рады всегда и во всякое время.
— Надеюсь! Ступай, Трикси, и помоги дяде снять пальто.
Из соседней комнаты долетало пыхтенье и кряхтенье, доказывавшее, что родственник находился в затруднительном положении.
Но прежде, нежели Трикси успела выполнить материнский приказ, в комнату ввалился краснолицый человек с большим самодовольным ртом, бакенбардами, сходившимися под подбородком, и глазами, которые Трикси по секрету величала «свиными глазками», но в которых тем не менее светился какой-то особенный первобытный юмор.
Соломон Лайтовлер, брат миссис Ашбёрн, удалившийся от дел торговец, составил себе значительное состояние торговлей суррейскими товарами.
Он был вдовец и бездетен, и пожелал, чтобы один из его племянников получил университетское образование, сделался учёным и прославил имя и проницательность своего дядюшки; Марк на его счёт был помещён в Тринити, так как положение м-ра Ашбёрна в министерстве финансов не позволило бы семье такого расхода.
Карьера Марка в Кембридже не была, как уже выше упомянуто, из блистательных и не могла принести много чести его дядюшке, который, в видах вознаграждения себя за расходы, заставил Марка поступить в ост-индскую гражданскую службу, но когда и это окончилось полным фиаско, то, по-видимому, отрёкся от него, предоставив себе право вознаграждать себя за издержки попрёками, и Марк находил, что в этом отношении уже окупил большую часть издержек.
— Фу-ты! какая у вас тут жарища! — начал дядюшка как приятное вступление в разговор, потому что сознавал себя достаточно богатым, чтобы делать замечания о температуре чужих домов; но Кутберт выразил sotto voce желание, чтобы дядюшку попарили бы ещё жарче.
— Не могут же все жить в загородных домах, Соломон, — отвечала его сестра, — а в маленькой комнате всегда кажется тепло человеку, который приехал со свежего воздуха.
— Тепло! — фыркнул м-р Лайтовлер, — скажи лучше, что здесь настоящее пекло. Уж я сяду подальше от огня. Я сяду около тебя, Трикси. Ты будешь ухаживать за старым дядей, да?
Трикси, красивая девушка лет восемнадцати, с роскошными каштановыми волосами, которые никак нельзя было гладко причесать, и хорошенькими ручками, которые многие другие девушки холили бы более, нежели она, в последнее время пристрастилась к рисованию, находя его менее скучным, нежели занятия по домашнему хозяйству. Дядя Соломон всегда пугал её, так как она не знала, что может последовать дальше, а потому поспешно очистила ему место возле себя.
— Ну-с, милостивый государь, школьный учитель, — обратился он к Марку, — как поживаете? Если бы вы усерднее трудились в коллегии и сделали мне честь, то были бы теперь учёным профессором в университете или судьёй в ост-индской судебной палате вместо того, чтобы учить несносных мальчишек.
На этот раз миссис Ашбёрн нашла нужным вступиться за Марка.
— Ах, Соломон! — сказала она, — Марк сам теперь понимает что был глуп; он знает, как с его стороны было безрассудно заниматься праздным писательством для забавы легкомысленных юношей вместо того, чтобы учиться и этим доказать свою благодарность за всё, что ты для него сделал.
— Да, Джон, я был для него добрым другом и мог бы быть ещё лучше, если бы он того заслуживал. Я не стою за издержки. И если бы мог надеяться, что он бросит своё писательство, то даже и теперь…
Марк счёл за лучшее уклониться от прямого ответа.
— Если бы я даже и хотел писать, дядюшка, то при моих школьных занятиях и приготовлении к адвокатской профессии, мне не оставалось бы для этого времени. Но матушка права; я понимаю теперь свою глупость.
Это понравилось дядюшке Соломону, который всё ещё цеплялся за обломки своей веры в способности Марка и готов был помириться на том, что у него будет племянник-адвокат. Он сразу смягчился:
— Ну, кто старое помянет, тому глаз вон. Ты все ещё можешь сделать мне честь. И, знаешь ли что, нынешнее воскресенье проведи у меня на даче. Это послужит тебе отдыхом и кроме того ты воочию убедишься в церковных происках моего соседа Гомпеджа. Он совсем обошёл нашего викария. Заставляет его украшать цветами алтарь и зажигать на нем свечи, и всё это, когда в душе он столько же религиозен, как…
Тут дядюшка Соломон обвёл глазами стол, ища предмет для сравнения.
— ..Как вот этот графин. Он уговорил викария завести мешочки для сбора пожертвований и всё потому, что ему, было завидно, что служитель ко мне первому подходил с тарелкой. Право же, они доведут меня до того, что я опять обращусь в баптиста.
— Вы не любите м-ра Гомпеджа, дядюшка? — спросила Трикси.
— Гомпедж и я живём не дружно, хотя и соседи; что же касается до моих чувств к нему, то я не чувствую к нему ни любви, ни ненависти. Мы не водим компании друг с другом и если разговариваем, то только в церкви, да ещё через забор, когда его птица заберётся в мой сад… Не хочет ни за что заделать дыру в своём заборе, так что придётся мне сделать это и послать ему счёт, что я непременно и сделаю. Письмо тебе, Мэтью? читай, пожалуйста, не обращай на меня внимания, — добавил дядюшка Соломон, так как в эту минуту служанка подала письмо Мэтью Ашбёрну, которое тот и распечатал с позволения шурина.
Он потёр лоб с смущением, и слабо проговорил:
— Ничего не поникаю, кто это и кому пишет, и о чем, ничего не разберёшь!
— Дай мне посмотреть, Мэтью, я тебе, быть может, объясню, в чек дело, — сказал шурин, уверенный, что для его мощного ума мало вещёй недоступных.
Он взял письмо, торжественно надел pince-nez на свой большой нос, значительно прокашлялся и напал читать: «Любезный сэр», читал он внушительным тоном мудреца… ну, что ж это вполне понятно… «Любезный сэр, мы отнеслись с полным вниманием к… пс! (тут лицо его утратило своё самоуверенное выражение) к… звонким колоколам»… что такое? вот так штука! Звонкие колокола? Уж не собираешься ли ты звонить в колокола, Мэтью?
— Я думаю, что они с ума сошли, — отвечал бедный м-р Ашбёрн, — у нас все колокольчики в доме в полной исправности, не правда ли, душа моя?
— Не слыхала, чтобы который-нибудь испортился; да их недавно и поправляли. Это, должно быть, ошибка, — заметила миссис Ашбёрн.
— «Которые вы были столь добры, что повергли на наше усмотрение (гм! какая изысканная вежливость!). Мы, однако, к сожалению должны сказать, что не можем принять предложение ваше»… Ты верно писал домохозяину что-нибудь на счёт аренды и это ответ от его поверенного? — спросил дядюшка Соломон, но уже далеко не учредительским тоном.
— Зачем я стану ему писать? — ответил м-р Ашбёрн: — нет, это не то, Соломон читай дальше.
«От вашей красавицы дочери (эге, Трикси!) мы тоже принуждены отказаться, хотя я с большой неохотой, но не смотря на некоторые значительные достоинства, в ней есть некоторая грубость (вот тебе раз! она свежа и нежна, как роза!) вместе с какой-то незрелостью и полным отсутствием формы и содержания (ты знаешь, что ты легкомысленна, Трикси, я всегда тебе это говорил!) и это, по нашему мнению, не позволяет нам войти с вами в соглашение по этому предмету».
Дядюшка Соломон, дойдя до этого пункта, положил письмо на стол и оглядел всех, разинув рот:
— Я думал, что могу похвалиться понятливостью, но это превосходит моё понимание, — объявил он.
— Вот люди… как бишь их зовут? Лидбиттер и Ганди (должно быть занимаются по газовой и декоративной части) пишут одновременно, что не могут придти, поглядеть на ваши звонки, в исправности ли они, и что не желают жениться на вашей дочери. Кто их просил об этом? Неужели ты так низко пал, Мэтью, что пошёл предлагать руку Трикси какому-то газопроводчику? Не могу этому поверить; что же это все значит в таком случае? Объясните мне и я вам буду за то очень благодарен.
— Не спрашивайте меня, — отвечал несчастный отец, — я ничего об этом не знаю.
— Трикси, тебе известно что-нибудь насчёт этого? — спросила миссис Ашбёрн подозрительно.
— Нет, милая маменька. Я не желаю выходить замуж ни за м-ра Лидбиттера, ни за м-ра Ганди.
Положение Марка становилось нестерпимым; сначала он надеялся, что если промолчит, то отделается от расспросов в настоящую минуту, когда на него обрушился тяжкий удар: отказ редакции напечатать оба его романа, на которые он возлагал такие надежды. Перенести этот удар публично было ещё тяжелее, но вот он понял, что никак не отделается и что родственники не оставят этого дела без расследования, а потому решил поскорей вывести их из заблуждения.
Но голос его дрожал и лицо было красно, когда он сказал:
— Полагаю, что я могу объяснить вам это.
— Ты! — вскричали все, причём дядюшка Соломон заметил, что молодые люди очень поумнели с тех пор, как он был молод.
— Да! это письмо, адресовано ко мне… видите на конверте стоит: М-р Ашбёрн, имени не обозначено, Марку или Мэтью Ашбёрну. Это письмо от… от одной издательской фирмы, — продолжал несчастный Марк, отрывистым тоном… — Я послал ей два своих романа: один называется «Дочь-красавица», а другой «Звонкие колокола», и их отказываются напечатать, вот и все.
Это известие произвело «сенсацию», как выражаются репортёры. Марта засмеялась кисло и пренебрежительно. Кутберт глядел так, как если бы имел многое что сказать, но воздерживался из братского сострадания. Одна Трикси попыталась было пожать руку Марка под столом, но ему тяжело было в настоящую минуту всякое выражение симпатии и он нетерпеливо оттолкнул её и она могла только с состраданием глядеть на него.
Миссис Ашбёрн трагически застонала и покачала головой: в её глазах молодой человек, способный писать романы, был погибшим человеком. Она питала спасительный ужас ко всяким фантазиям, так как принадлежала к диссентерам строгой старинной школы и их предубеждения крепко засели в её тупом мозгу. Её супруг, лично не имевший никаких определённых взглядов, был всегда одинакового с ней мнения, но все они предоставили м-ру Лайтовлеру быть выразителем семейного здравого смысла.
Он признал в настоящем случае на помощь всю горечь сатирического ума, какая была у него в распоряжении.
— Вот и все, неужели? и этого вполне достаточно, полагаю. Итак, это звенели бубенчики на вашей дурацкой шапке?
— Если вам угодно посмотреть на это с такой комической точки зрения, то это ваша воля, — отвечал Марк.
— И вот как вы готовитесь в адвокаты? вот как вы преодолели вашу страсть к бумагомарательству? Я затратил на вас свой капитал (он имел обыкновение выражаться так, как если бы Марк был какое-то недвижимое имущество), я дал вам хорошее образование и всё затем, чтобы вы писали романы, которые вам «с благодарностью» возвращают назад! Вы бы могли заниматься этим и не получив университетского образования.
— Нет ни одного знаменитого писателя, которому бы сначала не возвращали его произведений, — сказал Марк.
— Прекрасно, — торжественно произнёс дядя Соломон: — если это так, то вы можете себя поздравить с блистательным началом. Надеюсь, что ты очень всем этик довольна, Джен?
— Бесполезно говорить, — отвечала она, — но это чёрная неблагодарность за все твои добрые старания.
— Но ведь литературой можно зарабатывать большие деньги, — оправдывался бедный Марк.
— Я всегда думал, что басня о собаке и тени написана про глупых фатов и теперь убедился в этом, — сказал дядюшка Соломон, раздражительно. — Ну, слушай, Марк, что я тебе скажу в последний раз. Брось все эти пустяки. Я сказал, что приехал переговорить с тобой, и хотя ты и обманул мои ожидания, но я не отступлюсь от своего; когда я видел тебя в последний раз, то подумал, что ты стараешься собственными усилиями выйти в люди и изучаешь законоведение. Я подумал: — помогу ему в последний раз. Кажется, что всё это была одна пустая болтовня, но я всё-таки помогу тебе. Если ты сумеешь воспользоваться этим — тем лучше для тебя, если нет — тем хуже: я отрекусь от тебя навеки. Посвяти себя исключительно законоведению и брось свою школу. Я найму тебе квартиру и буду содержать тебя до тех пор, пока ты не составишь себе карьеры. Но только помни одно: прочь бумагомарательство раз и навсегда, и чтобы я больше о нем не слыхал. Согласен, или нет?
Мало есть вещёй более обидных для самолюбия, как неудача, постигшая Марка: отказ школьного комитета был пустяком по сравнению с этим письмом. Только тот, кто поддавался искушению послать рукопись издателю или редактору и получил её обратно, может понять тупую боль, причиняемую этим, какую-то бессильную ярость, следующую за тем, и какое-то такое ощущение, точно человек сбит с толку и должен теперь начать сызнова думать. Быть может, живописец, картину которого не допустили на выставку, испытывает нечто подобное. Но в последнем случае для самолюбия есть больше выходов.
Марк очень больно почувствовал удар, так как возлагал большие надежды на свои злосчастные манускрипты. Он послал их фирме, с именем которой ему особенно лестно было появиться в свет, и вдруг оба романа бесповоротно отвергнуты. На минуту его уверенность в самом себе поколебалась и он почти склонил голову перед приговором.
И однако всё-таки колебался. Издатель мог ошибаться. Он слыхал о книгах, отвергнутых с позором и затем превознесённых до небес. Так было с Карлейлем, так было с Шарлоттой Бронте, да и мало ли ещё с кем! Он желал быстрой славы, а юридическая карьера не скоро составляется.
— Ты слышишь, что говорит дядя? — сказала мать. — Конечно ты не откажешься от такого выгодного предложения?
— Нет, откажется, — заметила Марта. — Марку гораздо приятнее писать романы, нежели работать, не так ли, Марк? Ведь всегда очень весело писать вещи, которых никто не станет читать?
— Оставь Марка в покое, Марта, — вмешалась Трикси. — Как тебе не стыдно!
— Не знаю, почему вы все так ополчились на меня, — сказал Марк, — в писании книг положительно нет ничего безнравственного. Но, я думаю, что в этом частном случае вы правы, дядюшка, и желаете мне добра. Я принимаю ваше предложение. Буду усердно готовиться в адвокаты, так как по-видимому ни на что другое не гожусь.
— И обещаешь не писать больше?
— Разумеется, — раздражительно ответил Марк, — всё что вам угодно. Я поправился, я обязуюсь не прикасаться к чернилам во весь остаток моих дней.
То была не особенно любезная манера принимать так называемое выгодное предложение, но он был раздосадован и едва сознавал, что говорил.
Но м-р Лайтовлер был не из обидчивых и остался так доволен, что настоял на своём, что не обратил внимания на интонации Марка.
— Прекрасно, — сказал он, — значит, — решено. Я рад, что ты образумился. Значит, поедем на дачу и не будем больше говорить об этом деле.
— А теперь, — объявил Марк с принуждённой улыбкой, — я пойду к себе наверх и займусь законоведением.
Глава V. Соседи
Неделя с небольшим прошла после сцены на Малаховой террасе, описанной мною в последней главе, — неделя, проведённая Марком в ярме школьных занятий, которые стали ему ещё противнее с тех пор, как он не мог больше питать никаких иллюзий о близком от них избавлении. Он не в силах был видеть достойное вознаграждение в своих новых ожиданиях и начинал жалеть о том, что согласился на предложение дяди.
Он отправился на дачу последнего, и нескрываемое довольство м-ра Лайтовлера, очевидно смотревшего на него как на свою собственность; и его непрерывные советы ревностно заниматься адвокатским делом только усилили недовольство Марка самим собой и своим будущим. С чувством досады шёл он со своим родственником в небольшую церковь, стоявшую за деревней.
Был ясный, ноябрьский морозный день; багрового цвета солнце сверкало сквозь окрашенные пурпуром облака, и бледно-голубое небо раскидывалось над их головами. Сельский ландшафт смутно говорил о наступающих святочных увеселениях, недоступных для лондонца, лишённого возможности провести Рождество в деревне, но тем не менее веселящих душу.
Марк знал, что он должен будет провести праздник в Лондоне в кругу семейства, строго соблюдавшего воскресный день, и отказаться от всякой мысли об увеселениях. Однако и его радовало наступление Рождественских праздников, а быть может, то было действие погоды, или же молодости и здоровья, но только с каждым шагом недовольство его рассеивалось.
Дядюшка Соломон облёкся в толстое, драповое пальто и широкополую шляпу такого духовного характера, что это отражалось на его разговоре. Он заговорил о ритуализме и сожалел о том, что викарий заразился им, и о тайных интригах ненавистного Гомпеджа.
— Я родился баптистом, — говорил он, — и вернулся бы к ним, если бы они не были таким нищенским сбродом.
В таких разговорах они дошли до церкви, и дядя Соломон произнёс громким шёпотом:
— А вот и он сам, Гомпедж!
Марк вовремя оглянулся и увидел старого джентльмена, направлявшегося в скамейке, расположенной напротив их собственной. Старый джентльмен казался на вид очень сердитым. У него было жёлтое лицо, длинные седые волосы, большие серые глаза, крючковатый нос и крупные зубы, видневшиеся из-под седых усов и бороды.
Марку вдруг стало неловко, потому что сзади м-ра Гомпеджа шла хорошенькая девочка с распущенными белокурыми волосами, и высокая женщина в сером платье, с свежим лицом, и наконец девушка лет девятнадцати или двадцати, которая по-видимому услыхала слова его дяди, так как проходя взглянула в их сторону с выражением забавного удивления в глазах и чуть-чуть приподняв свои хорошенькие брови.
Как раз в эту минуту раздался громкий «аминь» из ризницы, орган заиграл гимн, и викарий со своим помощником выступил позади процессии небольших, деревенских мальчиков в белых стихарях и сапогах, скрипевших самых не набожным манером.
В качестве приверженца нижней церкви м-р Лайтовлер протестовал против этой профессиональной пышности громким храпом, который повторялся у него всякий раз, как клерджимены выказывали поползновение стать на колени во время службы, причём маленькая девочка оглядывалась на него большими удивлёнными глазами, точно думала, что он или очень набожен, или очень нездоров.
Марк невнимательно слушал богослужение; он смутно сознавал, что дядя его поёт псалмы страшно фальшиво и тщетно пытается подпевать в такт деревенскому хору певчих. Он объяснил потом Марку, что любит показывать пример внимательного отношения к богослужению.
Но Марк ничего не видел, кроме блестящего узла волос, видневшегося из-под тёмных полей шляпы его хорошенькой соседки и, время от времени, её тонкого профиля, когда она поворачивалась в своей сестрёнке. Он занялся праздными соображениями насчёт её характера. Была ли она горда? В её улыбке, когда она прошла мимо него, был оттенок пренебрежения. Своенравна? в повороте её грациозной головки замечалось нечто высокомерное. Но при всем том она была добра; он заключал это из того доверия, с каким девочка прильнула к ней, когда началась проповедь, а она нежно обвила её рукой и притянула ещё ближе в себе.
Марк был уже влюблён несколько раз; последняя любовь его была к хорошенькой кокетке, которая ловко водила его за нос, и хотя весь её репертуар был истощён и она перестала его интересовать к тому времени, как они расстались по взаимному согласию, но ему нравилось думать, что сердце его разбито и навеки охладело к женщинам. Поэтому он находился в самом благоприятном настроении для того, чтобы стать лёгкой жертвой нового увлечения.
Он думал, что ещё никогда не встречал девушки, подобной той, которую теперь видел, такой естественной и не натянутой, а между тем, такой изящной во всех своих движениях. Какие поэмы, какие книги можно написать под её вдохновением, и тут Марк с болью вспоминал, что покончил со всем этим навсегда. Самая изысканная форма поклонения вне его власти, если бы даже ему и представился случай ухаживать за ней. Эта мысль никак не могла способствовать тому, чтобы он примирился со своей судьбой.
Но возможно ли, чтобы случай свёл его с его новым божеством? По всей вероятности, нет. В жизни столько бывает этих соблазнительных проблесков, из которых никогда ничего не выходит. «Если она — дочь Гомпеджа, — думал он, — то надо отказаться от всякой надежды; но если только есть малейшая возможность, то я не упущу её из виду!»
И в этих мечтах он прослушал проповедь и не заметил, как служба кончилась.
Когда они вышли из церкви, ноябрьское солнце ярко светило. Оно высвободилось теперь из-за туч, рассеяло туман и грело почти как весною. Марк поглядывал во все стороны, ища м-ра Гомпеджа, с его спутницей, но они остались позади и, как он опасался, намеренно. Тем не менее, он решил узнать, кто они такие.
— М-р Гомпедж был в церкви со своим семейством? — спросил он.
— Гомпедж холостяк или, по крайней мере, выдаёт себя за такого, — язвительно заметил дядя.
— Кто же эти молодые девушки?
— Какие ещё молодые девушки?
— Да те, что сидели на его скамейке, — сказал Марк немного нетерпеливо; — девочка с длинными волосами и другая… постарше?
— Разве в церковь ходят затем, чтобы глазеть на публику? Я не заметил их; они приезжие, какие-нибудь знакомые Гомпеджа, полагаю. В сером была его сестра. Она ведёт его хозяйство, а он её тиранит.
Дядя Соломон был вдовец; племянница его покойной жены жила обыкновенно с ним и вела его хозяйство. То была пожилая особа, бесцветная и холодная, но понимала, как ей следует себя вести в качестве дальней родственницы, и заботилась об удобствах хозяина. В настоящую минуту она находилась в отсутствии, и отчасти по этой причине Марк был приглашён дядей в гости.
Они отобедали в небольшой тёплой комнате, просто, но хорошо убранной, и после обеда дядя Соломон дал Марку сигару и раскрыл том американских комментариев на апостольские послания, к которым он прибегал, чтобы придать воскресный характер своему послеобеденному сну; но прежде нежели книга возымела своё действие, сквозь закрытые окна послышались голоса, слабо долетавшие, очевидно, с конца сада.
М-р Лайтовлер открыл отяжелевшие веки:
— Кто-то забрался в мой сад, — сказал он. — Надо пойти и выгнать… это наверное опять деревенские ребятишки… повадились ко мне…
Он надел старую садовую шляпу и вышел в сопровождении Марка.
— Голоса доходят как будто со стороны дороги Гомпеджа, но никого не видать, — продолжал он: — да, так и есть! Вот и сам Гомпедж и его гости глядят через мой забор! Чего это ему вздумалось глазеть на мою собственность? Вот нахал!
Когда они подошли ближе, он остановился, и повернув к Марку лицо, побагровевшее от гнева, сказал:
— Нет, это такое нахальство, что превышает всякое вероятие! Каково? он глазеет на свою проклятую гусыню, как та прохаживается по моему саду, и наверное сам впустил её!
Дойдя до места действия, Марк увидел сердитого старого господина, бывшего утром в церкви; он с гневом смотрел через забор. Рядом с ним стояла красивая и стройная девушка, которую Марк видел в церкви; удивлённое личико сестры её показывалось по временам над кольями, а позади лаяла и визжала маленькая собачонка.
Все они глядели на большого серого гуся, который бесспорно забрался в чужие владения, но несправедливо было бы говорить, как м-р Лайтовлер, что они поощряют его к этому. Напротив того, главной заботой их было вернуть его, но так как забор был высок, а м-р Гомпедж недостаточно молод, чтобы перелезть через него, то им приходилось ждать, пока птица сама наконец образумится.
Но, как вскоре заметил Марк, беспутная птица не легко могла внять доводам рассудка, ибо находилась в состоянии сильного опьянения; она шатаясь брела по дорожке, нахально вытянув свою длинную шею, и её вялое, сонное гоготание как будто говорило: — «Убирайтесь, я сама себе госпожа!» — так ясно, как только это можно выразить на птичьем языке.
М-р Лайтовлер коротко и несколько злобно засмеялся.
— Ого! Вилкокс-таки сделал, как сказал, — заметил он. Марк бросил сигару и слегка приподнял шляпу; ему было совестно и вместе с тем ужасно смешно. Он не смел взглянуть в лицо спутницы м-ра Гомпеджа и держался на заднем плане, в качестве бесстрастного зрителя.
М-р Лайтовлер, очевидно, решил быть как можно грубее.
— Добрый день, м-р Гомпедж, — начал он, — кажется, я имел удовольствие уже раньше познакомиться с вашей птицей; она так добра, что по временам приходит помогать моему садовнику; вы извините меня, но я осмелюсь заметить, что когда она находится в таком состоянии, то лучше бы её держать дома.
— Это срам, сэр, — отрезал другой джентльмен, задетый такой иронией: — чистый срам!
— Да! это мало делает чести вашему гусю! — согласился дядя Соломон, нарочно переиначивая смысл слов своего соседа. — Часто это с ним случается?
— Бедная гусыня, — пропела девочка, появляясь у отверстия в заборе: — какая она странная; крёстный, она верно больна?
— Уходи отсюда, Долли, — отвечал м-р Гомпедж: — тебе не годится на это смотреть; уходи поскорей.
— Ну, тогда и Фриск не должен смотреть; пойдём, Фриск, — и Долли снова исчезла.
Когда она ушла, старый джентльмен сказал с угрожающей улыбкой, выказавшей все его зубы:
— Ну-с, м-р Лайтовлер, я вам, вероятно, обязан за то ужасное состояние, в каком находится эта птица?
— Кто-нибудь да напоил её, это верно, — отвечал тот, глядя на птицу, слабо пытавшуюся распустить крылья и презрительно загоготать над миром.
— Не отделывайтесь словами, сэр; разве я не вижу, что в вашем саду положили отраву для этой несчастной птицы?
— Успокойтесь, м-р Гомпедж, яд этот не что иное, как мой старый коньяк, — отвечал м-р Лайтовлер: — и позвольте мне вам заметить, что редкому человеку, не то, что какому-нибудь гусю, удаётся отведать его. Мой садовник, должно быть, полил им некоторыя растения… ради земледельческих целей, а ваша птица пролезла в дыру (про которую вы, быть может, припомните, я вам говорил) и немножко слишком понабралась им. На здоровье, только уж не сердитесь на меня, если у неё завтра будет болеть голова.
В этот момент Марк не мог удержаться, чтобы не взглянуть на хорошенькое личико, видневшееся по ту сторону забора. Не смотря на свою женскую жалостливость и уважение к владельцу птицы, Мабель не могла не сознавать нелепости этой сцены между двумя старыми рассерженными джентльменами, перебранивавшимися через забор из-за пьяной птицы. Марк увидел, что ей хотелось смеяться, и её тёмно-серые глаза на минуту встретились с его глазами и сказали, что она его понимает. То была точно электрическая искра, затем она отвернулась, слегка покраснев.
— Я ухожу, дядя Антони, — сказала она, — приходите и вы поскорее; будет ссориться, попросите их отдать вам назад бедного гуся, и я снесу его на свой двор.
— Предоставьте мне поступать, как я знаю, — досадливо отвечать м-р Гомпедж. — Могу я вас попросить, м-р Лайтовлер, передать мне птицу через забор… когда вы окончите свою забаву.
— Эта птица так любит копаться в моем навозе, что я должен просить извинить меня, — сказал м-р Лайтовлер. — Если вы посвистите, то я попробую загнать её в дыру; но ей всегда легче пролезть в неё натощак, нежели наевшись, даже и тогда, когда она трезва. Боюсь, что вам придётся подождать, пока она несколько придёт в себя.
Тут гусь наткнулся на цветной горшок, до половины зарытый в землю, и беспомощно покатился на землю, закрыв глаза.
— Ах, бедняжка! — вскричала Мабель, — она умирает.
— Видите вы это? — яростно спросил владелец птицы: — она умирает и вы отравили её, сэр; намоченный ядом хлеб был положен тут вами или по вашему приказанию… и, клянусь Богом, вы за это ответите.
— Я никогда не клал и не приказывал класть.
— Увидим, увидим, — сказал м-р Гомпедж: — мы об этом после поговорим.
— Слушайте же, пожалуйста, не забывайтесь, — заревел дядя Соломон: — будьте хладнокровнее.
— Да, будешь тут хладнокровным, как же! Пойти спокойно погулять в воскресный день и увидеть, что вашего гуся заманил в свой сад сосед и отравил его водкой!
— Заманил! это мне нравится! ваша птица так застенчива, неправда ли, что если её официально не пригласить, то сама она и дороги не найдёт? — подсмеивался м-р Лайтовлер.
Мабель уже убежала; Марк остался и уговаривал дядю уйти подобру-поздорову.
— Я так не оставлю этого дела, сэр; нет, не оставлю, — рычал м-р Гомпедж в ярости: — поверьте, оно принесёт вам мало чести, хотя вы и церковный староста.
— Не смейте поднимать этого вопроса здесь! — отпарировал дядюшка Соломон. — Не вам судить меня как церковного старосту, м-р Гомпедж, сэр; да, никак не вам.
— Не бывать вам больше церковным старостой. Я доведу это дело до суда. Я начну иск против вас за беззаконное, дурное и жестокое обращение с моим гусём, сэр.
— Говорят же вам, что я не трогал вашего гуся, а если я хочу поливать свой сад виски или водкой или шампанским, то неужто же я не властен этого сделать и должен заботиться о вашем глупом гусе; скажите пожалуйста, я не просил его приходить сюда и напиваться. Плевать я хотел на ваши иски, сэр. Можете судиться, сколько вам угодно.
Но не смотря на эти храбрые заявления, в душе м-р Лайтовлер порядочно трусил.
— Увидим! — отвечал тот злобно: — а теперь ещё раз повторяю, отдайте мне мою бедную птицу.
Марк нашёл, что дело зашло слишком далеко. Он поднял тяжёлую птицу, которая слабо сопротивлялась, и понёс её в забору.
— Вот жертва, м-р Гомпедж, — сказал он развязно. — Я надеюсь, что часа через два она совсем поправится, а теперь, полагаю, можно покончить со всем этим.
Старый джентльмен взглянул на Марка, принимая от него птицу.
— Не знаю, кто вы такой, молодой человек, а также, какую роль вы играли в этой позорной истории. Если я узнаю, что вы принимали также участие в этом деле, то заставлю вас раскаяться. Я не желаю входить ни в какие дальнейшие объяснения ни с вами, ни с вашим знакомым, который настолько стар, что мог бы лучше понимать обязанности христианина и соседа. Передайте ему, что он ещё обо мне услышит.
Он удалился с обиженной птицей под мышкой, оставив дядю Соломона в довольно мрачных размышлениях. Он слышал, разумеется, последние слова и жалобно поглядел на племянника.
— Хорошо тебе смеяться, — говорил он Марку, идя обратно в дом: — но знай, что если этот злобный старый идиот вздумает начать со мной тяжбу, то наделает мне кучу хлопот. Он ведь законник, этот Гомпедж, и страшный крючкотвор. Удивительно приятно мне будет видеть, как в газетах пропечатают меня за то, что я мучил гуся! Я уверен, что они будут уверять, что я влил ему водку прямо в горло. Это все Вилкокс наделал, а совсем не я; но они всё свалят на меня. Я поеду завтра к Грину и Феррету и поговорю с ними. Ты изучал законы. Как ты думаешь обо всем этом? Могут они засудить меня? Но ведь это страшно глупо, судиться из-за какого-то дурацкого гуся!
«Если бы и был какой-нибудь шанс познакомиться с прелестной девушкой, — с горечью думал Марк, после того, как утешил дядю настолько, насколько скромное знание законов ему дозволяло это, — то теперь он потерян: эта проклятая птица разрушила все надежды, подобно тому, как её предки обманули ожидания предприимчивых галлов».
Сумерки наступали, когда они шли через луг, с которого уже почти сошли последние лучи солнечного заката; вульгарная вилла окрасилась фиолетовым цветом, а на западе живые изгороди и деревья вырезались прихотливыми силуэтами на золотом и светло-палевом фоне; одно или два облака цвета фламинго лениво плыли высоко-высоко в зеленовато-голубом небе. На всём окружающем лежал отпечаток мира и спокойствия, отмечающего обыкновенно погожий осенний день, и царило то особенное безмолвие, какое всегда бывает заметно в воскресный вечер.
Марк подпал под влияние всего этого и смутно утешился. Он вспомнил взгляд, каким он обменялся с девушкой над забором, и это успокоило его.
За ужином дядя тоже приободрился.
— Если он подаст жалобу, то ему вернут её, — сказал он самоуверенно. — Он недаром ведь законник, должен же он это знать, полагаю. Разве я могу отвечать за то, что делает Вилкокс без моего приказания. Я не говорил ему, чтобы он этого не делал, но ведь не говорил также, чтобы он это сделал. И в чем же тут, спрашивается, жестокость? такой нектар, как эта водка. Вот налей-ка себе рюмку и попробуй.
Но когда они шли спать наверх, он остановился на верху лестницы и сказал Марку:
— Кстати, напомни мне приказать Вилкоксу разузнать завтра поутру, что делается с этим гусём.
Глава VI. Так близко и так, однако, далеко
Когда Марк проснулся на другое утро, погода переменилась. Ночью был мороз и туман окутывал тонкой белой пеленой всю окрестность: немногие деревья, которые можно было видеть поблизости, казались какими-то серыми и это делало их похожими на привидения. Завтрак был подан рано, так как Марк должен был торопиться в школу, и он сошёл вниз к дяде, который уже встал, поёживаясь от холода.
— Кабриолет будет готов через пять минут, — сказал этот джентльмен с набитом ртом, — поэтому поторопись с завтраком. Я сам отвезу тебя на станцию.
Дорогой он читал наставления Марку, но Марк не слушал его. Он думал о девушке, глаза которой встретились с его глазами накануне. Всю ночь он видел её во сне, тревожном, нелепом, что не мешало ему находиться под впечатлением этого сна. Свисток, раздавшийся в воздухе, отдалённый стук колёс о рельсы оповестил их, что они приближаются к станции, но туман настолько усилился, что ничего нельзя было видеть, пока м-р Лайтовлер не подъехал к лестнице, которая, казалось, никуда не вела и стояла особняком. Здесь они поручили кабриолет сторожу, а сами пошли на платформу.
— На дворе слишком холодно, — сказал дядя Соломон, — пойдём в залу, там топится камин. — Когда они вошли в залу, у камина стояла грациозная фигура девушки, гревшей руки у огня. Марку не надо было видеть её лица, чтобы узнать, что судьба сжалилась над ним и посылает ему новый случай. Гости м-ра Гомпеджа, очевидно, возвращались в город с тем же поездом, что и он, и сам старый джентльмен стоял спиной к ним и рассматривал расписание поездов, прибитое на стене.
Дядя Соломон, которому Вилкокс уже успел сообщить, о том, что злополучный гусь находится в вожделенном здравии, по-видимому, не испытывал никакой неловкости от этой встречи, но шумно двигался и кашлял, желая как будто привлечь внимание врага. Марк чувствовал большое смущение, опасаясь сцены; но поглядывал так часто, как только смел, на даму своих мыслей, которая надевала перчатки с решительным видом.
— Крёстный, — сказала вдруг маленькая девочка, — вы мне не сказали: хорошо ли вёл себя Фриск?
— Так хорошо, что не давал мне спать всю ночь и занимал меня своей персоной.
— Что он выл, крёстный? Он иногда, знаете, воет, когда его оставляют в саду.
— О, да, он много выл; это он отлично умеет делать.
— И вам, в самом деле, это нравится, крёстный? — вопрошала Долли: — многие, знаете, этого не любят.
— Какие ограниченные люди, — проворчал старый джентльмен.
— Неправда ли? — ораторствовала невинная Долли: — ну, я рада, крёстный, что он вам нравится, потому что теперь я всегда буду брать его с собой.
— Здравствуйте, м-р Гомпедж, — сказал дядя Соломон, прокашливаясь.
— Здравствуйте, — сухо отрезал тот. Девушка ответила на поклон Марка, но не подала виду, что узнает его.
Долли громко заметила:
— Э, да это старый сосед, который чем-то опоил вашего гуся; да, крёстный?
— Надеюсь, — продолжал дядя Соломон, — что вы обдумали вчерашнее своё поведение и убедились, что зашли слишком далеко, употребив те выражения, к каким вы вчера прибегли, тем более, что птица совсем здорова, как мне передавали сегодня утром.
— Не желаю входить в дальнейшие прения по этому предмету в настоящую минуту, — отвечал тот сердито.
— Да и мне он порядком надоел, и если вы согласны признать, что были слишком резки вчера, то я готов, с своей стороны, предать его забвению.
— Я не сомневаюсь в этом, м-р Лайтовлер, но вы должны извинить, если я уклонюсь от рассуждений об этом вопросе. Я не могу отказаться от него так легко, как вы склонны по-видимому думать, и… короче сказать, я не намерен говорить об этом здесь, сэр.
— Как вам угодно. Я хотел только отнестись к вам, как добрый сосед, но это ничего не значит. Я могу так же хорошо, как и другие, довольствоваться своим обществом.
— Если так, то будьте так добры, м-р Лайтовлер. Мабель, поезд уже пришёл. Забирайте свои пледы и другие вещи и идём.
Он надменно прошёл мимо негодующего дядюшки Соломона, в сопровождении Мабель и Долли, причём первой было как будто немножко стыдно поведения м-ра Гомпеджа, потому что она опустила глаза, проходя мимо Марка, между тем как Долли с детским любопытством поглядела на него.
«Чёрт бы побрал этих старых дураков, — сердился про себя Марк: — очень нужно им было так нелепо повздорить между собой. Будь они всего лишь вежливы друг с другом, я мог бы уже быть теперь представлен Мабель; мы могли бы даже вместе доехать до города».
Март сел в отделение, находившееся рядом с тем, в которое м-р Гомпедж усадил Мабель с сестрой. Ближе сесть он не посмел. Он слышал, как чистый голосок Мабель проговорил прощальные слова в окно вагона, в то время как дядя Соломон повторял свои увещания усердно работать и воздерживаться от всякого «литературного вздора».
От Чигберна до Лондона было не очень далеко, но как мы вскоре увидим, судьба решила, что это путешествие останется памятным как для Марка, так и для Мабель.
Глава VII. В тумане
Марк был вызван из задумчивости, в которую погрузился, сидя в вагоне, тем обстоятельством, что поезд после несколько замедлившегося хода совсем остановился. — «Не может быть, чтобы мы уже приехали», — подумал он, и выглянув в окно действительно убедился, что не ошибся. Они, наверное, были ещё далеко от столицы, да и не видать было, чтобы они стояли около станции, хотя трудно было удостовериться в этом, благодаря густому туману, окутывавшему всё кругом.
Вдоль всего поезда разговоры пассажиров, не заглушаемые больше шумом движения, слышались точно гуденье пчёл. Время от времени явственнее долетали некоторые слова, заставлявшие других невольно прислушиваться, потому что при таких обстоятельствах самый простой разговор приобретает необыкновенную пикантность, может быть, потому, что не видишь говорящих, и это действует на воображение, или потому, что они не ожидают, что их слышат другие.
Но мало-помалу все пассажиры сообразили, должно быть, что остановка необычайная; стали спускать стекла в окнах вагонов, и в последних стали появляться любопытные головы. Разные голоса вопрошали, где же это они находятся, и почему стоят и о чём думает, «чёрт бы её побрал, компания». На эти вопросы кондуктор, медленно расхаживавший вдоль поезда, отвечал с дипломатической увёртливостью, отличающей официальное нежелание сознаться в возможной неисправности.
— Да, — солидно отвечал он: — оказалось необходимым остановиться; но сейчас должны тронуться; он не знает как долго ещё они простоят; что-то случилось с машиной; но ничего серьёзного; он не может в точности сказать, что именно.
Но как раз под окном Марка к нему подошёл другой кондуктор с другого конца поезда, где произошла остановка, и между ними нашлась торопливая конференция, в которой уже не было степенности ни с той, ни с другой стороны.
— Беги со всех ног и подай сигнал выстрелами; нельзя терять ни минуты; он сейчас может налететь на нас, а других сигналов не увидят в такую погоду. Я бы на твоём месте, приятель, высадил их всех из вагонов. Им там может не поздоровиться.
Один кондуктор побежал подавать сигналы, употребляемые во время тумана, а другой отправился предупреждать пассажиров.
— Выходите из вагонов, господа; скорее, выходите! — кричал он.
В каждом поезде всегда бывает какой-нибудь несговорчивый человек, требующий логических доказательств необходимости потревожить свою персону. Он сердито выставил голову в окно, подле Марка:
— Слушайте, кондуктор! — с важностью закричал он: — что это значит? Почему я должен выходить?
— Потому что для вас будет лучше, — коротко отвечал тот.
— Но почему? где же платформа? Я настаиваю на том, чтобы меня подвезли к платформе, я не желаю сломать себе шею.
Несколько человек, растворивших двери своих вагонов и показавшихся на ступеньках, остановились при этих словах, как бы напомнивших им о чувстве собственного достоинства.
— Как вам угодно, сэр, — отвечал кондуктор: — машина сломалась и на нас в этом тумане с минуты на минуту может налететь другой поезд…
После этого все пассажиры, и первый из них несговорчивый господин, выказали такую прыть, что скоро очутились вне вагонов и побежали долой с полотна. Марк, мигом постигнувший, какой шанс посылает ему милостивая судьба, бросился к дверям соседнего отделения, схватил Долли на руки в то время, как она готовилась выпрыгнуть из вагона, и, едва веря своему счастью, подал руку Мабель и продержал одну счастливую минуту её ручку в своих руках, в то время как она спускалась с высокой и крутой ступеньки.
— Скорей сходите с рельсов, и отойдите как можно дальше от дороги на случай столкновения.
Мабель побледнела, потому что до сих пор не думала, что существует настоящая опасность.
— Не отходи от меня, Долли, — сказала она с полотна. — Здесь мы в безопасности.
Туман был так густ, что когда они отошли от рельсов на несколько шагов, то поезда совсем не стало видно; пассажиры двигались взволнованными группами, не зная сами, каких ужасов они могут быть свидетелями. Волнение усилилось, когда один из них объявил, что слышит стук приближающегося поезда.
— Слава Богу, что мы вовремя успели выбраться, и спаси Господь тех, кто на том поезде! — закричал чей-то голос.
Долли услышала это и громко завопила:
— Мабель, мы забыли Фриска! Он будет убит; бедная собачка, она погибнет! — рыдала она.
И к ужасу Марка бросилась бежать в поезду; он схватил её за руку. — Пустите меня! — отбивалась Долли, — я должна спасти Фриска.
— Он выскочил из вагона и наверное теперь уже в безопасности, — шепнул ей Марк на ухо.
— Он крепко спал в корзинке и не проснётся, если я не позову его. К чему вы меня держите! Пустите меня, — настаивала Долли.
— Нет, Долли, нет, — просила Мабель, наклонившись к ней, — теперь уже поздно. Тяжело бросить его на произвол судьбы, но делать уже нечего.
И говоря это, она тоже заплакала.
Марк не был человеком, от которого вообще можно было ожидать чего-нибудь героического. Нельзя сказать, чтобы он был себялюбивее большинства молодых людей; обыкновенно он не любил беспокоить себя ради других и в более хладнокровную минуту и если бы его не подстрекало присутствие Мабель, он бы конечно вовсе не нашёл нужным бежать спасать собаку от мучительной смерти.
Но тут была Мабель, и желание отличиться в её глазах сделало героем человека, характер которого менее всего обещал геройские подвиги. Физически он был достаточно храбр и способен поддаваться первому впечатлению, не заботясь о последствиях. Теперь им овладело желание спасти собаку и он слепо ему повиновался.
— Подождите здесь, — сказал он, — я схожу за ней.
— О, нет, нет, — закричала Мабель; — вы рискуете жизнью.
— Не удерживай его, Мабель, — просила Долли: — он хочет спасти мою собаку.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.