
Бесплатный фрагмент - Оправа для бриллианта, или Пять дней в Париже
Книга вторая
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
«ДЕМОН ИНФОРМАЦИИ»
ГЛАВА 1
«ЗЕЛЕНЫЙ ВЕТТИН»
A.D. 1732, ДРЕЗДЕН
Апрель выдался в этом году на редкость теплым и солнечным — тем более для этих мест. Все же Саксония — это не такой уж юг, хотя здесь и занимаются виноделием. Впрочем, месяц уже кончался, дело шло к маю, и, похоже, лето предстояло жаркое.
Себастьян окинул взглядом панораму, открывшуюся перед ним, с левого берега Эльбы. Город буквально на глазах менял свой облик, словно сбрасывая старую кожу: на место средневековой застройки приходили ажурные, изысканно-изящные, хотя и несколько помпезные постройки рококо. Со времени предыдущего визита Себастьяна в Дрезден город изменился весьма заметно — Замок значительно украсился и преобразился, но самое главное, рядом с ним свету явились утонченно-пышные барочные формы Цвингера, напоминавшие театральные декорации. Да это и не удивительно: сооружение и возводилось как площадка для театрализованных празднеств и всяческих увеселений, и потому его подчеркнуто декоративный, «галантный» характер казался вполне уместным и отлично гармонировал с его предназначением. И только само название «Цвингер», происходившее от того факта, что он располагался между бывшими наружной и внутренней городскими стенами, никак не вязалось со всем остальным.Сейчас, когда Себастьян прибыл в город снова, деревянные постройки Цвингера облеклись камнем и выглядели так, словно они стояли тут целую вечность.
Особенно выделялись своим богатым декором и редкой гармоничностью силуэта ворота Кронентор, а прихотливо-изящные формы двухэтажных павильонов вызывали в памяти карнавал в Венеции. Венеция… Перед мысленным взором Себастьяна явилась слегка колеблющаяся лунная дорожка на спокойной глади лагуны, блики разноцветных огней на воде, причудливые маски, жемчужины звезд на черном бархате южного неба. На какой-то миг горячечное карнавальное безумие своим тяжким дыханием дохнуло на него, обдало его своим жаром. Нет! Гладь воды перед ним — это Эльба, и небо над ним — это небо Саксонии. Однако же! Если создателю Цвингера Пеппельману удалось вызвать у него такие ассоциации, значит, это — несомненная удача! Надо будет непременно ему об этом рассказать — для творца важно знать такие вещи.
Венецианский карнавал… Удивительно, но именно там, на карнавале в Венеции заразился оспой саксонский курфюрст Иоанн-Георг Четвертый, преждевременная смерть которого неожиданно привела на престол его младшего брата Фридриха-Августа Первого, более известного как Август Сильный.

Август был весьма своеобразной и в своем роде незаурядной фигурой. Курфюршесткая шапка свалилась на его ветреную голову в разгар вакханалии развлечений и удовольствий, которым он, пользуясь своим статусом принца и следуя своей поистине ненасытной натуре, истово предавался, путешествуя по Европе и посвящая свое время искусству, музыке и, конечно, женщинам. Женщины — это была вообще особая статья.
Злые языки не без цинизма говорили о нем, что он родился лютеранином, по своим амбициям являлся католиком, а в частной жизни был, скорее, магометанином. Он был женат на Кристиане-Эбергардине Бранденбург-Байрейтской, от которой имел сына, названного, как и отец, Фридрихом-Августом — единственного, рожденного в законном браке. Впрочем, после того как Август Сильный был — во исполнение своих амбиций — избран королем Польши, ради этого перейдя в католичество, брак фактически распался: Кристиана осталась верна лютеранству. Но Августа это не смущало: у него под рукой было нечто вроде гарема — о нем говорили, что его, пожалуй, можно назвать Отцом своего народа в самом буквальном смысле этого слова — молва приписывала ему, по крайней мере, три сотни внебрачных детей. Но самой заметной фигурой среди его многочисленных любовниц была, несомненно, графиня Козельская.
Уже с 15 лет Анна Констанция фон Козель начала появляться при голштинском дворе: при этом миниатюрном дворе она особенно выделялась — помимо прочего еще и тем, что, в ответ на приставания наследника, раздавала ему оплеухи. В последствии, выйдя замуж за барона Адольфа Магнуса фон Хойма, она быстро остыла к нему, и стала испытывать к мужу отвращение, в результате чего брак был расторгнут. Именно тогда ее углядел Август Сильный. Это был любовник как раз по ней: все в нем было каким-то гипертрофированным — как у персонажей Гомера. Своим прозвищем он был обязан недюжинной силе, благодаря которой он ломал серебряные тарелки и гнул подковы (правда, Себастьяну доверительно поведали о том, что подковы эти были предусмотрительно изготовлены из специального мягкого сплава). Вообще, он весьма напоминал своего венценосного коллегу и союзника в войне со Швецией ныне покойного русского царя Петра, новый, императорский титул которого Европа вынуждена была принять. Оба они были под стать друг другу: рослые, сильные, неуемные, жадные до жизни, переполненные клокочущей энергией.
Но сейчас Себастьян был озабочен другим: делом, ради которого он, собственно, и прибыл в Дрезден — новым ценным пополнением своей коллекции алмазов. Он имел своих агентов, охотившихся за камнями (в принципе, это могли быть не только алмазы) во многих городах Европы, и уж, во всяком случае, в столицах. Он тщательно подбирал и пестовал их. При хороших комиссионных они старались не за страх, а за совесть. И вот, наконец, его агент в Саксонии вышел на поистине замечательный зеленый камень. Об этом Себастьян мечтал давно — цветных камней у него было немного, да оно и не удивительно: цветные алмазы вообще редки, а уж зеленые и подавно. Тем более что агент описал камень как «яблочно-зеленый», с замечательно равномерной окраской.
Впрочем, описания всегда остаются лишь описаниями — они слишком субъективны и, кроме того, здесь имеются чисто языковые трудности. Адекватно описать алмаз средствами языка вообще проблематично, особенно оттенки цвета. Тут многое зависит от условий освещения, индивидуальных особенностей зрения и прочего. Разумеется, среди людей, занимающихся камнем, сложилась своя условная терминология, позволяющая, казалось бы, передать все эти нюансы достаточно точно. Но Себастьян слишком хорошо знал, что пока не увидишь камень своими собственными глазами, судить о нем рано. И потому он был взволнован предстоящей встречей с алмазом — впрочем, как всегда в подобных случаях. Но уже сейчас, видев камень пока что только в воображении, он уже прочно ассоциировал его с Дрезденом. Возможно, из-за зеленой полосы на саксонском флаге и зеленого венца на саксонском гербе, возможно, из-за Зеленых Сводов, созданных Августом Сильным и о которых столько говорили в последнее время, что это стало, несомненно, одной из причин визита Себастьяна в столицу Саксонии.
***
— Доброе утро, Ваша Милость. Надеюсь, Вы хорошо спали? Желаете поесть у себя или предпочитаете спуститься к завтраку?
Себастьян поморщился.
— Каролина, — сказал он с легким упреком в голосе, — я же просил называть меня просто «господин фон Берг».
Щеки Каролины порозовели — чисто кровь на молоке, так что Себастьян залюбовался. «О, куда это меня понесло?» — подумал он, вяло одергивая себя. Вяло — потому что… «Потому! В конце концов, жизнь продолжается» — явилась ему «крамольная» мысль, впрочем, вовсе не показавшаяся ему такой уж крамольной.
— Ой, простите, Ваша Ми… — то есть, господин фон Берг! — окончательно смутилась Каролина, покраснев теперь уже до корней волос.
Себастьян невольно улыбнулся. Служившая горничной на постоялом дворе своего дяди, темноволосая, со светло-карими глазами, пухленькая Каролина, переполненная здоровьем и юной свежестью, излучала неодолимое очарование. Любопытная, с живым и общительным нравом, она, однако, отличалась странной застенчивостью. Она легко смущалась и тогда опускала свои опушенные длинными ресницами глаза долу и рдела, как маковый цвет. В эти минуты она вызывала особенную симпатию и теплоту, и на нее невозможно было смотреть без улыбки. Она нравилась Себастьяну — вот и сейчас, в своем переднике и чепце… Он почувствовал легкое и приятное волнение — она возвращала его к жизни. Зарумянившаяся Каролина и яблочно-зеленый алмаз. Похоже, жизнь пошла на новый виток.
— Ладно, Каролина, не переживай, — мягко успокоил он девушку, — это не так страшно. Просто постарайся впредь этого не забывать.
Он продолжал улыбаться — теперь уже ободряюще.
— Видишь ли, — сам не зная зачем, начал он, словно должен был что-то объяснять горничной — мне не хочется привлекать к своей скромной персоне излишнее внимание, меня это тяготит. И поэтому ты окажешь мне большую услугу, если будешь в дальнейшем внимательна.
Она подняла глаза, в которых вновь засверкала задорная искорка.
— Да, господин фон Берг, — ответила она, польщенная доверием, — я буду очень внимательна. Господин фон Берг может не беспокоиться.
— Хорошо, Каролина, — сказал Себастьян, — скажи дяде, что я, пожалуй, спущусь к завтраку — у меня сегодня общительное настроение.
— Слушаю, господин фон Берг.
— Ты так и будешь повторять это «господин фон Берг» в каждой фразе?
— Да, господин фон Берг, — ответила Каролина, стрельнув своими лукавыми глазами. — Мне нужно как следует поупражняться.
Ну, что ты с ней будешь делать? Себастьян рассеянно улыбнулся: мысли его уже витали вокруг «Зеленого Веттина» — яблочно-зеленого алмаза, который неудержимо манил его к себе.
Но самым поразительным было то, что камень продавал сын Анны Козельской — и внебрачный сын Августа Сильного, носивший титул графа Козельского и уже поступивший на военную службу.
Себастьян подозревал, что камень происходил из тех подарков, которые курфюрст поначалу надарил его матери — Анне Констанции — сверх того, что сделал ее графиней. С ее ли ведома продавался камень? Не она ли его и продавала? — Это было неизвестно. Понятно было только, что это делалось без ведома Августа. Впрочем, он давно не общался с Анной. Может быть, алмаз принадлежал к числу тех ценностей, которые Анна, по слухам, депонировала в свое время в одном из гамбургских банков?
Анна была женщиной незаурядной: достаточно сказать, что ей удалось продержаться в ранге официальной любовницы курфюрста в течение восьми лет — и это при Августе-то! Более того, она добилась того, что ее дети от Августа Сильного — две дочери и сын — стали не какими-нибудь бастардами, а были наделены, как и сама Анна Констанция, графским достоинством.

Она не только отодвинула от курфюрста всех прочих его любовниц, но и самым бесцеремонным образом вмешивалась в государственные дела, в том числе в польские политические дрязги, чем не раз спутывала карты курфюрсту и его сторонникам. Молва об этом шла по всей Европе, и Август стал предметом насмешек: появились даже «козельгульдены» и «козельдукаты» — золотые или серебряные игровые жетоны, на аверсе которых был изображен Август Сильный, а на обороте — петух с курочкой. Все это, разумеется, страшно бесило курфюрста и, так или иначе, не могло не кончиться плохо.
Однако в ранний период их отношений Август дарил ей, как говорили, большие суммы наличными. Она же эти деньги ссужала, и кто-то мог оставить ей драгоценности как залог ссуды: может быть, камень ведет свое происхождение отсюда? Алмаз, к слову сказать, был не индийским, а был добыт, по уверению продавца, на незадолго до того открытых месторождениях Бразилии, продукция которых лишь недавно появилась на рынке, — что дополнительно подогревало интерес Себастьяна, — тем более что его агент подтверждал это.
Говорили, что месторождения эти были открыты случайно: некий португальский колониальный чиновник, служивший перед тем в Индии, заметил, что старатели, добывавшие золото, играя в карты, использовали в качестве фишек прозрачные камешки, в которых он узнал алмазы — на поверку так и оказалось. Город старателей сразу же переименовали в Диамантину.И уже через два года бразильские камни появились в Европе: следуя по цепочке Лиссабон — Амстердам — далее, как придется. Эта история напомнила Себастьяну историю саксонского фарфора: тут тоже искали золото, а обнаружили нечто иное — однако никак не менее, а, пожалуй, даже более ценное. Воистину удивительны эти зигзаги фортуны…
Что же касается Анны, то она попала в жесточайшую опалу, нажив своею прямотою и своим влиянием на курфюрста множество врагов, особенно в Варшаве, а своей неуемной ревностью предельно утомив Августа Сильного — этого жеребца, привыкшего к вольному выпасу. В итоге она оказалась под арестом в крепости Штольпен в Силезии.
Любые контакты с ней были опасны, и если она имеет отношение к продаже, надо быть настороже. Впрочем, надо быть настороже в любом случае: если камень «уплывет» из Саксонии, Август Сильный не будет этому рад — со всеми вытекающими из этого последствиями. Поэтому Себастьян настоял на том, чтобы его контрагент действовал через посредника — так спокойнее.
***
В свой прошлый визит в Дрезден Себастьянн впервые услышал об алхимике Иоганне Фридрихе Беттгере — как раз тогда, когда тот еще не совершил своего вынужденного открытия и еще пользовался относительной свободой, просаживая деньги, которые ему заплатил курфюрст. За время, что прошло со времени того визита Беттгер успел изобрести первый в Европе фарфор, хотя курфюрст, конечно, ждал от него золота…
А началось все просто: Беттгер, выросший в доме, где и отец, и дед занимались монетами и были сведущи в изготовлении денег, вообразил себя алхимиком, в каковом убеждении он окончательно укрепился во время своего ученичества у берлинского аптекаря Цорна. В конце концов, ему удался трюк с золочением серебряных монет. Себастьян знал, как это делается: золото заблаговременно растворяется в ртути — а оно растворяется в ней даже очень хорошо и, главное, быстро, — после чего остается лишь отогнать жидкую ртуть. Было и множество других уловок: например, алхимик использовал для перемешивания расплава полую палочку, в которую были помещены несколько зерен золота. Причем, палочка эта предусмотрительно делалась деревянной, и конец ее быстро сгорал, так что никаких следов мошенничества не оставалось. Бывало, что золото искусно запаивали в угли или же использовали тигль с двойным дном. Что же касается философского эликсира, или, как его еще называли, магистерия, то за него нередко выдавали кроваво-красный раствор киновари, получаемой из соединения ртути с серой. Относительно же «золочения» серебряных монет, то — Себастьян знал это, — серебро всегда содержало в себе небольшое количество золота (чистое серебро получить при имевшихся технологиях было невозможно), и это золото оставалось лишь обогатить, то есть, увеличить его концентрацию.
Однако присутствовавшие при той демонстрации Беттгера посчитали это пермутацией, то есть подлинным превращением серебра в золото, да, похоже, Бетгер и сам в это верил. Когда об этом прослышал прусский король, он вздумал завладеть особой Бетгера, но тот, предупрежденный Цорном, скрылся и нашел временное пристанище у своего дяди в Виттенберге. Позднее, когда выяснилось, что Беттгер родился в Тюрингии, под юрисдикцией Саксонского курфюрста, Август Сильный предъявил на него свои права и взял под свое покровительство, после чего Беттгер добровольно прибыл в Дрезден.
Тогда, по стечению обстоятельств, Себастьян как раз оказался в саксонской столице и заинтересовался личностью и трудами Беттгера, о котором он уже был наслышан — он ведь и сам немало времени посвятил алхимическим изысканиям: Великому Деланию и поискам философского камня, или, как его еще называли, эликсира. Обширный опыт привел его к скептическому отношению к достижимости такой цели, однако же — чем черт не шутит — нельзя было, как он полагал, исключить, что кто-то из собратьев-алхимиков продвинулся дальше и добился большего успеха.
Впрочем, говорить о трудах Беттгера теперь можно было лишь иронически: после краткого периода напряженной, но, судя по всему, бесплодной работы, он кутил и пускал на ветер деньги, которые заплатил ему Август Сильный в надежде заполучить золото, столь необходимое ему сейчас, во время борьбы за польский трон. И терпение курфюрста не беспредельно. На что-то же рассчитывал Беттгер! Не может быть, чтобы он был совсем уж глупцом.
***
Беттгер с начала разговора произвел на Себастьяна впечатление горячего приверженца алхимии, человека, охваченного необузданным желанием — не столько даже найти, наконец, философский эликсир, сколько превращать, преобразовывать одно вещество в другое, создавать нечто новое, чувствуя себя соучастником Творения.
— Знаете, герр Берг, — чуть не задыхаясь от возбуждения говорил он, в очередной раз забывая вставить «фон», — когда завершаешь стадию и получаешь то, чего раньше не было…
Он словно швырял слова, яростно выталкивая их изо рта.
— То есть, — он смешался, — было, конечно, — но у других, у немногих — то чувствуешь себя так, как, наверное, должен был себя чувствовать Творец, Демиург, когда создавал Мир. Особенно, когда подходишь к переднему краю того, что было достигнуто предшественниками и коллегами, и осознаешь, что, может быть, ты первый… Тогда… Нет, это неописуемо!
Он в изнеможении откинулся на спинку стула. В глазах его светилось то, что Себастьян безошибочно узнал, ибо сам был этому подвержен: страсть. Подлинная страсть — из тех, что движут мирами.
Но теперь, похоже, наступил слом, и Великое Делание сменилось Великим Ничегонеделанием — Беттгер пил, заливая вином пустоту праздности — без остроты ощущений первопроходца, без истинной страсти он не чувствовал себя в своей тарелке.
Себастьян осмотрелся вокруг. Разговор происходил в верхней комнате таверны, где, как думал Беттгер, их не могли подслушать. По его словам, он часто пользовался этим помещением.
— Почему вы решили, что здесь избавлены от чужих ушей, герр Беттгер? Право, это наивно.
— Бросьте раздувать страсти, герр Берг! Наивность — это именно то, чем я не страдаю. Его величество мне доверяет.
Себастьян почувствовал, как его охватывает скепсис.
— Его величество не доверяет никому. — ответил он. — Я вполне допускаю даже, что он не доверяет самому себе.
Беттгер рассмеялся.
— Вы шутник, герр Берг!
— Вы полагаете, это шутка? Впрочем, как вам угодно. И вообще — это не мое дело, если уж на то пошло. Но все же не могу не напомнить вам, что курфюрст и король ждет золото, а его терпение коротко. Оно держится на том, что вы его убедили в своей способности совершить пермутацию, но оно уже на исходе. Едва ли он позволит и дальше водить себя за нос. Ваше положение становится опасным.
— Вы, стало быть, не верите, что я совершил пермутацию серебра в золото? Между тем, вам следовало бы знать, что это не только возможно, но и делалось не раз, в том числе и моим учителем герром Ласкарисом, от коего я в свое время получил целых две унции особого порошка, позволяющего превратить малый эликсир в магистерий.
— Что ж вы им не воспользуетесь, коллега? — последнее слово Себастьян произнес с отчетливой иронией.
Но Беттгер, похоже, ее не уловил. Он выглядел, скорее, обиженным, нежели обеспокоенным. — Молодой авантюрист, — подумал Себастьян, — Пороху не нюхал, вот и заводится. А ведь талантлив, это сразу чувствуется! Однако же он быстро пьянеет. Надо сбросить темп.
— Сначала мне надобно получить малый эликсир, — словно с обидой на непонятливость Себастьяна сказал Беттгер, — неужели вы этого не понимаете? А это требует времени и трудов.
— Каковое время вы проводите в тавернах. О трудах же я и вовсе не говорю! А, между тем, как я понял, вам пришлось начинать Великое Делание, фактически, с самого начала.
— Именно так, сударь. Курфюрст этого не желает понять. Им владеет жажда наживы, и, кроме того, он желает переплюнуть и прусского короля, и императора. И потому он меня подгоняет.
— Он даже еще и не начал вас подгонять по-настоящему, — возразил Себастьян, — И вы в этом весьма скоро убедитесь, уверяю вас. А насчет наживы и тщеславия… Этим живет сей мир: так было и так будет. Кроме всего прочего, Августу позарез нужны средства для борьбы за удержание польского трона. Эта «битва за Варшаву» поглощает деньги, как песок воду. Так что он скоро потеряет терпение.
— И что же?
— Тогда ваше легкомыслие выйдет вам боком. Вы это не можете не понимать, сколько бы вы ни глушили себя вином. Чего вы успели достигнуть за это время? На какой вы стадии сейчас?
Беттгер отпил вина, не говоря ни слова. Молчание затягивалось.
— Никакого порошка нет, а? — тихо произнес Себастьян.
Щеки Беттгера побагровели — от выпитого вина и… От гнева? Или от смущения? А может, просто от страха?
— Вы подозреваете меня во лжи? Извольте выбирать слова!
Несмотря на наигранное возмущение, голос его дрогнул. Себастьян потерял к нему интерес. —
А зря, — думал он теперь, — Я его тогда недооценил. Он — действительно талантливый малый, хоть и любитель приврать. Надо же — изобрел первый не китайский фарфор! Когда начало припекать, и Август посадил его в Мейсене под замок, он зашевелился: под неусыпным надзором фон Чирнхауза, приставленного к нему курфюрстом в качестве надзирателя и одновременно старшего коллеги, который, собственно, и уговорил его заняться опытами на стекольной мануфактуре, он изобрел вначале красный фарфор, а затем, в 1709 году, и «отменный белый фарфор с изысканной глазурью», о чем он и не преминул известить курфюрста. Для курфюрста это был настоящий подарок судьбы: нечто поистине эксклюзивное — то что с тех пор и впредь называлось мейсенским фарфором.
Эта поучительная история с изобретением фарфора в очередной раз подтвердила наблюдение, которое Себастьян сделал уже давно: творческим натурам для самореализации нередко требуется хороший пинок, решительно выводящий их из затянувшегося творческого простоя. Что ж, как бы то ни было, мейсенский фарфор теперь на вес золота, так что в конце концов курфюрст добился своего. Ну, почти добился. Вот, однако, как тщеславие и неуемное стяжательство творят новые технологии!

***
К сожалению, все с самого начала пошло наперекосяк. Начать с того, что посредник не явился с алмазом на условленную встречу, а вместо того прислал посыльного с запиской, извещавшей, что он прийти не может, так как за ним следит его собственный дворецкий. Каковой дворецкий, как он предполагает, соглядатай курфюрста. И это открытым текстом через посыльного! Что за идиот! Хорошо хоть то, что он не назвал предмет продажи — алмаз. Впрочем, Себастьян не обольщался — если за ним следили, то могут и это знать. Если это дойдет до курфюрста, придется в пожарном порядке уносить ноги из Саксонии. И хотя такой вариант, как немедленная ретирада был им заранее просчитан, он испытал горчайшее расстройство: это был удар, какого он при пополнениях своей коллекции еще не испытывал. Он ведь уже заплатил аванс за алмаз. Он вновь представил себе камень: тот послушно предстал перед его мысленным взором.
Алмаз, который он, наконец-то, осмотрел накануне, оправдал его надежды: совершенно очаровал его. И он, действительно, был яблочно-зеленым, чистой воды и крупным: почти 40 карат, что для цветного алмаза весьма много. Кроме того, он был очень удачно огранен, вероятнее всего, в Амстердаме — огранкой «Перуцци», или, как ее еще называли, «тройной». Камни именно этой, наиболее совершенной на данный момент, огранки с недавних пор стали называть бриллиантами.
И тут вдруг Себастьян совершенно ясно осознал, что его водят за нос. Он закрыл глаза и сосредоточился.
И сразу же увидел, как наяву, «Зеленый Веттин» в обтянутом темно-синим бархатом футляре изысканной работы, лежащим на столе в отделанной зеленым велюром гостиной. А рядом с ним стоящего у стола человека — молодого, без парика, с растрепанными волосами и с выражением растерянности и озабоченности в бегающих глазах.
Ах, вот оно что! Ну, мы еще посмотрим, чем дело кончится. Неужели этот идиот думает, что этой писульки хватит для того, чтобы меня устранить! Камень будет моим! Даже если курфюрст встанет на пути. Довольно уже и того, что алмаз получил династическое имя курфюрста — «Веттин». Впрочем, Себастьян теперь не только интуитивно чувствовал, но и видел уже воочию, что Август Сильный тут ни причем — это лишь повод, чтобы не расставаться с камнем, несмотря на договоренность и уплаченный аванс.
Себастьяну было не жаль денег (в конце концов, это ведь не гешефт, а коллекция, это — для души), хотя он и умел их считать и, разумеется, не собирался их дарить, — но эмоционально это его не особо задело. Однако то, что нечто преградило ему путь к алмазу, встало между ним и его желанием, просто взбесило его. И, как всегда, когда его охватывал подлинный гнев, он стал холоден, как лед, что не предвещало тому, кто стал у него на пути, ничего хорошего. Он уселся в кресло, и, вновь вызвав «картинку», сконцентрировался на ней.
На сей раз это продолжалось не слишком долго: прошло, судя по часам, около получаса, хотя Себастьяну показалось, что минуло никак не меньше часа. Он проник в сознание посредника, и поначалу ненавязчиво, «на пробу» обшарил его, понемногу осваиваясь в нем и пока обходя стороной главный очаг возбуждения — мысли о «Зеленом Веттине». Однако очаг был очень мощным: можно сказать, что «все его мысли были заняты этим», и Себастьян, решив, что пришел момент проникнуть в его намерения, узнал, что малый склоняется к бегству. В его сознании постоянно всплывало слово «Потсдам», из чего можно было заключить, что он предполагает продать камень прусскому королю, предварительно присвоив себе и алмаз, и аванс, и оставив, как он думал, в дураках и продавца, и покупателя — то есть, его, Себастьяна. Это был именно тот случай, которого Себастьян всегда опасался: соблазн овладеть камнем может оказаться слишком сильным, и именно поэтому он старался, по возможности, сводить число участников сделки к минимуму, делать все самому, никого не вводя в искушение. И вот, стоило только раз отступить от этого правила, и… Хотя сейчас уж поздно об этом думать, надо действовать, и быстрее.
Поспешность, впрочем, тоже ни к чему: как говорится: «Festina lente»Не нужно гнать, напротив — нужно спокойно и вдумчиво поработать, овладеть волей посредника (Себастьян не хотел упоминать его имя и решил условно называть его просто «герр Посредник»). И тогда тот сам сделает то, что нужно. Такого Себастьян еще не проделывал — что ж, тем интереснее! — Пожалуй, все совсем не так уж плохо, — подумал он, — небольшое приключение, творческий волевой акт — это отнюдь не лишнее. Это даже кстати.
Полчаса он работал — сидя в кресле. Увидев его в этот момент любой подумал бы, что он отдыхает и даже дремлет, но на самом деле он пребывал в состоянии наивысшего сосредоточения. Через полчаса он счел, что пока довольно. Открыв глаза, глубоко и медленно вдохнул и выдохнул несколько раз, а затем выпрямился в кресле. Он внезапно почувствовал голод и жажду и решительно взялся за колокольчик.
На звонок явилась Каролина. Сегодня она была особенно свежа и очаровательна: новое платье? Новая прическа? Себастьян на минуту напрягся, пытаясь вспомнить, в чем она была накануне, а затем махнул на это рукой — его волшебная, феноменальная память этого не удержала, скорее всего, потому что нечего было удерживать — соответствующая информация отсутствовала. Вероятнее всего, он просто не обратил на это внимания — так, общее впечатление. Сегодня это общее впечатление было другим, намного более ярким и волнующим кровь. Может быть, потому что он был возбужден, и все чувства после сеанса телепатии были натянуты, словно струны клавесина, напряжены до предела?
— Я здесь, господин фон Берг. Вы уже отдохнули?
— Отдохнул?! — ошарашенно спросил Себастьян. — О чем ты?
— У вас в комнате было тихо с полчаса или больше, — произнесла Каролина, смутившись и потупив взгляд.
— А до того? — он заинтересовался.
— А до того вы ходили по комнате взад и вперед и страшно топали. Я еще подумала: господин фон Берг, должно быть, сильно волнуется.
— Страшно топал… Вот как. Надо же, все-то ты замечаешь.
— Ой, простите, господин фон Берг, — покраснев, сказала Каролина. — Но это было очень громко, так что я невольно услышала.
— И сделала выводы, — договорил Себастьян. — Что ж…
Каролина выглядела расстроенной.
— Я… — начала она, но он перебил ее:
— А, оставь это, — произнес он. — ты не сказала ничего такого. Все так и было: я чувствовал себя немного не в своей тарелке, а потом успокоился и действительно отлично отдохнул. Эти полчаса определенно пошли мне на пользу! И теперь я страшно хочу есть.
— Слушаю, — обрадовалась Каролина. — Чего желает господин фон Берг?
— Опять «господин фон Берг»! Ты верна себе, Каролина.
Он махнул рукой.
— Господин фон Берг, — продолжил он беззлобно, предупреждая новые извинения Каролины, — желает нюрнбергских колбасок, и побольше. Потом — корнишонов и спаржи.
Он немного подумал.
— И шнапса, — решительно добавил он, сочтя, что немного алкоголя не помешает.
— Хорошо, господин фон Берг, — я сейчас же.
***
Каролина появилась вновь очень скоро, действительно почти сей же момент.
— Ты что, держала все наготове? — удивился Себастьян.
— Да, господин фон Берг, — тихо ответила она, опустив глаза, словно была в чем-то виновата.
— Что ты потупила взгляд, как будто тебя уличили в чем-то неприличном или недостойном? Напротив — ты молодец!
Себастьян уже вовсю уплетал принесенные колбаски, у него было такое чувство, словно он не ел несколько дней. Сколько же энергии я затратил? — мелькнула у него мысль. — Ну, ничего — это окупится.
— Как только ты обо всем подумала? — спросил он с набитым ртом.
Каролина стрельнула глазами — это заняло мгновение, но Себастьян успел заметить в ее взгляде смешинку.
— Господин фон Берг любит нюрнбергские колбаски и спрашивает их очень часто. И всегда ест их с овощами и зеленью. Поэтому я стала держать их под рукой. Мой дядя говорит: — Господин фон Берг — очень хороший клиент, — он верен своим вкусам и привычкам.
— Вот как? — сказал Себастьян. — Неужели я так однообразен?
Он покачал головой, продолжая жевать.
— Значит, я нравлюсь твоему дяде, — задумчиво произнес он, — а тебе? Тебе я тоже нравлюсь?
Каролина вспыхнула, но глаз в этот раз не опустила.
— Господин фон Берг — видный мужчина, — сказала она не без кокетства.
Себастьян пристально посмотрел на нее, почувствовав, как в нем словно разворачивается нечто тяжелое, горячее, не подконтрольное здравому смыслу. Нечто, замешанное на инстинкте, звериное. Под его взглядом Каролина вспыхнула, а затем пошла пятнами. Однако она упорно не опускала глаз, а лишь сместила взгляд чуть в сторону, глядя немного левее его. Дыхание ее сбилось. Себастьян чувствовал, что контроль «уплывает» из его рук, что он перестает управлять ситуацией. В голове внезапно образовался сумбур, а затем стало пусто. Он попытался взять себя в руки.
— Ты находишь? — спросил он, думая вложить в этот вопрос иронию. Но интонация получилась совсем не ироничной, как обычно, а какой-то глупой. Он буквально физически ощущал, что стремительно глупеет. И, уже действуя скорее инстинктивно, рефлекторно, он положил свою ладонь на руку Каролины выше локтя. И тогда случилось неожиданное: его «пробило». Это довольно-таки безобидное касание вызвало в нем бурю: словно нечто внутри него взорвалось и, сорвавшись с места, стремительно разлеталось ошметками в разные стороны. Думать он не мог, вместо речи рот издавал лишь какое-то сипение. На него будто снизошло безумие, и он, не заметив, как это произошло, придвинул Каролину к себе.
Давно с ним не бывало подобного: это было как укол шпаги, или, вернее, как удар в лицо наотмашь латной перчаткой. Он уже не контролировал себя, совершенно потеряв голову. Никогда не думал он, что подобное может произойти с ним. Он ощутил, как плоть его восстает — бешено, неудержимо, чуть не прокалывая одежды. Каролина трепетала. Она прикрыла глаза и дышала тяжело и сбивчиво.
Себастьян же едва не задыхался. Яростная страсть овладела всем его существом. В этот момент он понял, что Каролина физически как нельзя более подходит ему, что она для него идеальный эротический партнер, словно специально «под него» созданный, так же как, должно быть, и он сам для нее. И он также понял Августа Сильного, долгая и казавшаяся непонятной «приклеенность» которого к Анне Козельской не вызывала у него более раздраженного недоумения, смешанного с легким презрением. Теперь он понял: то была страсть — животная, физиологическая страсть, с которой невозможно совладать. Почти невозможно. Вот и Себастьян сейчас чувствовал, что гибнет.
И в этот момент он вспомнил «козельдукаты», на обороте которых были изображены петух с курочкой, и его губы сами собой сложились в улыбку, а затем ему стало смешно, и вслед за смехом вернулись мысли, и восстала из небытия, казалось бы, испепеленная ирония, и воссияли логика и здравый смысл. Голова уже не казалась более пустой — ум определенно возвратился в нее и был готов к работе. Смех, божественный смех вернул его. Поистине, смех — это дар богов, чудодейственное снадобье! Пожалуй, единственное, которое тут могло помочь.
Себастьян почувствовал, что давится от смеха. Каролина, резко придя в себя, вырвалась и убежала. Да он и не пытался ее удержать. Он, смеясь, бухнулся в кресло и постепенно успокоился. Он чувствовал себя свежим, бодрым, полностью восстановившим силы, словно исцелившимся от тяжелой болезни.
***
Все прошло по плану — так, как и рассчитывал Себастьян. Герр Посредник оказался натурой очень внушаемой, что было, разумеется, весьма кстати. Но, кроме того, он был по характеру очень беспокойным, тревожным и, как следствие, нерешительным. Однако вместе с тем, парадоксальным образом, склонным к опасным авантюрам. Одним словом, с ним пришлось основательно повозиться, прежде чем удалось достаточно надежно внушить ему последовательность действий, которые ему надлежало совершить. Это потребовало кучу сил и энергии — право, с тигром было куда легче, чем с этим типом. Но зато теперь Себастьян держал его на своего рода поводке и мог его контролировать, что, кстати, и приходилось делать довольно часто, дабы тот не сорвался с этого импровизированного «поводка», оказавшегося, впрочем, надежным, хоть и незримым.
***
Спустившись к завтраку, Себастьян не сразу заметил отсутствие Каролины — он прокручивал в памяти «операцию» по приобретению бриллианта и анализировал ее. Но, как бы критически он ни разбирал ход действия, он не мог не констатировать, что все было разыграно, как по нотам. Это радовало, но вместе с тем обескураживало: он привык находить изъяны, вносить необходимые коррективы и извлекать уроки на будущее. После этого он мог со спокойной душой отправить дело в «архив», на четко определенную, предназначенную для этого полочку своей все запоминающей памяти — и успокоиться. На этот же раз все прошло слишком гладко — как бывает, когда в первый раз играешь в карты — в какую-то новую для тебя игру: по первому разу порою везет, или же тебе специально дают выиграть — и ты пребываешь в эйфории, переоцениваешь себя, теряешь осторожность. Забываешь, что ты — еще только ученик. В результате — проигрываешься в пух и прах. Так и тут: в новом деле — а такое он проделывал действительно в первый раз — не стоит обольщаться первоначальными успехами, а следует сохранять критическое отношение ко всему.
Но все и вправду прошло удачно. После «сеанса» очистительного смеха он вернулся к работе и вновь проник в сознание Герра Посредника. На сей раз ему не пришлось даже шарить в поисках — напротив, он нашел объект своего воздействия сразу. И теперь уже он вцепился в него мертвой хваткой. Он ловко ввел в него программу таким образом, что Герр Посредник воспринял ее как свою собственную, выполняемую по своей воле. Запрограммировав его, Себастьян еще дважды «прошелся» по настройкам и только после этого активировал программу (он сформулировал свои действия именно в таких странных выражениях, взявшихся словно из некоего информационного пространства, которое он про себя называл «Всемирной Библиотекой», ). По ходу дела он постоянно контролировал Герра Посредника, вел его чуть ли не за ручку. И тот сам принес ему камень. Себастьян, хотя и вычел из его комиссионных 30 процентов в качестве компенсации за моральный ущерб, все же выплатил ему бОльшую часть того, что ему причиталось, и, сверх этого, запрограммировал его передать деньги за алмаз продавцу. Сделка — это сделка, здесь все должно быть четко, и свои обязательства надлежит выполнять — даже если возникают препятствия. И, уж само собой, он заплатил своему агенту, который вывел его на камень — тут уж щедро и с чувством удовлетворения — «Зеленый Веттин» стал, несомненно, жемчужиной его коллекции.
Тут Себастьян тихонько засмеялся: в самом деле, забавный получился каламбур — жемчуг он не собирал — ввиду его недолговечности. У него в коллекции были камни, которым не грозит старение и смерть.
С этой утешительной мыслью и с чувством хорошо сделанной работы он огляделся: две девушки-служанки, уже знакомые Себастьяну, деловито сновали по столовой, обслуживая двух клиентов-мужчин и одну супружескую чету, но Каролины не видно было. Однако хозяин был тут, за стойкой. Себастьян окликнул его:
— День добрый, герр Баумбах, а где же Каролина?
Хозяин вытер усы.
— Добрый день, герр фон Берг, — ответствовал он с кислой миной. — Если вы хотите поесть, я сам вас обслужу. Тогда и переговорим. Вам то же, что всегда?
— Да, герр Баумбах, будьте любезны, — Себастьян кивнул головой.
Он уже понял, что вчерашняя нежданная вспышка страсти имела какие-то последствия. Хотя он, так или иначе, ничего не мог с собой поделать, да и, собственно, ничего такого и не случилось, если уж на то пошло. В последние несколько часов он и не вспоминал об этом: вначале его мысли целиком занимала операция с «Зеленым Веттином», а затем — предстоящая встреча и беседа с создателем Цвингера архитектором Маттеусом Даниэлем Пеппельманом, условленное время которой приближалось.
Себастьяну было ясно, что теперь последуют удручающе тоскливые, угнетающие до зубной боли выяснения и объяснения, от которых уже сейчас ему делалось не по себе. — Экая досада! — думал он. — И как это не кстати!
— Сударь, — завел между тем хозяин, — Каролины пока не будет, я ее отослал к ее родителям под благовидным предлогом. Надеюсь, вы понимаете почему?
— Догадываюсь.
— Всего лишь догадываетесь? — брови Баумбаха приподнялись — так, слегка: сказался, без сомнения, долгий опыт общения с клиентами.
— Герр Баумбах, — решительно произнес Себастьян, — давайте начистоту, без недомолвок. Идет?
Хозяин молча кивнул.
— Я не знаю, — продолжал Себастьян, — что вам наговорила Каролина (хотя при желании мог бы это узнать, — подумал он), но, уж поверьте мне, как человеку, коего вы давно знаете: между нами ничего не было. Ни-че-го!
— Совсем ничего? — скептически осведомился Баумбах.
— Почти ничего — это даже инцидентом не назовешь. Я просто положил руку ей на плечо.
— И прижались к ней! — добавил дражайший дядюшка, придав своему голосу оттенок патетики.
— Ей так показалось — она вообще очень впечатлительная девушка. Я не прижимался к ней — просто слегка придвинул к себе. Признаю, у меня случилось минутное помрачение, и я на минуту — говорю вам, буквально! — на минуту утратил самоконтроль. Но тут же его восстановил и оставил девушку в покое.
— Она с трудом вырвалась из ваших объятий!
— Уже и и с трудом… — грустно прокомментировал Себастьян, — Я ее не держал. Если б я ее действительно сжимал в объятиях, как вы утверждаете, она никак не смогла бы вырваться из них, уверяю вас. Или я произвожу впечатления малосильного?
— Вы насмехались над нею!
— Я смеялся вовсе не над ней.
— А над кем?
— Это не важно — просто вспомнил одну забавную вещь.
— Так что же, она все врет?!
— Не врет, — поправил Себастьян успокаивающим тоном, — а присочиняет. Неосознанно и непреднамеренно. Ей так кажется — я уже говорил, что она — весьма эмоциональная девушка.
Баумбах растерянно молчал.
— Повторяю, это длилось минуту, или чуть больше, — продолжил Себастьян сухо, — и между нами ничего не произошло. Конечно, я не должен был и такого допускать — никоим образом. И я весьма сожалею об этом и приношу свои извинения. Если вы полагаете, что я причинил девушке моральный ущерб, я готов компенсировать его в финансовом отношении — в пределах разумного.
— Нет-нет! В этом нет надобности.
— Как вам угодно. Но все-таки вы правильно сделали, что отослали Каролину — ей надо успокоиться. Однако это в любом случае ненадолго — меня ждут дела, и я так или иначе планировал съехать в ближайшее время, полагаю, это произойдет послезавтра, так что Каролина сможет скоро вернуться.
Баумбах молчал, переваривая услышанное.
— И, надеюсь, вы не считаете, что я должен теперь на Каролине жениться? — добавил Себастьян с легкой иронией.
***
Кофе был превосходен.
И потому он отлично гармонировал с беседой, которая происходила на террасе. Приятный разговор длился уже около часа, и сейчас как раз подошел к по-настоящему интересным для Себастьяна темам. Наконец-то! Наконец-то перед ним был человек, с которым действительно было о чем поговорить, и общение с которым доставляло интеллектуальное удовольствие и приносило информацию, которая была Себастьяну необходима больше, чем хлеб насущный — необходима, как воздух.
— Я осмотрел ваши постройки, герр Пеппельман: и замок Пильниц, и Японский дворец — и они произвели на меня самое благоприятное впечатление. Исключительно благоприятное. Это поистине блистательные, можно смело сказать — образцовые образчики барокко. (Уж извините за тавтологию!) Поверьте мне, я объездил всю Европу и мало что пропустил. Где я только не был! И мне есть с чем сравнивать.
— Тогда, милостивый государь, почему бы вам не сравнить с Версалем? Или вы станете утверждать, что то, что я понавозводил на службе курфюрсту идет в какое-либо сравнение с тем, что нам оставил герр Ардуэн-Мансар? А Вюрцбург? Я слышал, там строится великолепная барочная резиденция. Вы в курсе?
— В Вюрцбурге я недавно побывал — дела меня приводят туда довольно часто. Князь-епископ действительно строит резиденцию, которую начал еще его предшественник в 1720 году. Семейство фон Шенборнов вообще неровно дышит к роскошным барочным резиденциям.
— Я слышал об этом. И насколько продвинулось строительство?
— Сейчас идут работы в Парадном дворе и так называемом Городском флигеле. В целом, южное крыло начали возводить в 1730.
— Работы ведет, насколько я знаю, Лукас фон Гильдебрандт?
— Да, строительство ведется по его планам с 1729 года.
— Позвольте спросить: что вы об этом думаете?
— Об этом еще слишком рано говорить.
— Полноте! Подобные тривиальности в ваших устах! Вам ли не видеть, что там к чему?
Себастьян задумался.
— Я полагаю, — с упрямой настойчивостью произнес он, — что там главное впереди.
Пеппельман хмыкнул.
— Это-то понятно, — бросил он.
— Я чувствую — да, если угодно, именно чувствую: во всем великолепии резиденция предстанет позже. Тогда и можно будет судить. К тому же, сравнивать следует с Цвингером — именно с ним. Именно он — несомненно, ваше главное, ваше лучшее творение. Ваш опус магнум.

— Да, — с ноткой недоумения в голосе согласился архитектор. — Цвингер мне удался более всего. Бог знает почему.
— Думаю, не только он, но и вы тоже знаете почему.
— Почему же?
— Вы любите его, это очевидно. Атмосфера театра, карнавала вам, должно быть, по душе.
— Признаться, она всегда пленяла меня.
— Я тоже должен вам признаться кое в чем…
Пеппельман вопросительно посмотрел на собеседника.
— Насчет карнавала… — вновь заговорил Себастьян. — Не могу не сказать вам, что когда я смотрел на Цвингер, я вспомнил карнавал в Венеции — у меня абсолютно самопроизвольно возникла такая ассоциация. На какой-то миг я даже словно бы перенесся туда…
Пеппельман заметно оживился и выглядел взволнованным. Сказанное Себастьяном чрезвычайно заинтересовало и, похоже, тронуло его.
— Вы участвовали в венецианском карнавале… — задумчиво произнес он, и это не было вопросом.
— О да.
— То, что вы рассказываете, очень интересно и важно для меня. Я сам что-то такое чувствовал, но не слишком определенно. Но, видимо, сумел уловить дух и атмосферу театра, галантного праздника.
— Как вы сказали — «галантного праздника»? Мне кажется, я где-то это слышал. Ммм, пожалуй.
— Рискну предположить, что карнавал в Венеции оставил в вашей душе неизгладимое впечатление. Не так ли?
— Неизгладимое… Да, вы правы.
Внезапно его захватил вихрь воспоминаний и завертел, как карусель. Он ощутил легкое головокружение.
— Вижу, у вас остались от этого какие-то тягостные воспоминания, — заметил Пеппельман.
На лицо Себастьяна пала тень.
— Все это было слишком похоже на безумие, — грустно произнес он. — Да и было таковым. Но не стоит об этом. Как говорят французы, «вернемся к нашим баранам». Так вот, знайте: Цвингер неповторим и единственен в своем роде.
— Он — самая любимая моя постройка. Но, право же, не стоит преувеличивать. Настоящий масштаб для сравнения — это классика: Рим, например. Там благородство и монументальность форм. А тут…
— Монументальность? Это да. Но Рим холоден, как собачий нос. Все эти арки, колонны, амфитеатры — все это совершенно не греет душу и вызывает у нормального человека ощущение своей незначительности. Все эти почтенные груды камней просто придавливают к земле. И, в конце концов, почему, если что-то имеет претензию выглядеть благородно, то оно непременно должно лежать в руинах?
Пеппельман рассмеялся.
— А вы не прочь сострить, как я погляжу, — заметил он, отсмеявшись.
— Смех помогает держаться здорового отношения к вещам, — ответил Себастьян, — и не впадать в патетику.
Архитектор пристально посмотрел на него.
— Я именно и придерживаюсь здорового отношения к себе и своему творчеству — то есть, критического, — сказал он.
— Критика не должна вести к самоуничижению, — возразил Себастьян. — И у античной классики, и у рококо есть свои достоинства и привлекательные черты
— На бюргерский вкус, — кивнул головой Пеппельман.
— А хотя бы даже и так! Вкус к классике считается эталонным для образованного человека. Но, собственно, почему? В сущности, все это абсолютно условно, и у образованного человека может точно так же быть вкус к барокко и рококо. И коли вы спросите меня, то я скажу, что рококо куда тоньше и изысканней, нежели греческие статуи, каковые, к слову сказать, быть может, вовсе и не греческие, так как все они дошли до нас исключительно в римских копиях.
— Вы сомневаетесь, что они были сделаны с еще более древних греческих оригиналов? — оживился Пеппельман. — Признаться, я тоже. Более того, у меня такое ощущение, что они далеко не настолько древние, как это принято считать. Конечно, это крамольная мысль, и я делюсь ею только с вами, чувствуя, что дальше вас это не пойдет. В противном случае мне не миновать жестоких насмешек.
— И не только насмешек, — заметил Себастьян, — но и куда худших вещей.
— Да, — мрачно согласился Пеппельман, — и худших тоже…
— Именно. И эти люди — законодатели вкуса? Его ревнители?
Риторический вопрос повис в воздухе.
— А что касается герра Ардуэн-Мансара, то я вам так скажу: другие традиции, другие амбиции, другой бюджет. Что вы хотите? Людовик XIV — это не Август Второй, между нами будь сказано.
Пеппельман вновь рассмеялся.
— К тому же, — продолжил Себастьян, — Королю-Солнцу нужно было решить совершенно конкретную и весьма актуальную на тот момент политическую задачу.
— Что вы имеете в виду?
— В детстве ему пришлось пережить Фронду принцев, и это наложило отпечаток на все его царствование. Все эти графы и герцоги сидели по своим провинциям, в своих замках — и бунтовали. И Людовик XIV решил этому положить конец: превратить всю эту знать в придворную, то есть, собрать ее при своем дворе — с тем чтобы она всегда была под присмотром: пусть лучше предаются придворным интригам, чем бунтуют! Но для этого двор должен был быть весьма многочисленным, и где-то его нужно было размещать, как вы понимаете. Отсюда и масштабы. У Августа Сильного же просто не было подобных задач, и он, соответственно, не ставил их перед вами.
— Что ж, — сказал Пеппельман, — может быть, вы и правы.
— Мы, — поправил Себастьян. — Мы правы. Не сомневайтесь.
Он с удовольствием откинулся на спинку кресла и отпил кофе. Напиток был уже совершенно холодным, но Себастьяну он показался вкуснее всего, что он когда-либо пил.
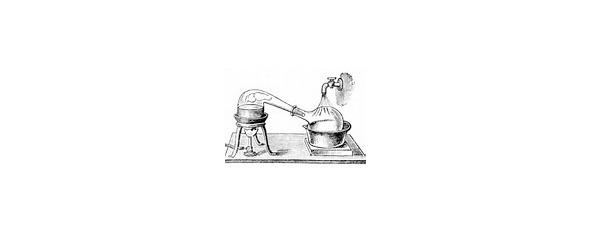
ГЛАВА2
«МИСТЕРИЯ В СИНЕМ»
Дождь, уже превратившийся в ливень, стучал по крыше автомобиля и по капоту, стекал по стеклам, заволакивая окружающий мир почти что глухой пеленой, сквозь которую лишь смутно угадывались тени ближайших деревьев.
…У Ани пересохло во рту, в горле словно застрял комок. Она почувствовала укол в сердце: значит, она похожа. Просто похожа на ту, которую… Закончить эту мысль было выше ее сил.
Достаточно того, что всему теперь конец, и чудеса закончились. Да и не в ее честь, выходит, они творились! Сердце ныло: значит, все-таки, это любовь? Или нет? Хотя, теперь уж все равно: недоразумение разъяснилось, все улеглось по полочкам.
…Недоразумение?! Может ли такое быть? Наверное, может… В глазах засвербило: слезы обиды наполнили их. Нет, не только обиды — еще сожаления. И чего-то еще… Да, оставалось еще что-то — что-то важное. Что-то с чем-то не складывалось. … И почему-то хотелось, страшно хотелось, чтобы все это как раз и оказалось недоразумением, которое вот-вот разъяснится. Может быть, это не то, что она думает? …Но что тогда? Честно говоря, в это не верилось. Но дверь еще не закрыта — Аня буквально видела это — словно ее что-то держало, не давая захлопнуться. Что-то… или кто-то? Серж?
Он смотрел на нее. Аня готова была в этом поклясться — именно на нее! И в глазах его была нежность. И что-то еще… Пожалуй, тревога. Но почему?..
— Анечка, — произнес он тихо, но внятно — легкая хрипота еще слышалась в его голосе, — Анечка.
Он сглотнул.
— Вы должны знать: да, я ясно понял теперь, почему я обратил на вас внимание тогда, в Лувре: что именно «зацепило» мое внимание. И я чувствую удовлетворение оттого что теперь наконец знаю, в чем дело и не должен более ломать голову: что же меня все время подспудно беспокоит, что все время тревожит? Теперь я спокоен — только и всего.
Серж на минуту отвернулся и провел рукой по волосам. Ясно видно было, что он на самом деле совсем не спокоен, наоборот — он волнуется и переживает. Аня смотрела на него и молча ждала продолжения.
— Но ваше сходство, — наконец-то, вновь заговорил он, — было лишь отправным пунктом, поверьте. Меня все эти дни привлекало общение именно с вами, Аня. Я вас узнал за это время, и — будьте уверены — именно в вас я нашел то важное, ценное, более того — жизненно необходимое для меня, что и вызвало у меня особую теплоту к вам.
Глаза Сержа были наполнены светом, они лучились.
— И знайте также: то, что я вспомнил — это давняя история. Очень давняя. И это — проблема вины, трагической ошибки. И непоправимости.
Серж замолчал. Во взгляде его была мука.
— Это — груз, который я вынужден нести. И, право же…
Серж осекся.
— Не ревнуйте к ней, — договорил он с усилием.
Сердце Ани вновь защемило — на этот раз от сострадания. Серж явно мучился — разговор этот давался ему нелегко. …Проблема вины… Давняя история… Дверь открывалась — все шире и шире. — Если он питал что-то к этой женщине, то это было давно… А сейчас он испытал шок и не смог сдержаться. — Аня уже придумывала тешащие ее душу объяснения. — но ведь, и в самом деле, Серж объяснился. Ведь объяснился же?! — Аня терзалась вопросами.
— Что с ней случилось? — наконец спросила она — пожалуй, суше, чем ей хотелось бы.
— Она умерла. Погибла.
Серж произнес эти слова глухим, мертвым голосом. Аня почувствовала, что не стоит его расспрашивать о том, как это произошло.
— Кто она была? — спросила она только.
— Одна женщина… В Бамберге.
Бамберг? Это слово как будто оглушило ее. Она почувствовала сильнейшее волнение: сердце ее выстукивало частую дробь. Дыхание перехватило. Бамберг… Но ведь именно в Бамберге жили ее предки, именно оттуда они были родом. И именно там, если верить семейному преданию, была сожжена как ведьма ее пра-пра-много раз- прабабушка.
Хотя — ну и что? — Аня попробовала рассуждать логически — Моя пра- жила где-то в начале 17 века. Это же ужас как давно! А эта «давняя история» Сержа произошла… ну, скажем, лет 20 назад. — Аня задумалась: для нее 20 лет было очень большим сроком. А для Сержа? — ну хорошо, пусть тридцать лет назад. — Кстати, сколько, все-таки, ему лет? Судя по всему, пожалуй, где-то в районе пятидесяти. — Тут Аня почему-то вздрогнула, но тотчас же попыталась отбросить непроизвольно возникшую тревогу. — В любом случае, это все смешно, — с нажимом сказала себе она, — Какая тут может быть связь? Ну, Бамберг, ну и что? Конечно, любопытное совпадение, но и только.
Но ей отчего-то совсем не было смешно. Наоборот — она была обеспокоена и взволнована. — Как же, все-таки, звали нашу «семейную ведьму»? — билось у нее в мозгу. Аня вспомнила: бабушка говорила ей, что имя было не немецкое, а, кажется, латинское, с каким-то смыслом… Но это — уже все. И что это ей давало? Почему, в самом деле, ее так занимает этот вопрос? Что вообще с ней происходит?
Она взглянула на Сержа. Он, в свою очередь, смотрел на нее: пристально, изучающе. И вместе с тем сочувственно-заинтересованно. … И читал мысли? Но ведь он обещал… Аня смутилась. — А может, он сейчас ничего и не читает, а просто всматривается в ее глаза — как обычный человек — пытаясь понять, что она чувствует?
Она бросила на себя взгляд в зеркальце: на нее глянуло бледное растрепанное существо с растерянным взглядом. — Боже мой! Я выгляжу, как привидение! — подумала она. — Теперь понятно почему Серж так на меня смотрит. Надо привести себя в порядок!
И в этот момент он улыбнулся — тепло, обворожительно. С потрясающим шармом. Аня почувствовала, как губы ее растягиваются в ответную улыбку. Она вновь подпала под его непередаваемое обаяние. И когда он положил свою покрытую черными волосками руку на ее ладонь, она не отвела ее и не отстранилась. Она почувствовала поначалу просто приятное, мягкое тепло и чувство комфорта, а затем на нее снизошел покой. Тревога отпустила ее — почти. Только на самом донышке скреблось, словно мышка, легкое беспокойство.
— Вы в порядке, Аня? — спросил он.
— Да, Серж. Все нормально.
— Боюсь, что не совсем, — заметил он, снимая свою руку с Аниной ладони. — Похоже, что вас чем-то зацепило слово «Бамберг», или я не прав?
В голосе его была напряженность.
— Впрочем, — быстро добавил он, — я не настаиваю на ответе.
— Мне нечего скрывать. Вы правы: это слово меня действительно «зацепило». Дело в том, что мои предки родом оттуда.
Серж пристально смотрел на Аню, весь внимание.
— Из Бамберга? — уточнил он.
— Ну да. Я знаю — это во Франконии, — затараторила Аня, словно ее прорвало. — Его еще называли Северным Римом. И еще там в Соборе — знаменитая статуя — Бамбергский Всадник.
— Я вижу, вы отлично «подкованы», — отозвался Серж, слегка обалдевший от этого потока слов. — Такое впечатление, что вы готовились к экзамену — вы словно отвечаете урок. Это похвально, но как-то немного неожиданно.
— Я читала об этом, — смутилась Аня, — мне было интересно.
— Да, это заметно, — улыбнулся Серж.
Несмотря на улыбку, он выглядел серьезно. Серьезно и сосредоточенно.
— Но вы там не были? — спросил он.
— Нет пока, — ответила она с сожалением. И добавила с тоном убежденности: — Но обязательно побываю!
— Да-да, несомненно.
Серж рассеянно улыбнулся, погруженный в какие-то свои мысли. Ливень за окнами пока что и не думал прекращаться, но Серж не смотрел в окна, словно отключившись от внешнего мира.
— А что вы вообще знаете о судьбе вашего рода? — поинтересовался он.
Аня была польщена этим интересом Сержа и почувствовала себя, наконец, в своей тарелке. Мельком взглянув в зеркальце на щитке, она не без удивления отметила, что бледность и растерянное выражение лица канули в небытие. Напротив — щеки порозовели, глаза блестели, и только волосы были еще слегка всклокочены. Аня быстро поправила их.
— Знаю, — начала она, — что потом они некоторое время жили в Регенсбурге.
— Регенсбурге? Вот как… А «некоторое время» — это сколько?
— До отъезда в Россию.
— То есть?
— До шестидесятых годов 18 века.
— Понятно. А как они оказались в России?
— По приглашению Русского правительства.
— То есть, Екатерины Второй?
— Ну да, в общем… А разве вы не знаете?
— Я мало что знаю об этом. Но, может быть, Аня, вы мне расскажете?
Она зарделась, польщенная. Надо же, Серж будет слушать ее!
— С удовольствием, — ответила она, исполненная энтузиазма.
Серж молчал, весь обратившись в слух. Безотчетно, он напомнил Ане компьютер, готовый к загрузке информации.
— Дело в том, — начала она, — что Екатерина Вторая издала особый манифест, точнее, даже два манифеста — в 1762 и в 1763 году, в которых речь шла об иностранцах — в первую очередь, имелись в виду немцы, ведь Екатерина и сама была немкой. Так вот: в этих манифестах обговаривались права иностранцев на поселение в России и все, что с этим связано.
— А именно?
— Ну, например, если у кого-то не было денег, русские дипломаты оплачивали дорожные расходы и тому подобное.
— Вот даже как.
— Да, представьте себе. Потом, переселенцы освобождались от налогов на довольно большой срок.
— Лет на десять?
— Больше. Я знаю, что те, которые направлялись на «земли, свободные для поселения», освобождались от налогов на тридцать лет.
— Однако же…
— Да, именно так. Еще они могли получить ссуду на десять лет на строительство домов и все такое.
— Под сколько процентов?
— Беспроцентную.
— Недурно… — Серж хмыкнул.
— Потом, они получали разные льготы — например, свободу вероисповедания.
— Они, надо полагать, были по большей части, лютеранами?
— Они принадлежали, в основном, к евангелически-лютеранской и римско-католической церкви.
— Ну, это-то понятно. А ваши предки, должно быть, были католиками?
— Мои предки — да.
— А вы сами? — Серж смотрел на нее с интересом. И еще что-то странное было в его глазах, что-то такое, чего Аня не сумела понять.
— Мы православные, — ответила она.
— Ну да, ну да. Я как-то сказал вам: «у вас, православных» — и вы меня не поправили.
— Да. Но мы вообще-то не особо религиозные.
— Вы — то есть ваша семья?
— Ну да.
— Понятно, — Серж решительно «свернул» эту тему. — А какие еще были льготы?
— Например, полное самоуправление колоний. Местные чиновники не могли вмешиваться во внутренние дела колонистов.
— Но, полагаю, дело все же не было пущено совсем уж на самотек?
— Конечно, нет. В Петербурге была организована специальная канцелярия по делам иностранцев — к сожалению, я не помню точно, как она называлась — во главе с Григорием Орловым.
— «Гришенькой» — отозвался Серж, — вот даже как.
— Да, — Аня смутилась, — фаворитом. И я знаю, что это он подарил Екатерине II знаменитый алмаз, который носит его имя.
Серж усмехнулся.
— Ну да, якобы тем самым он надеялся вернуть себе расположение «матушки». Но это — не более чем легенда, придуманная самой Екатериной.
— Придуманная? — удивилась Аня, — Для чего?
— Для того, чтобы не болтали, что она тратит непомерные суммы из казны на свои прихоти.
— Из казны?
— Именно. Екатерина сама сделала себе этот подарок, взяв деньги из казны. А Гришенька лишь выполнял ее поручение. Да и то сказать: вернуть расположение Екатерины он уже не мог — на это не было уже никакой надежды. Но поручение он выполнил должным образом и привез алмаз из Амстердама в Петербург.
Серж вздохнул.
— «Орлов» — да, действительно, потрясающий камень. Я лично полагаю, что он — самый замечательный и самый ценный алмаз на свете.
В глазах Сержа появилось мечтательное выражение. Аня заинтересовалась.
— Почему вы так считаете? — спросила она.
— Вы его видели? — спросил Серж вместо ответа.
— Нет. То есть, только на фотографиях.
— Да-да, — кивнул он, — помню: вы так и не добрались до Москвы. Жаль. Но хотя бы самое общее представление вы имеете.

Он сделал короткую паузу, и Аня подумала, как умело он эти паузы расставляет.
— Во-первых, «Орлов» большой, — вновь заговорил Серж, — по-настоящему большой: примерно 190 карат. Во-вторых, при всем при том чистой воды. Но главное, он сохранил свою первоначальную индийскую огранку, которая придает ему, помимо прочего, еще и историко-культурную ценность. Не говоря уже о том, что огранка эта является весьма щадящей для веса камня. Это особенно замечательно на фоне сравнения с несчастным «Кох-и-Нуром».
— А разве он не «Кох-и-Ноор»?
— Говорят и так, но «Кох-и-Нур» точней. По-персидски это, кстати, значит «Гора света».
— А почему «несчастным»?
— Потому что ему не повезло — он попал в руки не очень мудрых людей, которые поступили с ним, мягко говоря, опрометчиво.
— Но я читала, что он принадлежит к королевским драгоценностям.
— Да, он относится к драгоценностям Британской короны. И эти не очень мудрые люди — королева Виктория и ее муж принц Альберт.
— Что же они сделали?
— Они, простите за выражение, алмаз просто угробили, — ответил Серж с досадой. — Такой камень!
Серж махнул рукой куда-то в сторону ветрового стекла, по которому по-прежнему потоками стекала дождевая вода. Ане, впрочем, показалось, что дождь немного ослабел. Да, явно ослабел.
— На тот момент, когда он попал им в руки, — продолжал Серж, — камень еще имел, как и «Орлов», свою изначальную, индийскую огранку и весил 191 карат. А эти августейшие олухи распорядились переогранить его в плоский бриллиант. Примитивный плоский бриллиант. Абсолютно тривиальный камень! В итоге: он так и не дотянул до оптимальных пропорций бриллианта, лишь слегка улучшилась его игра. Но, конечно, не настолько, чтобы компенсировать утраченную историческую ценность, канувшую в Лету вместе с исконной индийской огранкой. А о потере веса при переогранке страшно даже говорить: со 191 до 109 карат!
— Кошмар! — Аня была шокирована. — Практически половина веса!
— Да, именно. Даже британский автор — небезызвестный Герберт Смит — при всей своей лояльности — вынужден был заметить, что «мудрость этого поступка вызывает сомнения». Впрочем…
Серж усмехнулся.
— Что? — Аню снедало любопытство.
— Да то, что и «Орлов» — хотя тогда он, разумеется, назывался иначе, — весил первоначально целых 300 карат, а после того, как его огранили в Индии, вес составил всего лишь 190 карат. Треть общего веса камня — это тоже немало, и Шах-Джехан был страшно недоволен этим. Он не только ничего не заплатил гранильщику, но и приказал конфисковать его имущество. Кстати, а если бы с его алмазом сотворили то, что сотворили с «Кох-и-Нуром», то гранильщикам сняли бы головы — в самом буквальном смысле, и в этом не приходится сомневаться.
Серж замолчал, задумчиво глядя перед собой.
— Да, Шах-Джехан, — медленно произнес он, — право, было бы лучше, если бы он сам попробовал огранить его…
— Его — это «Орлов»?
— Да. Но тогда, повторяю, он носил другое имя.
— Какое?
— В Европе его, вслед за Жаном-Батистом Тавернье, называли «Великим Моголом».
— Алмаз принадлежал Шах-Джехану?
— Да, Аня, принадлежал, — как и многие другие знаменитые индийские камни.
— О его истории тоже рассказывают байки? — с лукавой улыбкой спросила Аня.
— Конечно, рассказывают, — иронично прищурившись, ответил Серж. — Иначе и быть не может.
— Например?
— Да всякую ерунду, ничего такого — из ряда вон. Вполне банальные вещи. Якобы он играл роль глаза у статуи Брахмы, которая, в свою очередь, стояла в храме на острове.
— А где этот остров?
— Якобы на реке Кавери, на юге Индии.
— Напоминает «Замок на острове», правда?
— Да, пожалуй.
— Мне кажется, это придает истории шарм и романтичность.
— С точки зрения европейца — да. Из чего сразу видно, что именно европейцы и придумали эту байку.
На лице Сержа играла усмешка.
— Ну, и дальше, — продолжил он, — в том же духе: будто бы некий французский солдат, втершийся в доверие к служителям храма, украл алмаз — разумеется, ночью — как же иначе? И так далее. В общем, вполне тривиальные выдумки.
— А откуда в Индии взялся французский солдат? Она же принадлежала англичанам.
— У Франции тоже были в Индии свои колонии, кстати, как и у Португалии. Но львиная доля, конечно, досталась англичанам. Правда, поначалу Индией еще управляла не Корона, а британская Ост-Индская Компания. Именно она, кстати, и поднесла королеве Виктории «Кох-и-Нур», после чего камень и запороли.
Серж вздохнул, а затем вновь махнул рукой, словно отгоняя воспоминания. Дождь за окнами явно кончался — это было несомненно.
— Но ведь Виктория жила в 19 веке, — заметила Аня. — А Шах-Джехан жил когда?
— В 17 веке.
— Где же камень был все это время?
— До 1739 года он оставался в Индии.
— Такая точность? А что случилось в 1739?
— В 1739 владыка Персии Надир Шах Афшар захватил Дели, куда к тому времени Великие Моголы перенесли свою столицу из Агры. Он разграбил город и устроил резню.
— Господи, зачем?
— Затем что жители города подняли против него восстание, и это его взбесило. Ну, и понятно, что все драгоценности Моголов, в том числе Павлиний трон со всеми его алмазами, рубинами, сапфирами, и прочие камни — совершенно потрясающая коллекция, которую собрал, в основном, Шах Джехан, — все это он вывез к себе в Персию.
— То есть, Иран?
— Ну да.
Серж сглотнул, словно у него внезапно пересохло во рту. В тоне его прозвучало такое сожаление, что можно было подумать, будто это была его собственная коллекция.
— Кстати, — уже совершенно обычным тоном сказал он, — с Надир Шахом, а точнее, с его приходом к власти связана одна прелюбопытная история, которую я хотел бы вам поведать. Но сейчас на это нет времени — мы и так слишком ушли в сторону, так что вернемся к ней позже, идет?
— Идет, — согласилась Аня. — А что случилось с «Орловым»?
— Он попал в Европу, менял хозяев — в общем, ничего драматического. Но главное, он обрел спокойный и достойный себя приют в навершии Российского императорского скипетра — как раз под венчающим скипетр черным орлом.
— «Орлов» под орлом, — заметила Аня. — Интересно, правда?
— Да, любопытно. Но что действительно важно, так это то, что у русских, — в отличие от британской августейшей любящей парочки — хватило ума не переогранять «Орлов», благодаря чему он — в противоположность «Кох-и-Нуру» — сохранил, помимо все-таки значительной массы, и всю свою историческую ценность.
— «Любящей парочки»? Вы про Викторию и Альберта?
— Ну да — петух и курочка, ни дать, ни взять.
Аня рассмеялась и подумала, что нелюбовь Сержа к Англии вновь отчетливо проявилась в этом «наезде».
— Но мы с вами сильно отвлеклись от нашей темы, — заметил он, — а, между тем, меня интересуют еще некоторые вопросы.
— Я буду рада, если смогу на них ответить.
— Полагаю, сможете. Я вижу: вы об этом неплохо осведомлены.
Эта сдержанная похвала вызвала, однако же, у Ани чувство гордости.
— Надеюсь, — в том же духе сдержанности ответила она.
— Откуда, позвольте поинтересоваться, будущие колонисты узнали о том, что их приглашают? Из газет?
— Да, Серж. В немецких газетах печатались объявления об этом. И для этой же цели в Ульме и во Франкфурте-на-Майне находились специальные комиссары Русского правительства.
— И они занимались агитацией за переезд?
— Ну да.
— Хорошо. Эмигранты прибыли в Россию. Что дальше?
Вопросы были цепкие, сухо-деловые. За ними смутно, «пунктиром» угадывался другой Серж — президент транснационального холдинга.
— Сначала их размещали в Петербурге. Позднее их стали временно расселять в Ораниенбауме.
Аня вопросительно взглянула на Сержа.
— Знаю, — он кивнул головой — теперь это город Ломоносов Ленинградской области. Странно, кстати.
— Что странно?
— Об этом потом, — нетерпеливо бросил он, и затем, уже мягче, добавил: — если позволите.
— Хорошо.
— Итак, они в Петербурге или Ораниенбауме. Чем они занимались там?
— Они знакомились с российскими законами, а потом присягали на верность Российской Короне. А затем переезжали на место поселения. Кстати, это был самый трудный этап, трудный чисто физически — не все даже доезжали до места.
— Вот как. И какой же была смертность?
— 12 с половиной процентов.
— При переезде куда?
— На Нижнюю Волгу.
— Ваши предки, как я понимаю, поселились именно там.
Это прозвучало не как вопрос.
— Да, — тем не менее ответила она. И добавила: — Но в 1941 году их всех депортировали.
— Да, я знаю, — вздохнул Серж.
Он немного помолчал. Аня тем временем осмотрелась и увидела, что дождь, кажется, закончился. — Это хорошо, — подумала она, — можно будет, наконец-то, выйти из машины. — Ей хотелось на воздух.
— Ваших куда? — спросил Серж неожиданно, так что Аня поняла лишь через несколько мгновений.
— Наших — в Казахстан. Но мои потом все же вернулись в Поволжье.
— Это понятно: вы ведь родились в Саратове.
Серж ободряюще улыбнулся Ане.
— Спасибо за информацию, — сказал он. — Она была весьма интересна.
— Не за что, Серж.
— Ну, было бы не за что, я не стал бы благодарить, — заметил он с усмешкой.
— Но вам еще что-то показалось странным, — напомнила Аня. — Я так и не поняла что.
— А, это… Это не связано с вашим рассказом. Видите ли, мне показалось несколько экстравагантным, что город давно уже называется вновь Санкт-Петербургом, а область, центром которой он является, остается Ленинградской. Согласитесь, это парадоксально.
— Да, наверно. Но я над этим как-то не задумывалась.
— Вообще-то, — продолжал он, словно не слушая — в данном конкретном случае, насколько я понимаю, имел место различный подход городских и областных властей к этому вопросу.
— Городские — более прогрессивные, а областные держатся за старое, так?
— Ну, это как раз-таки городские держатся за старое — гораздо более старое: ведь Петербургом город назывался задолго до того, как стал Ленинградом…
— Но вы же меня поняли, правда?
— Я вас прекрасно понял. Но я бы не стал навешивать ярлыки — мой опыт научил меня воздерживаться от этого. Тем более, когда речь идет о стране, которую я знаю явно недостаточно. В России сейчас вообще сочетаются между собой атрибуты царской империи и Советского Союза: с одной стороны, красные звезды и советский гимн, а с другой — триколор и двуглавый орел.
— Да, действительно. Но я как-то не придавала этому значения…
— Вот, именно! И многие русские так же относятся к этому. Вот почему я, несмотря на то что это меня несколько удивляет, начинаю думать, что, возможно, это и правильно. Франции тоже пришлось через подобное пройти.
— Через примирение?
— Да, через примирение.
— И успешно?
— Более или менее. Но это было именно примирение, а не утверждение единомыслия. Я, например, как вы, несомненно, заметили, все равно не приемлю революцию, коммуну и вообще весь этот край политического спектра. Однако, я с этим мирюсь.
— Вы имеете в виду левых, правильно?
— Разумеется.
— То есть, вы уважаете их взгляды?
— Нет, Аня, не совсем так. Я не уважал их взгляды раньше и не уважаю их теперь — вы должны были это заметить. Но я уважаю ихправоэти взгляды иметь — и высказывать, хоть мне это и не нравится. При условии, если эти люди не нарушают законы.
— Но в России, возможно, происходит то же самое? Пусть не всегда взаимопонимание, но, во всяком случае, сосуществование. Точнее, путь к этому.
Серж задумчиво повернулся к окну и, видимо, тоже заметил, что дождь закончился.
— Да, возможно. Впрочем, — произнес он другим тоном, — это не мое дело. Я только хотел у вас еще спросить: а вы не знаете, почему ваши предки в Германии перебрались из Бамберга в Регенсбург? Может быть, в Бамберге что-то произошло?
У Ани почему-то екнуло сердце, и вся она сжалась, точно в ожидании удара. Рассказать? С одной стороны, она ведь обещала бабушке не рассказывать об этом никому постороннему. Но с другой… Серж задал прямой вопрос. Врать ему? Глупо и бессмысленно. Правда, он обещал, что не будет считывать ее мысли, но все равно — глупо. Зачем? И вообще, разве он — посторонний? Аня испытывала растерянность: в самом деле, кем был ей Серж? На этот вопрос не было определенного ответа — пока не было: о том, кто Серж в ее жизни, Аня еще подумает. Но, по крайней мере, для нее было совершенно ясно, что уж никак не посторонний.
— Да, Серж, произошло, — тихо ответила она.
Серж молча ждал продолжения. И Аня решилась:
— Мою пра- пра- много раз — прабабушку, которая жила в начале 17 века, сожгли на костре как ведьму.
***
Мотор БМВ вновь успокаивающе гудел — уверенно, мощно, надежно. И в салоне вновь работал кондиционер, так что от духоты даже и следа не осталось. А может, и не было никакой духоты? Может, весь этот тяжелый разговор — вначале о… нет, Аня не хотела даже называть ее имя, даже про себя. … Скажем так: о «давней истории» Сержа. — Вот, так-то лучше. … А потом — о сожженной в 17 веке «семейной ведьме» (сейчас Аню уже не интересовало ее имя — не знаю, и не надо — думала она). И вот, обо всем этом — может, они с Сержем и не говорили?
Аня вздохнула: увы, разговор был. И о том, и о другом. Уже на что тяжелым было объяснение с Сержем по поводу его «давней истории», но разговор о ведьме, сожженной в Бамберге, оказался еще тяжелей: Серж был почему-то словно бы не в своей тарелке и все стремился уточнить детали. Но Аня и сама мало что знала об этом — семейное предание содержало очень скупые сведения, так что Сержу пришлось удовольствоваться тем, что было. Почему это так его интересовало? Чем задевало? — А задевало определенно: он до сих пор молчал, мрачно глядя в ветровое стекло. На протяжении уже получаса — после того, как они договорились, что едут «домой», в Париж, он не произнес ни единого слова. Это было так непривычно, так странно для Сержа, который обычно произносил слова почти непрерывным потоком, что Ане делалось не по себе — неуютно, тревожно. Она несколько раз уже порывалась прервать затянувшееся молчание, но всякий раз ей не хватало решимости нарушить тишину. Она непроизвольно поежилась на своем пассажирском сидении и вновь вздохнула. На сей раз это не осталось незамеченным:
— Что вы так тяжко вздыхаете? — «пробил», наконец, молчание его вопрос. И Аня с радостью отметила, что интонация вновь была привычной, легко-ироничной. От сердца сразу отлегло. — Слава Богу, — подумалось ей. По правде говоря, она уже устала от всего этого: признаний, объяснений, «допросов с пристрастием», затяжного молчания…
— Не переживайте, — вновь заговорил он, прежде чем она успела что-нибудь сказать, — я переключился в нормальный режим. Мозги проветрились и готовы к работе. Полагаю, с мемуарами покончено: оставим «отеческие гробы» в покое. Пусть прошлое почиет в мире. Согласны?
— Конечно, согласна, — с облегчением ответила Аня. — Я так устала от этих встрясок и так соскучилась по нормальному общению.
—
Серж хмыкнул.
—
— Да, именно так! — с чувством подтвердила она. — Я страшно рада опять слышать ваш нормальный голос и рада что мы сможем, наконец-то опять нормально поговорить.
— Окей. В таком случае обратите внимание на свою речь.
— А что не так? — насторожилась Аня.
— Вы трижды употребили слово «нормальный», — с легкой усмешкой заметил он, — что как раз совершенно ненормально.
Аня рассмеялась.
— Вы правы. Один — ноль в вашу пользу. А откуда эти «отеческие гробы»?
— Это вы у меня спрашиваете? Забавно. Разве эти стихи в России не хрестоматийны?
— Нет, — Аня покраснела, — То есть, в прямом смысле слова — нет. В хрестоматии их нет.
— Что же вы не считаете: «два — ноль»? — отозвался Серж, — Честное слово, ваша речь поистине прелестна. «Нет, нет и нет». Опять троекратные повторы — как заклинания. Раньше я за вами подобного не замечал. Это ваш новый стилистический прием? Право же, он несколько назойлив.
Это было довольно ядовито, но сейчас эти «подколки» Сержа почему-то Аню почти не раздражали. Так, разве что самую малость. Похоже, она и по ним соскучилась. Во всяком случае, это лучше, да — в сто раз лучше, чем всякие «разговоры по душам», откровения и все такое.
— Что поделаешь? — наигранно вздохнула она. — До таких высот стиля, как у вас, мне, увы, не подняться. Эти перлы стилистики мне не по зубам. Куда мне до таких Эверестов!
Серж расхохотался.
— Счет два — два, — сказал он. — Поделом мне — чтобы не заносило.
Он помолчал.
— На сей раз, — вновь заговорил он, — это действительно Пушкин. Эти стихи мне сразу запомнились, хотя я видел их только один раз, мельком.
— В хрестоматии?
— Нет. Слово «хрестоматийны» я употребил не в буквальном смысле. Я просто подумал, что они должны быть очень известны, и в этом смысле хрестоматийны.
— Почему?
— Ну как же? Вы только послушайте:
Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам. —Мне кажется, такие стихи весьма уместны в хрестоматии. Разумеется, слово «гробы» тут имеет значение «гробницы», или «надгробья».
— А во французской поэзии есть такие стихи?
— Гражданские? Сколько угодно!
— Например? — спросила Аня.
И в этот момент она увидела на дорожном указателе слово, которое сразу всколыхнуло ее. Белым на коричневом фоне стояло: «Orléans».
— Ой, Орлеан! — воскликнула она и повернулась к Сержу.
— Понимаю, — усмехнулся он, — вы вспомнили про Орлеанскую Деву, не так ли?
— Да, конечно. Вы, наверное, скажете, что это тривиальная и потому неизбежная ассоциация.
Аня сама словно слышала себя со стороны, удивляясь своему слогу.
— Но тут уж ничего не поделаешь, — договорила она.
Серж смотрел в ветровое стекло и улыбался. Так и хотелось сказать — лыбился — во весь рот. Чему это он улыбается? Ох, и обаятельная же у него улыбка!
— Это — естественная ассоциация, — сказал он. — Впрочем, эту девушку называли по-разному. Жанной д/Арк и Орлеанской Девой — в основном посмертно, а в то время ее звали чаще всего «Жанна, именуемая Девственницей», или просто «Девственница» — la Pucelle. Но, конечно, с Орлеаном ее имя связано навечно. Вот только есть одна проблема: в Орлеане смотреть нечего, Аня. Как у вас говорят: шаром покати. Поэтому заезжать туда не стоит — поверьте мне.
— Так что же, — с досадой спросила Аня, — там совсем нет ничего интересного?
— Ну, можно сказать так. Довольно красивый собор — и это практически все. Есть, правда, так называемый Дом Жанны д/Арк, но он не аутентичный: так, бутафория.
— И больше ничего?
— Со Средневековья — ничего. А что касается Жанны, то есть, конечно, ее конная статуя, но что с того?Ее статуя есть и в Реймсе, например, а в Париже — даже две.
— Да, я помню: на базилике Святого сердца на Монмартре и на площади Пирамид — позолоченная.
— Ну вот, видите? Даже позолоченная. Так что смотреть нечего. То ли дело, например, в Труа — там отлично сохранилась средневековая застройка: жилые дома — как это по-русски?
Серж на мгновение задумался.
— A colombage, — сказал он. — Кажется, по-русски говорят, как по-немецки: фахверковые?
— Да, Серж, так и говорят.
— Bon.В общем, очень симпатичный город. Но это далековато. Поэтому я вам предлагаю, в порядке компенсации за разочаровывающий Орлеан, заехать в Шартр. Это совсем небольшой крюк, можно сказать, почти по дороге.
— Там, кажется, знаменитый собор? — спросила Аня, уже почти примирившись с несбывшимся Орлеаном.
— Да, собор. И именно в него мы зайдем, с вашего позволения. Поверьте, он стоит того. Я вам там все расскажу и покажу.
— Спасибо, Серж, — поблагодарила Аня.
И все же добавила:
— А вы не расскажете мне о Жанне д/Арк? Я знаю о ней так мало.
— Что именно вас интересует?
— Все, — неожиданно для самой себя ответила она.
Она уже предвкушала предстоящее удовольствие от его рассказа, нисколько не сомневаясь, что он будет, как всегда, обалденно интересным, хотя, учитывая тему, наверное, печальным.
Серж посмотрел на нее, на мгновение отвернувшись от дороги.
— Ma foi, вы — прелесть, Аня, — сказал он. — Положительно прелесть. Но рассказывать все, право же, не стоит — поверьте, это наведет на вас тоску.
— Что же это может навести на меня тоску? — удивилась Аня.
— Ну, неужели вам интересны, например, протоколы инквизиционного процесса?
Аня задумалась.
— Не знаю, — наконец ответила она, — может быть.
Губы Сержа сложились в усмешку.
— Хорошо, — сказал он, — я процитирую вам из них что-нибудь интересненькое.
— Процитируете? — поразилась Аня.
Серж кивнул.
— Наизусть?
Серж вновь кивнул.
— Из протоколов инквизиции?
— Ну да, — на этот раз он сопроводил кивок словами, — Какие проблемы?
— Какие проблемы? — переспросила Аня, слегка обалдев. — Вы шутите?
— Нисколько.
— Может быть, вы держали эти протоколы в руках?
— Конечно, держал. Так же как и протоколы реабилитационного процесса 1456 года. Так же как и документы о ее беатификации и канонизации. Неужели же вы думаете, что я знакомился с историей по учебникам для средней школы?
— Нет, конечно, — выдавила из себя Аня. — У вас, наверное, есть доступ к самым разным документам.
— Доступ есть, — вновь кивнул головой Серж, — как же без доступа?
Аня почему-то испытывала досаду.
— Как Жанна вообще оказалась в руках инквизиции? — спросила она, пытаясь подавить невесть откуда взявшееся раздражение.
Впрочем, к чему лукавить? Она знала, что ее раздражает в Серже: слишком много всего. Неправдоподобно много. Но в глубине души она понимала, или, скорее, чувствовала, что все это — правда.
Серж никак не отреагировал на ее тон.
— Во время неудачного штурма Компьеня ее взял в плен так называемый Вандомский Бастард, — сказал он.
— Француз?
— Ну да. Далеко не все французы поддерживали короля Франции. Вы должны иметь в виду, что Столетняя война с Англией тесно переплелась с гражданской войной в самой Франции между феодальными кланами Бургундцев и Арманьяков. Да к тому же еще и крестьянские волнения — Жакерия. Впрочем, крестьян можно понять: они были совершенно разорены войной. Вообще страна представляла тогда собой ужасное зрелище.
Серж немного помолчал, словно переводя дух.
— Впрочем, в том столетии Англии тоже дано было понюхать, что такое гражданская война, — Серж в очередной раз не удержался от антианглийского выпада, и Аня, что называется, «кожей ощутила», что это действительно старая неприязнь. — Война Алой и Белой Розы, — продолжал он, — как изысканно они изволили назвать свою домашнюю резню! А что до Вандомского Бастарда, то он ничего самостоятельного из себя не представлял — он был на службе у Жана де Линьи из Люксембургского дома. Но это не существенно. Важно другое: король Карл Седьмой, который был коронован в Реймсе и приобрел легитимность лишь благодаря Жанне, и не подумал сделать хоть что-то для нее, когда она оказалась в таком положении. Бастард и его хозяин какое-то время выжидали, удерживая Жанну у себя.
— Почему?
— Потому что даже они, эти ничтожества, имели все-таки представление о совести и ожидали от Карла Седьмого предложения о выкупе. Но его не последовало. Король сдал Деву, со всеми потрохами.
— Как же он мог? Ведь он ей был обязан всем?!
— Мало того, — заметил Серж, — и на этот раз он опять находился под прицелом: англичане и их приспешники надеялись, добившись осуждения Жанны на инквизиционном процессе за колдовство и чародейство, поставить тем самым под сомнение его легитимность — ведь тогда выходило, что он получил корону через колдовство, и вся его легитимация шла псу под хвост.
— Значит Жанну судили для этого?
— Это была одна из целей. А что до короля, то он к тому времени увлекся новой игрушкой — неким пастушком. Теперь король уже его считал мистическим спасителем. Впрочем, англичане вскоре изловили пастушка и утопили его в Сене. Но король быстро утешился.
— Это просто отвратительно! — вспыхнула Аня. — Такая черная неблагодарность! Что же он был за человек, этот Карл Седьмой? Ведь Жанна должна была быть для него всем!
— Карл Седьмой? Дрянной он был человек. Он и в дальнейшем был не лучше. Например, когда осудил на изгнание и конфискацию имущества своего кредитора — финансиста Жака Кёра, облыжно обвинив его в отравлении своей любовницы Агнес Сорель. Что сказать? Дрянь — она и есть дрянь. Особенно отталкивающе это, учитывая, что Жанна была для него и кое-чем еще.
Серж коротко глянул на Аню.
— Нет, не любовницей, — быстро сказал он. — Тут другое. Но об этом — позже.

Он сделал короткую паузу.
— И что было дальше? — спросила Аня, заинтригованная.
— А дальше генеральный викарий инквизиции в Париже объявил о начале инквизиционного судопроизводства в отношении Жанны.
— На каком основании?
— А на таком основании, — Серж процитировал: «как серьезно подозреваемой в зловредной и ошибочной ереси».
— А как звали этого викария? — спросила Аня с неприязнью.
— Я вижу, ему бы не поздоровилось, окажись он в вашей власти.
Аня промолчала, но ее насупленный вид не оставлял в этом сомнений.
— Стоит ли запоминать имена всяких мерзавцев? — риторически спросил Серж.
— И все-таки? — упрямо поинтересовалась Аня.
— Хорошо, если угодно. Этого пса Господня звали Мартин Биллорини.
— Итальянец? — спросила она, глядя на Сержа исподлобья, словно это он был инквизитором.
— Итальянец, а как же? Sono Italiano, Italiano vero!— Тоже те еще проходимцы. Шуты гороховые.
К итальянцам Серж тоже явно не питал теплых чувств. Это Аня уже успела заметить. — Ужас! — подумала она, — в Европе, похоже, представители всех, или почти всех наций, мягко говоря, без восторга относятся друг к другу.
— Вы поэтому назвали его псом? Потому что он итальянец?
— Нет, конечно, не поэтому. Я привык держать себя в рамках, а это — уже за рамками. Дело в другом: Господними псами — по-латыни Domini canes — называли доминиканцев. По созвучию. И по сути тоже. Именно они вплоть до 16 века занимались инквизицией.
— А потом?
— А потом это святое дело было препоручено иезуитам, — Серж сардонически улыбнулся. — Впрочем, вернемся к нашей теме — вскоре небезызвестный епископ города Бове Пьер Кошон объявил над Жанной епископскую юрисдикцию. В общем, псы чуть не сцепились. Но в итоге следователь инквизиции вынужден был согласиться допрашивать ее вместе с епископом. Кстати, Кошон предложил за Жанну хозяину Бастарда Жану де Линьи 10 000 наличными, а самому Бастарду — ежегодную ренту в 300 фунтов стерлингов. Причем, эти деньги должны были поступать из налогов в Нормандии, то есть из ограбления Франции. Ну, это понятно: Кошон — он и есть Кошон.
— То есть?
— А вы сами подумайте.
Аня задумалась, но уже через минуту ее озарило:
— А! — воскликнула она, — cochon по-французски значит «свинья», так? — она сама безмерно удивилась себе.
— Именно, — произнес Серж под нос. — Хотя это слово и фамилия епископа пишутся все-таки по-разному, произносятся они совершенно одинаково. Таков уж французский язык. Но, заметьте, какое точное попадание. Экий ведь мерзавец!
— Он служил англичанам?
— Да, он был предателем. Тьфу! Мерзость какая.
— Тоже мне епископ, — возмутилась Аня, которая все больше и больше втягивалась в тему. — Наверное, заложил душу Дьяволу.
— Дьяволу его душонка и даром не нужна, — поморщился Серж, — если она у него вообще была.
Аня внимательно посмотрела на Сержа, но воздержалась от комментариев, спросив только:
— Но он был хоть как-то за это все наказан?
— О да, — ответил Серж, — был, а как же! После того, как умер.
— То есть?
— Он был, уже посмертно, отлучен от церкви папой Каликстом Четвертым, а останки его были извлечены из могилы и брошены в канализацию.
Аня была шокирована. Все-таки… Конечно, он был предателем, подлецом — пусть так. Но это как-то уже чересчур. Что за методы!
— Что, — спросил Серж, — подташнивает от такого?
— Да, это как-то уже слишком.
— Слишком, говорите. А спалить двадцатилетнюю девчонку живьем, это как? Не слишком?
— Живьем? — спросила Аня, замирая от ужаса. — Но разве их не душили перед сожжением?
— Их — это кого?
Аня смутилась.
— Ну, ведьм, — пробормотала она.
— Жанну сожгли не как ведьму, а как нераскаявшуюся, закоренелую еретичку.
— Но ведь ее обвиняли в колдовстве.
— Это обвинение было снято.
— Почему?
— Потому что его едва ли можно было доказать. Еще не вышло в свет главное пособие по охоте на ведьм — написанный двумя псами Господними печально знаменитый трактат «Молот ведьм». Поэтому в те, относительно ранние времена проще было доказать наличие ереси, нежели колдовство.
— Кто эти два пса Господня?
— Монахи-доминиканцы, разумеется: Генрих Крамер, известный под псевдонимом «Инститорис», и Якоб Шпренгер. Вообще, против Жанны было поначалу выдвинуто 70 пунктов обвинения.
— Боже мой!
— После того, как лишнее вычеркнули, осталось двенадцать. В конечном итоге, как я уже сказал, ее осудили за ересь. Впрочем, процесс на самом деле носил политический характер — нужно было ублажить Англию, на стороне которой тогда еще была сила. Правда, уже ненадолго.
— А на основании чего она была объявлена еретичкой?
— Голоса, которые она якобы слышала, и которые ее наставляли и вели, были трактованы как исходящие не от тех, за кого они себя выдавали. То есть, не от святого Михаила и святых Екатерины и Маргариты.
— А от Дьявола?
Серж саркастически усмехнулся.
— Дьявол тут ни при чем, на самом-то деле. Но так сочли «авторитеты».
— О ком вы?
— Обвинения против Жанны были представлены на рассмотрение шестнадцати докторам богословия и шести лиценциатамправа. И они вынесли заключение о ее виновности. Причем, их особенно взбесили находчивые ответы Жанны на каверзные, провокационные вопросы, которые ей задавали их «ученые коллеги». «Она выдавала себя за авторитет, за доктора, за магистра» — вопили они.
— Какие мерзавцы! — возмутилась Аня. Глаза ее блестели, и она раскраснелась от возбуждения и гнева.
— Да, сволочи еще те, — согласился Серж. — И Парижский университет тоже.
— Сорбонна?
— Именно. Это был в те времена высший коллективный авторитет в богословии. И они тоже дали заключение, обвиняющее Жанну в ереси. Парижский университет, видите ли, был тогда совершенно проанглийским.
— Но как же так?
— То было смутное время. А жить и кушать хочется всегда. Не забывайте, что тогда еще вся Северная Франция с Парижем находилась под контролем англичан. Все вышесказанное касается и судей. Впрочем, на реабилитационном процессе судьи были преданы анафеме.
— А король? — спросила Аня.- Король был наказан?
— Был, не беспокойтесь. Он заморил себя голодом.
— Боже, зачем?
— Он боялся, что его отравит его сын — будущий Людовик Одиннадцатый.
— Кошмар какой-то! — Аня покачала головой. — История — это какой-то цирк зверей.
Она замолчала, сама удивленная своими словами, которые только что сложились у нее в голове.
Серж бросил на нее короткий взгляд.
— Неплохо сказано, — произнес он, слегка покачав головой. — Ma foi, определенно неплохо!
В этот момент он пошел на съезд с магистрали.
— Сейчас мы съезжаем с А-10 на N-154, — пояснил он.
— «А» — это автобан, тут понятно. A N?
— Ну, положим, неAutobahn,аAutoroute,—поправил он. — как-никак, мы во Франции. А N значитRoute Nationale,что соответствует германскойBundesstrasse —«федеральной дороге». Она приведет нас в Шартр.
— Вы обещали что-нибудь процитировать из протоколов процесса, — напомнила Аня.
— А, это… — Серж ненадолго задумался. — Извольте. Цитирую: «Вопрос следователя: Говорила ли святая Маргарита по-английски? Ответ Жанны: Почему она должна говорить по-английски, если она не была англичанкой? Вопрос: Как ты узнала, что святая Екатерина и святая Маргарита ненавидят англичан? Ответ: Они любят то, что любит Господь и ненавидят то, что ненавидит Господь. Вопрос: Бог ненавидит англичан? Ответ: Я ничего не знаю ни о любви, ни о ненависти Господа к англичанам, ни о том, что Он будет делать с их душами. Но я знаю, что они будут изгнаны из Франции, за исключением тех, что умрут здесь. Вопрос: Были ли у святого Михаила волосы? Ответ: Зачем вы об этом спрашиваете? Вы хотите постричь его? Вопрос: Целовала ли ты святого Михаила и святую Екатерину? Ответ: Да. Вопрос: Они приятно пахли? Ответ: Разумеется, они пахли приятно. Вопрос: Обнимая их, чувствовала ли ты какую-нибудь теплоту или что-нибудь подобное? Ответ: Я не смогла бы их обнимать, не чувствуя их или не дотрагиваясь до них. Вопрос: Какую часть ты обнимала, верхнюю или нижнюю? Ответ: Более прилично обнимать их выше, чем ниже. Вопрос: Был ли святой Михаил обнажен? Ответ: Неужели вы думаете, что Господу не во что одеть его? — Ну как, достаточно?
— Достаточно, — подтвердила Аня. — С меня этого сумасшедшего дома довольно.
Серж рассмеялся.
— Обратите внимание, — сказал он, — как уверенно и находчиво она отвечает на эти вопросы, иные из которых в самом деле повергают в ступор? Неужели крестьянка так смогла бы? Разумеется, нет. Это ответы человека, знакомого с риторикой — по крайней мере, с ее азами. Да и речь ее не крестьянская, а вполне грамотная, литературная. — Крестьяне в те времена были для высших слоев общества все равно как инопланетянами и говорили на своих грубых и невразумительных диалектах. А тут — ничего подобного! Добавьте к этому ее умение обращаться с оружием, которому обучали долго, с детства, и, конечно, не крестьян. Крестьяне умели обращаться с мотыгой, а не с мечом. Но главное — это то что ее вообще приняли и стали с ней разговаривать, и что она при этом держалась с представителями знати на равных, и даже с дофином Карлом, которого при его дворе признавали королем Карлом Седьмым — без подобострастия. Какие выводы из всего вышесказанного вы можете сделать?
— Она не была крестьянкой? Это вы хотите сказать?
— Но вы уже это сказали. Остается лишь убрать вопросительный знак.
— Так она — дворянка?
— И всего-то? — скептически улыбнулся Серж. — Тут все серьезней — она из своих! Это очевидно. По-крайней мере, должно быть очевидно для всякого беспристрастного человека.
— Так кем же она была? — спросила Аня, чувствуя себя прижатой к стенке аргументами Сержа.
— Помните, я сказал, что Жанна была для Карла Седьмого кое-чем еще? Не забыли?
— Конечно, не забыла. Но вы сказали, что не любовницей.
— Разумеется, нет. Она была ему сестрой. Правда, сводной — по отцу.
Аня была ошеломлена.
— Да, она была незаконнорожденной дочерью короля Франции Карла Шестого Безумного. А россказни про крестьяночку из Домреми — все это не более чем патриотическая легенда.
Аня какое-то время сидела молча, пытаясь переварить то, что сказал Серж.
— Это гипотеза каких-то историков? — спросила она наконец.
Серж раздраженно хмыкнул.
— Историки, — он произнес это слово с бесконечным сарказмом, — занимаются защитой диссертаций, выпускают публикации и тому подобное. И менее всего они интересуются историей. Более всего они озабочены сохранением и поддержанием своей репутации. Впрочем, мы с вами об этом уже как-то говорили. Их интересует их положение в «научном мире», гранты, звания, степени, очередные «ученые» склоки. Историческая истина их не интересует.
— Неужели это все — правда? Это же просто кошмар! Да это тогда вообще не наука, а просто террариум какой-то! Кто же тогда изучает историю?
— Отдельные мужественные исследователи, совсем не обязательно с дипломами историков — чаще без таковых. Да, они выдвигают гипотезы, но им больше всего хочется знать истину. К сожалению, для того, чтобы ее надежно установить, этим исследователям порой не хватает материалов — им трудно получить допуск, трудно получить грант — им не дают, более того — мешают. Так что нередко им приходится довольствоваться гипотезами, несмотря на внутреннюю убежденность. Им не позавидуешь. Вот только то, что Жанна была сводной сестрой короля, это не гипотеза. Это факт.
— Вы уверены?
— Я знаю.
Аня замолчала, вся во власти противоречивых чувств.
— А вы бы и учредили какой-нибудь грант, а лучше несколько — для этих мужественных исследователей, как вы их назвали.
Серж улыбнулся.
— Что значит: назвал? Они такие и есть, — сказал он. — А насчет грантов — это вы в точку. Только вы немного опоздали — уже пятнадцать лет, как «Дюмон» учредил несколько грантов для независимых исследователей в области истории.
Аня продолжала молчать с насупленным видом.
— Вы сделали очень хорошее дело, Серж, — наконец произнесла она. — Вы молодец. Я знала, чувствовала, что вы такой.
— Только смотрите, не перехвалите меня. А то, знаете ли, я чувствителен к лести — искренней тем более.
— Хорошо, кончили хвалить. Скажите лучше: когда Жанну реабилитировали?
— Я уже об этом упомянул — впрочем, один раз, мельком. Реабилитационный процесс состоялся через 25 лет — в 1456 году — и был еще более политическим, чем первый.
— То есть?
— Если первый процесс вынес обвинительное заключение — в угоду Англии, то этот, второй — постановил реабилитировать Жанну — в угоду победившей Франции: это было три года спустя после завершения Столетней войны. А в 19 веке — веке пышного расцвета национализма — вокруг имени Жанны сотворили настоящий культ. Ее превратили…
Серж на миг задумался.
— …В патриотический бренд, — договорила за него Аня. — Так?
— Совершенно верно! — подтвердил Серж. — Каковой бренд был замешан на густом коктейле из казенного ура-патриотизма, где вопли о Республике меньше всего отражали республиканские убеждения, а также почвенничества, галликанскогоультра-католицизма и национализма, сдобренном изрядной порцией мелодрамы и розовых соплей.
— Розовых соплей? — переспросила Аня, ухватившись за то, что было более или менее понятно. Впрочем, тоже не особо…
— Да, розовых соплей. Дошло до бредней о том, что будто бы английский солдат — вы слышите? — английский! — в последнюю минуту, когда Жанна уже стояла на костре, и он уже горел, вручил ей крест, за который она якобы ухватилась, осчастливленная.
— Правда, английский солдат? Это как же?
— Но вы же понимаете, что все это бред, перемежаемый галлюцинациями. Ну, а Англия, как-никак, стала союзницей. Той еще союзницей: норовящей поскорее смыться к себе, за Ла-Манш. А что до Жанны, будто бы исступленно сжимающей крест, то хотел бы только обратить ваше внимание на кое-какие детали, совсем не мелкие, если задуматься.
— Например?
— Ну, например, она отказалась прочесть молитву «Отче наш» — самую привычную и хрестоматийную для любого христианина. Она, далее, ни разу не назвала Иисуса Христа по имени, а именовала его «мой Господин», неизвестно кого имея в виду. И многое другое. Но, полагаю, с вас достаточно.
— Что это значит?
— Вы сами видите: это значит, что она отнюдь не была набожной христианкой, тем паче католичкой, какой ее пытались — и не без успеха — представить.
— Но ведь ее провозгласили святой!
— Да, она была канонизирована, то есть причислена к лику святых папой Бенедиктом XV, то есть маркизом Джакомо делла Кьеза, в 1920 году, после того как она была, как и положено, сначала беатифицирована, то есть, причислена к лику блаженных, в 1908 году. В ходе канонизационного процесса никто, конечно, и не вспомнил ни словом об этих несообразностях — на них просто закрыли глаза.
— Но почему?
— Это опять-таки политика. В годы Первой Мировой войны во Франции образ Жанны д/Арк был настолько широко использован в военной пропаганде, скрытой и открытой, что стал тесно связываться с вооруженной борьбой Антанты против Центральных Держав.
— Антанты?
— Да, Аня. Не только Франции, но и Англии, например. Как это ни парадоксально. Но Франции, конечно, особенно. И поэтому после победы Антанты в войне для Святого Престола стало уже политически невозможным не канонизировать Жанну.
Аня какое-то время молчала. Ее нахмуренный вид выдавал ее сложные, но по большей части мрачные чувства от того, что она узнала. История оказалась еще печальнее, чем она думала…
— И что, Жанна командовала войсками? — спросила она неожиданно.
— Она сражалась с мечом в руках. Но она была, скорее, знаменем, под которым войско объединилось и за которым оно пошло. Она была знаком, символом, воплощением нового боевого духа армии. Чисто военные вопросы решали опытные военачальники, ее соратники.
— А кто был ее соратником?
— Жанны?
Аня кивнула.
— Не боитесь опять услышать очередную порцию кошмаров? Или, как вы сказали, цирка зверей?
— Я знаю, Серж, что то, что вы мне рассказываете — правда. И я предпочитаю знать правду, а не ходить с лапшой на ушах — меня это не устраивает.
Серж кивнул головой.
— Я понял, — тихо подтвердил он, и тень улыбки скользнула по его губам.
— Поэтому я готова слушать дальше в том же духе. Пусть «цирк зверей». Пусть кошмар. Я уже понимаю: вся история в основном из этого и состоит. Все равно — это убиться, как интересно!
— Merveilleux!Тогда я расскажу о самом известном ее соратнике — увы и ах! — печально известном. Позвольте вам представить: Жилль де Монморанси-Лаваль барон де Ре, Маршал Франции.

— Ничего себе! Это, наверное, высшая аристократия.
— Вы совершенно правы, Аня. Это действительно так. Хотя баронский титул как-будто и не высок, но это и в самом деле даже не голубая, а прямо таки синяя кровь.
Аня рассмеялась.
— Это хорошо, что вы смеетесь — вам нужен запас положительной энергии перед рассказом о нашем герое. Так вот: да, аристократ. Чего стоит только «Монморанси»!
— А чего оно стоит?
— Монморанси — это один из старейших и знатнейших родов Франции. Впрочем, владения Жиля де Ре (будем его называть так) располагались в Бретани.
— Я знаю, это полуостров на Западе Франции. Там живут бретонцы. У них свой язык.
— Браво, Аня. Вы правы: бретонцы — кельты, потомки переселенцев с Британских островов. Бретонский язык еще и сейчас имеет некоторое распространение в западной части Бретани. Вообще это своеобразный угол Франции. Ну, а тогда Бретань была герцогством и, хотя и находилась в пределах Французского Королевства, отнюдь не относилась к королевскому домену.
— То есть, была самостоятельной?
— Да, во всех внутренних делах. И еще долго таковой оставалась. И там была своя гражданская война.
— О Господи, свихнуться можно! Скажите, а где-то было такое место, где не воевали?
— Кое-где были эпизодически небольшие передышки. Но не более того. Увы, как справедливо сказал великий древнекитайский военный мыслитель Сунь Цзы, «война — это великое дело для государства, это почва жизни и смерти, это путь существования и гибели».
— Мамочка, — воскликнула Аня, — вы его читали по-китайски?
— Нет, — рассмеялся Серж, — его я читал в переводе на французский.
— На родной?
— Да. Но вернемся к Жилю де Ре. Он примкнул к Жанне и Карлу Седьмому и принял участие в снятии осады Орлеана. Затем сражался и далее бок о бок с ними против англичан и их приспешников. Присутствовал в Реймском Соборе на коронации Карла Седьмого — это уж конечно. Именно тогда-то король и возвел его в маршалы Франции. Кстати, это звание существует во Франции до сих пор и является, как и прежде, не обычным воинским званием — пускай даже высшим, а почетным званием, присуждаемым за особые заслуги, и потому оно котируется высоко.
— Им, кажется, полагается еще жезл, так?
— И вновь: браво, Аня. Вы правы — жезл обязательно. В цветах Французского Королевства: золотой и лазурный. Причем, эти цвета сохранились и при Республике, и при Империи. Вплоть до современности. Только при королевской власти лазурный жезл украшали золотые лилии, при Первой и Второй Империи — золотые орлы, а при Республике — золотые звезды. Но вернемся опять к барону де Ре. После коронации Карла Седьмого он стал постепенно отходить от дальнейшего участия в войне и, в конце концов, удалился в свой замок. Там он занялся алхимическими опытами и, как утверждается, кое-чем похуже.
— То есть?
— Не торопитесь — все по порядку. Там много всякого. Прежде всего, нужно сказать, что он был крайне расточителен, по-русски раньше говорили «мот».
— А теперь?
— Вам лучше знать. Пожалуй, «транжир». Но Жиль де Ре был не просто мотом, а, как теперь сказали бы, чемпионом мотовства. Расходы его были просто чудовищны, и за это его осуждала его родня. Наконец, он оказался на мели: деньги уплыли, а аппетиты не уменьшились. Любимый вопрос таких, как он: где взять деньги?
— Поэтому он занялся алхимией? Рассчитывал получить эликсир и делать золото?
— Совершенно верно! Помогал и наставлял его в этом его подручный — бывший священник Прелати.
— Опять итальянец?
— Да, представьте себе! Флорентиец. Оставил Бога и посвятил себя черной магии.
— Черная магия? Но ведь это уже не алхимия, разве не так?
— Все-таки вы умница, Анечка. Что тут скажешь? Вы правы: они зашли далеко.
— Как далеко?
Серж вздохнул.
— После того как «нормальная» алхимия так и не привела их к золоту, они обратились…
Серж задумался.
— К «ненормальной» алхимии? — договорила Аня.
— Можно сказать и так, — ответил Серж.
Видно было, что ему нелегко об этом говорить.
— Они включили в процесс элементы черной магии, некоторые из самых крайних ее методов, по существу, запретных, надеясь, что это возымеет действие, и они получат свое вожделенное золото. Но для этого им нужно было… То есть, нужна была кровь.
— Какой ужас! Я догадываюсь: они стали убивать людей, чтобы добыть эту кровь. Верно?
— Да. Видите ли, одно тянет за собой другое, другое — третье, и так далее. Причем, каждое следующее хуже предыдущего. В конечном итоге переходят черту. Нужно уметь вовремя остановиться, но не каждый на это способен.
Серж немного помедлил.
— Видите ли, Аня, я в свое время тоже занимался всякими опытами…
— Алхимическими? — уточнила Аня. Она почему-то совсем не удивилась.
— Алхимическими, можно сказать и так. Но я никогда не пересекал черту. Мне это всегда удавалось. Думаю, потому что мной двигала не алчность, а жажда знаний. Говоря более современно, стремление к информации.
Он еще помолчал. Аня тоже молчала и не «дергала» его, видя, что ему необходимо сосредоточится.
— А он перешел черту, — произнес, наконец, Серж.
— Жиль де Ре?
— Да. Об этом важно знать, поскольку впоследствии его обвинили черт знает в чем. Обвинения были совершенно фантастическими, поэтому некоторые исследователи уже в 20 веке попытались его оправдать как жертву инквизиции, снять с него обвинения.
— Безуспешно?
— С частным успехом. То есть, это вызвало у части читательской аудитории сочувствие: слишком уж инквизиция одиозное учреждение, и ненависть к ней велика.
— Но в этом случае она была права?
— Как я уже сказал, многие цифры в обвинениях были фантастическими. Но убийства все-таки были. Увы, были. И хуже всего то, что убитыми были дети.
Эту, последнюю фразу Серж произнес с трудом, словно выдавив ее из себя. Аня ужаснулась.
— Почему? — с трудом спросила она.
— Это было проще всего: Жиль де Ре брал к себе крестьянских детей в качестве пажей, обещая их родителям, что им будет хорошо. И их потом видели в дорогих одеждах.
Серж сделал еще одну паузу.
— Потом они исчезали, — договорил он. — Вот и все.
— Много детей погибло?
— Обвинители утверждали, что 140 мальчиков.
Аня испытала шок.
— Но это не так? — спросила она.
— Нет, конечно. Во много раз меньше.
— Сколько?
— Во много раз меньше, — упрямо повторил Серж. — В приговоре число вообще не называлось. Там стояло: pour des crimes commis sur plusieurs petits enfants.
— «За преступления, совершенные против нескольких детей»? — переспросила Аня, в этот момент даже не удивляясь своему пониманию французского.
— Так оно и было, — ответил Серж. — Но то были дети…
Какое-то время он смотрел в ветровое стекло.
— В конечном итоге, Жилю де Ре предъявили обвинения по трем пунктам, — вновь заговорил он, — во-первых, бунт.
— Какой бунт?
— Он захватил чужой замок, знаете ли. Далее, договор с Дьяволом и, наконец, противоестественные связи.
— Противоестественные связи — это…
— Его обвиняли в том, что теперь зовется педофилией.
— О Боже, а он в самом деле этим занимался?
— Он сам на следствии утверждал, что да. В то же время он отрицал, что использовал кровь для колдовства.
— Почему?
— Он признавался в том, что в то время считалось меньшим преступлением, чтобы этим прикрыть то, что считалось тогда более серьезным преступлением.
— Колдовство считалось хуже, чем педофилия с убийством?
— Да, — вздохнул Серж, — такое было время. Но давайте оставим эту мерзостную тему. Скажу только: я не выяснял, занимался ли он этим — мне было тошно.
— Я вас понимаю, Серж. Но вы держали и эти протоколы в руках?
Серж кивнул.
— Держал, — ответил он.
— И там был и договор с Дьяволом?
— Самого текста договора там не было, только в изложении — тогда, видите ли, еще не набили должным образом руку в их составлении.
— Не набили руку? Кто? Инквизиция?
— Именно.
— Вы хотите сказать, что эти договоры были фальшивыми?
— Они были сплошь сфабрикованными. Хотя, все честь по чести: пункты, почти как в обычном договоре, но записанные на латыни справа налево, с кучей сокращений, так что прочесть это крайне сложно. Ну как же, ведь это Сатана! Уж он-то должен уметь шифроваться! А под текстом, как положено, подписи.
— Чьи подписи?
— Князей Ада, демонов: Вельзевула, Аштарота и прочих. А самое трогательное, внизу приписка: «Подписи моих хозяев — князей бесовских, подтверждаю. Баалберит, писарь».
— Ничего себе!
— А вы думали? И еще указано: «принято на совете демонов такого то числа и месяца такого-то года. Извлечено из Ада».
Аня, несмотря на то, что это было, на самом-то деле, не смешно, не смогла удержаться и рассмеялась.
— Извините, Серж, — сказала она, — но это все равно смешно.
— Да, вы правы — можете не извиняться. Это и вправду смешно — поначалу. Потом становится не до смеха. Но когда читаешь, особенно, сейчас, то да, смешно. Нелепо — договор с Дьяволом выглядит, как какая-нибудь долговая расписка. Писарь — ну надо же!
— А как, по-вашему, должны были выглядеть договоры с Дьяволом?
Серж словно бы всматривался в дорогу.
— Они представляют собой, вернее, конечно, должны представлять собой, — быстро поправился он, — скорее, джентльменские соглашения. Без всякой канцелярщины, без подписей кровью и прочей бредятины.
Аня пристально посмотрела на Сержа, пытаясь понять, шутка ли это или что -то другое, но так и не поняла. Он же был совершенно невозмутим.
— Да, именно — джентльменские соглашения, — от которых невозможно отказаться, — медленно и задумчиво договорил он.
Аня почувствовала, как холодок пробежал у нее по спине, но промолчала.
— Кстати, в эти дела нередко заносит не только стяжателей, но и людей творческих. У них обычно другие мотивы, но ради полноты творческой жизни, ради творческих успехов, а то и ради славы они порой готовы на все.
Серж тихонько вздохнул.
— Да, на все. Вот тут-то и зарыта собака: у них отказывают тормоза, и они…
Серж смешался.
— Начинают вести себя так, — продолжил он, — словно как раз и заключили такое джентльменское соглашение, и это просматривается в их творчестве. Впрочем, вернемся к барону де Ре. Что еще вы хотели бы знать о нем?
— Его тоже сожгли? — спросила она наконец.
— Да, в Нанте, в 1440 году. Кстати, предание считает его прототипом Синей Бороды.
— Не может быть! Серьезно?
— Серьезно.
— У него была борода?
— Якобы была. Причем, настолько черная, что отливала синевой.
— Якобы? Вы разве не видели его портрет?
— Я видел только его фантазийный портрет, то есть воображаемый. Там он без бороды.
Достоверного портрета нет.
— А этот, фантазийный, где?
— В Зале Маршалов Франции в Версале.
— Так он на самом деле не был прототипом Синей Бороды?
— Нет, можете не переживать за вашу любимую сказку — на самом деле сюжет этот значительно старше и происходит, кстати, из бретонского фольклора. Впрочем, основа сюжета широко распространена в фольклоре разных народов. Это сюжет номер 312 по «Указателю фольклорных сюжетов Аарне-Томпсона». С другой стороны, здесь заметно взаимовлияние: сказочный сюжет явно повлиял на образ Жиля де Ре, приписав ему синюю бороду. Но мы уже подъезжаем к Шартру.
Аня осмотрелась кругом, покрутившись на своем пассажирском сиденьи. Пейзаж удивил ее. Еще недавно (так, по крайней мере, казалось Ане) они ехали лесом. Теперь же их со всех сторон окружала плоская, как стол, равнина, без всякого намека на лес, или хотя бы какую-нибудь рощу. Напротив, вокруг, сколько хватало зрения, простирались поля, казавшиеся бесконечными.
***
Серж время от времени бросал на Аню короткие взгляды и улыбался.
— Что, не нравится пейзаж? — спросил он наконец.
— Нет, почему? — ответила она. — Нравится. Но только я не успела заметить, как картинка за окнами переменилась — был лес, а теперь сплошные поля.
— Да-да, все верно, — с улыбкой согласился Серж. — Такова Франция: разнообразием ландшафтов она бьет любую другую страну Европы. Да и не только Европы. Это и делает ее такой красивой.
Взгляд его потеплел.
— То, что вы видите вокруг себя, — продолжал он, — эта плоская, как доска, местность, все эти бесконечные пшеничные поля — это область Бос — как говорят по-русски, житница Франции. Здесь мощное товарное зерновое хозяйство.
— Значит, это все — пшеница?
— Да, это пшеничные поля. Но посмотрите туда.
Серж показал рукой вперед. Аня проследила за его рукой и увидела нечто неожиданное. Неожиданное и удивившее ее: среди совершенно ровной, плоской местности возвышался довольно крутой холм, на котором стояли дома. — Город! — поразилась она. — Наверное, это и есть Шартр. Но от того, что она увидела на вершине холма, у нее захватило дух: холм венчало огромное, напоминающее сказочный замок здание, с высокими, казавшимися ажурными, башнями, господствующее над всем окружающим.
— Это Шартр? — спросила она.
— Да, — Серж кивнул.
— А наверху — это Собор?
— Да, — вновь кивнул он. — Это и есть знаменитый, можно сказать, прославленный Собор Богоматери в Шартре.
— Он словно парит над городом…
— Как вы сказали? Парит? Отлично подмечено! Хорош, а?
— Да, он очень красивый.
— Да, даже с такого расстояния. Но вблизи он куда лучше. А главное — и самое красивое — находится внутри, и мы скоро там будем. Надеюсь, вы не жалеете, что мы поехали в Шартр?
— Нет, что вы, Серж. Я уже предвкушаю… Не знаю, как сказать, что именно… Но… Вы понимаете меня?
Серж с улыбкой кивнул.
— Конечно, — подтвердил он. — Я вас отлично понял.
Через некоторое время — значительно более короткое, чем Аня предполагала — они с Сержем стояли перед южным порталом Шартрского Собора. Храм был грандиозен и произвел на Аню, пожалуй, более сильное впечатление, чем Собор Парижской Богоматери.
— Это дело вкуса, — прокомментировал Серж ее откровения. — и это все сугубо индивидуально и потому субъективно. Но мне кажется, дело в их расположении: Шартрский собор стоит на вершине холма, и маленький, в сущности, городок, так сказать, полностью подчинен ему. Он совершенно вне конкуренции, причем, разумеется, не только в самом Шартре, но и во всей округе. Здесь нет ничего не то что равного, но хотя бы соизмеримого с ним в чем бы то ни было. Тут нет зданий или сооружений, которые бы составляли контрапункт к нему. У Парижского собора ситуация совсем иная — вокруг него Париж, да и стоит он не на холме. Его загораживают другие здания, и, уж конечно, в Париже хватает сооружений, которые составляют ему серьезный противовес. Тем не менее, оба собора похожи друг на друга. Это, кажется, второй готический собор Франции, который вы видите, не так ли?
— Да, Серж, это так, — ответила Аня, завороженная созерцанием Собора.
— Не буду вам мешать наслаждаться зрелищем, — сказал он. — Замечу только, что особое значение Шартрского Собора в том, что именно он послужил прототипом для многих других знаменитых соборов, порою более знаменитых, чем он сам. И не только во Франции. Именно он стал образцом, задал «планку»
— Ой, и высокая же эта «планка»! — воскликнула Аня.
— В том-то и дело.
— Скажите, Серж, а где еще есть знаменитые готические соборы, кроме Шартра и Парижа?
— В Реймсе, конечно, — начал Серж, — потом в Бурже, Руане, Страсбурге, Меце. Но особенно в Пикардии: в Амьене, Нуайоне, Лане, Бове, Суассоне. Это только в пределах Франции — и тоже не все, конечно. Но самые значительные.
— А Пикардия — это где?
— Это область к северу от Парижа. Сейчас это регион.
Аня замечталась: вот бы их все посмотреть! И сравнить. Это было бы здорово! — Но ничего, — подумала она, — еще посмотрю. Обязательно! Слава Богу, Шенген, виза не нужна, деньги — дело наживное, а время я уж как-нибудь найду. А пока, просто чтобы сориентироваться…
— А какой-нибудь из них стоит так же, как Шартрский — на вершине холма? — спросила она.
— Да, Аня, есть такой — очень похоже расположенный — в городе Лан: это к северу от Парижа, в Пикардии. Огромный, пятибашенный — и тоже, как вы сказали, парит над городом, стоящим, как и Шартр, на холме, возвышающемся посреди ровной местности. Только вот беда: с него поснимали почти всю скульптуру.
— Что, опять революционеры?
— Да, они, чтоб им… А что касается остальных… Собор в Бове так и не был достроен: стоят только хор и трансепт. Но зато его хор — самый высокий из всех. Там же, внутри — знаменитые часы. Собор в Руане имеет самую высокую башню. А собор в Бурже — замечательные витражи, которые были установлены на пожертвования цехов и состоятельных горожан, в том числе Жака Кёра.
— Того самого финансиста, кредитора короля, которого он потом изгнал?
— Того самого — его дом, а лучше сказать, дворец, — кстати, замечательный образчик готики в гражданской архитектуре — стоит в Бурже и по сей день.

— А в Реймском соборе короновали французских королей, так?
— Да, верно.
— Но почему? Ведь Реймс — не столица.
— Ну и что? Москва, например, тоже долгое время не была столицей, а короновали русских царей все равно там. А немецких королей много веков короновали в Ахене.
— А почему так?
— Ну, с Москвой понятно: она была до того столицей (и, кстати, вновь стала ею позже). Ахен избрал своим местопребыванием Карл Великий.
— А Реймс?
— Видите ли, Аня, в Реймсе в свое время крестился Хлодвиг. А вслед за ним — все его войско. Вот поэтому Реймс и стал коронационным городом.
— Я что-то припоминаю о нем: это был вождь германцев, да?
Серж улыбнулся.
— Ну, в общем — да. Он был, точнее, стал королем франков, то есть, он правил Франкским Королевством, в которое входили территории нынешних Франции и Германии. Так что он является фигурой, общей для истории обеих стран.
— Ну вот тебе и «единица» по истории! — сокрушенно подумала Аня. — Стыд ведь какой! Ничего-то я толком не помню…
— А как его зовут французы? Неужели тоже Хлодвигом?
— Нет, конечно. По-французски его имя звучит как «Кловис».
Ладно, не беда, — подумалось Ане, — как там? — «Мы все учились понемногу — чему-нибудь и как-нибудь». В конце концов, я не историк. — Зато я интересуюсь историей, — сказала она себе, вспомнив характеристику, которую дал историкам Серж, — и хочу знать историческую правду. А то, что Серж знает это все (и еще многое другое), так на то он и Серж: уникум. Таких можно по пальцам сосчитать. А в Реймсе Аня еще побывает, это — «дело техники».
— Пойдемте внутрь, Аня, — прервал ее размышления Серж. — Там самое главное.

Войдя внутрь, Аня остолбенела: все внутреннее пространство Собора было залито поразительно глубоким и невероятно насыщенным синим светом, который лился через витражи удивительной красоты. Таких великолепных витражей она никогда прежде не видела. Особенно красивы были круглые окна с ажурным каменным переплетением — «розы». Впрочем, остальные витражи уступали им незначительно. Этот дивный свет заполнял весь внутренний объем Собора, придавая ему некий «нездешний» вид. Словно этот свет исходил не с улицы, а из какого-то запредельного пространства. «Трансцендентного» — вспомнила Аня слово, которое употребил Серж, применительно к Богу и ангелам.
— Ну, что скажете? — спросил тихонько Серж.
— Это потрясающе! — ответила она так же тихо, словно боясь спугнуть это чудо. — Кажется, что этот свет льется из эмпирея, из царства блаженных.
— Почему же «кажется»? — сказал Серж глядя на «розу». — Оттуда и льется.
Аня с изумлением воззрилась на него.
— Вы это серьезно? — спросила она.
— Почему нет? Так и есть — в определенном смысле. Разве вы не чувствуете? Ведь это — мистический свет. И уверяю вас, такого вы не увидите больше нигде.
Серж усмехнулся.
— Вы, возможно, заметили, что я часто употребляю эту фразу, — продолжил он. — Но это правда. Просто я стараюсь подобрать для вас все самое-самое.
— Спасибо, Серж. Вы даже не представляете, как я вам благодарна за все, — искренне произнесла Аня, и в сердце у нее потеплело.
— Я польщен — право, польщен, — ответил он. — И заметьте себе — я не говорю: «не за что». Я рад, Аня. И я вижу, что это хорошо — то, что мы с вами — после всего этого «цирка зверей» — заехали сюда. Именно сюда.
Он немного помолчал.
— Вбирайте же в себя это волшебство, — сказал он. — Этот неповторимый синий свет Шартрского Собора. Эту феерию.. нет — эту мистерию в синем.
Какое-то время они молчали.
— Я представляю себе, — заговорила Аня, — как прихожане или паломники в Средневековье смотрели на все эти потрясающие витражи. Вернее, нет… Даже не представляю. У них, должно быть, рот сам собой открывался от изумления.
— Вы правы. Это действовало очень сильно: ведь жилища, в которых они проводили основную часть жизни, были серыми, бедными и совершенно невзрачными. Здесь же на них обрушивалась такая красота. Естественно, от этого они испытывали чувство благоговения. Кроме того, витражи собора представляли собой Библию в картинках — ведь подавляющее большинство тогда не умело ни читать, ни писать.
— А вот в этой «розе», — Аня показала кивком головы, — в центре круга — это Богоматерь?
— Да, это Мария с младенцем Христом. Непосредственно вокруг нее — четыре голубя, то есть четыре вида одного голубя — Святого Духа, а также ангелы и троны, а в следующем круге — двенадцать царей — потомков царя Давида, далее — еще один круг с крестообразными фигурами, на которых изображены золотые лилии Французского Королевства, — здесь они символизируют царство вообще и, конечно, Благовещенье и непорочное зачатие, так как лилия является символом целомудрия и чистоты. Наконец, в самом внешнем круге помещены двенадцать пророков Ветхого Завета. Кстати, витражи в этой «розе», выражаясь по-современному, «спонсировала» королева Бланка Кастильская.
— Она была королевой Франции?
— Да, и матерью Людовика Святого, в малолетство которого она была регентшей королевства. Кстати, люди того времени легко узнавали персонажей на витражах, фресках или в скульптурном убранстве, и они казались им добрыми знакомыми. Ну, к отрицательным персонажам это, естественно, не относится. Но люди знали, как они все выглядят: апостолы, евангелисты и прочие. Или им казалось, что они знают…
Еще одна небольшая пауза, словно он набирал дыхание.
— Кстати, Аня, именно тут, в Соборе Богоматери в Шартре в 1908 году обратился в католицизм французский поэт Шарль Пеги. Тут и мемориальная доска есть — видите?
— Да, Серж, я вижу. Но что значит «обратился»? Ведь французы и так католики, или я ошибаюсь?
— Ну, сугубо формально они числятся таковыми. Но тут речь идет о подлинной вере, о религиозном чувстве. Разумеется, на самом деле это произошло не в один миг, но именно здесь, в этом Соборе произошел качественный скачок в его сознании.
— Вы как будто препарировали его мозг.
— Препарируя мозг, невозможно ничего сказать об интеллекте того, кому он принадлежал, уверяю вас. А я, ну скажем, просто прибег к психологическому моделированию. И поверьте — это не так уж сложно: он был простым малым — этот сын виноградарей с берегов Луары. Понятна и его эволюция: от социалиста, соратника Жана Жореса до глубоко верующего католика. Но я вспомнил о нем… Как вы думаете, почему?
— Из-за этой мемориальной доски? — спросила Аня, неуверенно.
— Главным образом, потому что он тоже, как и многие, подпал под воздействие образа Жанны д/Арк и написал о ней «Мистерию о милосердии Жанны д/Арк». Это было перед Первой Мировой войной. А затем, уже совсем незадолго до войны — как он называл их — «Ковер о святой Женевьеве и Жанне д\Арк».
— Ковер? — удивилась Аня.
— Ну да — он называл свои творения «коврами», — хотя, может быть, лучше это перевести как «шпалеры» или даже «гобелены».
— Это стихи?
— Да.
— Хорошие?
— Тяжелые. Немного корявые — не без того. Но с искренним чувством — для стихов это принципиально важно: это статью, например, можно написать заказную, без веры в то, что пишешь. И может получиться хорошо, — если есть профессионализм. А вот со стихами так не получится: без подлинного чувства их не напишешь. А если, ломая себя, все же напишешь, то получится…
Серж не успел закончить фразу, так как случилось неожиданное — «подал голос» Анин мобильник. Хотя, парадоксальным образом, Аня и ждала этого звонка, в последнее время испытывая растущее беспокойство. Звонил Макс.
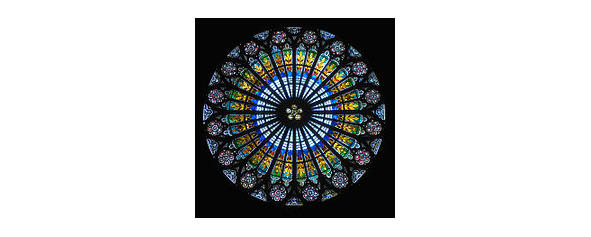
ГЛАВА 3
«ЮЖНАЯ КОРОНА».AD 1863, ПАРИЖ
Ивсе- таки, до чего же они удобны, эти стульчики и креслица с короткими ножками! И пусть говорят, сколько влезет, что это эклектика, беспорядочный «винегрет» из самых разных, порою якобы даже не сочетающихся стилей — всяких мастей «знатоки» и самозваные «эксперты» всегда бурчат подобное. Они всегда недовольны, эти адепты «классической чистоты», гармонии и всего такого. Между прочим, Сильвестр еще посмотрел бы, как бы им понравилось сидеть весь вечер на жестких «классических» скамьях, рискуя отсидеть свои отнюдь не классические ягодицы. Или, быть может, они предпочли бы, чтобы уж окончательно уподобиться римлянам и грекам, вовсе не сидеть, а возлежать на ложах в вынужденно чертовски неудобных позах? Что бы они тогда запели? Неужели разливались бы соловьями, с легкой ироничной улыбкой на устах, в духе стоиков презирая неудобства? Впрочем, наверняка нашлись бы и такие — готовые корячиться, но «держать марку». И черт с ними!
Не таков был Сильвестр. Ему было по душе это смешение: ренессанс, Людовик XV, Людовик XVI, стиль «буль» и прочее. Вызолоченная мебель на тонких ножках, тяжелые драпировки, бронзовые вазы и часы с искусственно, но искусно наведенной патиной. Мебель из грушевого дерева, покрытого черной краской, с инкрустациями из перламутра и панциря черепахи.
Особенно нравились ему новшества, привнесенные эпохой Второй Империи: «кресла-жабы», угловые диваны, пуфы, вращающиеся этажерки, широкое использование нетрадиционных видов древесины: бамбука, ивы, ротанга. Эта мебель, которую ревнители вкуса называли уютно-мещанской или безвкусной, была, на самом деле, просто удобной, — особенно эти кресла, в которых было комфортно сидеть и тем, кому судьба не дала длинных ног. И хотя у самого Сильвестра рост был довольно высокий, но все равно — это решительным образом нравилось ему.
Вот и сейчас он как раз сидел в таком кресле-жабе с короткими ножками, закрытыми бахромой, в гостиной Месье Гранжана, представлявшей собой, так сказать, витрину этого сложного конгломерата, который ревнители вкуса клеймили как отсутствие стиля, но каковой на самом деле можно было назвать стилем Второй Империи. Он был тут не впервые — и обстановка была для него уже привычной: она должна была производить внушительное впечатление на клиентов — Гранжан занимался розничной торговлей ювелирными камнями. И потому гостиная поражала даже видавших виды своей роскошью. Более того, говорили — и Сильвестр готов был с этим согласиться, что обстановка в парадных покоях Гранжана была чуть ли не похлеще, чем в апартаментах Наполеона Третьего в Тюильри.
В основном Гранжан продавал камни, уже вставленные в ювелирные изделия — броши, серьги, ожерелья, эгреты, браслеты и прочие. Это было его основное дело. Но, поскольку он был вообще-то ювелиром — так сказать, по «происхождению», а также и по призванию — и начинал именно с этого, то он сохранил и свое участие в ювелирном деле, то есть занимался вставкой камней в изделия. Главным образом, он работал с алмазами, а точнее — с бриллиантами. Иными словами, он оперировал на двух завершающих стадиях «алмазного цикла», который включал в себя пять этапов и начинался с горной добычи. Затем шла торговля «сырыми», то есть, необработанными алмазами. Этим занимались так называемые диамантеры. Следующим же этапом, непосредственно перед вставкой камней в изделия, как раз и занимался Сильвестр — обработкой, то есть, огранкой алмазов. И именно от него, в частности, и получал бриллианты Гранжан. И хотя Сильвестр постоянно проживал в Швейцарии, его деловые интересы были сосредоточены в Антверпене — «Алмазной столице», как он сам его называл.
Для сегодняшнего визита в Париж к своему партнеру у Сильвестра была весьма веская причина, но то был слишком серьезный разговор, и к нему еще нужно было подобраться. Пока же беседа носила более общий характер. Впрочем, разумеется, собеседники говорили не о погоде, а о более насущных вещах, и если и затрагивали такие темы, как мода или политика, то исключительно под специфическим углом зрения участников «алмазного цикла». В данный момент разговор шел о свежих новостях «алмазного мира».
— Это правда, месье Монтанье, что кто-то у вас в Швейцарии нашел способ применения алмазов в горных работах? — спросил Гранжан.
Этим вопросом он, казалось бы, демонстрировал общую любознательность, так как коммерческого интереса технические применения алмазов для него не представляли. Но Сильвестр сразу насторожился: не думает ли старый лис Гранжан расширить дело и вложиться в новенькое?
— Это — достоверная информация, месье Гранжан, — сдержанно ответил Сильвестр, не торопясь выкладывать детали, прислушиваясь и приглядываясь к собеседнику.
— Вы, полагаю, можете сообщить какие-то подробности? Хотя бы сжато.
— Извольте. Действительно, в этом году у нас в Швейцарии…
Сильвестр затянулся сигарой и медленно выпустил дым, но отпивать коньяк уже не стал — это слишком.
— …Да, в Швейцарии, — продолжил он самым любезным тоном, — инженер Жорж Лешо предложил использовать алмазы для армирования буровых головок при горнопроходческих работах.
— Горнопроходческих?
— Именно. Конкретно — при строительстве туннелей.
— Понимаю. Для Швейцарии это весьма актуально. Я предчувствую, что уже скоро ваша альпийская родина будет испещрена туннелями так, что будет напоминать ваши же замечательные «дырчатые» сыры, — изволил не без яда пошутить Гранжан.
— Рад видеть в вас поклонника наших сыров, — в тон ему ответил Сильвестр. — Они действительно превосходны.
— Да-да, несомненно, — скороговоркой пробормотал Гранжан. — Но, позвольте спросить, в чем суть изобретения? Да, кстати, — полагаю, оно запатентовано?
— О да, само собой. Федеральным патентным бюро в Берне. А суть его заключается вкратце в том, что при помощи алмазных сверл бурятся узкие, но длинные каналы — так называемые шпуры, в которые закладывается взрывчатка.
— Нитроглицерин? — деловито поинтересовался Гранжан.
О! — сказал себе Сильвестр, — да он, кажется, и в самом деле подумывает о чем-то таком — похоже, что интерес его явно выходит за рамки простой любознательности. Сильвестр быстро припомнил то, что ему было известно о положении дел со взрывчаткой. Пожалуй, самое важное — это эксперименты с нитроглицерином, которые проводит с 1859 года в Швеции месье Альфред Нобель. Сильвестр консультировался со знающими специалистами, и о том же доносили ему его платные осведомители, его разведка: это — самое перспективное сейчас. И как раз в нынешнем, 1863 году Нобель обнаружил, что для подрыва нитроглицерина лучше всего подходит гремучая ртуть — это открывает путь к созданию весьма эффективного капсюля-взрывателя. Не говоря уж о том, что его эксперименты могут привести к открытию нового, более эффективного и более безопасного взрывчатого вещества. Да, за работами этого явно талантливого шведа надо следить внимательно — есть точка соприкосновения взрывчатки и алмазов, и, пожалуй, не мешало бы и самому над этим поразмышлять, — пришел к выводу Сильвестр. Разумеется, всего этого он собеседнику не сообщил, ограничившись тем, что подтвердил:
— Именно — нитроглицерин.
Гранжан стал молча щелкать пальцами, что у него означало глубокие размышления. Воспользовавшись паузой, Сильвестр с удовольствием отпил коньяк, сделав длинный, основательный глоток и задержав, по обыкновению, божественный напиток на некоторое время во рту.
— Да, — продолжал размышлять он, — об этом нужно будет основательно помозговать. Собрать всю доступную информацию — это первое. (А доступна была ему весьма обширная и, главное, разнообразная информация, черпаемая из самых порою неожиданных, но оттого не менее ценных источников). А затем — как следует ее проанализировать и, конечно, составить прогноз. — Пожалуй, — решил Сильвестр, — на сей раз стоит воспользоваться эксклюзивом. «Эксклюзивом» он называл источник, число допущенных к которому — кот наплакал, и которым он сам пользовался лишь в особых случаях. Но это был, похоже, именно такой случай: речь шла об определении стратегии — быть может, на долгие годы.
Тишину нарушил вздох месье Гранжана: судя по его виду, он ни на чем определенном пока что не остановился и, вероятно, ему требовалось продолжить размышления, собрав больше сведений. Надежда, которую он, должно быть, питал в этом отношении на Сильвестра, оказалась тщетной — он сумел получить от него лишь жалкие крохи информации. Но — ничего не поделаешь! — надо было продолжать беседу, поэтому он спросил:
— Что слышно в Антверпене?
Вот это — пожалуйста! Это — сколько угодно! — подумал Сильвестр.
— О, вести из «Алмазной столицы» весьма обнадеживающие. Весьма, — сказал он.
— Что вы имеете в виду? — встрепенулся Гранжан.
— Я имею в виду то, что спустя черт знает сколько упущенного времени в Антверпене, наконец, вновь открывается Алмазная Биржа!
***
Разговор вошел в спокойно-деловоерусло и потек этим привычным путем плавно и гладко. Гранжан заметно оживился, только Сильвестр не мог понять, то ли собеседник отставил пока что размышления, отложив их на потом, то ли он принял какое-то решение. Можно было бы, вообще-то говоря, проникнуть в его мысли, но сейчас этого лучше не делать — Сильвестр и в принципе-то редко прибегал к этому по отношению к Гранжану: как правило, мысли и намерения партнера были ему понятны и без того, но сейчас это было тем более некстати — нужно максимально сконцентрироваться на главном. А главным на данный момент была «Императрица Евгения». Да, «Евгения». Разумеется, алмаз, названный в ее честь, а не сама урожденная графиня Евгения де Гусман и Монтихо — супруга императора Наполеона Третьего. Сильвестр быстро прокрутил в памяти краткую информацию о камне.
Добыт он был в Бразилии, в провинции Минас-Жерайс, в 1760 году и сразу же отправлен в Лиссабон, откуда, естественно, попал в Амстердам, где был огранен в виде панделока — другими словами, грушевидной огранкой, причем масса бриллианта после огранки составила 51 карат. Уже в 1762 году он оказался у российской императрицы Екатерины Второй, которая подарила его затем своему фавориту«светлейшему князю»Григорию Потемкину, после чего камень стал называться «Потемкин». После смерти князя бриллиант перешел по наследству его племяннице графине Александре Браницкой, а потом — его внучатой племяннице княгине Багратион, у которой камень приобрел Наполеон Третий — в качестве свадебного подарка. После чего камень стал называться «Бриллиантом Императрицы Евгении». Причем, она носила его в качестве центрального камня в колье.
Ну а сама императрица Евгения… У Сильвестра она порождала противоречивое отношение.
С одной стороны, она вызывала у него симпатию, или, скорее, сочувствие: испанка, иностранка в чужом, в сущности, городе (хотя она воспитывалась в Париже, но то в монастыре, пускай даже «модном»! ), в чужой стране, в чуждом окружении. Не связанная никакими прочными нитями с обществом, в котором ей нужно было вращаться, и с культурой, с которой, по правде говоря, она была знакома весьма поверхностно. Чужая даже для своих фрейлин. Иными словами, чужеродное тело, отвергнутое Парижем, безжалостным, как всегда.
Однако, несмотря на все это, она старалась «держать марку»: по ее инициативе были предприняты работы по реконструкции дворцов в окрестностях Парижа, в первую очередь в Компьене. И именно там, в Компьене, она, вместе с мужем, попыталась создать нечто вроде салона, в котором вращались писатели, художники и светская публика. Там стали периодически устраиваться вечера, получившие названиеséries élégantes,на которые приглашались сливки литературного и артистического бомонда, и где первую скрипку играл знаменитый писатель Проспер Мериме — один из немногих в Париже близких Евгении людей. Он познакомился с ее родителями — графом и его супругой — еще в 1830 году в Испании, во время своего первого путешествия туда, и у них сложились весьма теплые отношения. Вследствие этого он пользовался доверием Наполеона Третьего, и еще в 1853 году стал сенатором Империи. Говорили, что Евгения относилась к нему чуть ли не как к отцу, и он употреблял все свое обаяние и свой недюжинный талант для того, чтобы придать этим «элегантным вечерам» должный уровень и блеск. Но однажды, как рассказывали, он невольно поставил Евгению в глупейшее положение: он надумал провести литературную игру в виде диктанта, в котором Евгения умудрилась сделать… 62 ошибки. Разумеется, этот эпизод подбросил свежие дрова в костер неприязни, которую питало к императрице парижское общество, равно как дал пищу самым ядовитым комментариям и желанную тему светским болтунам. Что же до Сильвестра, то он, выслушав рассказ об этом случае, приобретшем в источающих желчь устах рассказчика гротескные черты, лишь грустно улыбнулся. Уж он-то хорошо знал, сквозь какие тернии приходится нередко продираться тем, кто пытается освоить чужой язык. Хотя сам и полиглот, овладевавший новыми языками почти не напрягаясь, он, однако же был, в силу личного опыта, в курсе тех, порой титанических трудностей, с которыми сталкиваются при изучении языков люди, не наделенные, в отличие от него самого, исключительными лингвистическими способностями. Но, очевидно, не вполне представлял себе эти проблемы полиглот Мериме, играючи овладевший несколькими языками, в числе которых был даже русский — язык, как это хорошо знал Сильвестр, исключительно трудный. Евгения же не была так щедро одарена талантами, как небожитель Мериме, и потому-то все это вызвало у Сильвестра, скорее, сочувствие.

Но, вместе с тем, Евгения порождала в его душе и нечто совсем иное — раздражение, порою перераставшее в отталкивание. То, что вызывало отторжение и неприязнь у большинства — огромные, часто и в самом деле непомерные траты на реконструкцию дворцово-парковых ансамблей и на прочие, иногда весьма экзотичные цели, которые она себе позволяла, щедро черпая деньги из казны, то есть, из налогов, которые эти люди вынуждены были платить — все это Сильвестра задевало не слишком. Деньги не были для него такой уж большой проблемой: он умел и любил их делать. Кроме того, он полагал, что от царствования что-то должно остаться — что-то материальное, что унаследовало бы следующее правление и что, в конечном счете, стало бы достоянием всего общества. И потому он не склонен был порицать Евгению за эти траты. Но большинство-то как раз и порицало ее именно за это, и эти люди были по-своему правы. Не считаться с их мнением и чувствами было недопустимо для правителя, но Наполеон Третий так и делал, потакая, как, опять-таки, полагало большинство, капризам и амбициям жены. И вот это ее легкомыслие, действительно, Сильвестра и раздражало, и беспокоило.
Дополнительно усиливали его раздражение некоторые персоны, окружавшие императорскую чету, в частности, Франсуа-Ксавье Винтерхальтер — художник-портретист, ставший настоящим придворным живописцем эпохи Второй Империи, льстец и царедворец по призванию. Винтерхальтер, имена которого следовало, скорее произносить как Франц-Ксавер, так как он был выходцем из Австрии, приобрел известность еще при Июльской Монархии — при короле Луи-Филиппе, но после революции 1848 года, свергшей короля и провозгласившей Вторую Республику, он покинул Францию и обосновался в Швейцарии. Затем он работал по заказам в Бельгии и Англии, эксплуатируя свое уже приобретшее известность имя. Когда же у него случился перерыв в заказах, он посвятил себя «свободному творчеству», создавая многофигурные композиции из полуобнаженных женских фигур, напоминающих нимф, резвящихся на природе, и навевающие ассоциации с итальянской живописью. Характерным образчиком всего этого было полотно «Флоринда», изображавшее именно такую сцену… неожиданным образом с испанским колоритом. Винтерхальтер словно бы предчувствовал, что в следующий период своей жизни будет портретировать именно испанку: вернувшись в Париж в начале пятидесятых годов, он писал, в основном, Евгению, ставшую его главной моделью. Причем, Сильвестра поразило почти что детальное сходство между «Флориндой» и написанным Винтерхальтером же групповым портретом императрицы
Евгении с ее фрейлинами.


Сходство между двумя картинами было настолько разительным, что вызвало у Сильвестра то, что называетсяle sentiment du déjà vu,и встревожило его — так что даже засосало под «ложечкой». Сильвестр давно заметил, что у многих художников прослеживаютсястранно навязчивые идеи, повторяющиеся из раза в раз в их картинах. Вообще говоря, Винтерхальтер был хорошим художником — его живописная манера нравилась Сильвестру. Так, на его картинах была отчетливо видна разница между лицом Евгении в профиль иen face, замеченная самим Сильвестром « в натуре»: это были совершенно разные лица — точнее, лица, производившие совершенно разное впечатление. Профиль, на его взгляд, был куда симпатичней. И кстати, на картинах Винтерхальтера было хорошо видно, что Евгения в действительности совсем не черноволосая «знойная южная красавица», какой ее обыкновенно представляли, а шатенка с голубыми глазами. И все бы хорошо, но у Винтерхальтера хватало глупости изображать Евгениюà laМария-Антуанетта. Можно было, впрочем, счесть это, напротив, хитростью, тонко продуманным ходом живописца-царедворца. Но — Сильвестр был убежден — это все равно было в высшей степени неумно — внушать восприимчивой императрице мнение о ее сходстве с окончившей свои дни на гильотине австриячкой — так и не принятой «в свои» иностранкой, чужачкой, столь ненавидимой парижанами и так же порицаемой за непомерную расточительность и оторванность от жизни ее подданных. Ей приписывались слова, которые стали крылатыми: когда она узнала, что французы, и в частности парижане голодают, так как у них нет хлеба, она будто бы сказала: — Ну, так что же — пусть едят пирожные». Хотя на самом деле она, вероятно, этого и не говорила. Но она вполнемоглаэто сказать, это вписывалось в ее образ — и этого было довольно. Легко можно представить себе, какую волну ненависти вызвали эти, будто бы сказанные ею слова, и какую роковую роль они, да и все поведение Марии-Антуанетты сыграли в трагической судьбе ее мужа. Поэтому сознательное подражание ей было верхом глупости и легкомыслия, и грозило в будущем тяжелыми последствиями Наполеону Третьему, которого Евгения, по сути, «подставляла», вместо того, чтобы поддерживать, и который и так, несмотря на свою популярность в провинции, был не в фаворе у парижан. Потому-то поведение императрицы вызывало у Сильвестра раздражение, так же как порой и картины Винтерхальтера, хотя в целом легкая и изящная кисть последнего была ему по душе. И, право, только к лучшему было то, что место полуголых «нимф» заняли дамы в платьях-кринолинах.
При мысли о кринолине Сильвестр улыбнулся: кринолин придумал Чарльз Фредерик Ворт, личный портной императрицы Евгении. И это было далеко не спроста: тут присутствовала куда как серьезная подоплека. Кринолин был не только фактором моды, но и экономики. Можно даже сказать, что он был актом экономической войны с Англией, чему совершенно не мешал тот факт, что Ворт и сам был англичанином. И война эта тянулась уже долго — она началась еще при Наполеоне Первом и шла параллельно с Наполеоновскими войнами, продолжаясь и в годы мирных передышек. То была война между лионским шелком и английским хлопком. И ситуация «на фронте» складывалась в пользу хлопка, который англичане вывозили из своих колоний. Хлопок на рынке бил лионские шелка, и с этим что-то надо было делать. И то решение, которое было найдено сейчас, при Наполеоне Третьем, было оптимальным: сделать шелк модным, чего и добился Ворт, изобретя кринолин.
Такая мода, как и в свое время предписание еще Наполеона Первого являться ко двору только в шелковых платьях, понятно, сильно стимулировала производство шелка, поддерживая спрос на стабильно высоком уровне, тем более что кринолины становились со временем все больше и больше, сделавшись в шестидесятые годы просто огромными. К этому добавлялись, кроме того, объемные нижние юбки. Плюс ко всему, в конце пятидесятых была изобретена стальная проволока, и как следствие, появились легкие складные кринолины с проволочным каркасом. «Лионские шелкопряды», как их называл Сильвестр, были спасены.
Его, впрочем, прежде всего интересовала мода на ювелирную продукцию. И его не могло не радовать, что при Второй Империи в моду вошли крупные изделия. Изображались животные, причем, например,ювелирный дом «Бушерон» производил змей — с алмазами, рубинами, сапфирами и изумрудами, «Шоме» изготавливал пауков и птиц, а «Картье» остановил свой выбор на больших стрекозах. Естественно, такие крупные изделия требовали и крупных камней, что, стимулируя высокий спрос, весьма «разогревало» конъюнктуру на алмазном рынке. Благодаря этому Сильвестр и его партнеры процветали. Однако ничто не длится вечно — и даже достаточно долго. Рынок подвержен самым разным воздействиям и, как следствие, неустойчив: спрос может испытать серьезные колебания и так далее. Потому не стоит складывать все яйца в одну корзину — этого подхода Сильвестр держался неукоснительно. Надо пробовать что-то новое — и, конечно, рисковать, рисковать… В любом случае, нельзя ждать, пока конъюнктура испортится — надо заранее позаботиться о своей безопасности, вложившись во что-то перспективное. Вот и сейчас настал такой момент — недаром же старина Гранжан зашевелился: у него чутье просто феноменальное. -Что ж, будем действовать, — твердо решил Сильвестр. — А пока — пора заняться главным на данный момент — переходить к цели визита.
***
Сильвестр решил не бродить вокруг да около, а поскорее перейти к существу дела — беседа и так уже длилась достаточно долго. Впрочем, она оказалась весьма полезной, возможно, даже определяющей для его деловой стратегии на ближайшее будущее. Но сейчас им овладела страсть: обычно сдерживаемая, она, как это всегда бывало в такие моменты, высвободилась и вышла на первый план. Сильвестр уже ощущал знакомую дрожь — сладостную дрожь нетерпения, жажду обладания, неуемный зуд коллекционера. Подобное он испытывал всякий раз, когда назревало новое ценное пополнение его эксклюзивного собрания. Да, страсть жадна…
— Наша беседа, месье Гранжан, — начал он, — весьма интересна и содержательна. Более того, я полагаю, мы оба извлекли из нее выводы и соображения, полезные для дела.
— Месье Монтанье, — прищурившись, вклинился в реплику Сильвестра Гранжан, — я уже давно понял, что вы прибыли ко мне не затем, чтобы обсудить со мной текущие проблемы и деловую стратегию, хотя — признаю — разговор был действительно полезен.
Теперь настала очередь Гранжана отпить коньяк, что он и сделала не без удовольствия.
— Полагаю, вы желаете купить алмаз, — без обиняков сказал он, внимательно и без улыбки глядя Сильвестру в глаза.
Сейчас он напоминал не лиса, а скорей, тигра, углядевшего верную добычу и играющего с ней. — Вот старый пройдоха! — подумал Сильвестр, — Моя страсть — это моя ахиллесова пята, что и говорить. И он схватил меня за эту пятку и думает, что держит. Пусть думает — сейчас это не важно. Быть может, это даже к лучшему. Только надо взять себя в руки.
— Именно так, — сдержанно ответил Сильвестр и тоже отпил коньяк, как всегда, сделав глубокий глоток и подержав его немного во рту.
— Вы, полагаю, как коллекционер и знаток, имеете в виду совершенно конкретный камень, — продолжил Гранжан, — не так ли?
— Безусловно.
— Тогда давайте оставим эти словесные игры — они излишни между партнерами, знающими друг друга давно и хорошо. О каком камне речь?
— Если без игр, то вы сами должны догадаться, — ответил Сильвестр. — Разумеется, это «Императрица Евгения».
Гранжан ничего не ответил. Он словно онемел, рот его непроизвольно чуть приоткрылся, а в глазах застыло такое изумление, что Сильвестр понял: старик не играет. Конечно, он тот еще хитрец и отнюдь не лишен актерских способностей, но это… Нет, такое сыграть невозможно — он действительно поражен. Может быть, продажей камня занимается кто-то другой, и он не в курсе? — Да нет, чепуха! Если первое было еще возможно, то второе… Сильвестр на минуту задумался. — Конечно, то, что Евгения продавала свой бриллиант, было весьма странным и неожиданным. В самом деле — с какой стати? Но чего только не бывает! Просто у Сильвестра нет пока полной информации. А так…
В обмен на качественные стразы — никто бы не узнал. — За пределами узкого круга. Однако Гранжан именно и входил в этот узкий круг. И подобные вещи он уже проделывал — не без успеха. Нет — чтобы тут обошлось без него — это трудно себе представить. Но чтобы он об этом ничего не знал — это просто невероятно! Он, как паук, оплел алмазный рынок в Париже своей паутиной, и потому стоило одной нити хоть чуть-чуть — не дернуться даже, а только пошевелиться, он ощущал это мгновенно. Иное дело — сам Сильвестр. То есть, конечно, у него была широкая сеть осведомителей в самых различных кругах, и, уж само собой разумеется, среди тех, кто, так или иначе, вращается вокруг алмазов. Но он был в Париже, до некоторой степени, все-таки человеком со стороны (недаром Гранжан сказал ему: «У вас, в Швейцарии», подчеркнув эту остраненность Сильвестра). А вот Гранжан должен был быть, по крайней мере, в курсе — это совершенно несомненно. Значит — ошибка? Но каким образом? Ведь Сильвестр получил сигнал! Или…
Сигнал пришел из «Всемирной библиотеки», как называл ее Сильвестр, то есть, из информационного пространства. Такие сигналы он получал время от времени — они были нерегулярными и поступали, когда им заблагорассудится, но до сих пор были точными. Неужели на этот раз сведения оказались ложными? Или тут что-то скрывается? Да, что-то за всем этим стоит — определенно стоит. Теперь Сильвестр это чувствовал. Что-то омрачает картину, отбрасывает тень. Внезапно он увидел, как Гранжан побледнел и черты его стали словно бы призрачными. Что это?! Сильвестр на несколько мгновений прикрыл глаза, а когда он открыл их вновь, старик Гранжан вроде бы выглядел нормально. Однако задумываться об этом сейчас было некогда — нужно было заканчивать этот, становившийся тягостным разговор.
— Месье Гранжан, — обратился Сильвестр к собеседнику, в этот момент напоминавшему языческого истукана, — вы меня слышите?
Черты лица Гранжана ожили и он, кажется, начал выходить из ступора.
— Вы в порядке? — спросил Сильвестр.
—
Старик закашлялся, а затем выпил коньяку.
— Да, месье Монтанье, — запоздало ответил он. — Но, должен признаться, вы меня поразили. Если это был, как говорят англичане,a practical joke,то он удался.
— Нет, месье Гранжан, это был не розыгрыш, — с раздражением и нескрываемой досадой ответил Сильвестр. — Это была ошибка.
— Ошибка? — переспросил Гранжан, и на лице его изобразилась сатировская улыбка, или, лучше сказать, ухмылка.
Сильвестр почувствовал сильнейшее желание придушить его сию же минуту. На какое-то мгновение он увидел перед собой картинку, словно услужливо подсунутую кем-то: мертвое лицо Гранжана, искаженное удушьем, с посиневшими губами и с глазами, вылезшими из орбит. Труп сидел в своем кресле-жабе с обивкой из красного бархата: одну руку он поднял к шее, словно пытаясь расстегнуть воротничок, но безуспешно, после чего рука сползла на грудь. В опущенной к полу второй руке он держал накренившийся бокал с коньяком, и на персидском ковре под ним расплывалось темное пятно от пролившейся жидкости.
Сильвестр поспешил отогнать видение и вновь увидел Гранжана, сидящего напротив и пристально глядящего прямо на него. Улыбка старика, впрочем, увяла.
— Позавчера, — начал Гранжан, словно бы не обращаясь ни к кому, — императрица Евгения сказала такую фразу: « Я продам этот алмаз только в исключительных обстоятельствах», и все…
Он помотал головой, словно сбрасывая с себя что-то.
— Если позволите дать вам совет, — сухо продолжил он, — думаю, вам стоит внимательно присмотреться к вашим информаторам (это слово было произнесено с сарказмом) и, может быть, даже отказаться от сотрудничества с некоторыми из них.
— Благодарю вас за столь ценный совет, данный, к тому же, от всего сердца, — ответил Сильвестр ровным голосом без всяких модуляций.
Температура разговора после этого обмена репликами упала настолько, что, казалось, с камина и с карнизов свисают сосульки. — Это уже слишком, — подумалось Сильвестру, — отношения с партнером не должны быть на точке замерзания. Надо как-то «разморозить» атмосферу, а затем распрощаться.
Однако Гранжан взял инициативу в свои руки.
— От тона, который приобрела наша беседа, становится зябко, — произнес он с улыбкой, призванной, очевидно, растопить ледок, слегка «подогрев»атмосферу. Должно быть, Гранжана посетили примерно те же мысли, что и Сильвестра.
Но продолжение оказалось неожиданным.
— Давайте вернемся к теме, месье Монтанье, — заявил Гранжан корректно-деловым тоном, очевидно сочтя эпизод завершенным. — У меня к вам предложение по существу.
— О чем вы? — удивленно спросил Сильвестр.
Гранжан внимательно посмотрел на Сильвестра и четко артикулируя слова, произнес:
— У меня есть другойбриллиант. Как раз в вашем вкусе — можете не сомневаться. До нашего разговора я не думал пока его продавать и держал его в резерве, ожидая для него достойного покупателя. Этот камень, видите ли, весьма требователен к владельцу.
Гранжан усмехнулся.
— Но, полагаю, покупатель явился, — продолжил он, глядя на Сильвестра. — Уверен, вы не будете разочарованы.
Старик определенно сегодня в ударе, — подумал Сильвестр, — он меня по-настоящему удивил. Надо же, мне казалось, я знаю его настолько хорошо, что мне нет нужды копаться в его голове, а оказывается, это как раз было бы нелишним.
Однако в данный момент Сильвестр был возбужден и, что называется, «на взводе»: его страсть вновь заявила свои права, и весь привычный комплекс ощущений, сопровождающих предвкушение очередного пополнения коллекции, снова был налицо. С той только разницей, что теперь во всем этом присутствовала неизвестность. Чарующая неизвестность…
— Что-то нынче всего слишком много, — сказал себе Сильвестр. — Надо обуздать своего «конька» и взять ситуацию под контроль. И, конечно, плотнее заняться Гранжаном — я его явно недооценил. А пока…
— Что это за камень? — только и произнес он вслух.
Вот так: спокойнее, холоднее. Так-то лучше. Гранжан принялся раскуривать сигару — что ж, теперь была его очередь слегка покуражиться. Сильвестр сохранял невозмутимое спокойствие. Гранжан закашлялся: все-таки возраст — что ни говори, а уже хорошо за пятьдесят — так что его «номер» оказался несколько смазанным, и следующая реплика прозвучала не столь эффектно, как предполагалось. Но, тем не менее, она произвела на Сильвестра впечатление.
— Камень? — переспросил, прокашлявшись, Гранжан. — Это «Южная Корона».
***
Дальнейшее произошло быстро. Разговор приобрел сугубо деловой и профессиональный характер. Бриллиант, конечно, Гранжан не держал постоянно при себе, а хранил, само собой, предварительно застраховав, в сейфе Французского Банка. Камень должен был быть перемещен в кабинет Гранжана лишь утром в день сделки — то есть, через двое суток. Сама сделка и передача бриллианта новому владельцу должны были состояться во второй половине дня — условленное время было семнадцать часов. При этом Гранжан, уже предвкушая большой даже для него барыш и проявляя любезность, которая, как известно, не стоит ни гроша, но ценится высоко, великодушно взял на себя все формальности.
Предварительно смотреть камень Сильвестру, разумеется, не было нужды: он его хорошо знал: недаром тот был огранен в Антверпене. Кому-то, особенно человеку со стороны, может показаться странным то, что Сильвестр, владелец алмазогранильной компании, покупает алмаз у кого-то еще. Действительно, разве он не может взять какой-нибудь камень, так сказать, у себя самого, отдать распоряжение огранить его так, как ему угодно и поместить его в свою коллекцию? Однако на самом деле все обстояло несколько иначе: дело в том, что в норме Сильвестр приобретал целыепартиисырых алмазов, подобранных по массе (и другим параметрам: чистоте, бездефектности, наличию или отсутствию определенного оттенка, и так далее). Например, партию бразильских камней — бесцветных, бездефектных, нормальной формы, лишенных оттенка — массой в один карат. Или аналогичную партию, но из камней, скажем, в два или пять карат, и тому подобное. Причем, следует заметить, что мелкими считаются алмазы весом до полукарата. Камни от 0,5 карата до одного карата называются средними, а алмазы от одного карата и выше уже считаются крупными. Те же алмазы, которые собирали для своей коллекции Сильвестр и его собратья-коллекционеры, былиуникумами:это были камни в десятки, а иногда даже в сотни карат, чистой воды, порою с исключительными характеристиками, например, цветные. Тут имеется в виду равномерная и яркая окраска, а не легкий оттенок — камни с оттенком не считаются цветными. Хотя оттенок можно зрительно усилить- например, в перстне, при помощи подложки из фольги, превратить бледно-розовый камень в красный, но это — уловка, которую легко свести на нет — для этого достаточно вынуть алмаз из оправы. Цветными же считаются алмазы чистого выраженного цвета, допустим красного. В принципе, алмаз может иметь любой цвет, за исключением разве что коричневого. В том числе, хотя об этом мало кто знает, даже черный, точнее, так называемый цвет оружейного металла. Но по-настоящему цветные алмазы очень редки и потому ценятся чрезвычайно высоко.
В любом случае, те камни, которые Сильвестр собирал в своей коллекции, не входили ни в какие партии, они сразу после их добычи отделялись от других и отправлялись тоже отдельно. Короче, это был штучный товар — они получали имена, а цена на такие камни определялась не по общей формуле, а сугубо индивидуально. Общая ценовая формула была, вообще говоря, проста: цена за карат, умноженная на вес камня в каратах. Нужно, однако, иметь в виду, что для большинства ювелирных камней (исключая поделочные) цена за карат возрастает с увеличением веса камня, причем, порой весьма резко. Последнее как раз касается алмазов. Но камней, которые составляли первоклассные коллекции, как, например, коллекцию Сильвестра, это все не касалось — они стоили, в принципе, столько, сколько покупатель был готов за них заплатить, и потому они время от времени продавались на аукционах. К Сильвестру, в рамках его дела, такие камни поступали тоже в индивидуальном порядке, в виде специального заказа. Обычно же он, то есть, его компания приобретала партии сырых алмазов у диамантеров, гранила эти камни, и продавала, опять-таки, партии уже ограненных алмазов ювелирным фирмам, или же фирмам, которые совмещали ювелирное дело с розничной торговлей, что бывало нередко и как раз было и в ситуации с Гранжаном.
Уникальный же камень мог попасть к Сильвестру от случая к случаю: либо — и это как правило — его отдавал на огранку (или переогранку) его хозяин: в этом случае Сильвестру он, естественно, не принадлежал, и он лишь получал деньги за огранку (кстати, весьма немалые, ибо качественная огранка стоила дорого). Либо же, иногда, его компания приобретала такой камень у диамантера, и в этом случае Сильвестр мог распорядиться им по своему разумению: или огранить и продать — в отличие от прочих камней не в составе партии, а в индивидуальном порядке, или же, действительно, оставить его при себе. Но последнее он делал крайне редко: его, говоря на английский лад, бизнес заключался в покупке камней, их обработке (огранке), то есть, превращению их в бриллианты, что, естественно, значительно повышало их стоимость, а затем в продаже их ювелирным фирмам или розничным торговцам. Именно на этом он делал деньги. Приобретать же алмазы или бриллианты для коллекции было уже не бизнесом компании «Монтанье», а частным делом Сильвестра, и он занимался этим частным образом, покупая камни, как все — у тех, кто специализируется на их продаже.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.