
Необходимое предисловие
Как только читатель поймёт, что перед ним чьи-то мемуары, да ещё и написанные вертикально, интерес его должен пропасть — а зря. Автор постарался на славу — книжка получилась интересной, не хуже любого авантюрного романа.
Все тексты объединены одним героем и расположены в более-менее хронологическом порядке. Автор рассказывает о жизни некоего гражданина Степанова, в котором легко угадывается он сам, описывая то самое время, которое без большого риска ошибиться можно смело назвать «эпохой полного абзаца». Этот сборник историй можно читать с любой страницы, рассматривая при этом фотографии из архива автора.
Многое из описанного здесь — чистая правда. Жизнь автора удалась. Его герой не только вдоволь попутешествовал по стране в восьмидесятые и покуролесил в лихие девяностые, но и успел стать топ-менеджером крупного предприятия в нулевые, отхватив за это в десятые по полной программе. Не оставить потомкам собственную версию такой разудалой и запутанной биографии было бысо стороны автора полным свинством.
Вертикальное расположение текста объяснимо. Автор долго писал обычные стихи, версифицировал, подражая всем понемногу, участвовал в конкурсах, но никак не мог реализовать задуманное — не было формы изложения. В 2020 году познакомился со знаменитой Людмилой Геннадьевной Вязмитиновой. Она и открыла перед автором мир верлибра, придав ему уверенности в своих силах. Мир её праху — она сумела разомкнуть уста автора, и тексты хлынули водопадом.
С великим облегчением избавившись от регулярного стиха, от рифм и размеров, сковывавших язык, от необходимости плести словесные кружева, автор уверенно шагнул в эпический верлибр — так классифицировала этот стиль Л. Г. Вязмитинова.
Книга родилась всего за год — огромное спасибо за помощь поэтам Ирине Чудновой и Михаилу Тищенко, а также моим родным — жене Ольге и сыну Матвею Струковым.
Книга не пропагандирует и не призывает к употреблению наркотиков, алкоголя и сигарет. Автор категорически осуждает производство, распространение, употребление и рекламу запрещенных веществ. Изобразительные описания противоправных действий, являясь художественным, образным и творческим замыслом автора, вовсе не являются призывом к совершению запрещенных действий.
1. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ (1966—1986)
Крещенский Сочельник
Задолго до рассвета
беременной Катюхе приспичило на двор.
Она укуталась поплотнее,
надела огромные мамкины чуни
и побежала вразвалочку
по скрипучему январскому снегу
к темнеющему вдали отхожему месту,
где через пару минут с ужасом поняла, что рожает.
Катюхе не было ещё и восемнадцати,
молодой муж был старше её всего на полгода,
поэтому всё взяла в свои руки Катькина мать,
растолкавшая и озадачившая всех в доме.
Через полчаса зять уже споро тянул по улице
дровяные санки с подвывающей роженицей,
а Мария Евгеньевна впритрусочку
мчалась следом, приговаривая «ойёйёйёё».
Было полшестого утра, посёлок ещё спал,
на заметённых снегом улицах не было ни души,
крепко давил крещенский морозец,
в тайге жалобно выли окоченевшие волки,
звёзды шептались, с интересом рассматривая
спешащий куда-то маленький отряд.
Из-за угла навстречу вывернулся
ещё не протрезвевший солдатик, бегавший в самоволку,
страшно перепугавшийся такой встречи
и оттого сиганувший за ближайший забор.
«Смотри-ка! Пацан будет!» —
обрадовалась знамению Мария Евгеньевна.
Катюха что-то прогундосила в ответ,
терпеть ей оставалось уже немного,
потому что впереди показался
тусклый фонарь у дверей больницы,
большого чёрного барака,
пропахшего чем-то неприятным.
Молодожён прибавил ходу,
Катька жалобно завыла,
Мария Евгеньевна уже в полный голос
заверещала своё «ойёйёйёё»…
Через четверть часа на свет появился я.
Дедово ружьё
1.
Дедово ружьё лежит в чулане.
Пыльное, холодное, тяжёлое.
В коробке с десяток патронов.
«Вот оно то, что надо!» —
со странным облегчением думаю я.
В детстве я был редкостным говнюком.
Вряд ли нормальный ребёнок
решит застрелить собственного деда.
А я мечтал об этом лет с семи.
И пытался это сделать дважды.
Но — обо всём по порядку.
Едва произведя на свет,
юные родители сплавили меня в деревню,
а сами уехали в город искать лучшей доли.
Это был самый конец шестидесятых.
Детей в деревне было мало,
я рос, как Маугли — среди собак, лошадей и коров.
Я даже понимал их язык.
Да-да, вы зря смеётесь —
животные разговаривают между собой.
А ещё я часто бродил по лесу,
забирался в самую глухомань
и при этом почему-то ни разу не заблудился.
Дед мой был фельдшером,
лечил людей, как умел,
пил, конечно, безбожно —
впрочем, как все тогда.
В пьяном виде бывал дед ужасен,
мы прятались кто куда,
одна бабушка безропотно
принимала его пьяную злобу.
Бабушка работала акушеркой,
хозяйство было на ней немалое:
конь, корова, куры, свинья,
русская печка, большой огород и я.
Пьяный дед бил её подло —
в грудь, в живот, чтоб синяков не было видно.

А кулаки у фронтовиков были ой какие тяжёлые!
Я ненавидел деда в подпитии.
Тот валился на диван в грязных сапогах
начинал орать, требуя к себе внимания,
потом лез драться.
Я храбро бросался защищать бабушку,
но дед бережно меня отпихивал,
вообще-то он очень любил меня.
Но однажды я страшно разозлился,
выволок из чулана вот это самое ружьё,
грохнул его на стул перед диваном,
крикнул полусонному деду — «сдохни, гад!»
взвёл курки и выжал спуски.
Ошарашенный дед долго не мог успокоиться.
На моё и дедово счастье
патронов в стволах тогда не было,
а сейчас вот они, лежат на столе,
тускло отсвечивают капсюлями —
бери нас, заряжай, пали!
2.
Прошло немало лет.
И вот наш дед лежит на том же самом диване,
он мычит и стонет —
у него полностью разрушилась речь,
узнаёт только меня да бабушку,
зовёт меня сынком и долго держит за руку,
регулярно и с наслаждением ходит под себя.
Месяц назад мы забрали его из психинтерната,
плачущего, потерянного, всего в синяках.
Мне никогда не забыть тот жуткий день,
то сырое, давящее свинцом небо,
в котором от края до края был разлит ужас.
Дед теперь как ребёнок.
Только крепкий, огромный,
неподъёмный, как колода.
Соседки приходят пожалеть бабушку,
но помогать ей никто не спешит.
Мне невыносимо видеть всё это.
Зачем так жить?
Я в деревне по просьбе родителей,
студент второго курса института,
самоуверенный циничный юноша.
По вечерам я сбегаю из дома
пить мерзкую местную водку с кем попало.
Однажды, в промозглый осенний день,
когда бабушка уходит в магазин и на почту,
я осторожно выношу дедову «тулку» из чулана,
сажусь возле дивана на табурет,
кладу ружьё на колени
и пристально смотрю деду в глаза.
Я хочу, чтобы он понял меня,
и похоже, он что-то понимает.
Он почему-то радуется, как ребёнок,
он волнуется, он силится мне что-то сказать,
тычет на ружьё, тянет пальцы к стволам.
— Да, — слышится мне. — да, сынок! Ну!
Тяжёлый морок сгущается в моей голове.
Я знаю — дед в моей абсолютной власти,
никто и никогда не станет разбираться,
как сумасшедший старик добрался до ружья.
Любая российская деревня
хранит и не такие тайны…
Кто-то другой просыпается во мне —
и это точно не человек.
Страшным усилием воли
я не пускаю этого зверя за флажки.
Спасибо физической закалке,
полученной в летнем стройотряде —
я еле-еле успеваю отодрать
чугунные дедовы пальцы,
цепляющиеся за цевьё
в опасной близости
от спусковых крючков.
С трудом перевожу дух,
понимая, какой же я дурак.
Зачем я приволок это чёртово ружьё?
Оказывается, я очень люблю,
и даже жалею своего деда.
А когда любишь человека,
то можно немного его и потерпеть.
Вся моя ненависть куда-то исчезает за полсекунды.
Я улыбаюсь деду: «Живи, старый!»
А он почему-то вдруг горько и безутешно плачет…
Назло всем чеховским заветам
от греха подальше
вечером того же дня я меняю
чёртово ружьё вместе с патронами на самогон.
3.
Дед умрёт через три долгих месяца,
на неделю пережив Андропова,
бабушка проживёт одна
ещё целых тридцать пять лет,
я вырасту, постарею,
похороню бабушку
и только тогда наконец-то
расскажу всю эту историю.
Пушкин. Яблочный Спас
Русское лето, лесная симфония —
мерин, телега, дорога, жара.
С дедом на вызов мы едем в Афонино,
редкие гости у них «фершала».
Рады сельчане,
встречают улыбками,
яблоки дарят — налив золотой.
Жёлтые капли под кожицей липкою
брызгают соком.
У деда запой.
В каждой избе наливают.
Обрадован,
дед пропадает надолго в сельпо,
Пушкина «Сказки» несёт мне наградою.
Бабушки нас провожают толпой.
Ель с укоризной качает макушкою,
мерин плетётся домой — кое-как —
и, вне сомнений, заслушавшись Пушкина,
с кладбища машет вослед вурдалак.
В бархате неба,
подсвеченный звёздами,
тает таинственный иконостас.
…Всех нас спасёт
Тот, которому воздано.
Тот, что для вечности
Пушкина Спас.
Конь
Детство Степанова прошло на тряской телеге,
которую тянул по лесным дорогам гнедой конь,
выданный государством деду Степанову,
работавшему фельдшером на селе,
для поездок к больным по окрестным деревням.
Машин в те годы на селе было мало, одни грузовые,
народ добирался в райцентр и обратно на попутках,
а иногда и пешком, отмахивая по грунтовке
километров двадцать-тридцать кряду.
Конь в селе был невиданной роскошью,
спаситель и кормилец, он никогда не филонил,
безропотно тянул то плуг, то гружёную телегу —
хотя деду полагалось использовать коня
только для медицинской надобности,
но конь об этом явно не догадывался,
а вот дедов заклятый друг, сельсоветчик Сыродеев,
прекрасно знал и часто сигнализировал куда надо.
Конь у Степановых был самый что ни на есть обычный,
гнедой масти, рабоче-крестьянской породы,
спал в хлеву с коровой и курино-петушиной командой,
в еде был неприхотлив и довольствовался малым.
Степанов хорошо помнил его бархатистую кожу,
масляно блестевшую на закатном солнце —
дед сажал голозадого внука на конский круп,
малыш заливисто верещал что-то своё, радостное,
а конь терпеливо ходил по кругу и шумно фыркал.
Лошади вообще-то существа пугливые,
с тонкой душевной организацией,
хотя испуг их вполне предсказуем —
одинаково нервируют их шумные собаки
и молчаливые лесные волки,
от которых однажды зимой на санях по снегу
пришлось удирать деду и внуку Степановым,
приехавшим в сосновый бор то ли за ёлкой,
то ли по какой-то другой надобности.
Дед отчаянно матерился и пел свою любимую:
— Когда б име-е-ел златые горы…
Конь храпел и нёсся по рыхлой колее,
ошалело выкатив огромные от страха глаза,
неразговорчивые волки висели на хвосте у саней,
а подслеповатый внучок знай себе веселился,
приняв стаю хищников за игривых собачек.
С чужими собаками у юного Степанова
всегда были сложные отношения — а потом тем более,
поскольку своей псины во дворе
дед с бабкой отродясь не держали, дед не любил.
Деревенские псы дружелюбием как-то не отличались.
а вот цыганские волкодавы чужих рвали на куски.
Сам Степанов цыган не боялся,
он привык к ним с детства —
в соседней деревне стоял из года в год
самый настоящий цыганский табор,
который бабка-акушерка часто патронировала.
Заносчивые мужчины работали пастухами в колхозе,
горластые женщины вели домашнее хозяйство,
цыганята промышляли мелким воровством,
но к маленькому докторёнку не задирались,
защищая от злобных цыганских собак.
Любой конь вызывал у цыганят искреннее уважение,
они липли к фельдшерскому, как мухи на мёд,
гладили, что-то ласково бормоча на конском языке —
было заметно, что коню это очень приятно,
он влажно и стыдливо косил большим глазом,
его возбуждение было ощутимо физически,
он долго потом не мог успокоиться.
Конская склонность входить в раж с пол-оборота
сыграла однажды злую службу его хозяевам.

Как-то на самом исходе дождливого лета
дед с бабушкой поехали на вызов в дальнее село,
оставив внука и внучку бабушкиной матери.
Аксинья Дмитриевна зятя своего не любила,
ожидая от него неприятностей для дочери,
в тот грозовой августовский вечер
она вдруг разложила пасьянс один раз, другой,
а потом заголосила, как по мёртвому:
— Убил он, убил доченьку мою!
Внуки уставились на старуху, раскрыв рты,
и тут на улице раскатисто ударил гром,
за окнами вспыхнула бледным светом молния,
все услышали знакомое ржание,
гурьбой кинулись во двор —
конь стоял у дверей хлева нерассупоненый,
с обрывками упряжи на спине и на боках,
судорожно храпел и бил землю копытом.
— Господи! Убил наконец-то, дьявол поганый! —
голосила сухонькая Аксинья Дмитриевна,
стоя на крыльце и потрясая своей клюкой. —
Будь ты проклят, убивец ты чёртов, тьфу, тьфу!
И тут широкими шагами из дождя вышел дед.
Он был страшен.
Степанов навсегда запомнил его мучнисто-белое лицо,
отчаянный взгляд, сорванный чужой голос,
которым дед негромко распоряжался.
В доме появились соседские мужики,
кто-то подъехал на грузовой машине
и снова умчался куда-то в дождливую темень.
Всё как-то сразу выяснилось.
Степановы возвращались короткой дорогой,
бабушка дремала, дед правил,
и тут на косогоре конь поскользнулся,
на мокрой глине телегу юзом повело вбок,
оглобли встали наперекос, пугая коня,
дед решил рвануть вперёд,
конь прыгнул что было сил,
порвал постромки и ускакал домой,
а дед с бабушкой остались барахтаться
под перевёрнутой телегой.
Дед командовал спасательной операцией сам,
только в городе выяснилось,
что всё это время он оставался на ногах
с открытым переломом руки.
Бабушке досталось куда больше —
рёбра, голова, что-то ещё внутри,
чего Степанов по малолетству не упомнил.
Но ничего, со временем всё заросло,
конь так вообще сильно не переживал —
а не хрен ездить в дождь по мокрым косогорам.
Лошади в деревне живут недолго.
Лет через пять конь постарел, осунулся, засопел,
ветеринар посоветовал деду
сдать его поскорее на мясо.
Ранним осенним утром дед надел уздечку,
погладил шелковистые когда-то бока,
и они пошли вдвоём по улице за деревню —
печальный дед и его покорный товарищ.
Вернулся дед к обеду один, пьяненький,
он долго плакал, сидя на крыльце,
такой несчастный и пришибленный
в своём немодном пиджаке
и старых разбитых сапогах.
Коня убивали прямо при нём —
завели в специальное стойло,
ударили молотком между глаз,
перерезали жилистое горло —
и понеслась коняшкина душа на небесный выпас.
Телега дедова со временем рассохлась и сгнила,
упряжь долго висела на сеновале, пока не истлела.
Нового коня деду больше не дали,
главврач выделил ему от щедрот
новенький блескучий велосипед,
пообещал со временем мотоцикл с коляской.
Но все эти чудеса цивилизации
деду толком так и не пригодились,
в восемьдесят четвёртом прибрался и он,
отмучившись полгода в психинтернате.
И осталась в памяти Степанова
живая картинка со звуком —
утро, дед идёт по двору, ведя коня в поводу,
и топот конских копыт,
вплетаясь в ритм и шарканье дедовых шагов,
звучит так мягко, так приятно и знакомо,
что хочется выглянуть в окно, чтобы увидеть,
как уходят оба они в туманную даль —
трудяга-конь и его старый хозяин.
— Когда б имел златые горы
и реки, полные вина,
всё отдал бы за ласку, взоры,
чтоб ты владела мной одна…
Подпасок
Много ли для счастья надо?
Удивлю я вас, наверно.
В детстве пас коровье стадо —
прут да томик Жюля Верна.
Зачитаешься романом
и шукай потом корову…
День в раздолье первозданном —
ночью спится сном здоровым.
Хлещет ливень ли, жара ли —
а куда деваться в поле?
Комары, бывало, жрали
так — закуришь поневоле.
Убежать нельзя — стыдоба.
Ты теперь — стратег и тактик,
на коровах голос пробуй,
вырабатывай характер.
Совесть свежая, без пятен,
память как ведро пустое.
Ты один, и мир понятен,
ясен, чист, и прост, и строен.
Опыт мал — полно фантазий,
лес живою сказкой дышит.
Небо радуга раскрасит,
очень хочешь — трогай с крыши.
В гонке вечной с веком прытким
так и тянет разреветься —
есть теперь всего в избытке,
да сбежало счастье в детство…
Непогода
Всё правильно — бывает погода,
то бишь годное для жизни состояние природы,
а бывает погода с приставкой НЕ —
это когда на улицу лучше вообще не выходить.
Степанов, бледный юноша двенадцати лет,
приехавший в деревню погостить на лето,
плёлся в утреннем тумане по сельской улице —
сегодня был черёд его родственников
гнать общественное стадо на выпас,
но дед-фельдшер с бабушкой вели приём,
ставили печальным старушкам прописанные уколы,
поэтому Степанов вышел в поле за главного.
Туман медленно поднимался,
но хорошего в этом было мало,
поскольку наконец-то стало понятно,
что день ожидается нудный, серый и дождливый.
Заспанные хозяйки выпускали кормилиц со двора,
без особого доверия посматривая на юного пастуха,
преувеличенно бодро свиставшего военный марш.
Неосознанно стараясь подражать взрослым,
Степанов уверенно вышагивал по сырому песку
в дедовых «кирзачах» и заношенном дождевике,
зычно покрикивая на особо шкодных подопечных,
вечно старавшихся залезть в чьи-нибудь посевы,
словом, старательно играл ответственную роль
настоящего пастушьего командарма.
Девятнадцать разномастных коров да пятеро овец,
которых Степанов недолюбливал за тупость,
поскольку те вечно шарахались по каким-нибудь кустам,
отставали от колонны и противно орали своё «бэ-э-э» —
вот был весь вверенный ему на сегодня контингент.
За околицей деревни животные проснулись,
сбились в дружный коллектив и двинулись на луг,
своё излюбленное место поглощения разнотравья.
Обозрев вверенную ему маленькую армию
взыскательным генеральским взором,
Степанов тоже расположился на лугу,
на пригорке у подножия одинокой сосны,
расщепленной неизвестно кем на три макушки.
Между тем начал накрапывать дождик, опять стемнело.
Его солдаты, явно чем-то озабоченные,
дружно потянулись к хилому сосновому лесочку,
видневшемуся на самом краю луговой равнины.

Природа нынче явно не ждала никого в гости.
Степанов со вздохом поднялся, осознавая,
что сегодня ему предстоит вымокнуть до нитки —
то ли в чистом поле, то ли в жиденьком лесочке.
Прощаясь, он постучал ладонью по телу сосны,
но дерево безжизненно промолчало в ответ,
и ему вдруг стало как-то очень не по себе.
Дождь усиливался, небо чернело и пухло,
Степанов поднял голову и явственно услышал,
как нарастает в тишине гул падающих капель,
со стуком и шелестом бьющих по траве.
Он поёжился, словно почувствовав себя в прицеле
какой-то неведомой силы, жестокой и страшной,
шагнул с пригорка и успел сделать несколько шагов,
как небо за его спиной выпустило наружу свет,
разом ослепивший и напугавший Степанова,
и тут же разорвалось громовым зарядом такой силы,
что земля под ногами юного пастуха подпрыгнула.
Степанов упал, вскочил, потом снова упал —
он помчался по сырой траве то на четвереньках,
то согнувшись, словно под огнём противника.
Молнии лупили со всех сторон, земля дрожала,
что-то падало, запахло чем-то неприятным —
Степанов мчался к деревьям, боясь оглянуться.
Его коровы спокойно улеглись в лесочке и дремали,
вполне комфортно пережидая природный катаклизм.
Чёртовы животные оказались умнее своего пастуха!
Он уселся на трухлявый ствол поваленного дерева,
руки и ноги его дрожали, сердце стучало в горле,
но теперь громы и молнии были не так страшны.
Степанов потрогал на боку сумку и успокоился —
бутылка молока, выданная бабушкой, была цела.
Он пересчитал огромные тёмные туши коров,
радуясь тому, что все его подопечные на месте.
Перепуганная стайка овец прижалась к его ногам,
Степанов погладил тёплые шерстяные спины «бяшек»,
трусишки дрожали, как осины, от страха —
он ощутил трогательное единение с животными,
безропотно пережидавшими небесное сражение —
все они здесь были созданиями одного мастера,
вот только мастер тот сегодня был явно не в духе.
Некто непонятный, яростный и беспощадный,
продолжал бесноваться где-то в небесах,
Степанов представил себе этакого злобного дядьку,
вспомнил греческие мифы про похождения богов,
повеселел, осмелел и окончательно уверился в том,
что теперь-то он находится в полной безопасности.
Между тем лесок странным образом преобразился,
в нём словно зажгли праздничное освещение —
услышав за спиной странное шипение и треск,
Степанов ощутил присутствие чего-то необычного.
Он медленно повернул голову налево и обмер —
буквально в десятке метров от него
метался в воздухе искрящийся белый шар,
непонятно, как и откуда здесь взявшийся.
Лесок делила надвое старая заросшая дорога,
над которой судорожно рыскало туда-сюда
нечто обжигающе светлое и очень страшное
размерами примерно с футбольный мяч.
Степанов никогда не видел шаровой молнии,
но много слыхал о ней от местных пацанов.
Он испугался и затаился, боясь пошевелиться —
в поведении рыскающего по лесочку «мяча»
было что-то нервозное, звериное, угрожающее —
ему захотелось выскочить из дедовых сапог
и бежать отсюда куда глаза глядят —
босым ему бежалось бы куда быстрее.
Овцы замерли у его ног, словно каменные,
Степанов увидел их неистово выпученные глаза,
прочёл в них безнадёжную покорность судьбе —
он сам теперь еле сдерживал себя в руках,
стараясь не смотреть на зловещий шар,
который то метался как заполошный,
то замирал, словно к чему-то прислушиваясь.
А потом жуткий сгусток света вдруг исчез.
Пропал, словно его никогда и не было.
Сколько это продлилось — минуты, секунды?
Степанов не помнил. Страх стёр его память.
Ноги не слушались, руки дрожали, голос тоже,
он пытался прокашляться — не получалось.
Между тем дождь стих, небо разом просветлело,
коровы медленно зашевелились,
тяжело вставая с колен враскачку,
потянулись одна за одной на луг,
где в лучах вывалившегося из туч яркого солнца
сверкала рясная зелёная трава.
Степанов откинул капюшон и зажмурился,
подставив мокрое лицо свежему летнему ветерку.
Овцы послушно шли за ним по пятам,
стараясь не отставать от боевого командира,
и так радостно орали своё любимое «бэ-э-э»,
что Степанов захохотал — вы ж мои хорошие…
Через полчаса он почти забыл об увиденном,
начиная уже сильно сомневаться,
не причудилось ли ему всё случившееся —
пока не оторопел, увидев ту самую одинокую сосну,
расщепленную сверху донизу
безжалостным и страшным ударом,
нанесённым откуда-то с небесных высот.
Сельсоветчик Сыродеев
Председателя местного сельсовета
Николая Ивановича Сыродеева
в деревне издавна недолюбливали —
ещё в войну прославился он доносами
на возвращавшихся с фронта мужиков,
опасался конкуренции, так сказать,
оттого и возводил напраслину
на кого только ни придётся.
Смертным боем лупили бы его за это мужики,
но сельсоветчик на длинных ногах-ходулях
всегда легко уходил от расправы,
прячась за высоким глухим забором
своего большого серого дома,
стоявшего посреди деревни.
У самого Сыродеева повоевать
слишком долго не получилось,
поговаривали в деревне бабы,
что дал он военврачу на лапу,
чтоб комиссовали поскорее
по причине незначительного ранения,
за что фронтовики его и презирали,
а он, понимая правоту их подозрений,
только скрипел зубами от ненависти,
строча доносы на всех своих врагов.
Так вот, подличая и интригуя,
пережил он и фронтовиков, и Сталина, и Брежнева,
гордо вышагивая каждый день
посреди деревенской улицы
со своей знаменитой слащавой ухмылочкой —
мол, знаю, знаю я всё про вас,
дорогие мои односельчане…
Дед Степанова вёл с сельсоветчиком войну
не на жизнь, а на смерть —
много лет писал Сыродеев доносы на деда,
а дед строчил кляузы на друга Кольку—
вся эта многолетняя тяжба
совсем не мешала им раскланиваться,
совместно выпивать, обниматься —
друзей у Сыродеева и так было мало,
дружба с сельским фельдшером
ещё никогда никому не мешала,
дед же выказывал власти почёт и уважение,
не забывая материть при этом шёпотом почём зря.
Сыродеевы чувствовали себя в деревне
самыми настоящими хозяевами,
их нахрапистая невестка пошла по партийной линии,
туповатый сын метил в директора местной школы,
сама же супруга Мария Ивановна,
высокая статная женщина с ясным чистым лицом,
заведовала испокон веку сельским магазином —
вся деревня кланялась ей в пояс,
чтобы не обделила Маруська не дай Бог
хлебом, постным маслом и «пясочком»,
как любовно называли тогда сахар-песок.
Колоть оплывший сахар-рафинад
колхозникам нравилось не особенно,
но в магазине у Маруси всегда стояла про запас
огромная жёлтая сахарная «голова».
Рассказывали, что в далёкой молодости
Маруся росла в очень бедной семье,
вышла замуж за Сыродеева вовсе не по любви,
случилась тогда какая-то тёмная история,
сельсоветчик всю жизнь попрекал жену,
прилюдно унижал и ни во что ни ставил,
на гулянки и празднества приходил один.
Степанов хорошо помнил тётю Марусю,
смотревшую на него с жалостью и лаской —
пока бабка его обсуждала свежие новости,
внук шастал по дальним полкам магазина,
дивясь странному сельповскому ассортименту —
корыта, вёдра, веники из сорго, валенки,
лампы-керосинки, утюги с откидной крышкой,

под которую насыпали для жару уголья…
В последний раз Степанов видел тётю Марусю
в самом конце восьмидесятых,
в её магазине было пусто и холодно,
да и работал он всего два дня в неделю,
когда из афонинской пекарни привозили хлеб —
ах, как они любили в детстве встречать повозку,
на которой привозили горячий чёрный хлеб
гнедой мерин и бельмастый дед Евдоким!
Теперь магазин можно было скупить целиком
за невеликие степановские командировочные,
сама тётя Маруся давно чем-то побаливала,
рассматривала Степанова, словно прощаясь —
он долго не мог отделаться от неловкости
после такого странного впитывающего взгляда,
а через пару лет пришёл на кладбище — и всё понял.
Дед Сыродеев остался теперь в доме один,
его высокая фигура маячила иногда на улице,
но Степанов встреч с обидчиком деда не искал,
зато нашёл в сарае целый ящик дедовых жалоб,
адресованных в райкомы и райисполкомы —
за советской пасторалью скрывался Босх.
Дед жаловался на притеснения местной власти,
на неправильный размер земельного участка,
доказывал, что сад у него не так и велик,
просил выделить медицинскому коню сена —
фельдшеру полагался гужевой транспорт,
на котором малолетний Степанов в детстве
объехал все местные хутора и деревни.
Конечно, жалеть после такого Сыродеева
было бы как-то совсем уже странно,
вскоре узнал Степанов, что старик спятил,
начал прятаться от сына с невесткой,
залезая под кровать или забиваясь в чулан,
взахлёб разговаривал с призраками,
о чём-то просил и умолял невидимых чертей,
потом начал убегать из дому —
находили его то в лесу, то у реки,
старик плакал, в чём-то каялся,
но идти домой не хотел ни в какую.
Случилось как-то и Степанову встретить его
на лугу неподалёку от старой школы,
где когда-то учился в пятом классе Степанов —
бывший сельсоветчик выглядел неважно,
но внука друга Лёньки узнал и обрадовался,
полез обниматься, дыша гнилым ртом,
потом поутих и начал вдруг рассказывать такое,
от чего Степанов словно прирос к земле.
Он не знал, что безумие заразительно —
сумасшедшие видят мир совсем иначе,
им открывается невидимая сторона Бытия,
они пытаются рассказать нам об этом,
воображение слушателя вспыхивает…
Со слов Сыродеева выходило так,
что деревня переполнена призраками,
давно умершие люди живут бок о бок с живыми,
захотят — помогают, а обидятся — пакостят.
Встречал сельсоветчик призраков и в городе,
куда сын отвозил его на обследование,
там оказалось их куда больше, и все незнакомые.
Сыродеев сидел у врачей, боясь слово сказать —
опасался, что признают психически больным,
в момент определят в какой-нибудь интернат.
А приехал назад — по дому бродит умершая Маруся,
двойник его появился — моложавый такой,
в сапогах, в галифе, с политическим зачёсом.
Это что ж выходит — умер он, получается?
Степанов осторожно выспрашивал про деда своего,
умершего дурной смертью лет семь тому назад,
но трясущийся от страха Сыродеев его не услышал,
с ужасом провожая взглядом кого-то невидимого,
пересекавшего луг по направлению к реке:
— Видал? Видал? Петька с Васькой прошли.
А они ещё в сороковом году мальцами утонули!
Но это ещё ничего. Самое страшное, сынок,
это когда мёртвые к тебе допытываться приходят.
Станут рядом и всё спрашивают, спрашивают.
И так спрашивают, что слушать их мочи нет!
Помнишь, как братья с Борков один за одним
над свежей могилой матери своей повесились?
Была им причина вешаться, была, стало быть…
Ты зла на меня за деда не держи, сынок.
Поганое время было, теперь вот ходят мёртвые,
всё мне припоминают, забыть не могут…
Степанов осторожно отвёл обмякшего старика
к самому дому, у калитки тот хитро улыбнулся,
схватил Степанова за рукав и шепнул на ухо:
— Ты помни, помни меня — увидимся ешшо!
Вскоре невестка нашла Сыродеева мёртвым.
Рассказывали, что на лице покойного
был написан такой неподдельный ужас,
будто увидел он перед смертью самого Сатану.
Но история на том вовсе не закончилась.
Однажды Степанова застали в деревне
обложные осенние дожди,
на пятый день безделья стали ему мерещиться
всякие глупые странности —
то приглушённые голоса на улице,
то дыхание и шум шагов в сенях,
кто-то явственно пялился снаружи в окно,
в лесу бродили какие-то смутные тени.
Поздним вечером в дверь постучали,
Степанов открыл и отшатнулся —
на крыльце стоял в дождевике дед Сыродеев,
плотоядно ухмылявшийся во весь рот:
— Ну, сынок? Ти пустишь дядьку у дом ай не?
Демон пустых деревень
В тихий край сосновой меди и холодных чёрных рек
снова ты напрасно едешь, неуёмный человек,
по земле российской древней долго рулишь через дождь.
Зря. Не та давно деревня. Потерялась — не найдёшь.
По полям да мимо плёсов — трасса Балтия пуста,
без помех несут колёса в подзабытые места,
где, столпившись у обочин, подозрительно бойки́,
машут лапами, пророчат вслед беду борщевики.
Всё сильнее бьётся сердце. За мостом в лесу просвет.
Ты мечтал вернуться в детство, а вернулся — детства нет.
Отдохни, постой немного, сигаретой задыми…
Место, брошенное Богом и забытое людьми.
Грязь, нахохленные крыши, опустевшие сады,
по подпольям рыщут мыши в тщетных поисках еды.
Дождь постылый заливает гниль нескошенных полей.
Долго лить ему? Кто знает! Успокойся. Сядь, налей.
Ни к чему тебе всё это, и былого не вернуть.
Заночуй, а там с рассветом выбирайся как-нибудь.
Оплывают воском свечи, пусто на сто вёрст вокруг,
то ли утро, то ли вечер, капель гулкий перестук.
Подступает полночь злая, и во тьме приходит страх,
кто-то прячется в сарае и шевелится в кустах.
Ждать, тоску превозмогая, нету сил. Задремлешь ты…
…Некто глянет, не мигая, на тебя из темноты.
Не упрямься, стань покорным.
Не спасёшься взаперти.
Он войдёт — огромный, чёрный —
в нежить злую превратит.
Им натаскан и послушен,
алчным демонам под стать,
будешь человечьи души в непогоды отбирать.
Станешь, мрачной силой послан,
не отбрасывая тень,
выть тоскливо на погостах мёртвых русских деревень,
страшен, никому не нужен…
…Утро. Петушиный крик.
И таращится из лужи на тебя седой старик.
Витька-киномеханик
Заполошного киномеханика Витьку Быстрова
все в деревне за глаза звали Быстрёнышем.
Жену его, флегматичную статную русскую женщину,
на щеках которой играл странный бурый румянец,
работавшую библиотекаршей, а потом завмагом,
соответственно именовали Лидкой-Быстрихой.
Ей это деревенское прозвище совсем не шло,
поскольку не ходила она, а будто павой выплывала,
но вот жуликоватому и мелкотравчатому мужу её,
которого в деревне недолюбливали за хитрость,
кличка Быстрёныш шла необычайно,
поскольку был Витька маленького роста,
шебутной, заводной и пронырливый,
вечно носился, как угорелый, на велосипеде туда и сюда
якобы по своим важным киномеханическим делам.
Деревенские прозвища — самая благодатная тема
для монографий досужих исследователей.
Прабабку Степанова Аксинью Дмитриевну Зорину
величали как положено — бабой Зоринихой,
он писал ей в детстве трогательные жалистные письма:
«Дорогая моя любимая бабушка Зоринишка…»
А вот родственников её, тоже Зориных,
сверстницу Степанова Надьку, дядю Мишу и тётю Нюру,
почему-то в деревне прозвали Христюхиными,
жила-де когда-то давно такая баба Христюха,
а почему так её саму прозвали и каким-таким боком
Зорины той Христюхе приходились, поди теперь разбери…
Прозвища закреплялись с детства, по случаю,
бедовых соседей и родственников Крыловых
вся деревня испокон веку дразнила Пистонами,
они на прозвище совсем не обижались,
носили его с гордостью, как будто медаль,
Бабушка их, тетя Нюра Крылова, в девках Мельникова,
была подругой степановской бабули, жульничала в карты,
всегда угощала Степанова конфетами и звала в гости,
но знал он её почему-то не иначе как бабу Волечиху.
Почему? Оказывается, первого мужа её звали Олегом.
Другую соседку, тётю Катю Орлову,
кряжистую сморщенную старушку,
обличьем и клыками во рту напоминавшую ведьму,
в деревне звали за глаза Катька Золотыриха.
Все боялись её — злобная Золотыриха обладала
громогласным и неимоверно зловещим голосом,
вела постоянное наблюдение за своими посевами.
Каждый раз, в тот самый момент,
когда бабкина корова Малышка, уставшая за день,
начинала по дороге домой забирать с тропинки влево,
роняя свои тёплые пахучие лепёшки
рядом с золотырихинской картошкой,
из соседского дома раздавался звериный рык:
«Ах же ты, памжа! Ах же ты, шешка такая!»
Ошалевшая рыжая корова вздрагивала всем телом,
в ужасе прижимала уши и прыжками неслась в хлев,
где ещё долго вздрагивала, кося пугливым глазом.
Дед Золотыриху с некоторых пор недолюбливал,
она платила ему взаимностью, к удовольствию зевак
частенько отпуская вслед пассажи типа:
«Опять Игнатьич напився, чорт! Ууу, змей чарвивый!»
Дед, пытавшийся добраться домой на автопилоте,
вжимал голову в плечи и ускорял было шаг,
но выпитое им зелье делало своё дело,
ноги были сами по себе, голова — сама по себе,
к тихому удовольствию зевак он спотыкался,
падал в траву, потом долго пытался подняться
под укоризненные вопли и проклятия Золотырихи,
но тут выбегала бабушка, призывала на помощь,
Степановы общими усилиями затаскивали
горько завывавшего деда на его излюбленный диван.
Это была обычная русская деревня семидесятых,
с её пыльными улицами, степенными людьми,
бесконечными будничными заботами,
закатами и рассветами над рыжим сосновым бором,
под журчание вечно холодной речки Велесы —
край, где затерялось неприметное детство Степанова.
Но речь вот о чём — именно Витьку Быстрёныша,
маленького, кривоногого сельского киномеханика
с ясными есенинскими глазёнками,
он считал тогда полубогом, искренне завидуя ему,
мечтал поскорее вырасти и стать киномехаником.
Раз в неделю с попуткой Быстрёныш уезжал в район,
чтобы явиться к вечеру посланцем городского мира.
Шофёр тормозил, Витька скидывал на песок
пару железных банок, где лежали бобины с плёнками,
лихо спрыгивал сам через борт попутки,
красуясь и прохаживаясь этаким фертом
в коротких лакированных резиновых сапожках.
Слегка подвыпивший, раздухарённый, злой,
ещё не городской, но уже как бы почти нездешний,
киномеханик Витька, злобно и витиевато матерясь,
вешал на стене магазина простенькую блеклую афишку
с названием добытого и привезённого им фильма,
что-нибудь наподобие «Дело было в Пенькове»,
и зрители с замиранием сердца ожидали сеанса.
Развлечений в те годы на селе особенно не имелось,
поэтому показ кинофильма был всегда событием.
Кто с кем пойдёт в кино? Вот он, вопрос вопросов!
Целый день шла переписка с местными девчонками
через тайники в кирпичах на задней стене магазина,
но селянки были жеманны, насмешливы и глуповаты,
зато на лето приезжали бледные снулые москвичи
и зажигательные москвички в открытых сарафанчиках.
В избах, где жили городские, играла незнакомая музыка,
голоса страстно вздыхали о чём-то на импортных языках.
Мальчишки фланировали мимо окон, мечтая пригласить
этих непонятных жителей другой планеты и не решаясь.
Жизнь для детей летом в деревне кипела страстями,
через дядьку подростки покупали тайком вино «агдам»,
покуривали всякую дрянь вроде вьетнамской «птички».
Прошли годы, клуб давно закрыт, деревня вымерла,
и только постаревший, но шустрый Быстрёныш
оживляет унылый сельский пейзаж.
Вечно раздражённый чем-то, крикливый,
Витька яростно вымогает по утрам «бутылочку»
у молчаливой и неприступной жены-продавщицы,
сбивая с панталыку незадачливого соседа Мишку.
Дядюшка Степанова, сельский философ и алкоголик,
живёт отшельником в бабушкиной бане (их две у них),
куда Витька упорно шастает почти ежедневно
с целью «замануть» дядьку в какую-нибудь авантюру,
в деревне калыма навалом, колоть-пилить дрова,
а ещё москвичи приезжие рыбки любят откушать,
при том что рыболовы из них, как правило, никакущие,
а дядька мой наипервейший рыбак в деревне,

наловит, продаст — городские расплачиваются щедро.
Грибочки, ягодки тоже всегда пристроить можно.
Обработает, втянет вот так хитрован-Витька
моего простодырного дядьку в очередную «халтурку»,
сам через час смоется под благовидным предлогом,
а к расчёту вот он, нарисовался хрен сотрёшь,
дышит тяжко с устатку — натрудился человек! -—
тянет потную ладошку за денежкой, за стаканом,
доверчиво смотрит «иисусиковыми глазёнками»,
умильно улыбается котиком — и вечно в наваре, гад.
А ежели кому водку купить в неурочный час надо,
то тащит Витька клиента скорее к себе домой,
подпрыгивая от нетерпения, то и дело забегая вперёд,
раскрывает перед гостем двери, суетится мелким бесом,
кричит: «Лидка! Да где ты там подевалась, зараза?!»
Всё это только ради того, чтоб, масляно улыбаясь,
выпросить у покупателя стакашочек «беленькой».
Царственная Быстриха, будучи продавцом магазина,
торгует водкой и самогоном на дому в любое время,
она невинно улыбается и в то же время густо краснеет,
подобно парочке Сашхен-Альхен Ильфа-Петрова,
но к покупателям «казёнки» относится уважительно,
поскольку заводскую водку пьют в этих краях ВИПы,
клиенты состоятельные, здоровье берегущие.
А вот мужа Лида ни во что не ставит, косится,
кривится, морщится, только что «брысь» не говорит.
Витька Быстрёныш — деталь местного пейзажа,
человек нахальный, неуёмный и любопытный,
он в день раз по пять обходит полупустую деревню,
всё вынюхивая, выглядывая, подслушивая…
…Он повесится прямо в собственном доме на матице,
как будто назло жене, споившей всю деревню —
Лида так и не даст мужу опохмелиться в то утро.
У Степанова к тому времени появятся к висельнику
свои счёты — Витька оказался явно причастен
к странной смерти того самого степановского дядьки,
по крайней мере, пили с вечера они вместе,
а утром дядьку нашли мёртвым в его любимой баньке.
Выходило так, что дядька, человек крепкого здоровья,
умер в страшных мучениях, было ему шестьдесят три,
по деревенским меркам жить бы ему ещё да жить,
а что там вышло на самом деле, отчего да почему,
следователи разбираться особенно не стали.
Странно было вот что — собутыльники дядькины,
сам Витька да московский пенсионер Закудыкин,
человек нелюдимый, неприятный и очень злой,
ни на похороны, ни на поминки так и не пришли.
В деревне шушукались, мол, дело явно нечисто.
Степанов, как человек грозный во хмелю,
выхватил Быстрёныша в малолюдном месте,
прижал за горло и пригрозил тому расправой,
на что Витька повёл себя очень странно —
заплакал и убежал, не проронив при этом ни слова.
Через пару месяцев после Витькиных похорон
повесился у себя в доме и москвич Закудыкин,
бывший, по слухам, из служилых государевых людей.
Ему-то чего не жилось, с такой-то пенсией — пей, не хочу!
А добротный дом Быстровых давно уже пуст,
хозяйка уехала в город к дочери,
дом решила продать и сбавляла цену уже не раз,
только найти покупателя всё равно никак не может,
хоть и стоит дом посреди деревни,
и колодец хороший рядом, и место сухое —
картошка там растёт прямо на зависть,
но как прослышат покупатели про историю с Витькой,
так больше в дом быстровский ни ногой — страшно им.
Добавить к сказанному остаётся совсем немного.
Начались у Степанова ни с того, ни с сего
с некоторых пор странные серые сны,
слепленные из обрывков старых советских фильмов,
летят они кусками, без конца и без начала,
стрекочет киноплёнка, белеет замызганный экран,
и злорадно хихикает кто-то, нашёптывая Степанову
до боли знакомым сладеньким ядовитым голоском:
«Ти не нальёшь, сынок, дядьке граммульку беленькой, а?»
Кому это быть, как не Быстрёнышу,
который, наверное, хорошо пристроился на том свете,
видать, доверили ему крутить ночами кино
где-нибудь там, на небесной периферии,
так сказать, для соответствующей категории граждан.
Наверняка точно так же бегает он с утра по облакам,
выклянчивая у Боженьки «на бутылочку»,
на что Великий Терпеливец наш
с тоскою возводит скорбные очи к небесам,
а может статься, даже навешивает иногда
нечестивцу в малолюдном месте хорошего «пенделя».
Хорошо всё-таки иметь диплом киномеханика!
Вот закончит Степанов свои земные дела,
заменит наконец-то этого очумевшего паразита
станет показывать в ночь с четверга на пятницу
людям нормальные пророческие сны,
ясные, конкретные и понятные,
без двойных толкований и сцен тяжёлого арт-хауса,
чтобы люди на земле, просыпаясь, точно знали:
потоп — к пожару, пожар — к потопу,
а Лёня Голубков — сами понимаете к чему…
Баллада о пулемётном заслоне
Седой ветеран, за столом выпив водочки лишку,
спросил:
— Обелиск? Та история, в общем, проста…
Тогда, в сорок первом, прислали в деревню мальчишек —
колонна врага появилась в районе моста.
Войну далеко унесло за четыре недели,
троих новобранцев всего и нашёл военком.
Река глубока, да мосты подорвать не успели.
С одним пулемётом врага задержать нелегко.
Но немцы им в рупор картаво грозят из тумана:
«Сдавайтесь к утру! А иначе деревню сожжём…»
Вокруг тишина. Речка вьётся в откосах песчаных,
кукует кукушка, и мокнут стога под дождём.
Получен приказ, и солдат над собою не волен.
Втроём веселей, хоть не видно ни зги в темноте.
…А ночью их местные вилами перекололи.
И немцы не тронули баб, стариков и детей.
Убили мальчишек, и все получили, что надо.
Крестились старухи, свечами паля образа.
Лежал пулемётчик, прижавшись щекою к прикладу,
и таял рассвет в удивленно раскрытых глазах.
Бойцов схоронили, представив в геройском обличье,
мол, пали в неравном бою при защите моста.
Я помню под фото фамилии — Сахаров, Спичкин…
Деревня родная, свята ли твоя простота?!
То время мне трудно понять. Мир по-новому скроен.
Но здесь я рождён, потому так и тягостно мне.
…Стоят у дорог обелиски забытых героев.
То горькая память народа о страшной войне.
Дядя Вася
Памяти брата бабушки Василия Ивановича Моторина.
Холодает по ночам. Уходит лето.
Самогонка в банке мерзостно сиза.
Спьяну пальцы обжигая сигаретой,
я смотрю в его слезливые глаза.
Столько слышал я о нём, впервые встретил.
Дед нескладен весь, испит лицом, уныл.
В партизанах он в далёком сорок третьем
дядю Васю, брата бабушки, убил.
Как хромого, дядьку в армию не брали.
Немцы рады — им бухгалтеры нужны.
Дядя Вася по ночам своим «сигналил»,
днём в конторе начисляя трудодни.
Скромный, тихий: «Благодарностев не надо…»
Немца выбили. Ушёл на запад фронт.
Как подпольщика, позвали за наградой.

Не добрался, пулей в спину «награждён».
Дядя Вася ехал в город на подводе,
да попал под партизанский самосуд.
Говорили, по лесам их много бродит,
хуже немцев — озверел мужик в лесу.
Попривыкли парни сладко спать да квасить,
сговорились — утром шасть, пока туман.
Опасались, что в райкоме дядя Вася
порасскажет о «геройствах» партизан.
Кто, за что — война! Недолго разбирались.
Сгинул, рóдный, ни за рублик, ни за грош.
А убийца — вон, скулит, внушая жалость.
Только дядьку с того света не вернёшь.
Горю нашему не будет укорота,
полюбился нам жестокий ритуал.
Напиваясь, деду мы стучим в ворота:
— Расскажи, как дядю Васю убивал…
Нежить
Детство моё, по великому счастью,
прошло в тех самых местах,
где творил поэт Анненский,
рисовали Перов и Левитан,
бродил с ружьём любитель охоты Ульянов-Ленин,
героически тонули в болотах конники Доватора,
спасался бегством из России сам Бонапарт,
словом, в тех самых заветных краях,
где так и хочется завалиться
в ласковые тёплые травы-ковыли,
разглядывая пухлогрудые белые облака,
плывущие в звенящей полуденной тишине
над головами высоченных мачтовых сосен.
Но детства прошедшего уже не вернёшь,
а сырая земля весною особенно коварна,
поэтому приходится искать
сухой ствол упавшего дерева,
которых много понавалено
вдоль и поперек крутых берегов
чёрной холодной ведьмы-Велесы.
Сидишь вот так себе, греешься на солнышке,
пытаешься найти умные мысли в беспутной голове,
беспричинно улыбаешься приветливому зелёному миру,
и вдруг ощущаешь на себе чей-то внимательный взгляд.
Мурашки бегут по телу, волосы становятся дыбом —
кто-то явно смотрит тебе в спину.
Резко повернёшься или оглянёшься тайком —
вроде бы никого не видно.
Но ведь кто-то же явственно разглядывает тебя…
Может быть, зверь какой пялится?
Так нет никакой нужды лесному зверю
так долго и пристально тебя рассматривать,
у зверя, в отличие от тебя, своих дел по горло.
Думаете, это человек смотрит из леса?
Так в этой глуши нет никого на все сто вёрст окрест,
кроме доживающих свой век старух,
которым едва хватает сил пару раз в неделю
доползти за хлебом до местного магазина.
Редкие местные жители открыты и приветливы,
охочи до неспешных и распевных разговоров,
всегда готовы показать дорогу заблукавшему «москвичу»,
как принято испокон веку называть здесь всех чужих.
Может, это турист или ягодник?
Но какие весною грибы-ягоды?
Туристы, те сплавляются гуртом, прекрасно понимая,
что такое трудное предприятие в одиночку не осилить,
ходят по лесу коллективно,
галдят и перекрикиваются.
Но кто же тогда смотрит тебе в спину?
Может, принесла нелёгкая незнакомого лихого человека?
В деревне всегда заметно присутствие чужих людей —
то трава не там и не так примята,
то ветка знакомая надломлена,
то след чужого сапога чётко отпечатался в грязи,
птицы на припёке молчат,
собаки перелай злой затеяли —
и примет таких можно найти превеликое множество.
Но и тут не сходится,
потому как любой человек в лесу
всегда рано или поздно сам себя обязательно выдаст,
хрустнет сухой веточкой,
нет, нет, да и шевельнётся,
сдвинется с места, задышит, нарушит лесной покой.
Остаётся грешить только на лесную нежить.
«Точно! Нежить!», — вспыхиваю я от догадки,
и в ту же минуту замечаю,
что приветливое синее небо
над бедовой головой моей
хмурится прямо на глазах,
в лесу быстро темнеет,
вода в реке журчит громче,
ледяным холодом обдаёт порыв лёгкого ветерка,
вся природа вокруг поляны съёживается, смурнеет,
супится в ожидании чего-то малоприятного.
От нежити нет спасения,
против неё не помогают
ни жаркая торопливая молитва,
ни крестное знамение,
ни серебряная пуля крупного калибра,
нежить ничего и никого не боится,
она питается людским страхом,
ей нравится так напугать человека,
чтоб мчался он, не разбирая дороги,
в ужасе прятался где попало
и боялся даже нос оттуда высунуть.
Какая она, нежить, с виду,
точно не знает никто,
потому что нет у неё ни лица, ни тела, ни рук, ни ног —
нежить есть злой мёртвый дух,
сгусток негативной энергии,
поселившийся в том месте,
которое ему приглянулось,
и нужное обличье ей, нежити,
придаёт богатая человеческая фантазия,
которая и напридумывала всех этих чертей, русалок,
водяных, упырей и прочую нечисть.
Жалко, что нет больше посредников
между людьми и нечистой силой,
городские экстрасенсы сплошь хитрые жулики,
а клыкасто-клюкастые старушки все давно повымерли,
никто больше не умеет договариваться с духами,
поэтому возникают конфликты с параллельным миром,
а потом мы сетуем — то не так, это не этак, не идут дела.
Где ж им пойти, нашим делам,
если не чтим мы ни домовых, ни леших, ни водяных,
или кем там ещё для нас нежить прикидывается…
Но я-то как раз сам из местных,
в пастушеском детстве попривык
ко всяким лесным странностям,
и хотя становится страшно мне до жути,
холодный пот ручейками бежит по моей спине,
сердце готово выпрыгнуть из пересохшего горла,
но я успокаиваю себя,
монотонно раскачиваюсь,
напевая под нос что-то унылое,
отгоняя от себя плохие мысли.
Прабабка моя, та знала точно,
какую мантру-заговор надо петь в таких случаях,
но где ж тут теперь упомнишь,
приходится полагаться на свои инстинкты,
они редко обманывают.
Я мычу под нос нараспев привычную колыбельную,
которую пел своим детям,
нежить стоит за моей спиной,
чутко прислушиваясь, маракуя своей соображалкой,
что же со мной в этаком самозабвении делать дальше.
Нежить — она хитрая,
то обернётся доброй старушкой,
одарит ребёнка конфеткой, возьмёт его за ручку,
чтобы навсегда увести в страшное неведомое место.
То заманит летом глупую детвору искупаться в реке,
заморочит голову, покажет красивую лилию,
заманит ею в омут-вир самого весёлого малыша,
защекочет его там до смерти
и утянет глубоко-глубоко на чёрное дно.
А ещё нежить приводит из леса мёртвых людей,
пропавших давным-давно.

Батя мой своими глазами видал,
как вышел однажды из леса
самый настоящий давно убитый немецкий солдат,
постоял-покачался и побрёл себе куда-то
по своим фашистским делам.
Нежить любит старые кладбища,
водит туда горемычных людей стреляться или вешаться.
Рассказывали мне,
как повадилась было нежить
водить с кладбища покойников на колхозную свиноферму,
где несчастные свиньи,
издали чуявшие мертвяка,
подымали жуткий неистовый визг.
Ещё помню, как блукали мы с дедом,
собирая в Картавских лесах чернику,
нежить отвела деду глаза,
он от испуга потерял дорогу,
панически заметался со страшными криками,
бегал по мхам между медных стволов,
а я, семилетний малец, спокойно сидел и смотрел,
как стекает живица с подрубленной кем-то сосны,
совсем не понимая дедовой суеты,
потому что прекрасно видел то самое место меж деревьев,
откуда мы вошли в черничник.
Дед мой вообще был очень чукав,
мнительный, он легко приходил в неистовство,
от чего совсем терял голову,
однажды «в грибах» нежить завела его так далеко,
что вернулся он домой только через четыре дня,
пройдя через леса и болота сотню километров
аж до самого Нелидова,
чудом миновав Пелецкий мох,
в котором сгинуло народу видимо-невидимо.
Я замолкаю и открываю глаза.
Солнце несмело вышло из-за туч,
вода в реке с лёгким плеском
несётся в далёкую Балтию,
лес тих и задумчив,
словно мой дядюшка с похмелья,
спина хоть и затекла,
но уже давно высохла от пота,
желудок просит еды,
поэтому приходится вставать,
опираясь на длинный дрын,
без которого в этих местах нынче ходить опасно,
мало кто там лежит под кустом,
гадюк стало так много,
что страшно спать в доме,
они живут под фундаментом,
вдруг какая-нибудь решит зайти погреться у печи?
Нежить успокоилась, пропала.
Выжатый, как лимон,
то и дело спотыкаясь,
я осторожно шагаю через заливной луг
напрямик к деревне,
заслышав голоса, гул трактора,
облегчённо улыбаюсь.
Вроде бы выбрался.
Умываюсь в избе,
долго смотрюсь в зеркало,
разглядываю своё лицо,
глубоко запавшие глаза,
удивляюсь тому, что утром брился,
а вот поди ж ты,
как отросла щетина на щеках всего-то за полдня.
Не забыть бы вечером оставить домовому
на загнетке тёплой печи
немного молока и печеньку —
домовые, они страшно как падки на сладенькое.
А завтра, пожалуй, вот что —
схожу-ка я на тот заброшенный хутор,
где жили в стародавние времена при царе
старик-колдун с красавицей-дочерью,
к которой посватался было молодой учитель
из местной церковно-приходской школы,
наш родственник по бабке.
Но жениха вскоре забрали на германскую войну,
а старый ведьмак совсем спятил —
решив то ли себя утешить, то ли дочку,
принял обличье своего зятя,
якобы приехавшего на побывку.
Так и жили «молодые» год или два,
пока тайна не раскрылась,
не пришёл с войны друг убитого жениха.
Невеста вскорости повесилась,
прокляв перед смертью отца,
и теперь постылая душа его
бродит по окрестностям в ожидании Страшного Суда.
А в детстве мы на том хуторе
самую сладкую малину собирали,
что тоже примета нехорошая…
Засыпаю-проваливаюсь с мыслью:
«Если с нежитью я договорился,
то неужели с каким-то старым хреном
завтра не смогу управиться?!…»
(на этом месте записи пропавшего гр-на С.
в найденной участковым тетради обрываются)
«Космос» как наказание
После шести лет деревенского воспитания
родители отловили Степанова в тверских местах,
тех, где творили Левитан, Ахматова и Анненский,
насильно привезли на другой конец страны,
где воспитывали его отныне все понемножку —
а у семи нянек вечно бывает дитя без глазу.
Вот и Степанов рос теперь себе дальше как умел
на пыльных улицах таёжного рабочего посёлка,
получая во дворе первые душевные травмы,
а больше тумаки — на переменах между уроками
в тёмных коридорах старой начальной школы,
куда был отдан родителями с шести лет.
Хотя учился он с первого класса на «отлично»,
никогда не был трусом, зазнайкой или стукачом,
но одноклассники были постарше и покрепче его,
а мать смотрела на его успехи с большим сомнением,
называла часто в сердцах «недолугим», слабаком,
понимая, что учёба — одно, а жизнь — другое.
Ничто не предвещало беды, когда семи лет от роду,
после окончания первого класса, на каникулах
родители сплавили Степанова в пионерский лагерь,
добираться в который надо было теплоходом
по Амуру ещё километров сорок на север
от большого города Комсомольск-на-Амуре.
Лагерь, новый, красивый, называвшийся «Космос»,
стоял аккуратными шпалерами на склоне сопки
вдоль галечного берега амурской протоки Шарголь.
Выбраться отсюда назад по суше через дикую тайгу,
полную мошки и приключений, было нереально.
Тот страшный день в своей жизни юный Степанов
запомнил навсегда — воспитанный без детсадов,
наивный, он доверчиво шлёпал за своей матерью,
которой было тогда неполных двадцать пять лет.
У входа в парк Гагарина, где галдели сотни пионеров,
мамаша поскорее сдала вожатым ошарашенного сына —
ей надо было успеть пробежаться по городским магазинам.
В лагере юному октябрёнку пришлось несладко —
мало того, что сам он никого тут не знал,
был не местный и даже совсем не городской,
так ещё и оказался малосамостоятельным юношей,
вечно везде опаздывал и косячил, огребал тумаки,
и, хотя всегда скромно держался в сторонке,
доверчиво вёлся на всякие разводы —
он ведь не имел никакого опыта городской жизни.
По счастью, отряду «малышни» не досталось вожатых,
поэтому их отряд придумали раскидать по остальным,
Степанову повезло попасть в первый, самый крутой,
отныне лагерная жизнь его немного устаканилась,
ведомая добрыми руками уже вполне взрослых ребят,
ненавязчиво научивших его чистить зубы по утрам,
стирать собственные носки и заправлять постель.
День Нептуна потряс его — раздеться догола,

Новая смена высаживается на берег. 1976 г. Фото из архива
разрисоваться чем попало, изображая чёрта,
залезть вместе со всеми вне графика в купальню,
чтобы там обливаться и дурковать на полную —
да, на тихого семилетнего малыша из деревни
это произвело тогда огромное впечатление.
А ещё ошарашили ночные рассказы в спальне
про всякие «чёрные руки» и простыне…
Степанову, воспитанному на сельских легендах,
балладах Жуковского и разнообразных сказках,
открылся воочию пласт городской субкультуры,
а уж с фантазией у него проблем никогда не было.
Как всякий очкарик, Степанов шумных игр чурался,
зато ходил в библиотеку, залезая на самый верх сопки.
Читал он быстро, тем самым доставая библиотекаршу,
не успевавшую записывать в его формуляр книжки —
как-то она устроила ему проверку и была ошарашена
памятью и быстротой чтения «юного октябрёныша».
Книжки скрасили жизнь молодого «каторжника» —
Степанов воспринимал путёвку как наказание,
остро чувствовал своё одиночество, часто плакал,
безуспешно просил заехавшего дядьку забрать его,
с первого дня сушил солёные сухари на случай побега,
жадно слушая рассказы бывалых «побегушников» —
до тех пор, пока не случилось то, что случилось.
Долго стояла лютая жара, все изнывали от пекла,
потом вдруг ударили проливные холодные дожди,
протока забурлила, вода стала прибывать —
как так случилось, вспомнить теперь уже трудно,
была какая-то суматоха, все бегали, что-то кричали,
а потом в одно прекрасное утро вдруг выяснилось,
что лагерь пуст — вечером пионеров эвакуировали.
На Амуре бушевал шторм, забрать всех не успели —
ах, как Степанов с друзьями радовались свободе.
Когда пришло наводнение, стало как-то не по себе.
Брошенные дети сбились в стаю маленьких волчат,
ели, что попадалось — печеньки да рыбные консервы,
благо нашли коробку каких-то «бычков в томате» —
варить сами толком они не умели, а повара все уехали.
Они прожили так всего-то дней пять или шесть —
но ему показалось, как будто прошёл месяц.
Отныне всё встало для мальчика на свои места,
не следовало ждать и на что-то надеяться,
именно так был устроен весь окружающий мир —
он и вправду оказался в нём никому не нужен,
это открытие следовало просто принять и понять.
Степанов перестал терзать себя глупой тоской —
он почувствовал себя аборигеном, индейцем из кино,
понял весь ужас одиночества и разгадал его силу,
научился стоически переживать неизбежное.
Когда уезжавшие вернулись, то Степанов и его «стая»
встретили своих бывших товарищей с презрением —
если те струсили, сбежали, предали, то какая тогда
после всего этого между ними могла быть дружба?
Отныне жили врозь — и вели себя как волчата.
…Амур с размаху швырял судёнышко на дебаркадер.
Угадав сына в нечёсаном оборванном существе,
мать почему-то заголосила, будто по покойнику.
Потеряв очки — давным-давно и неизвестно где —
он на ощупь шёл по трапу с вещмешком за плечами,
почти босой, похожий на семилетнего старичка,
пионеры уважительно расступались перед ветераном,
одним из тех, о ком потом будут рассказывать легенды
у стреляющих искрами огромных пионерских костров.
Мать кое-как привела Степанова в божеский вид,
лишив имиджа беспризорника времён гражданской,
но это было только внешне — внутри он стал иным,
теперь он знал истинную цену всем добрым словам,
он понимал, что люди хотят прогнуть его, сломать,
подстроить под себя, чтобы решать всё за него —
и ничего на свете не было важнее личной свободы.
Таких летних «отсидок» было у Степанова ещё много —
каждый год родители отправляли его куда-нибудь,
обычно в заводской лагерь неподалёку от Тейсина,
желательно смены на две, чтоб промаялся до осени —
он не понимал, зачем им всё это было надо, почему?
Занятий ему хватало и дома — книги, кино, гитара.
Но именно там, в этих летних лесных лагеря,
он научился пить и курить, целоваться,
выучил наизусть непотребные песни,
стал материться не хуже сапожника,
безусловно, всё это было очень весело.
Да, он стал таким же, как все его сверстники,
но разве он сам желал тогда этого?
Взрослые хотели сделать, как лучше —
в нынешние времена это назвали бы
принудительной социализацией.
Но Добро, полученное против воли,
почему-то сразу переставало быть Добром.
Почему, Господи?
Осенью 1975-го Алик перешёл учиться
в новую школу, среднюю.
Школа была красивая, большая —
вот только добираться до неё по утрам
приходилось долго и не очень весело.
Возвращалось куда интересней,
спешить домой было незачем —
мать с отцом работали,
брат играл в детсаде.
Тогда-то и сдружился Алик с Димкой,
весёлым черноглазым мальчишкой,
жившем в «частном секторе» —
вместе клали гвозди и монетки
под проходящие товарняки,
искали на свои задницы приключений
в разных загадочных местах.
Фантазёр Димка подсадил приятеля
на Фенимора Купера и Жюля Верна,
дал почитать роман «Спартак»,
правда, без сорока первых страниц.
Бродили по карьерам и рёлочкам,
распугивая собак и кошек индейскими воплями —
готовились стать отважными следопытами.
Через пару лет пути их разошлись.
Отцу Алика дали на заводе квартиру
совсем недалеко от школы,
а Димка нашёл себе нового друга,
интересного, загадочного,
рассказывавшего наизусть целые романы.
Алик видел того друга пару раз —
очкастый дядька в чёрном пальто,
лицо испитое, неприятное — типичный бич,
«бывший интеллигентный человек».
Озорной Димка, тот всё хихикал:
«Смешной! Сядет рядом — и весь дрожит.»
Потом Димка перестал ходить в школу,
учителя шептались о каком-то маньяке,
о беглом зэке, о бедном мальчике —
они, школьники, тогда мало что понимали.
Димка вскоре появился в классе,
но стал почему-то какой-то другой —
тихий, бледный, безучастный,
в комсомол вступать не захотел,
а после восьмого класса исчез совсем,
вроде как пошёл учиться в техникум.
Как-то осенью Алик шёл из совхоза,
куда их водили на сортировку овощей,
мимо Димкиного дома,
увидел на крыльце Димкину мать,
вежливо поздоровался и опешил,
когда она, всегда приветливая и добрая,
вдруг крикнула ему в ответ
что-то резкое и малопонятное.
А вскоре ребята сказали,
что Димка умер от какого-то белокровия.
Алик тоже пришёл на похороны,
но мать Димки, увидев его,
затряслась и превратилась в сущую ведьму —
костлявые руки, страшные глаза.
Она громко завопила:
— Почему он, а не ты? Почему, Господи?
Любовь, комсомол и малая родина
Малая родина Степанова была невелика —
тихий невзрачный рабочий посёлок,
полустанок на железной дороге
между Комсомольском и Хабаровском,
интересного там и раньше-то было мало,
а теперь так и вообще не осталось —
построенный в войну снарядный завод,
«Снежинка», колония для «пыжиков» —
так зовут пожизненно заключённых —
разорившийся ныне полностью совхоз,
остальное было знакомо до боли —
пыль, грязь да сонная провинциальная одурь.
Его привезли сюда в семьдесят втором,
родители всё-таки решились сменить
тверскую глушь на «северную надбавку»,
мальчик из тихой русской деревни
попал в совсем другую среду обитания —
здесь все куда-то всегда спешили,
говорили жёстко, отрывисто и быстро,
собаки были злобными и захлёбывались лаем,
местные мальчишки дразнили юного Степанова,
и только книги были единственной отдушиной
в этом жестоком новом мире, окружавшем его.
В восьмидесятом, перед Олимпиадой,
той самой, с улетающим в небо Мишкой,
Степанов приписал себе лишний год,
чтобы поскорее вступить в комсомол.
Родители отдали его в учёбу с шести лет,
поэтому в самый нужный момент
ему оказалось всего тринадцать годков,
а принимали в комсомол с четырнадцати.
Не то чтобы он сильно рвался в активисты,
получилось куда сложнее — шерше ля фам.
В школьном спектакле дали играть Степанову
искромётного, умного и назидательного
молодогвардейца Олега Кошевого,
а она изображала строгую Ульяну Громову,
волоокую загадочную красавицу с косой,
они сообща боролись с фашистами в Краснодоне,
пролетали репетиция за репетицией,
и, конечно, Степанов влюбился в неё,
влюбился впервые и — как водится —
безответно, окончательно и бесповоротно.
Первая любовь — штука злая и болючая,
что-то странное рождается в тебе,
мучительно выгрызает тебя изнутри,
а вот что с этим делать, неизвестно,
нет у тебя ни опыта, ни понимания —
поэтому вспоминается это первое чувство
со стыдом, смущением и жаром на щеках.
Она училась в классе на год старше,
входила в комитет комсомола школы —
Степанов просто обязан был приписать
себе в анкете этот несчастный год,
чтобы стать к ней хоть немного ближе!
В райкоме его приняли было «в ряды»,
но тут же поймали, ткнули носом,
ситуация вышла очень неловкая —
он единственный из новичков
знал назубок устав ВЛКСМ и все ордена,
был с детства твёрдым отличником,
а его пришлось выставлять за дверь.
Но в школе все сочли этот случай
досадным лёгким недоразумением,
поскольку в той самой помятой анкете,
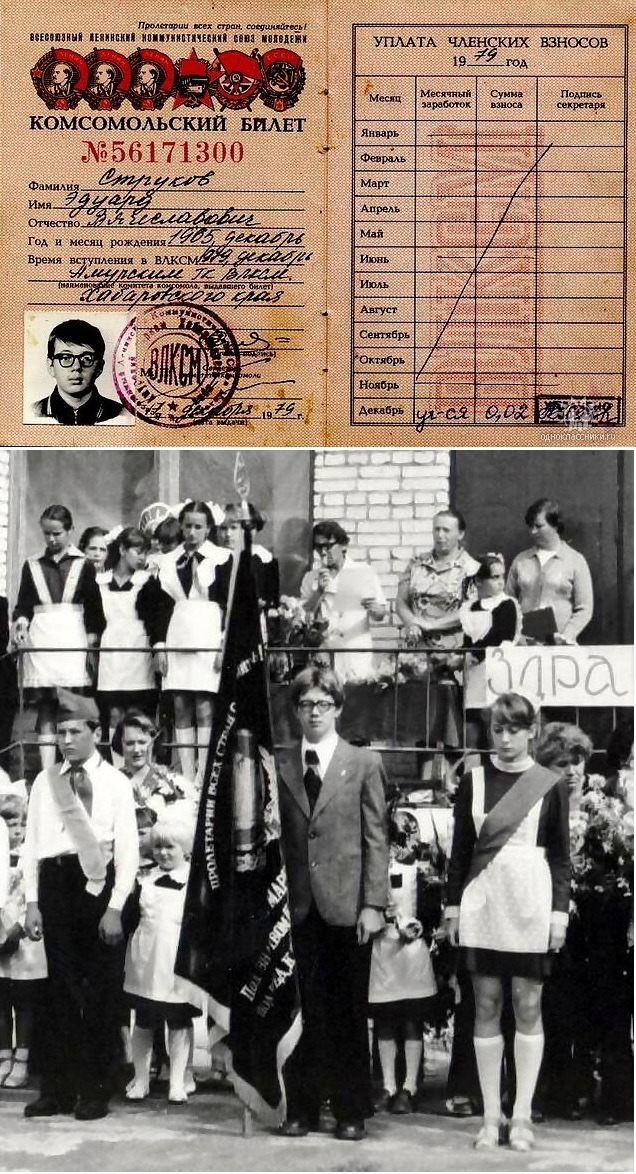
подписанной первым секретарём райкома,
красовалось над росчерком слово «принять» —
так Степанов стал членом комитета комсомола,
хотя на самом деле комсомольцем пока ещё не был.
Он тут же выбросил пионерский галстук,
начал выполнять всякие поручения,
а главное — получил наконец наслаждение
лицезреть свой объект желаний,
слушать её тихий грудной голос,
трепеща нутром, умом и сердцем
от неясных самому себе помыслов.
Любовь развернула Степанова,
раскатала, словно прокатный стан,
сделала совсем другим человеком.
Закомплексованному очкарику,
выросшему среди собак, коров и гусей
в малолюдной лесной глухомани,
пришлось преодолевать себя,
ежедневно сражаясь за внимание
своей прекрасной дамы.
Степанов научился не бояться людей,
стал шустрым юным руководителем —
этаким «пламенным вождём»,
и не было ни одной баррикады,
на которую он не залез бы,
чтобы покрасоваться перед очами
своей недосягаемой возлюбленной.
Замечала ли она Степанова тогда?
Конечно, такое трудно не заметить,
чувства бродили во нём опарой,
он часами бродил вокруг её дома,
краснел от одного её взгляда…
Едва получив вожделенный билет,
Степанов неожиданно стал комсоргом школы —
предыдущая секретарь комитета,
весёлая толстушка-десятиклассница,
забеременев от своего соседа по парте,
со скандалом покинула школьные стены.
Степанов на радостях развернулся
во всю свою мощь и ширь —
собрания, заседания, тематические вечера —
«культмассовая работа» день за днём
делала из него другого человека,
немного циничного, слегка развязного,
этакую «затычку в каждой бочке».
В тюремном лексиконе он отыскал хорошее слово
для такого человека — «популярный».
Лучшее определение подыскать трудновато.
Прошёл год, его «Ульяна Громова»
уехала поступать в большой город,
Степанов отстрадал положенное время,
он учился, жил и веселился, как умел,
потом что-то где-то напортачил,
его скинули из секретарей в замы,
зато выбрали в комсорги Снегурочку,
с которой они вдвоём как-то под Новый Год
вели нон-стоп весёлые школьные вечера —
и, конечно, он был на них Дедом Морозом.
Снегурочка была «зажигалка» ещё та,
пела в школьном ВИА всякую попсу,
Степанов таскал в том же ВИА аппаратуру,
переводил на русский импортные песни —
в общем, возымел новую симпатию.
Однако как-то всё у них не срасталось —
вроде бы и девчонка знакомая,
простая, понятная, в доску своя,
не гнётся, но и не ломается,
он провожал её домой вечерами,
но как-то всё стеснялся близости
и оттого страшно сам на себя злился.
Десятый класс пролетел вихрем —
уроки, танцы, гулянки, дискотеки,
а на экзаменах Степанова «завалили»
самым натуральным образом —
его приятель, грассирующий эстет и ломака,
на очередном экзамене — по физике —
попросил Степанова передать «шпору»
своей подруге — у них были отношения,
вроде бы даже собирались они пожениться,
но мать приятеля была завучем школы,
подружку сына люто ненавидела —
она-то и схватила Степанова за руку
точно в момент передачи шпаргалки.
Могла бы просто пожурить, отругать,
она была вполне милая женщина,
ещё вчера угощавшая гостя чаем,
они дружили с её сыном с детства —
так нет же, как-то очень радостно,
демонстративно и торжественно
Степанова удалили с экзамена.
Он пересдавал последним, достался ему билет
самый что ни на есть кошмарный,
вытянул он вроде кое-как на «четыре» —
физику всё-таки любил и предмет знал,
но — снизили балл, вкатили «тройбан»,
учительница физики прятала глаза,
приятель навсегда пропал из видимости,
его мама-завуч, с гордым видом
проходила теперь мимо Степанова,
делая вид, что они незнакомы.
Степанову бы разозлиться, напрячься —
но он рухнул в жуткую депрессию,
учебники и тетради валились из его рук,
было ему совсем не до учёбы,
он потерял себя, пропустил удар,
в итоге любимый предмет — историю —
кое-как смог сдать только на «трояк»,
запутался в Брестском мире,
почуяв кровь, учителя валили его безбожно,
спасибо соседке-директрисе,
что вытянула Степанова на «четвёрку» —
когда-то в детстве она сама его
к этой самой истории и приобщила,
все книжки он у неё из дома перетаскал.
Беды сыпались на Степанова тем летом,
словно снаряды при артобстреле.
Учителя раскопали давнюю историю
с билетами на школьную дискотеку,
которые продавались по рублю,
на эту сумму самопровозглашённые «ди-джеи»
покупали ящиками народу лимонад,
свежие новинки в студиях звукозаписи,
оставляя себе только на сигареты,
но нашёлся кто-то ушлый, докопался,
ребят начали таскать на допросы
к новоявленным школьным «инквизиторам»,
а принявший у Степанова дела по дискотеке
офицерский сын, красавчик Димочка Тактуев
вдруг вообще начал петь странные песни
про то, что никакого лимонада не было…
По молодости лет Степанов не понимал,
откуда на него валятся эти проблемы,
пока однажды случайно не услышал
тихий разговор своих родственников,
из которого уяснил самое главное —
вся причина состояла в отце Степанова,
вернее, в том, что его папу переводили
на другое место работы, в райцентр,
«мэром» должны были избрать другого,
а всё прилетающее Степанову было местью
со стороны группы обиженных учителей,
которым его шибко справедливый папа
не потрафил в квартирном вопросе —
жилья тогда в посёлке строили мало,
а получить его хотелось всем и прямо сейчас.
Когда Степанов сложил наконец-то пазл
в единую понятную картинку,
то в нём проснулся другой человек,
беспощадный, злой и циничный.
Всё разом стало понятно ему —
и переменившееся отношение учителей,
и подстава на экзамене через старого приятеля,
и жёсткий «завал» на Брестском мире,
и вопросы насчёт дискотечного «общака» —
эти люди не могли отмстить его отцу,
а вот он оказался куда более уязвим.
Ладно бы, если Степанов «мажорничал»
или оценки натягивали ему «по блату»,
так нет же — он учился вполне достойно,
семья его одевалась неброско, жила, как все,
питалась тем же самым, что и все вокруг,
отец до исполкома работал инженером,
мать вообще начинала простой кассиршей,
её родители были основателями посёлка,
дед — первым комендантом завода в войну,
бабушка охраняла склады с винтовкой.
Но народ в посёлке злобно судачил вовсю,
постоянно приписывая отцу невесть что —
хорошо запомнился донос на имя Брежнева (!),
в котором автор горько жаловался генсеку на то,
что Степанов-старший ежевечерне таскает домой
тяжёлую чёрную сумку — явно с колбасой,
украденной им у простого трудового народа.
А папа у Степанова был штангист-любитель
и просто носил из спортзала «сменку»…
В общем, Степанов вознегодовал на всех —
на учителей, на одноклассников —
не может быть, чтобы кто-то не знал,
не слышал про готовящиеся пакости.
На очередной экзамен он пошёл с яростью,
подобной той, с которой ходили в войну
с последней связкой гранат на немецкие «тигры» —
так и появляются на свете кризис-менеджеры.
Повезло, что на химии ему попался удачный билет,
Степанов приободрился — удача снова была со ним.
Потом он с шиком-блеском сдал английский язык,
англичанка явственно сочувствовала ему,
хвалила за «природный йоркширский диалект»,
так что кое-кому в комиссии пришлось утереться.
Любовь? Увы, ему было совсем не до любви,
девочка-Снегурочка куда-то вдруг пропала,
все в посёлке разъехались на каникулы,
и только одна-единственная цель
стояла теперь перед Степановым —
получить скорее аттестат, купить билет,
сесть в тот самый пассажирский поезд,
который каждую ночь проходил
через их зачуханный полустанок,
проснуться назавтра в ином, светлом мире,
чтобы радостно прошептать: «А вот хрен вам!»
И все его сны были только об этом —
ночь, шпалы, рельсы, вагоны,
состав трогается, он бежит следом,
но его ноги наливаются свинцом.
Не в силах забраться на подножку,
он кричит, плачет, просит остановиться,
но тамбур пуст, поезд набирает ход,
и вскоре огни последнего вагона
медленно растворяются во тьме…
Степанов подал документы в институт,
но из-за проклятой «тройки» в аттестате
ему пришлось сдавать все четыре экзамена.
Его зачислили — вторым по списку.
Это была неслыханная победа,
он вернулся счастливым и радостным,
но почему-то многие в родном посёлке сказали,
что папа купил его экзаменаторов.
И Степанов, наивно посчитавший,
что всё закончилось, с ужасом понял —
нет, всё теперь только начинается,
он обречён демонстрировать свои победы,
но их никогда не примут за правду,
доказывай или не доказывай,
но теперь для своей малой родины
он будет верблюдом навсегда.
Степанов пришёл в школу на дискотеку,
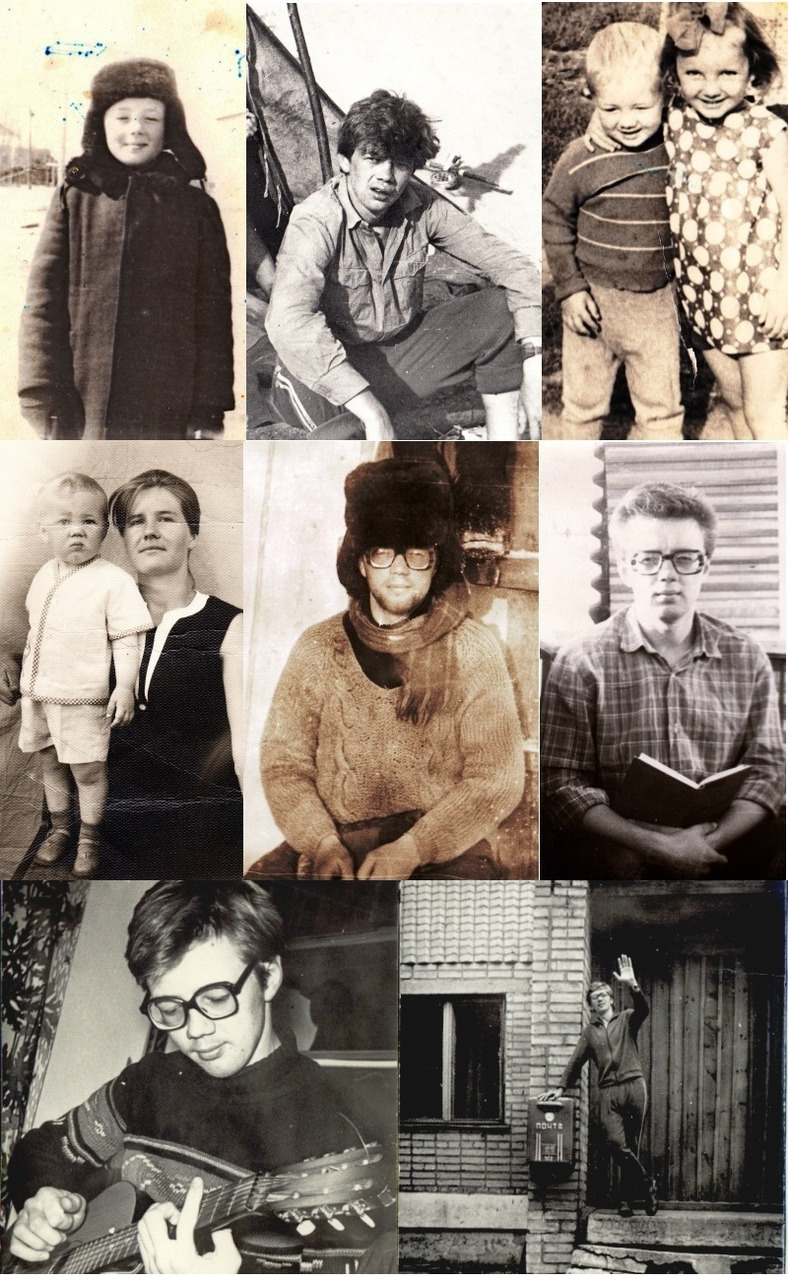
но знакомые его откровенно не замечали,
Снегурочка спешно собралась замуж
за какого-то великовозрастного парня.
Степанов напился водки — в хлам,
наговорил всем на прощанье гадостей,
уехал и надолго забыл дорогу в эти края,
и даже много лет отработав потом в райцентре,
старался не приезжать сюда — саднило.
Когда прошло тридцать с гаком лет,
в соцсетях его разыскали одноклассники,
засыпали упрёками — «зазнался!» —
начали требовать общения, рассказов,
весёлых стихов — дабы «поржать»,
ревниво интересовались размерами квартиры,
величиной зарплаты и маркой машины,
как будто в этих вещах и был запрятан
главный смысл всей человеческой жизни.
Только тогда Степанов понял,
как же ему всё-таки повезло —
для него прошла целая жизнь, да такая,
про которую можно написать не один роман,
он объездил всю страну, и не одну,
стал совсем другим человеком —
а они прожили всю свою жизнь,
сидя на одном и том же месте.
Теперь все они пытались доказать ему и себе,
что он, Степанов, всё тот же тихий юный очкарик,
его можно фамильярно подъелдыкивать,
щёлкать по носу и стебаться над ним,
что незачем было уезжать из посёлка,
и вообще ничего в жизни не изменилось —
они были, есть и будут хозяевами жизни,
всё те же Петьки, Вальки и Ленки,
а он — так, его достижения — бред и враньё.
Но Степанов не упрекал их ни в чём —
зная, как им хочется повысить
свою самооценку за его счёт,
он не читал ту чушь, которую они писали,
напрасно ожидая его ответной реакции.
А ещё он частенько вспоминал
забытый всеми рассказ Шукшина «Срезал»…
Совсем недавно ему пришлось проезжать
через полустанок своего детства,
он долго стоял в коридоре вагона,
пытаясь пробудить добрые воспоминания,
смотрел на яркий одинокий фонарь,
дождь моросил на голый пустой перрон,
вагон уплывал в холодный осенний мрак
Увы, так ничего и не ворохнулось
в его сонной усталой душе,
всё местное было оплёвано и выжжено дотла,
казавшийся неприступным барьер давно взят,
он успел забраться в уходящий поезд —
осталась только легко саднящая досада
на самого себя, нынешнего:
«Прости, отпусти, забудь, хватит…»
Но как можно было забыть
все эти изгибы причудливой судьбы,
ошибки и победы, промахи и удачи,
свои первые наивные чувства,
неосмысленные желания плоти,
как вообще можно было забыть
все разные степановские «я» —
сколько их было уже, этих его ипостасей,
объединённых одним паспортом?
Но именно она, та горькая память
о пережитых в юности первых трудностях,
всегда злила Степанова и двигала вперёд,
придавая ему новые свежие силы жить.
Утром он сдал бельё проводнице,
вышел на вокзальный перрон Хабаровска,
прищурился на яркое осеннее солнышко
и радостно улыбнулся ему, как родному —
чёрт знает, который уже по счёту,
но Степанов всё-таки был ещё жив,
и по крайней мере одна дорога
нетерпеливо ожидала его сейчас.
И верилось ему только в одно —
что жизнь его будет вечной,
что где-то на конечной станции
ждут Степанова не черти и не ангелы,
а отдых, ремонт, апгрейд, дозаправка
и очередной неизведанный маршрут.
Брат, помоги!
Ах, какое жаркое, сочное,
зелёное и весёлое стояло лето
в том далёком восемьдесят втором,
когда случилась со Степановым
дурацкая история,
гордиться которой,
наверное, совсем не пристало.
Приехал Степанов тогда
из своего таёжного посёлка
в огромный шумный город
поступать на экономиста.
Экономистом он до этого
быть вовсе не собирался,
любил литературу и историю,
Степанов хорошо знал английский,
присматривался к профессии педагога,
но как-то не очень-то и всерьёз,
считая по совету отца любой диплом
лишь трамплином для стремительной карьеры
какого-нибудь совпартработника.
Когда наступило время
принимать судьбоносное решение,
Степанов потащился в областной центр
подавать документы в политехнический,
почему-то вдруг решив, что стране
не хватает инженеров-строителей,
а папа, главный советчик,
будучи по своим делам в командировке,
зачем-то попёрся туда вместе с ним.
Разомлев и одурев от жары,
вылезли они в тот день из трамвая,
на остановку раньше, чем нужно —
завидев бочку с квасом.
Пока пили холодный вкусный квас,
разглядели невдалеке за деревьями
высокое здание с вывеской
«Институт народного хозяйства»,
из дверей которого то и дело выходили
молодые симпатичные девушки.
Папа решительно нахмурился,
выпятил челюсть, втянул живот,
и уверенно потащил сына на зов природы,
то есть в приёмную комиссию,
где весёлая загорелая щебетунья-очаровашка
в весьма легкомысленном платьице
начала с ходу строить папе глазки
и через пять минут так обаяла его,
что тот скомандовал Степанову
сдавать свои документы именно туда,
куда насоветовала ему эта добрая фея.
Набегавшись за день по жаре,
Степанов с ужасом подумал о том,

что надо будет тащиться
ещё неизвестно куда и зачем,
поэтому вздохнул про себя,
попрощался с дивной мечтой
строить «голубые города»,
о которых так красиво пел Эдуард Хиль,
и безропотно покорился судьбе.
На вокзал возвращались молча.
Папа был заметно рад тому,
что вопрос с поступлением сына
уладился так легко и приятно.
— Какая… эээ… спортивная девушка! —
сказал он задумчиво, со светлой печалью
глядя куда-то в пространство.
И с заметной завистью добавил:
— Как же тебе повезло!
Ты даже не понимаешь…
В СССР, как теперь известно,
слов «секс» и «эротика» тогда ещё не знали,
а потому занимались любовью
бессистемно и безалаберно,
используя для названия процесса
в основном матерную брань
и разные медицинские термины.
Наверное, именно поэтому
осторожный Степанов-старший
всех привлекательных дам
политкорректно называл
«спортивными девушками».
Он оказался во многом прав.
Когда Степанов вспоминал дни
своей «абитуры» в общежитии,
где восемьсот лиц женского пола
пришлось на шестьдесят морд мужского,
то первым делом на ум ему
почему-то сразу приходили слова
«промискуитет» и «свальный грех».
Впрочем, история вовсе не об этом.
Июль, жара, пляж, пиво…
Кому охота в этой обстановке
учить какую-то там математику?
Но Степанов честно сходил на консультацию
перед предстоящей контрольной,
где вволю понавыпендривался
перед женской аудиторией,
чересчур ярко блеснув своими познаниями
в области решения примеров и задач.
Тут-то его и срисовали два красавчика-армянина,
Ашот и Мушег Оганесяны,
подошли к юнцу, отвели в сторонку,
сказали волшебные слова: «Брат, памагы!»
а дальше сделали предложение,
которое повергло Степанова в ступор.
В пору молодости жизнь его,
к счастью или к сожалению,
спешила, летела, мчалась вперёд,
постоянно и нетерпеливо спрашивая в лоб:
«Решай, пацан — быть или не быть?»
Опыта у Степанова было слишком мало,
амбиций, наоборот, чересчур много,
в голове гулял шальной ветрюган,
а ответ на вопрос был нужен,
как говорится, ещё вчера.
Но то, что именно он, и только он
стал виновником доброй половины
всех своих собственных бед —
это Степанов признавал безоговорочно.
Не приди он на эту консультацию
или веди себя чуток поскромнее,
глядишь, не попал бы, как кур в ощип.
С виду всё выглядело очень мило.
Братья-армяне предложили Степанову
усесться на экзамене вместе,
максимально поближе друг к дружке,
для того, чтобы он решил за футболистов
их варианты контрольной работы.
Вот тут-то Степанов с ужасом понял —
«добрые дяди» предлагали ему
самому выкопать собственную могилу.
Оганесяны «стучали в мяч» в местном СКА,
им требовалось просто сдать экзамены,
их брали в любой институт, не задумываясь,
любому институту были нужны спортсмены,
вежливые хорошие ребята со связями,
отслужившие свои два года в армии,
да ещё и члены КПСС, как оказалось потом.
Но мест на потоке было мало,
конкурс был в тот год серьёзный,
что-то около десяти человек на место,
бонусов никаких Степанов не имел,
в армии ещё не служил,
пройти в финал забега мог
только на общих основаниях
по результатам четырёх экзаменов.
Там, где братьям-Оганесянам
было достаточно вшивых «троек»,
Степанову была нужна только «пятёрка»,
но и та не меняла расклад в его пользу,
потому как предпочтение комиссии
всё равно было бы отдано футболёрам.
«Брат, памагы!» — почуяв некую слабину,
братья дружно взяли Степанова в оборот,
да так крепко и прочно, что хотелось завыть.
Когда он начал было отказываться,
в их сладкоголосии появились угрожающие нотки…
Странно сейчас вспоминать —
но они даже денег ему взамен не предлагали!
Будем честными до конца —
Степанов был один, он испугался, струсил,
и поэтому — согласился.
В ночь перед контрольной по математике
незадачливый абитуриент почти не спал,
пребывая в полном душевном раздрае.
Бесило тупое лицо луны за окном,
визгливый смех соседок за стеной,
лязг трамваев, уходящих в депо.
Советоваться было не с кем.
Выхода тоже не было.
Он мог смело паковать
свой задрипанный чемоданчик,
ехать в общем вагоне назад,
в пыльный сонный посёлок,
пить с корешами «бормотуху»,
устраиваться на завод,
потом идти в армию,
тогда как раз брали в Афган…
Можно было наврать самому себе,
отпустив всё на самотёк,
проболтаться в общаге до конца экзаменов,
не найти себя в списке —
ах, как неожиданно! —
и вернуться к родителям,
обманув себя и других имитацией
честно выполненного долга.
Но как было бы потом жить с этим дальше?
…Они были похожи в тот день
на героев индийского кино.
Белые брючки, цветные батники,
кожаные туфли на каблуках,
маслянистые глаза с поволокой —
весь вид Оганесянов показывал:
«Жизнь удалась!»
Они кокетничали с девушками,
громко смеялись, показывая всем,
какие они храбрые и весёлые парняги.
О, если они были чуть поскромнее,
если бы не так беззастенчиво
показывали своё превосходство!
Как только Степанов увидел их,
в его больной голове взорвался
холодный обречённый,
но очень яростный огонь,
настоящий пламень гнева.
Кто-то неведомый внутри него —
не иначе как сам дьявол, конечно! —
утробно и страшно захохотал.
Наверное, именно так панфиловцы
бесстрашно бросались под танки…
«Брат, памагы!» —
да, Степанов сделал за них контрольные,
но решил при этом их задачи так,
чтобы не оставить этим «танцорам диско»
никаких шансов даже на несчастные «тройки»!
И через пару дней
он с великим наслаждением
увидел у списка с оценками
расстроенные лица футболистов.
Оганесянам очень хотелось тогда
изрядно поколотить очкастого недотёпу,
они прыгали вокруг скамейки,
как будто два злобных павиана,
ругаясь вполголоса и брызжа слюной,
но тут, на великое счастье степановское,
из института вышла компания
знакомых ребят-чеченцев,
и незадачливые футболисты
как-то очень резко ретировались.
«Что случилось?» — спросили у него,
и Степанов с невероятным облегчением
под общий дикий хохот
рассказал всю эту историю,
потом ещё раз, и ещё,
и вскоре она превратилась в легенду,
которую наконец-то однажды
рассказали ему самому…
Хотел было Степанов признаться в том,
что истинный герой этой истории — это он,
но как-то поскромничал.
Да и нечем тут было гордиться, честно говоря…
Что ещё остаётся добавить?
Через пару месяцев попал Степанов
с ребятами на футбольный матч СКА
и увидел на поле Оганесяна,
правда, какого из братьев,
так издали толком и не разглядел.
Но совесть его немного успокоилась.
До Диего Марадоны Оганесяну
было, конечно, ещё ой как далеко,
но в бутсах, с мячом посреди грязного поля,
он смотрелся явно на своём месте.
Сочинение про Ниловну
Тема сочинения на экзаменах в институт
жарким летом восемьдесят второго
была простой, знакомой и благодатной:
«Образ Ниловны в романе Горького „Мать“».
Степанов творил вдохновенно и легко,
избегая сложноподчинённых предложений,
зная по опыту, что именно там можно легко найти
все проблемы со знаками препинания.
Сосед по парте, некий Боря Шевчук,
чьё имя и фамилию Степанов без труда прочёл,
скосив глаз в чужую корявую писанину,
пребывал в насморочном состоянии,
шумно всхлюпывая распухшим носом,
что очень раздражало всех его соседей.
Степанов зафиналил в меру пафосный текст,
он научился клепать такие на раз-два,
его школьная учительница, парторг школы,
млела, зачитывая классу с подвыванием
каждое сочинение лопоухого пионера,
все они чем-то напоминали передовицу «Правды» —
этакие политически выверенные опусы
в духе социалистического реализма.
Много лет спустя Степанов понял,
что с младых ногтей был талантливым версификатором,
недаром же он писал сочинения за друзей
ровно на те оценки, которые им требовались —
и ни один учитель никогда не смог предъявить ему
авторство сооружённого таким способом творения.
Он проверил написанное и начал вертеть головой,
высматривая вокруг симпатичных абитуриенток,
усердно пыхтящих над выданными им листами бумаги.
— Юноша, вы что, уже закончили?
Дайте-ка посмотреть ваше сочинение…
А вот здесь у вас должна быть запятая!
Неслышно подошедшая сзади преподавательница
ткнула наманикюренным коготком ему в листок,
она оказалась хорошей знакомой его соседа,
они возбуждённо зачирикали меж собой,
сопливый Боря ужасно обрадовался,
начал что-то жалостно гундеть — пропадаю, мол.
У Степанова ёкнуло сердце, загорелись щёки.
Усомнившись в себе, он просмотрел текст —
нет, никакой ошибки не было, его обманывали.
Степанов уже перестал доверять взрослым,
но ещё не научился скрывать свои истинные чувства,
поэтому вспылил и твёрдо сообщил тётеньке —
насчёт лишней запятой она точно не права.
Тётя покраснела и стала вдруг злой и некрасивой,
подняла его с места в поисках «запретного»,
аудитория замерла в предвкушении расправы,
но разве что-то спрячешь в футболке и джинсах?
— На вашем месте, юноша, я бы не спешила!
Но если Вы желаете сдать сочинение в таком виде…
Под завистливый шёпот аудитории
Степанов с превеликой радостью вышел вон,
оставив преподавательницу помогать Боре,
зудевшего ему вслед что-то жалко угрожающее —
что ж ты, мол, товарищ, не поможешь другу?
На улице зеленело жаркое городское лето,
он прыгнул в трамвай и через пару минут забыл,
выкинул из памяти и Борю, и Ниловну, и экзамен.
Его ждали новые друзья, пиво и пляж.
Через пару дней вывесили оценки за сочинение.
С громко колотящимся в груди сердцем
Степанов протолкался сквозь пёструю толпу,
разглядел напротив своей фамилии пятёрку,
пожал плечами с уверенным видом —
а как иначе, всё-таки за плечами были первые места
на трёх районных олимпиадах по литературе.
На самом деле сердце Степанова билось,
уже готовое выпрыгнуть из пересохшего горла —
он понимал, что поступил в институт,
что самое страшное уже позади.
Это была победа — он прошёл вторым по списку.
Конечно, судьба распорядилась потом по-своему,
вместо смутно-желанной стези литератора
всучив ему синий диплом экономиста,
заставив поработать на предприятиях,
понять, что такое бизнес, на своей шкуре.
Но это её решение оказалось правильным —
о чём бы он тогда так вкусно писал сейчас,
не имея столь богатого житейского опыта?
О Ниловне из романа Горького «Мать»?
Ночная смена
вставай пошли
я слышу чей-то противный голос
но не хочу открывать глаза
меня охватывает отчаяние
тоскливо так, что хочется плакать
я снова в черно-белом аду
та же кровать, тот же вечер
всё те же опротивевшие лица
и нескончаемая ночь впереди
как будто смотрю один и тот же фильм
дежа вю с привкусом изжоги
вижу знакомые ободранные стены
за окном темно, деревня уже спит
значит, нам пора в ночную смену
Колян спит, сидя на кровати
Андрюха доедает из миски кашу

протягивает мне стакан чая
вставай пошли
говорю я своим соседям по аду
папиросы любительские
пустая бутылка андроповки
восемьдесят третий год на дворе
мне семнадцать лет я студент
второй месяц живу в совхозе
рабы агрегата витаминной муки
гордо именуемые бойцами АВМ
с полей к нам везут силосную массу
потом всю ночь в свете прожекторов
я накидываю трехметровыми вилами
стебли сырой травы на измельчитель
сечка ползёт в барабан сушиться
мешки наполняются зелёной мукой
Колян вяжет мешки шпагатом
Андрюха таскает на склад
через каждые два часа мы меняемся
утром заступают три свежих раба
после обеда приходят очередные трое
эту неделю мы работаем в ночь
ночная смена самая тяжёлая
вставай пошли
шатаясь, мы бредём на край деревни
навстречу первая смена, пьяные в ноль
кассетник гнусавит про девочку в баре
нам нравятся антисоветские песни
с понедельника ребяткам в ночь
уже месяц мы ждём замены из города
расценки на таких агрегатах копеечные
денег в конторе совхоза нам не выдают
боятся, что тут же сбежим в город
спасибо, что хоть кормят ещё
а нам и убежать никак нельзя
в отряде все штрафники
все так или иначе завалившие сессию
если уедешь отсюда, отчислят автоматом
один я тут идейный комсомолец
я комсорг факультета и сессию давно сдал
студентам в деревне всегда рады
халтуры много, расчёт едой и самогоном
копай, коли, пили, грузи, крась
в институте про нас явно забыли
поэтому безнадёга полная
все в совхозе пьют с утра до вечера
заехал как-то чистюлька в студенческой куртяшке
некий идейный вождь краевого масштаба
что-то понёс про соцсоревнование
ребята чуть не прибили его
вставай пошли
а вот наконец наступает полночь
урча, грохочет во тьме наше чудовище
вечерняя смена похожа на зомби
они молча ковыляют, глядя сквозь нас
сил у них осталось только дойти до кровати
я подымаю с бетона осточертевшие вилы
взмах, второй, пятый, десятый
сначала мышцы болят и ноют
потом становится легче, вхожу в ритм
главное, ни о чём не думать
великий раздолбай Колян явно успел дунуть
дурь здесь растёт за каждым углом
она тут весёлая, тем-то и опасна
по обкурке трудиться тяжко, пробовал
прёт так, что мозги встают нараскоряку
толку с Коляна сегодня мало
вижу, как пацана замыкает
надо меняться, иду будить Андрея
вставай пошли
третий час ночи, грохот разносит мозг
Андрюха спит на пустых мешках
долго вяло матерится и трёт глаза
пытаясь понять, что мне надо
берёт у машиниста закурить
уходит вместо меня на вилы
с ним хорошо работать в паре
он крепкий парень из рабочей семьи
а Колян педагогов сын и хитрован ещё тот
поначалу кидал железячки в зелёную массу
чтобы ломались ножи в измельчителе
пока привозили новые запчасти
можно было прикорнуть на часок
но совхозники быстро вычислили его
выдали хороших звездюлей
теперь Колян ждёт визитов деревенского стада
чтобы уронить рубильник на подстанции
типа корова рогами задела
вставай пошли
атас, горячая мука валит через край
но Колян ничего не соображает
его глаза пусты, хихикает как идиот
зачем-то ползает под агрегатом
отбивается от нас с машинистом
да, этот сегодня уже не работник
жаль, конечно, а я-то хотел поспать часок
придётся ишачить вдвоём
сменное задание никто не отменял
Колян прыгает в истерике
пинает ногами рифлёную стену ангара
орёт нах** нах** нах** нах**
Андрюха навешивает ему леща
Колян странно смотрит на нас
убегает из ангара куда-то в темень
духота, когда же наконец утро
я меняю мешки, увязываю, уношу
снова меняю, увязываю, уношу
опять меняю, опять увязываю, опять уношу
на ходу то и дело проваливаясь в сон
ночь бесконечна как чёрная бездна
вставай пошли
пять утра, Андрей что-то кричит
толкает меня тыча пальцем
за его спиной огромное зарево
мать честная, это горит склад с витаминной мукой
куда мы таскаем мешки после смены
пожар пылает во всё небо
неужели наш Колян совсем спятил
Колян с упоением смотрит на пламя
его слёзы похожи на капли крови
свобода, пацаны, свобода, кричит он
мы неуверенно улыбаемся
потом тоже начинаем орать и прыгать
тело колотит нервная дрожь
по щекам течёт что-то солёное
в горле горький комок
сука, это ли не счастье
всё, теперь работы точно не будет
машинист мечется, люди, крики, пожарка
начальство вопит, мы не при делах
машинист подтверждает наше алиби
сам-то спал пьяный и ничего не видел
от греха подальше забиваемся в каморку
блаженно засыпаем до восьми
да идут они все со своей мукой
с дикой радостью думаю я
веря, что завтра всё будет иначе
вставай пошли
заменят нас только через месяц
совхоз спишет на пожар все свои косяки
якобы сгорело в десять раз больше
причина замыкание проводки
осенью нас вызовут в крайком
где Андрюху премируют фибровым дипломатом
Коляна путёвкой на Кубу за триппером
а меня наградят Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ
по тем временам это равносильно ордену
но где он теперь, этот сраный ЦК ВЛКСМ
наверное, там же,
где моя дурацкая молодость
и тот тлеющий окурок,
который душной июльской ночью
кто-то из нас нечаянно/незаметно
уронил в мешок с зелёной мукой
Роман с кайфом
Как ни странно, в самый первый раз наркота
появилась в жизни Степанова как бизнес.
Как-то летом проживал он у своей бабушки —
большой дом с летней кухней, куры, свиньи,
огромный огород с полным ассортиментом,
он окучивал картошку, поливал плантацию водой,
караулил дом, пока бабуля торговала на рынке.
Однажды позвали его на калитку знакомые пацаны,
предложили денег за бабкину грядку мака,
который вымахал всем местным торчкам на зависть.
Юный Степанов не долго думал или совестился —
бабкин мак бы всё равно долго не простоял,
не эти бы орлы порезали на ханку, так другие,
а вот двадцать пять рублей по тем временам
были для школьника очень большие деньги.
Потом были экзамены в институт, колхоз,
в котором Степанов дунул свой первый косячок,
получив невиданные доселе острые ощущения —
то его охватывала фантастическая жуть,
то вдруг пробивало на лютый голод,
а уж как придавила его бульдозером «Стена»,
тот самый знаменитый альбом группы «Pink Floyd»…
Его захватила с головой странная субкультура,
в которую неопытный юноша окунулся с головой —
в шестнадцать лет все эти перхающие смешки,
ушлёпочное поведение, ужимки, аксессуары,
непонятные для постороннего человека словечки
казались ему забавными и модными.
А сам процесс приготовления, все эти детали и тонкости,
почти алхимия — кто же не хочет вкусить волшебства!
Весной, после второго семестра, Степанов
загремел в совхоз командиром отряда на АВМ,
была такая штука, агрегат витаминной муки,
выматывавший силы неуклонно и мучительно.
Забытые всеми, студентики яростно махали вилами,
тарили бумажные мешки с тёплой зелёной мукой,
единственной отдушиной была трава-балдеечка,
от которой боль и безнадёга на время притуплялись.
В одну прекрасную ночь напарник Степанова Колян,
милый добрый мальчик с доверчивыми глазами,
перебрав зелёного зелья, запалил склад с мукой,
понабежали тушить селяне, работу остановили.
Степанов от души радовался временной передышке,
он смотрел на пожар и тихо плакал от счастья —
психика за два месяца ада стала совсем ни к чёрту…
Потом снова пришла тёплая разноцветная осень,
начались новые предметы — было самое время учиться,
но Степанова уже несло, как кораблик по мутной воде,
он попал в плохую компанию, стал прогуливать пары,
уверовав в свои силы, откладывал учёбу на потом,
утешал себя, мол, возьму отпуск, пропущу год —
но притуплённое сознание его чуяло грядущую беду.
Как только приходило просветление, его накрывал страх,
который поселился где-то глубоко внутри, под ложечкой,
этакий мерзкий, холодный и скользкий «жим-жим».
Все друзья его исчезали из виду один за одним,
словно листья, сорванные зимним ветром с дерева,
все они обещали вернуться, но увы, исчезали навсегда.
Из Афгана шли гробы, об армии рассказывали ужасы —
военкомат беспощадно хватал всех, кого отчисляли.
Когда в январе Степанов с треском провалил сессию,
то заикнулся матери о том, что хочет взять отпуск —
та собрала на пропесочивание всю поселковую родню,
тётки и дядьки сели за стол, выпили, закусили,
стали стыдить и увещевать племянника на все голоса.
Он лежал на своей детской кровати, ставшей ему короткой,
смотрел в пыльный потолок, вдыхал домашние запахи,
слушал все эти полупьяные торжественные разговоры
и готов был в голос волком завыть от ужаса —
по всему получалось, что он просто обычный неудачник.
Однако за неделю голова его немного проветрилась —
Степанов вернулся в общежитие намного раньше,
попросту сбежал из дома, чтобы не терять время.
В комнате они жили тогда впятером — сам Степанов,
его однокурсник, смурной и странный тип Андрюха,
тоже работавший прошлым летом на АВМ в совхозе,
ещё тот самый Колян, спаливший совхозный амбар,
умудрившийся завалить все предметы семестра,
да его тёзка, усатенький великовозрастный Колюня,
бывавший в общежитии как-то всё больше наездами.
Светлым пятном в этой компании был Серёга Солдаткин,
старшекурсник, живший учёбой, лыжами и Высоцким.
Случилось так, что все они разъехались на каникулы,
в комнате остался один только праведник Солдаткин,
он был откуда-то с Сахалина, экономил денежку,
чем и объяснялся его праведный образ жизни.
Серёга был не жаден, но практичен и недоверчив,
при этом, однако, весьма любопытен до всякой ерунды,
в нём таился великий учёный-экспериментатор,
он мог купить бутылку коньяка просто для проверки,
действительно ли пахнет сей нектар богов клопами.
Хотя Серёга недолюбливал развесёлую троицу торчков,
но к Степанову относился почему-то по-доброму,
а потому вник в его проблемы с учёбой и дал советы,
самый первый — срочно перейти на ночную жизнь.
Они вставали в десять вечера, садились за книги,
потом отвлекались на постирушки или уборку, пили чай,
снова учились, в девять утра бежали в столовку,
чтобы потом занавесить свободным одеялом окно,
закрыть дверь и снова завалиться спать до вечера.
Солдаткин научил молодого товарища хорошей штуке —
при полном отупении минут двадцать стоять на голове.
Ощутив через неделю уверенность в собственных силах,
Степанов ринулся в бой — ему, протрезвевшему, везло,

он быстро ликвидировал свои задолженности, но…
Но тут на горизонте возникла теория вероятностей,
которую преподавал Илья Семёнович Честницкий.
Развязался с «тервером» — за ним пришла новая беда,
в одну прекрасную ночь кто-то проник в медпункт,
находившийся на первом этаже их общежития,
он работал вахтёром, но случилось всё в чужую смену,
милицейские крепко взяли его сменщика в оборот,
тот припомнил, что за полночь по коридору
шастал Андрюха, бывший сотоварищ Степанова по АВМ.
Закрыли и Андрюху — из медпункта пропал промедол,
в их общей со Степановым тумбочке нашли бинты, вату,
поэтому начали таскать теперь и того — откуда дровишки?
На самом деле Степанов привёз бинты и вату из дома,
но капитана такие показания совсем не устраивали —
кроме слов вахтёра, у них больше ничего не было.
Капитан начал грозить Степанову тюрьмой и армией,
но легко прессовать только перепуганных наркоманов.
а вот человека с нормальной психикой трудно испугать,
и Степанов в очередной раз поблагодарил небеса за то,
что крайне своевременно перестал убивать свой мозг.
Андрюхе в камере крепко досталось, вахтёру тоже,
но дело как-то не склеилось, всё притихло,
а через месяц Андрюхин папаша, строгий полковник,
во избежание статьи сам лично сдал сына в армию.
В общем, жизнь вокруг бурлила и не стояла на месте,
тут опять умер генсек, всё завертелось, понеслось,
утихли проверки документов на дневных сеансах кино,
вызывавшие стойкое раздражение всех влюблённых.
Остепенившегося Степанова избрали в студбытсовет,
потом в студенческий профком института.
Конопля так или иначе возникала ещё много раз
в его развесёлой студенческой жизни,
теперь наступало иное время — делюганское.
Самые предприимчивые меняли у селян на траву
джинсы, магнитофоны, фотоаппараты, часы,
потом привозили её в город — для перепродажи.
Бизнес был рискованный, коварные крестьяне
частенько отбирали у городских товар и крепко били.
На последнем курсе их снова отправили в колхоз,
в погранзоне дурь росла высотой с кремлёвскую ёлку,
в местной бане Степанов однажды накурился так,
что начал наконец-то понимать азербайджанский язык.
Но курилось теперь не так, без полного погружения,
без прежнего юношеского задора и фанатизма,
теперь Степанов знал, что с травою шутки плохи.
Конечно, она раскрашивала мир и меняла сознание,
но развитию юных умов точно не способствовала…
Однако по книжкам всего этого было ему не понять,
на горьком личном опыте Степанов понял с годами,
что настоящий кайф приносили ему не трава, не власть,
не деньги и не огненная вода, а обычное творчество —
от вынашивания идеи до процесса её воплощения.
Колян-молодой украл у Коляна-старшего куртку,
однако забыл о содеянном, припёрся в ней и был бит,
потом выцыганил у Степанова сто рублей на джинсы,
обещал привезти через неделю, а пропал навсегда.
Серёга Солдаткин уехал аспирантом в Плехановку,
прислал Степанову на свадьбу набор постельного белья,
потом работал деканом факультета в их альма-матер.
Степанов всё хотел заехать, пообщаться — увы, замотался.
Как-то раз в самом начале лихих девяностых
самолёт со Степановым сел в Красноярске.
По причине того, что аэровокзал тогда перестраивали,
транзитных пассажиров в накопитель не повезли,
просто выпустили на полосу погулять у самолёта.
Степанов отошёл в кустики, пригляделся и обмер —
вот она, родненькая! — руки так сами потянулись к траве.
Он стоял, улыбался как дурак и общипывал кустики,
лихорадочно рассовывая листочки по карманам.

Неподалёку пристроился ещё один, явно с той же целью,
они глянули друг на друга и захохотали в голос.
И всю оставшуюся дорогу до Хабаровска
блаженная истома корёжила тело Степанова
в сладостном предвкушении давно забытого кайфа…
А дурь оказалась совсем беспонтовая — не покатила.
Как сдать «тервер»
Предмет Ильи Семёновича, прозванного Чесноком,
был мечтой любого наркомана — желающий, убедись.
Шансов у Степанова сдать «тервер» было крайне мало —
ещё до каникул он пытался сотворить сие чудо трижды,
все три раза пролетая, как фанера над городом Париж.
Мало того, что все лекции маэстро он тупо прогуливал,
так ещё и по молодости лет совершил оплошность,
позволив себе однажды в туалете высмеять Чеснока
в компании таких же чрезмерно весёлых молодых людей,
а тот вдруг вышел из кабинки и нехорошо ухмыльнулся.
Степанов, совершив непростительную бестактность,
решил взять тщедушного интеллигента на арапа,
пытался навесить лапши на уши и потошнить — не вышло.
Взял «парашюты» у добродушного Тофика Кулиева —
успешно извлёк их, а они оказались на азербайджанском.
В третий раз Илья Семёнович просто сразу выгнал его,
поскольку Степанов явился на пересдачу подшофе.
Старшекурсники рассказывали, что педант Честницкий
каждый год пачками валит бесшабашную молодёжь,
то ли мстит кому-то этим, то ли просто из принципа,
но если уж попался ему на крючок — непременно жди беды.
Момент для примирения был безнадёжно упущен,
Оставалось только молиться на доброго декана,
принципиально не желавшего отчислять Степанова,
да зубрить «тервер» — никакого другого выхода не было.
Учить теорию вероятностей в юные года очень трудно,
особенно если ли мозги твои отравлены марихуаной.
Через пару лет Степанов, с детства любивший математику,
с удивлением осознал, что постиг проклятый «тервер»,
просто дорос физиологически до него, только и всего.
А тогда он приходил сдавать «тервер» много раз,
Честницкий, похоже, реально наслаждался тем,
что Степанов тенью бродит за ним по аудиториям:
— Зачем вам это всё? Идите уже, идите себе в армию!
Только на шестом, или точнее говоря, девятом заходе
Честницкий смилостивился над несчастным юношей
после длительного и занудного внушения о том,
что предмет надо уважать, лекции следует посещать,
чтобы как минимум знать лектора в лицо и по имени:
— И будет вам, эээ… Степанов, ваше счастье — три балла.
Но случилось это не скоро и совсем не просто так.
Вовсю уже шёл новый семестр, пятый по счёту,
когда Степанова избрали председателем студбытсовета.
его захватила вся эта весёлая круговерть,
он сколотил оперотряд из крепких спортсменов,
взял под контроль вахту, навёл порядок с курением.

Как ни странно, но подчинялся он теперь только ректору,
деканы улыбались ему — общежитие требовало заботы,
все преподаватели дежурили в общежитии по графику,
томясь и изнывая на вахте либо гуляя по знакомым,
но дежурство было делом важным, хотя и неприятным.
Увидав однажды в графике знакомую фамилию,
воспитанный чеченцами Степанов запылал местью.
Честницкий так растоптал его самолюбие за эти полгода,
что Степанов чувствовал себя полным дерьмом.
Унижение до сих пор напалмом жгло ему щёки —
Честницкий явно перегнул зимой палку с пересдачей,
поскольку студент Степанов никогда идиотом не был.
Он договорился с ребятами из другого института,
подгадал момент, помахал полотенцем в форточку,
и несчастный подслеповатый Илья Семёнович,
кое-как притопавший по лужам в общежитие,
вдруг оказался в кольце агрессивных верзил,
якобы случайно прорвавшихся в общежитие,
не подозревая, что это просто мирные «лифчики»,
студенты лесоинженерного факультета политеха.
Напоминавшие огромных канадских хоккеистов,
верзилы зажали несчастного Честницкого в угол,
но тут возник Степанов а ля Джимми Ача-Ача,
благородный герой индийского фильма.
Главный злодей, его друг Вадик по кличке Карлсон,
работавший вышибалой в ресторане «Северный»,
был побеждён в коротком, но очень эффектном бою,
верзилы утащили раненых, Чеснок нашёл очки,
разглядел своего чудесного спасителя, узнал и…
В общем, каждый в итоге получил то, что хотел —
но теперь моральное удовлетворение было обоюдным.
Больше Честницкий в общежитие не совался — косил,
но со Степановым на всякий случай раскланивался.
Дюймовочка
В декабре далёкого восемьдесят четвёртого
Степанов неожиданно для всех по уши влюбился
в очаровательную маленькую первокурсницу,
юную девочку с огромными голубыми глазами,
которую он шутливо называл Дюймовочкой.
Они целовались по вечерам в тёмном коридоре,
но дальше милых глупостей дело не продвигалось,
девица была настроена на серьёзные отношения,
чему основательный Степанов совсем не противился,
даже наоборот, активно стремился создать семью.
Всё было решено окончательно и бесповоротно,
девочка уехала после сессии домой на каникулы,
а Степанов записался в зимний стройотряд —
строить дома в совхозе неподалёку от Бикина.
Пришлось жечь пожоги, выставлять фундамент,
делать обвязку — всё было по-взрослому, всерьёз.
Степанов сверлил дрелью брёвна, забивал шканты,
бригада начинала и заканчивала работу затемно,
на выпивку и веселье времени совсем не оставалось —
приходили, ужинали и замертво падали спать.
В один прекрасный день он чуть сдуру не погиб,
шёл по капитальной стенке, потерял равновесие,
едва не рухнув спиной на бетонные плиты
с высоты второго этажа — спасло его чудо, инстинкт,
догадался бросить дрель, раздвинуть ноги и оседлать брус.
Уже на исходе строительства их нежданно навестил
не кто иной, как сам Алексей Климентьевич Чёрный,
живая легенда, первый секретарь крайкома КПСС,
он прошёлся в разношенных валенках по стройке,
назвал их орлами и молодыми строителями коммунизма,
показал местным бонзам увесистый кулак и умчался —
а он мог запустить и куском кирпича, если что не так.
Через неделю «орлы» затеяли весёлую отвальную,
в разгар веселья пришлось идти в деревню за брагой,
выставленной на печь у одной сговорчивой старушки
в украденной где-то большой фляге из-под молока.
Степанов с товарищем флягу забрали, но не донесли —
в этот тихий вечер навалило снегу выше колен,
через каждую сотню шагов они останавливались,
наливали по кружечке и дальше шли всё медленнее,
пока не уснули, привалившись спинами к тёплой фляге.
Слава Богу, что их товарищи пошли искать гонцов —
на всю жизнь запомнил Степанов огромные снежинки,
улетавшие назад, обратно в чёрное холодное небо —
чего только не привидится спьяну в зимнюю ночь!
Потом он добирался в общем вагоне домой,
а когда вышел на станции, то вдруг обнаружил,
что карманы его совсем пусты — зарплата пропала.
Проклиная всё на свете, он пришёл к родителям,
случайно задел подкладку и чуть не подпрыгнул —
оказалось, что он спрятал там полученные деньги,
но в подпитии совершенно забыл об этом факте.
Весёлые были времена, что уж там говорить…
Дюймовочка с доверчивыми голубыми глазами
Степанова из стройотряда дожидаться не стала,
втрюхалась по уши в сердцееда из общаги напротив,
а добрые люди шепнули Степанову, что крутила она
с ним, председателем студбытсовета института,
лишь бы получить желанное место в общежитии —
такая меркантильность Степанову была не по душе.
Вдвойне неприятно было ему дежурить на вахте,
запуская по утрам нагулявшуюся изменщицу —
ровно до той поры, пока пресытившийся сердцеед
не подложил свою подругу товарищу по комнате.
Теперь страдала она, пытаясь вернуть отношения,
но быть «запасным аэродромом» Степанов не захотел,
он учился, и влюбляться ему было теперь недосуг.
Осенью он встретил на картошке свою будущую жену,
оказалось, что обе его пассии, прежняя и нынешняя,
учатся в одной группе — это придавало роману огня.
Через много лет жена после встречи выпускников
рассказала ему романтическую историю о том,
что Дюймовочка вышла замуж за хорошего парня
из очень обеспеченной и весьма известной семьи,
а когда тот сломал себе в автоаварии позвоночник,
стала ему верной женой и руководит бизнесом мужа.
Ах, как танцевал с ней муж, сидя в инвалидном кресле!
Степанову не очень-то поверилось в эту сказку,
слишком уж хорошо он знал свою бывшую подругу
как даму прагматичную и весьма расчётливую.
Чтобы жена отвязалась наконец с восторгами,
он сделал вид, что тоже восхищён благородством
и чистотой высоких отношений этой пары —
может быть, он чего-то не знал или не понимал,
а может быть, зря судил о людях только по себе.
В любом случае жена ему совсем не поверила,
она считала Степанова грубым, злым и толстокожим,
что никак не помешало ей прожить с ним в браке
целых шестнадцать лет — как раз все «лихие девяностые».
Однажды Степанов проезжал мимо тех самых мест,
где они когда-то героически строили зимой дома.
Полный самых светлых ожиданий и намерений,
он завернул и обрадовался — дом стоял на месте,
вполне приличный с виду, хотя и не образцовый.
Встреченный им у ворот дедок ответил на вопрос так:
— Хто строил? Да стюденты какие-то, мать их етить!
Поймать бы хоть одного да рыло ему начистить…

Всё переделывать за ними пришлось, всё кривое…
Всю дорогу до города Степанов истерически хохотал.
Месть сантехника Вити
Сырым промозглым мартовским вечером,
когда женское общежитие номер семь
готовилось назавтра весело отпраздновать
очередной Международный женский день,
вечно пьяненький сантехник Витя
совершил мощный террористический акт.
Впрочем, обо всём надо рассказывать по порядку.
В начале восьмидесятых седьмая «общага»
была, как говорится, «гнездом разврата» —
в ней проживало восемьсот студенток
местного института народного хозяйства,
в большинстве своём девушек приличных,
но жители пятнадцати общаг студгородка,
окружавших со всех сторон «цитадель порока»,
считали «куртизанками» всех поголовно.
Следует сказать, что времена были тогда
вполне даже сексуально раскрепощёнными,
хотя ханжества, конечно, тоже хватало,
но одно дело коллектив или, скажем, семья,
и совсем другое — свободные отношения,
без пап и мам, когда гормоны играют марш,
можно одеваться как тебе заблагорассудится,
горячие взгляды приветливых мужчин и женщин
без стыда оглаживают твоё молодое тело —
или вы забыли себя самих в семнадцать лет?
Теперь о самом главном — при чём тут Степанов.
Поступив в институт «национальной экономики»,
как шутливо называли его на импортный манер,
он каким-то чудом сумел заселиться в общежитие,
где их, молодых мужчин, было очень немного.
Они занимали всего полтора десятка комнат,
разбросанных на пяти этажах с общими кухнями,
умывальными комнатами и туалетами,
и в женской массе местного населения
выглядели как-то весьма малосерьёзно —
этакие слоняющиеся по будуарам альфонсы.
Стипендии не хватало, все искали работу,
кто-то выгружал вагоны, кто-то таксовал —
Степанова по случаю взяли вахтёром общежития,
и то нелегально, числился Мишка, один за всех —
его потом в 90-е расстреляли на Сахалине бандюки,
не поделившие с Мишкой рыбацкий сейнер —
но запись в трудовой у Степанова всё-таки осталась.
Работа была суматошная и довольно опасная,
драки случались чуть ли не каждый день,
желающих прорваться через «вертушку»
и попробовать пряного девичьего тела
во все времена здесь было хоть отбавляй.
Дежурили с вечера до утра, потом учились —
подменяла суровая бабушка Иди-ка-ты-на***,
которую боялись даже хоккеисты местного СКА,
ходили слухи, что её выгнали из ВОХР за то,
что она шмаляла без всяких раздумий на голос
и положила таким макаром десятка два человек.
Вечером бабушка укладывала вязанье в сумочку,
говорила: «Ну, дожить вам до утра, щеглы!»
исчезала в сумерках — и вся местная братия,
накаченная до бровей спермой и винищем,
устремлялась к дверям седьмого общежития.
Через неделю Степанова знало в лицо полстудгородка,
популярней «вахтёров нархоза» тут были если только
Валерий Леонтьев или эстонский певец Яак Йоала —
вахтёр мог пустить вас в желанное «чрево Парижа»,
а мог и оставить по ту сторону тяжёлой двери.
По вечерам на вахте собирались с гитарой
все лица мужского пола — от массового набега
можно было отбиться только крепкой командой,
поэтому в случае предстоящего «прорыва»,
о котором исправно доносила вахтёрам разведка,
на «ринг» спешили проживающие борцы и боксёры.
Витя-сантехник был робким забитым работягой,
как-то на Новый Год он вышел погулять на улицу,
и в пяти метрах от крыльца нарвался на пьяных,
которые в праздничном припадке бурного веселья
воткнули Витю, как ёлочку, в огромный сугроб —
и замёрз бы сантехник в этом капкане совсем,
но тут весёлые дамы вывели под руки на крыльцо
чеченца Ширвани, и тот острым зрением горца
разглядел в темноте специфическую Витину шапочку,
была у него такая — смешная, полосатая, с кисточкой,
так вот эта кисточка и спасла Витькину жизнь,
а вот кое-какие пальцы на ногах пришлось удалить.
К тому времени, когда террорист-сантехник
решился произвести своё жуткое святотатство,
Степанов прожил в общежитии уже целых три года,
имел непонятный важный титул «предстудбытсовета»,
частенько ручкался с самим ректором института,
прекрасно знал, кто и чем дышит в общежитии,
не брезговал помогать и «падшим женщинам» —
сколько их пронеслось туда-сюда с деловым видом
через его вертушку — тоже мне, секрет Полишинеля!
Клиентов привозили им знакомые ребята-таксисты,
бибикая условным образом под окнами — и вуаля!
Сколько раз приходилось отбивать дам от хамла,
выслушивать по ночам истеричные пьяные исповеди,
укладывать спать на узкий вахтёрский диванчик —
проститутки ведь тоже люди, точно такие же, как мы.
Мораль совершенно не занимала Степанова тогда —
чертовски хотелось жить, учёба тянулась бесконечно,
но если надо было — списывали без зазрения совести,
торговали джинсами, продавали водку по ночам,
хотя если честно — больше, наверное, сами покупали.
С виду такие циничные, наглые, пошлые и развязные,
в душе все были добрыми, отзывчивыми и ранимыми.
Он совершенно не мог припомнить злых и гадких людей.
А драмы? Боже мой, какие удивительные трагедии
чуть ли не ежедневно разыгрывались на его глазах,
сколько сердец было разбито на ступенях крыльца,
сколько слёз и горьких проклятий слышали вахтёры!
Суждено было и ему самому в один прекрасный день
стать отвергнутым возлюбленным молодой красотки.
Господи, как он проклинал себя, впуская сам однажды
на рассвете в общежитие эту нагулявшуюся дрянь,
прятавшую от него счастливые довольные глаза,
как он плакал потом — всё, жить больше незачем,
как мстительно радовался её зарёванному лицу потом,
когда его бывшую «поматросили и бросили».
Ах, эта извечная женская склонность к вероломству…
Итак, было седьмое марта, девять часов вечера,
когда в мужскую комнату ворвалась женская толпа.
Степанова, изволившего мирно дремать, растолкали —
он никогда в жизни не видел столько разъярённых лиц,
его толкали, рвали с плеч рубаху, что-то орали…
Это был первый массовый психоз на его памяти,
если не считать майско-ноябрьских демонстраций —
наблюдать спросонок женское безобразие было жутко,
доселе милые дамы преобразились в злобных фурий
и вели себя крайне негативно, вымещая свою злость —
тайком щипали, тыкали кулачками — почему, за что?
«Тихха!» — от его рыка с потолка посыпалась извёстка,
опешив, нападавшие отступили, и всё прояснилось.
Витя, человек труда, поступил по-своему правильно.
Он реально мыл всю зиму все эти чёртовы сортиры,
то и дело требуя оплаты — ему обещали и не платили,
к весне гегемоново долготерпение совсем иссякло.
Витя долго слушал подколки и насмешки в свой адрес,
разозлился и в аккурат перед женским праздником
заколотил гвоздями-сотками двери в туалеты,
после чего забаррикадировался в своей каморке,
с чувством выполненного долга накатил «бормотухи»,
расхрабрился и запел козлетоном излюбленное:
— Еду-еду-еду я, в Благовещенск еду я,
там живут мои друзья — алкоголики и я!
Ситуация была патовой — Витя предусмотрительно
уволок единственный лом-гвоздодёр в своё логово.
Пока утомлённые естественными потребностями дамы
организованно бегали в соседнее мужское общежитие,
Степанов вёл сложные переговоры с террористом,
которые срывались несознательными гражданками,
то и дело категорически требовавших Витиной крови.
Процесс затянулся — достигнув к полночи консенсуса,
в сопровождении беснующихся жительниц общежития
они торжественно шествовали от туалета к туалету,
Витя, ворча и для вида на каждом шагу упираясь,
выдирал с визгом гвоздодёром из косяков гвозди.
Одна крупногабаритная девушка из финансисток,
алчно глядя на нетрезвого субтильного сантехника,
неожиданно с восхищением резюмировала:
«Вот это мужик! Вот это я понимаю! Сказал — сделал!»
Светало. Степанов вахтёрил, отгоняя сигаретой сон,
«жрицы любви» возвращались с ристалищ страсти,
покупать цветы-конфеты и поздравлять было некого,
девчонкам из группы отдарились какой-то ерундой,
предстоял суматошный день, дежурил свой деканат,
всё должно было происходить на высшем уровне,
где-то в тумбочке валялась недописанная курсовая…
Зевая, появился его напарник, «афганец» Сидоренко,
недавно вернувшийся с боевой медалью из Кандагара,
он служил в десанте и случайно остался в живых —
не полез в БТР, нарушив приказ «всем под броню»,
и когда БТР налетел на мину, весь экипаж погиб,
а Вовку выбросило на камни и тяжело контузило.
Теперь Вовку то и дело приглашали на всякие вечера,
юные прекрасные школьницы дарили герою цветы,
отчего героический Вовка страшно смущался и краснел.
Это поначалу «афганцев» привечали, потом забыли…
— Ты слышал? Вчера у соседей девчонка повесилась!
Сердце замерло в горле, краска ударила в лицо:
«Накликал, напророчил! Дура, ой, дура какая!» —
первым делом Степанов подумал про «бывшую»,
это она шастала на дискотеки в соседнее общежитие.
— Наша?!
— Нет, не наша, с автомобильного факультета…
Приревновала своего жавера к какой-то шмаре, —
по части лексики Вовка был истинным сыном Урала.
Степанов неопределённо махнул рукой: «Потом!» —
в двери уже протискивалась бабушка Иди-ка-ты-на***,
отвечавшая одинаково на все вопросы и комплименты.
Это означало, что наконец-то наступило утро.
Он вышел на крыльцо, чтобы прогнать сонливость —
с неба сыпало и капало, повалил снег с дождём —
вот тебе и Восьмое марта! А он-то думал, уже весна…
На улицу выпорхнули стайкой весёлые первокурсницы,
одна из них подбежала к вахтёру и чмокнула в щёку.
— За что? — опешив, крикнул он ей, убегающей, вслед.
— За туалет, папочка! — донесся в ответ звонкий хохот.
Он вспомнил её, конечно, как такое забудешь —
это была та самая, щипавшая его вечером за бок.
«Папочке» уже месяц как исполнилось девятнадцать.
Икс в квадрате
Итак, его звали Сапар Чарыев.
Сапарчик — так окликали его все вокруг —
был родом из солнечной Туркмении,
небольшого росточка, вечно весёлый,
этакий восточный человек-зажигалка —
как только Сапарчик входил в аудиторию,
его моментально окружали однокурсники,
вокруг него возникало бурление, хохот,
Чарыев был харизматичной личностью,
и преподаватели прощали ему многое.
Многое? Сапар был малообразован,
он долго прожил в вольной степи,
разбирался в конях и джигитовке,
а лезгинку танцевал просто на загляденье,
но если удалось ему когда-то закончить
хотя бы классов пять — и то хорошо,
многие школьные предметы навсегда
остались для Сапарчика загадкой.
Он был самый настоящий неофит, дикарь,
и Степанов завидовал ему — на этом чистом листе
хороший педагог мог сотворить чудеса.
С таким же успехом при другом раскладе
из Сапара мог бы выйти хороший курбаши,
вылезало иногда из него что-то басмаческое.
Они пересекались почти ежедневно,
Сапар жил в общежитии, имел большой успех
у многочисленного женского населения,
частенько посещал ресторан «Северный»,

один раз его попросили подменить там вышибалу —
знаменитого Вадика-Карлссона,
человека с внешностью Кинг Конга,
прозванного Карлссоном за потрясающее сходство
с популярным тогда шведским хоккеистом —
даже зубы у них были выбиты одинаково.
В этот вечер Сапарчик стал легендой,
на глазах Степанова он разогнал в одиночку
дюжину обнаглевших пьяных офицеров.
Никогда тот не видел ничего подобного —
Сапарчик подсел за офицерский стол,
невозмутимо взял в руки столовые ножи
и устроил ими такие чудеса вращения,
что мороз побежал по коже от одного вида
этой безжалостной холодной круговерти.
Глаза Сапара стали бессмысленно жестокими,
опешившие офицеры трезвели прямо на глазах,
а когда Сапарчик гортанно запел в тишине
нечеловеческим, безумным и тонким голосом:
«Рээээзать будиим, всееех рэээзать будиим!»
то посетители ресторана сыпанули кто куда…
Она стала в детстве узницей концлагерей,
сидела то ли в Заксенхаузене, то ли в Бухенвальде,
в восемьдесят третьем году читала лекции,
будучи доцентом кафедры высшей математики,
а звали её Мэри Яковлевна Заглядина.
Очки, одна и та же неопределённого цвета кофта,
одна и та же мятая юбка, ехидно поджатые губы…
Кровавая Мэри — так прозвали её студенты,
которых она пачками валила на экзаменах —
была суровой и беспощадной женщиной,
пока не встретила на своём пути Сапарджона.
Чёрт дёрнул её позвать Сапара в то утро к доске!
Наверное, она хотела постебаться над ним,
слегка унизить маленького смуглого недотёпу,
поставить на место улыбчивого нахального болтуна.
— Чарыев, к доске! Пишите. Икс в квадрате… —
аудитория зашушукалась, начались смешки,
за её спиной студент сосредоточенно скрипел мелом,
но гул становился всё громче, всё сильнее.
Кровавая Мэри обернулась и обомлела —
старательно обведя икс квадратом,
Сапарчик гордо приосанился у доски
и ждал теперь от преподавателя новых вводных.
Аудитория в голос захохотала,
и тут случилось непонятное и страшное —
Мэри Яковлевна Заглядина тихо завыла,
как-то неловко упала на распухшие колени —
после фашистских лагерей у неё болели ноги —
и на глазах оторопевших студентов
поползла прятаться под стол.
Сапар и в самом деле ничего не знал про то,
как в математике возводят числа в степень,
но его наивное поведение стало триггером,
что-то щёлкнуло в мозгу Кровавой Мэри,
врачи назвали произошедшее нервным срывом.
Ей пришлось довольно долго где-то лечиться,
вернулась она другой — тихой, пугливой,
тем не менее начала носить что-то разнообразное,
перестала валить студентов на экзаменах,
её зловещее прозвище потеряло всякий смысл,
было очень жаль её, пережившую то,
о чём всем оставалось только догадываться.
Дикий сын туркменских степей Сапар Чарыев
как-то на Восьмое марта приволок Мэри Яковлевне
огромный букет кроваво-красных роз,
она очень растерялась и даже заплакала,
Сапарчик оказался истинным джентльменом —
недаром проживает теперь в Лондоне,
судя по его страничке в Одноклассниках.
Степанов вспомнил о том, как однажды в стройотряде
Сапар на его глазах зарезал и освежевал
доверчивого деревенского кобелька —
голод не тётка, пёсика они тогда дружно скушали —
но за жизнь обитателей туманного Альбиона
было теперь как-то немного страшновато…
Эпоха колбасного дефицита
Ранней тёплой весной восемьдесят четвёртого года
молодого студента Степанова развели —
обманули легко, жестоко и досадно.
Старый знакомый Степанова,
дагестанец по имени Алик Гамидов,
взрослый женатый парень,
вдруг предложил обнищавшему кенту подзаработать —
на местном мясокомбинате искали маляров,
готовых выкрасить за майские праздники экспедицию,
большую площадку для погрузки продукции.
Степанов халтурил и раньше —
он перебирал картошку и морковку на овощной базе,
подрабатывал ночным сторожем в рабочей столовой,
красить-белить кистями и валиком
наловчился ещё со стройотрядовских времён,
к тому же сильно поиздержался к лету,
а клянчить денег у родителей стеснялся —
в общем, рванулся за хитромудрым Аликом
как прожорливая рыба за манящей блесной,
а когда одумался — было уже поздно.
Алик имел репутацию бедового человека,
умные люди старались с ним не связываться,
по институту ходили рассказы о его ненадёжности,
но Степанову каким-то образом до сих пор везло —
лично он не мог сказать об Алике ничего плохого.
Крепкий и отчаянный дагестанец,
известный многим по кличке Гам,
не раз выручал его в драках,
то и дело вспыхивавших у дверей общежития,
где Степанов подрабатывал по ночам вахтёром,
а однажды даже пристроил вместо себя
бракёром на винзавод,
пока летал на родину в отпуск.
Степанов по ночам восседал над конвейером,
по которому шли ящики с волшебными напитками,
моля провидение только об одном —
чтобы на бутылке хорошего коньяка
оказалась сорвана или сбита пробка.
Такая бутылка немедленно браковалась,
и ароматное содержимое её плавно перетекало
из подручного стакана в желудок Степанова.
Главное тут было не надраться до конца смены
в полный и окончательный драбадан.
Как Степанов добирался потом в общежитие,
вспоминалось ему с большим трудом…
В общем, Гам позвал Степанова, тот согласился,
поэтому виноватить было особенно некого.
Начали работу вечером тридцатого апреля,
закончили только к полуночи третьего мая.
Красить балки втроём на большой высоте
да ещё валиками на длинных палках было тяжко.
Изголодавшийся в общаге Степанов
чувствовал себя на мясокомбинате, как в раю.
Сердобольные аборигены совали ему
то палку копчёной колбасы, то связку сосисок.
Борщ в местной столовой стоил три копейки,
но такого борща Степанов нигде не видал больше —
мяса в нём было куда больше, чем капусты!
Ну, насмотрелся, конечно, как идёт процесс
изготовления разных мясных деликатесов —
завод по случаю выходных был пуст,
маляров просили поднести мешки с протеином,
засыпать нитрат натрия в огромный чан,
вокруг которого сновали здоровенные крысы.

Степанов был парень деревенский, не брезгливый,
а вот его напарник-маляр Вовчик, нудный дылда,
которого Гам привёл в бригаду из-за длинного роста,
так тот натурально зеленел от одного вида колбасы.
Но всё на свете когда-нибудь заканчивается.
Тёплой майской ночью в последний раз
Степанову вынесли из цеха два батона ветчины,
он сунул её в щель под бетонным забором,
вышел за проходную, подобрал пакет и был таков —
за праздники наловчился тырить мясопродукты
не хуже любого местного работяги.
Выспавшись, Степанов пошёл за расчётом.
Тут-то и выяснилось, что получать нечего —
Гамидыч забрал все их денежки ещё с утра.
Он помчался к дагестанцу на квартиру,
но жена Гама, однокурсница Степанова Татьяна,
красивая и тонкая гордая чернобровая дивчина,
зло и неприязненно отвечала Степанову,
что мужа нет, мол, и неизвестно,
ушёл разбогатевший Алик в пьяные куражи,
вскоре всплывёт в общежитии,
ждите там своего дружочка.
Степанов сгоряча наговорил Танюхе лишнего,
ведь знакомы были с ней давно, ещё с абитуры,
долго жили рядом, делились последним —
а тут вышла вот такая ерунда…
Когда первая, самая жгучая, горечь обиды прошла,
другой бы плюнул и махнул рукой на всё,
но Степанов был горяч и разгневался не на шутку —
он вернулся на мясокомбинат и начал своё следствие.
Как это так — его, без пяти минут крупного специалиста
в области народного хозяйства, обманули?!
В ход пошло всё — Степанов пообещал директору,
что дойдёт до первого секретаря крайкома партии,
с которым лично знаком по совместной работе на селе.
Ну да, тот приезжал как-то на поля в их совхоз,
так что Степанов особо-то и не врал —
ужо Алексей Климентьевич всех здесь пересажает!
Мясокомбинатовские жулики вдруг засуетились,
выдали Степанову из кассы от щедрот
целых двадцать рублей с мелочью,
всучили пакет сосисок и колбасы,
дали талоны в столовку ещё на месяц.
Степанов — исключительно для порядка —
поорал ещё минут десять у них под окнами,
обещая вернуться назад вместе с ОБХСС,
потом откусил от пахучего кольца краковской
и поехал в своё общежитие восвояси.
Казалось бы, тут в этой истории можно ставить точку.
Вовсе нет, на следующий день Степанов
встретил на паре жену Гамидова, Татьяну —
под глазом её расцветал свежий синячище,
явно полученный от руки дикого спьяну Алика.
Татьяна держалась вызывающе,
но Степанов-то видел, что гордость её
вот-вот хрустнет и переломится,
уж сколько он повидал этих молодых женщин,
словно в наказание за свою неземную красоту
лишённых простого человеческого счастья.
Степанов вспомнил детство, добрую бабулю,
которую охаживал тяжёлыми сапогами пьяный дед,
страшные пятна синяков на её мягком теле —
так и просидел он весь остаток пары в аудитории,
вперив в окно сухой испепеляющий взгляд,
моля Того, кто правит этим безумным миром,
снизойти до несправедливостей людских,
наказать зло и навести порядок.
Вечером на вахте общежития он увидел Алика,
тот был в стельку пьян, угрожал всем,
махал руками, нарывался — и в итоге нарвался
на пару каких-то никому незнакомых ребят,
которые отвели его за угол и так отделали,
что пришлось в итоге вызывать «скорую».
Думали, что Гам не выживет,
били его крепко, профессионально,
так, что кровь хлестала из него ручьём —
это уже потом дознались, что били деловые,
которым Алик Гамидов проигрался в хлам.
Оказалось, что Бог не Яшка,
Бог видит, кому тяжко —
били дагестанца по делу, имели право.
Через пару дней Степанов
встретил Алика в общежитии снова.
Держась за стену, тот брёл, пряча лицо —
ему так «удачно» прилетело в переносицу,
что оба глаза надёжно заплыли кровью —
что-то жалостно бубнил,
отдам долг шмотками, мол,
совал свой ремень из настоящей кожи
в качестве аванса за то,
что забрал себе неделю назад.
— Алик, Алик… Как ты мог? Я ж тебе верил!
Да ладно, свои люди, решим как-нибудь… —
бормотал Степанов, стараясь не смотреть
в исчерна-кровавые гамидовские зрачки,
переполненные бедой, болью и скрытым отчаянием.
Он боялся увидать там скорое будущее Алика,
которое с такими-то долгами всем и каждому
представлялось весьма малоприятным.
Где-то позади, в тёмной глубине коридора,
он увидел смутно белеющее лицо Татьяны.
Запоздалая догадка поразила Степанова —
наверняка этот свой огромный синячище
она получила от мужа из-за него, дурака,
попрекнув хмельного Гама
бессовестным предательством.
Он хотел ей сказать при встрече
пару добрых тёплых слов,
но дороги их так и разошлись навсегда.
Говорили, что вскоре она развелась с мужем.
Степанову хотелось верить, что это так.
Через месяц талоны в столовку закончились,
Степанов уехал в очередной стройотряд,
всё реже вспоминая это сытое время.
Мясокомбинат вспоминался ему с тёплой грустью —
именно после истории с Гамидовым
Степанов отчего-то наивно уверовал,
что зло всегда будет неотвратимо наказано.
Надо было только немножечко потерпеть, да?
Яростный стройотряд
Степанов жил в кабине автокрана уже пятые сутки.
Вообще-то у японского TADANO было две кабины,
нижняя водительская и верхняя для крановых работ,
но проникнуть кабину водителя Степанов не смог,
а ломать замок японской чудо-техники не хотелось,
пришлось ему залезать на кран и спать в кабинке —
а иного выхода у Степанова тогда просто не было.
Посёлок Святогорье, где работал их стройотряд,
стоял посреди тайги в тридцати километрах
от оживлённой трассы Хабаровск-Владивосток.
Тогда, в восемьдесят четвёртом году,
была здесь никем не пуганная глухомань,
студентов местные вообще увидали впервые,
долгое время считали приезжих «химиками» —
зеками, отбывающими трудовое наказание.
Кто ж по своей воле поедет в такие места?
Посёлок был так себе, одно название, что горы,
ни молодёжи, ни развлечений не имелось,

за коровниками бесхозно и бурно росла конопля,
которую Степанов с товарищем по несчастью —
они с Игорем Запарацким приехали квартирьерами —
ободрали в первый же вечер и оприходовали.
Ещё была речка в получасе ходьбы от вагончика,
мошка и комары в невероятном количестве
да недостроенные блочные домики на две семьи,
которые им предстояло доводить до ума.
Пропив все деньги в первые же три дня
в надежде на скорый приезд стройотряда,
квартирьеры приуныли — заселение задерживалось,
что-то не срасталось с пропусками в погранзону,
поэтому им пришлось ещё неделю жить впроголодь,
Запарацкий охотился с луком на загулявших кур,
Степанов тырил по огородам молодую картошку,
обоих поймали, отругали, пришлось идти в батраки —
пилили-кололи бабулькам дрова за еду и выпивку,
строили навес над будущей столовой и вяло ругались.
Потом наконец-то приехал их стройотряд,
начались трудовые будни — принимали бетон,
который им возили с растворно-бетонного узла
на самосвалах по гравийке за сорок километров —
частенько в пути случалась какая-нибудь заминка,
в жару бетон приходил уже затвердевшим,
тогда Степанов лез на борт и долбил его ломом,
потом затирал раствор в опалубке, делал стяжку —
ещё после восьмого класса он попал на стройку,
подрабатывал у родного деда плотником,
поэтому дело своё знал туго и не понаслышке.
Как-то раз бригадир послал его в управление,
которое находилось недалеко от райцентра,
Степанов решил вопрос, но попуток назад не было.
Тогда он остановил какой-то знакомый самосвал,
но свободного места в кабине не оказалось,
Степанов залез босыми ногами в жидкий бетон,
так и ехал километров тридцать, стоя в кузове,
гравий тыкался ему в голень, как будто рыба,
а бетон становился всё гуще, плотнее, твёрже…
Бригада у них была небольшая — двенадцать ребят,
ему, как самому молодому, достался затир,
верхонок не хватало, пальцы болели и кровоточили,
ещё много лет потом люди с уважением смотрели
на его сбитые костяшки, спрашивая: «Каратэ?»
В моде тогда был Цой и видео с Брюсом Ли —
конечно, Степанов важно кивал головой: «Каратэ!»
Ещё полсотни студенток были на отделочных работах,
девчонки малярили-штукатурили внутри домиков.
Выяснилось, что неподалёку работают волгоградцы,
тоже студенты — полсотни мужиков и одна повариха,
возникло неудержимое влечение полов,
которое решили реализовать на День строителя,
организовав совместный пикник на природе.
День выдался невероятно жаркий и солнечный,
тёплая водка на свежем воздухе сделала своё,
Степанов возился с магнитофоном и усилителем,
потом выпил с устатку и неожиданно сомлел в тени,
а когда проснулся, то долго не понимал,
плакать ему или смеяться —
роща была полна пьяных голых совокупляющихся тел,
полуживые от жары рычащие студенты,
полумёртвые визжащие студентки под ними —
Боже, какой это был бы сюжет для Тинто Брасса!
Благовоспитанный Степанов в ужасе смотрел,
что вытворяют его пьяные в драбадан сограждане,
ползающие на карачках посреди поляны,
блюющие, стонущие, похожие на зомби,
он думал, что ему всё это только снится — увы.
Его знакомая, с виду вполне приличная девица,
вдруг подползла к нему, нехорошо улыбаясь,
зачем-то начала целоваться, полезла ему в штаны,
он не знал, что с ней делать, она заплакала…
Кое-как немногим трезвым удалось собрать
всю эту компанию алчных адептов промискуитета
в заранее приготовленные для этого автобусы,
однако в дороге налетел ураган, засверкали молнии,
половина влюблённых пар осталась в Святогорье,
другая половина помчалась в лагерь волгоградцев,
все койки в вагончике Степанова оказались заняты,
он вздохнул, запасся чем мог и ушёл жить в кран,
оставленный строителями неподалёку от их вагончика.
Едва он влез в кабину, как ударил страшный ливень,
который шёл целых пять суток без перерыва…
Иногда Степанов слезал с крана на грешную землю,
бродил по домикам, искал, чем бы поживиться,
денег не было, строители пережидали тайфун дома,
волгоградские казановы тоже вскоре оголодали,
одной любовью сыт не будешь — взломали кухню,
урча, сожрали чёрствый хлеб с маргарином,
сварили ведро слипшихся серых макарон —
на этом продукты закончились, а вот ливень нет.
Но всё на свете когда-нибудь проходит…
Тайфун испарился, лето спешило на выход,
в один прекрасный день Степанов с бригадиром
поехали в строительное управление за расчётом,
долго ругались и спорили с матёрым прорабом,
потом наконец-то получили расчёт деньгами,
весело пили у прораба дома весь вечер мировую,
утром проснулись — а денег-то нигде и нет.
Бригадир Ширвани, чеченский борец-классик,
объявил прорабу кирдык и начал искать нож поострее,
обыскали весь дом — никакого результата.
Заявлять в местную милицию никакого смысла не было,
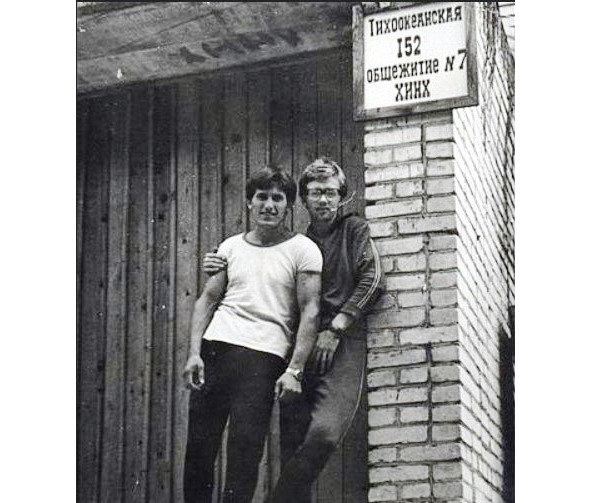
Ширвани отправил Степанова с попуткой в лагерь,
сунул тому в кабину под ноги пустую молочную флягу —
когда-то брали молоко и обещали вернуть колхозу тару,
Степанов просидел на ней весь давешний пьяный вечер,
поскольку мебели в апартаментах прораба было мало.
Попутка высадила его почти у самого Святогорья.
Степанов, обросший за лето густой рыжей бородой,
одетый в вылинявшие рабочие штаны, разбитые кеды
и выгоревшую на солнце от пота клетчатую рубашку,
был очень похож в то время на молодого Олега Куваева,
«Территорию» которого прочитал через пару лет.
Он присел на флягу — идти в лагерь не хотелось.
Столько каторжного труда было потрачено впустую,
сколько планов и надежд отныне пошло прахом —
за лето он заработал четыреста шестьдесят рублей,
их хватило бы на четыре пары джинсов «Супер Райфл»!
Степанов докурил, встал, закинул флягу на плечо —
и тут внутри неё что-то явственно прошуршало.
Опустил флягу на землю — и снова что-то услышал.
Он открыл защёлку на крышке и заглянул внутрь —
так и есть, в обычной авоське лежали рублёвые пачки.
Это была их зарплата, целая и невредимая.
А вот каким образом деньги оказались внутри фляги,
так и осталось навсегда страшной тайной…
Белый бетон, или Яростный стройотряд-2
Не так давно Степанов,
гордившийся своей отменной памятью,
обнаружил в ней первый серьёзный провал.
Речь шла о самосвале с бетоном.
Летом восемьдесят четвёртого года
Степанову довелось работать в стройотряде
на строительстве двухквартирных домов
в таёжном посёлке Святогорье.
Жидкий бетон туда привозили на самосвалах,
сливали в большую квадратную ёмкость,
называвшуюся в народе «короб на санях»,
а уже оттуда Степанов сотоварищи носилками
растаскивали его по всей территории стройки.
В основном из бетона делали тротуары —
так называемые отмостки вдоль стен домов.
Вода, цемент и гравий за час езды по грунтовке
иногда успевали затвердеть до такой степени,
что бетон приходилось откалывать в кузове ломами,
и тогда приёмка раствора превращалась в ад —
попробуй-ка помаши на июльской жаре
длинным десятикилограммовым копьём.
И вот однажды в самом конце рабочего дня
по странному стечению обстоятельств
пришёл самосвал с невиданным чудом —
бетоном марки «снег»,
для изготовления которого шёл мельчайший песок.
Что там случилось на растворо-бетонном узле,
так и осталось навеки загадкой,
суть драмы была в том,
что весь этот шикарный бетон
оказался в Святогорье совсем лишним —
укладывать его было уже просто некуда.
Бедолага-водитель чуть не плакал —
бетон в кузове схватывался прямо на глазах,
всё решали минуты.
Выгружать бетон в кювет или на чей-то двор
было категорически запрещено,
тайное всегда становится явным,
а в те андроповские времена за такие шуточки
с государственным имуществом
запросто сажали в тюрьму.
И тогда Степанов велел водителю поднимать кузов,
надо было хотя бы выгрузить бетон в короб на санях.
Он прекрасно помнил,
как обрушивались в короб тяжёлые пласты бетона,
такого белого, чистого, яркого, что резало глаза,
помнил, как из последних сил поднимал лом,
и стальное эхо удара в кузов отдавалось в его ушах,
помнил, как стонал и рычал от боли в мышцах,
а вот дальше почему-то не помнил ничего…
Куда потом делся бетон, Степанов запамятовал.
Он уже начал даже сомневаться — «а был ли мальчик?»
В его мозгу, безнадёжно испорченном идеями Таврова,
возникла вдруг странная ассоциация,
бетон очень напоминал человеческий опыт,
составляющие его песок, вода и цемент были знаниями,
которые со временем превращались в нечто такое,
что могло бы наполнить любую форму,
воплотиться в нечто важное и нужное людям —
в конструкции зданий и мостов,
в прекрасные памятники,
в трассы и магистрали.
Но если немного запоздать
с формализацией человеческого опыта,
то он станет закостеневшим и никому не нужным,
осознание невостребованности погубит человека,
жизнь которого станет отныне напрасной и постылой —
зачем нужен самосвал с грузом застывшего бетона?
Может быть, это видение о выгрузке
было послано Степанову откуда-то свыше,
как некое предостережение или напоминание —
спеши реализовать свой опыт, свои возможности,
не то твой высококачественный бетон застынет?..
Но Степанов пошёл до конца.
Он разыскал своего однокашника,
чтобы задать тому единственный вопрос,
который измучил его за эти месяцы —
куда делся тогда проклятый белый бетон?
Всё оказалось очень просто.
На соседнем участке работал экскаватор,
за пять минут отрывший на обочине большую яму,
куда весёлые студенты быстро перекидали раствор.
А Степанов не мог этого вспомнить
по одной банальной причине —
его срочно вызвали тогда к прорабу за нарядами.
Степанов обрадовался отгадке —
а ведь он-то уже всерьёз считал, что спятил.
Пасхальное дежурство
В 1984 году в СССР насчитывалось 282 тысячи добровольных народных дружин (в составе которых действовали 40 тыс. оперативных комсомольских отрядов), 50 тыс. пунктов охраны общественного порядка и 13 млн дружинников, ежедневно на дежурство выходили до 400 тыс. человек.
В восемьдесят пятом году двадцатого века
День космонавтики совпал с пасхой,
что почему-то всех невероятно обрадовало.
То ли Гагарин воспринимался как мессия,
то ли объединял их с Иисусом Христом тот факт,
что оба вознеслись на небеса —
оставалось только гадать.
Степанов столь сложными размышлениями
в ту далёкую пору как-то совсем не заморачивался,
жил спокойно, учился, отрывался,
и даже представить себе не мог,
что появившийся в марте говорливый генсек
вскорости устроит в стране такой кордебалет,
что слабо никому не покажется.
Пока же всех вокруг радовало только одно —
закончилось наконец-то время сплошных похорон.
Перед самым праздником Степанова сотоварищи
вызвали в деканат, где предупредили о том,
что студенческому оперотряду института
выпала высокая честь отдежурить в церкви
в момент празднования верующими Пасхи.
Прошла суббота, к вечеру солнце скатилось в Китай,
дунул свежий холодный ветерок с Амура.
Закупив в магазине на вечер побольше вина,
они завалились всей гурьбой в райком комсомола
получать последний инструктаж.
— Вам, студенческому оперативному отряду,
поручено сегодня до утра охранять верующих,
чтобы все эти пережитки прошлого,
одурманенные религиозной демагогией,
смогли спокойно отпраздновать в своей церкви Пасху.
Задача проста — надо будет встать цепью в периметре,
пресекая правонарушения несознательных граждан,
и в таком режиме вам предстоит
продержаться любою ценой до утра.
Ну, примерно так же, как в картине «Вий»
известный киноактёр Леонид Куравлёв, ха-ха…
Степанов с друзьями оценили юмор, весело поржали,
потом не спеша выдвинулись к деревянной церкви,
стоявшей посреди заросшего кустами
так называемого «частного сектора»,
открыли ворота и шумно завалились в притвор.
Навстречу им вышел батюшка, отец Владимир,
высокий, строгий, совсем не старый ещё мужчина,
приходивший иногда поиграть в мини-футбол
на известную всем площадку за политехом.
— Сколько будет вас, ребятки? — спросил батюшка.
Услышав в ответ «тринадцать», он слегка побледнел,
потом мелко перекрестился и молча ушёл в храм.
Оперотрядовцы, немного осмелев, накатили вина,
сходили посмотреть, как красиво горят свечи.
Стемнело, начал потихоньку накрапывать дождик,
в периметр повалил народ, все трезвые, разодетые.
Степанов зашёл в бревенчатый молитвенный дом,
подивился тому, как внутри уютно и тепло.
Благообразный старичок вёл мирный диспут
с однокурсниками Степанова — охмурял, конечно,
но юных атеистов, которых в тепле слегка развезло,
было, как говорится, хрен возьмёшь за полтинник.
Они горячились, цитировали Маркса и Ленина,
народ вокруг добродушно посмеивался —
все тут были словно ударены пыльным мешком,
странноватые люди, не от мира сего, слишком добрые,
совсем не похожие на обычных горожан.
Навестив припрятанный за храмом заветный рюкзак,
Степанов принял свою дозу пахучей «Чашмы»,
посмеялся тому, как борец Магомед топчется,
сгорая от любопытства, у дверей храма,
боясь гнева Бога — то ли своего, то ли православного.
Наконец наступила полночь, ударили в колокола,
пьяненькие оперотрядовцы разбрелись по местам,
Начался крестный ход, вынесли образа,
вышел народ, пряча свечи от ветра в ладонях.
На священнике засияла огнём золотая риза,
вырос и окреп хор голосов, люди нестройно запели,
крестный ход начал неспешный размеренный шаг,
мимо студентов, превратившихся в немые столбы.
Лишь только процессия завернула за угол,
послышался страшный раскат грома,
ветер сыпанул песком и пылью в глаза,
небо словно ощерило злобную пасть —
оперотрядовцы вмиг протрезвели,
волосы у Степанова встали на голове дыбом,
он почувствовал неприятную дрожь в ногах,
адский холод внутри и мороз по спине.
Казалось, всё, аут, финита ля комедия —
люди пропали в неведомой мгле,
время остановилось, стрелки часов замерли,
тьма вокруг наполнена диким ужасным гневом,
чудилось, будто Китеж встаёт из озёрных глубин,
мертвецы выходят из могил, завывая…
Но свет, слабый, неровный, вдруг появился из-за угла,
человеческое пение достигло слуха Степанова,
и он обрадовался было возрождению мира,
но увы — всё это случилось совсем ненадолго,
после второго исчезновения крестного хода за храмом
ветер ударил им в лица с новой яростной силой,
с неба полетели редкие крупные капли дождя.
В третий раз они услышали грозное пение,
потом ударила белая молния, загремел гром,
стоять в оцеплении не было больше сил,
вина в рюкзаке уже не осталось,
Степанов устал и промок, он шатался,
странная судорога сводила его пальцы в щепоть,
ему стало страшно, он взглянул на соседа —
битломан и эстет Коленька пал на колени,
крестясь так, будто за ним гонится чёрт.
На заднем дворе мелькали какие-то странные тени,
кто-то лез снаружи через высокий чёрный забор,
в студентов полетели камни, пустые бутылки.
Степанов помнил драку, милицию, ливень стеной…
Потом было долгожданное сизое утро,
их довезли в «бобиках» прямо к общаге,
где все они попадали спать, где и как попало.
…Через месяц генсек объявил в стране Перестройку,
начались всевозможные «ускорения»,
приняли указ о запрете торговли алкоголем,
летом Степанов слетал на практику в Петропавловск,
потом прошёл военные сборы и стал лейтенантом,
отбарабанил четыре зимних месяца
на преддипломной практике в Перми,
через год получил заветный синий диплом,
значок в виде ромбика, который тут же потерял,
а его знакомых легко раскидала по стране судьба.
Но тогда Степанову было совсем не до учёбы,
в начале мая он неделю провалялся в больнице,
после драки в церкви из почки вышел камень,
застрявший в мочеточнике на долгих шесть лет,
Степанов ездил с этим неудобством по стране,
то и дело тут и там его настигали почечные колики,
от которых не хотелось больше жить,
но потом наступало утро, боль уходила,
а юный дурак Степанов снова летел куда-нибудь
«за туманом и за запахом тайги»…
А может быть, вся эта история с камнем
случилась именно потому,
что в ту страшную пасхальную ночь
он — единственный из всех —
так и не склонил головы перед Богом?..
Туфта
История эта случилась со Степановым
зимой восемьдесят шестого
в заваленной снегом по самые окна Перми,
во время преддипломной практики,
которую проходил он в «Запууралглавснабе»,
учреждении, чьё грозное загадочное название
напоминало имена древних персидских царей,
а на самом деле расшифровывалось как
«Западно-Уральское Главное территориальное
Управление Государственного комитета СССР
по материально-техническому снабжению».
Управление располагалось на Орджоникидзе, 15.
Особняк в стиле сталинского ампира
со львами у парадного входа,
построенный пленными немцами,
стоял почти на самом берегу Камы.
Многоярусные люстры, паркет,
огромные лестницы с массивными перилами —
всё это великолепие ошарашивало,
опьяняло почище бутылки шампанского,

выпитой махом на голодный желудок.
Но протекала в этом заведении
самая обычная канцелярская жизнь,
которой жил ещё знаменитый «Геркулес»,
дотошно описанный Ильфом и Петровым
в знаменитом романе про Остапа Бендера.
Всю зиму в «Запууралглавснабе»
принимали заявки на будущий год,
сводили их и отсылали в Москву,
осенью получали из Госснаба «фонды»
и распределяли их по заявителям.
Соотношение запросов и ответов
было стабильным — десять к одному.
Заявки всегда завышались,
а разнарядки беспощадно урезались.
Всё распределялось только сверху,
закупка на стороне возбранялась,
везде царил тотальный дефицит,
столы были завалены прошениями,
высокие пороги оббиты просителями,
но вытрясти всё необходимое из Госснаба
было таким же безуспешным делом,
как раскачивать огромную яблоню
для падения недозрелых яблок.
Описывать страну, которой больше нет,
дело чертовски неблагодарное.
Неизбежно приходится то удлинять строки,
то давать пояснения сухим канцелярским языком,
и вообще чувствовать себя чем-то обязанным…
Куратор практики, патриарх лет восьмидесяти,
лично знакомый с самим Л.И.Брежневым,
доживавший век в должности начальника отдела
по внедрению новых форм снабжения,
щедро поделился со студентами воспоминаниями,
милые дамы-сотрудницы незамедлительно
снабдили Степанова и его напарника Лёшку
«дубовиком», то есть черновиком диплома,
любезно оставленным для потомков
предыдущими практикантами,
оставалось переписать и вставить свежие цитаты
из материалов последних пленумов ЦК КПСС —
словом, преддипломная практика
обещала стать для Степанова с Лёшкой
прекрасным и удивительным временем.
Вдобавок им сразу же предложили
все четыре месяца преддипломной практики
поработать на полставки инженерами
в местном «Запуралкомплектоборудовании».
Вот ведь какие были названия тогда,
они всё говорили читающему их,
не то что нынешние «Эльдорадо»
или, прости Господи, какой-нибудь ООО «Тритон».
Хлебом торговали в «Хлебе»,
тканями — не поверите! — в «Тканях»,
а часами — сами понимаете где.
В ту зиму Пермь завалило снегом так,
что транспорт по утрам еле ходил,
на работу приходилось добираться пешком.
Они жили далековато от управления,
под окнами общежития был огромный овраг,
за оврагом — знаменитая Мотовилиха,
а над оврагом возвышался лыжный трамплин,
где по выходным шли тренировки,
за которыми практиканты наблюдали из окна,
шумно прихлёбывая по утрам жиденький чаёк
под шлягер сезона — песню Малежика
про леденцового лилипутика,
имевшего склонность лизать лиловый леденец.
Шестьдесят рублей в месяц во все времена
были для студента деньгами немалыми
и на дороге совсем не валялись,
опять же Степанов рассчитывал
получить навык реальной работы
по своей грядущей специальности,
а потому они с Лёшкой сразу же помчались
устраиваться на новую работу.
И откуда было знать тогда Степанову,
что именно там, в пыльной комнатке
«Запуралкомплектооборудования»,
буквально через пару месяцев
окончательно рухнет его искренняя святая вера
в светлое будущее человечества.
Юношей немедленно усадили за столы,
дабы срочно свести воедино данные
только что закончившейся на Урале
переписи неустановленного оборудования.
О компьютерах тогда и не слыхивали,
в ходу кое-где внедрялись ЭВМ —
электронно-вычислительные машины
с таинственными дырчатыми перфокартами,
но эти машины были огромных размеров,
калькуляторы считались фантастикой,
вся страна щёлкала костяшками на счётах.
Руководил процессом старший инженер,
благостный белобрысый мужичок,
удмурт по национальности,
носивший весёлую фамилию Ананьин,
которую сам он писал через «А»,
произнося почему-то через «О».
С виду дядька мирный и добродушный,
он впился в студентов как клещ,
заставляя пересчитывать вручную по много раз
данные огромных «портянок» -ведомостей,
присланных со всех заводов и строек.
Шли дни, пробежал месяц,
не за горами была коллегия «Запууралглавснаба»,
наконец-то родилась искомая конечная сумма.
Ананьин лично напечатал справку,
зачем-то подул на неё, перекрестил,
торжественно улыбнулся и воспарил к руководству,
откуда примчался менее, чем через полчаса
с таким видом, словно за ним гнался сам чёрт.
— Пересчитывайте! Срочно! —
выпучив мутные от ужаса глаза,
с ходу заорал он на практикантов,
и они снова начали ворочать
огромные альбомы с подшитыми отчётами.
Новая цифра получилась гораздо больше первой —
явно кто-то из них немного ошибся.
Ананьин перепроверил её,
обхватил голову руками и чуть было не заплакал.
Практиканты ничего не понимали.
и это злило их больше всего.
Лёшка, тренировавшийся как бегун-спринтер,
имел соответствующий виду спорта
нервный характер,
его психика не выдержала,
он пригрозил Ананьину кулачной расправой,
тот испугался, запаниковал,
организовал из сейфа бутылку водки,
напился с пары рюмок в хлам
и выдал студентам страшную тайну:
новые данные их подсчётов
ещё больше не вписывались
в заказанную свыше тенденцию!
Если в позапрошлом году на складах
пылилось оборудования на два с половиной миллиона,
а в прошлом — уже на три,
то сегодняшняя цифра в семь миллионов
уже криком кричала о том,
что на Западном Урале царит бардак,
о том, что мёртвым грузом оседают там
громадные государственные деньги.
На следующее утро Ананьин,
похмельный, злой и взъерошенный,
принял наконец трудное решение.
Он отпечатал новую справку,
в которой вместо семи миллионов
стояли всего-навсего три с половиной,
и вернулся через пять минут с радостной вестью о том,
что великая задача наконец-то выполнена.
Степанов посмотрел-посмотрел на то,
как ликуют Лёшка с Ананьиным,
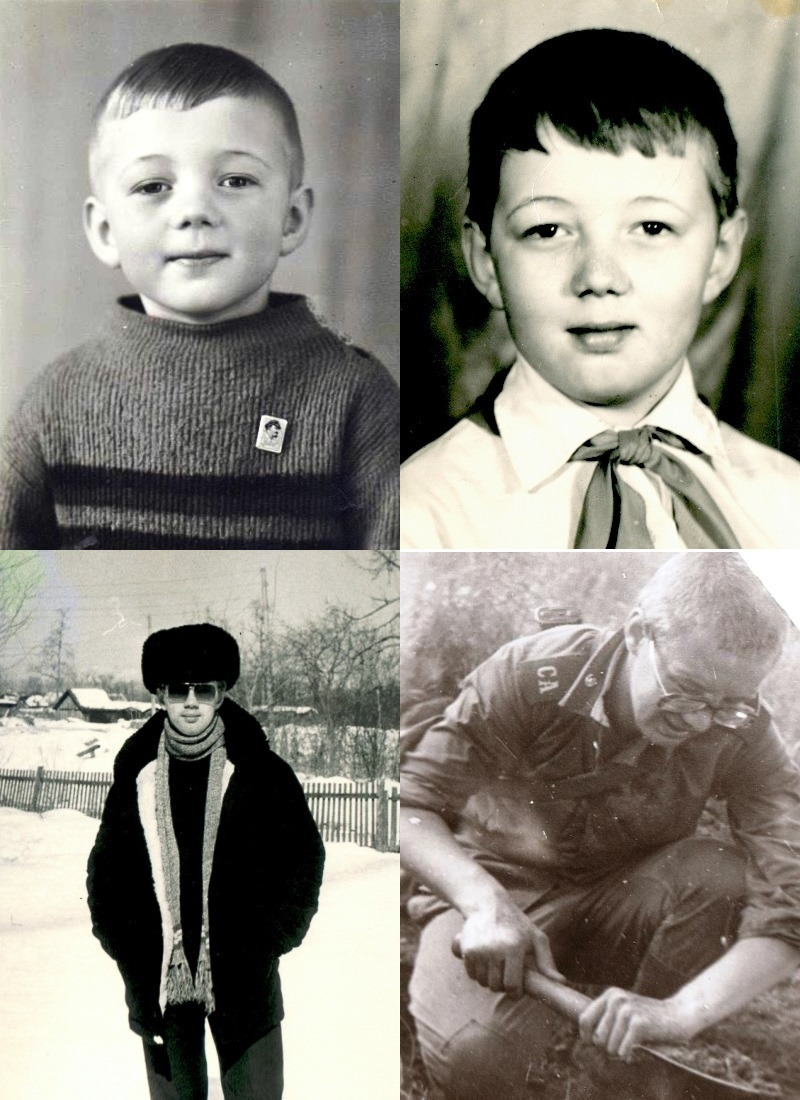
как накрывают стол с закусками,
потом нашёл предлог смыться,
долго в смятении ходил вдоль берега Камы,
где ноги сами занесли его в зоопарк.
Зимний зоопарк в любом городе —
всегда зрелище несколько странное,
и пермский исключением не был —
спал на снегу грязный старый верблюд,
ворчал из угла недовольный медведь,
бегали туда-сюда молчаливые волки.
В душе Степанова было пусто.
Нет, не противно, не пакостно,
а именно пусто, холодно и темно.
Ему было глубоко наплевать
на все эти кунштюки с цифрами,
поскольку не первый год жил он в Стране Великой Туфты,
повидал многое и был уверен,
что всё это бл*дство навсегда,
потому что мир таков, каков есть,
и другой наша страна никогда не будет,
коммунизма из-за всеобщего вранья
нам точно никогда не видать,
и ничего в этом порядке вещей
уже вряд ли можно будет изменить.
Господи, как же он был прав —
но как же сильно он тогда ошибался…
Закавыка была вот ещё в чём.
Преподаватели учебных заведений,
по большинству люди прогрессивные,
тайно пропитывали желающих учиться
некоторой толикой свободомыслия,
давали перепечатки статей разных экономистов,
организовывали на семинарах дискуссии.
Руководителем практики у Степанова
был заведующий кафедрой снабжения,
невероятно толковый дядька Михаил Михайлович,
он предлагал Степанову аспирантуру,
умело разжигал в нём интерес к науке.
Поэтому туфта, конечно, была для Степанова
серьёзным ударом ниже ватерлинии —
оказывалось, что расчётные данные
лучших учёных-экономистов страны
основывались чёрт знает на чём,
на всеобщем и полном очковтирательстве,
на выдумках ананьиных иже с ними,
а на самом деле поезд давно был в огне,
и тогда, в 86-м, на берегу Камы
Степанов впервые явственно услышал
гибельный скрежет шпангоутов
слепо летящего на рифы корабля великой империи.
Предстоявшее распределение
радости никакой ему не доставляло,
хотя мест было в избытке,
на заводах, в управлениях, на базах
требовалась молодая кровушка,
но он пребывал в полном раздрае —
Степанову предлагали аспирантуру,
обещали офицерскую карьеру, должность начфина,
но всё это было не то, не его…
Он уже собирался было уйти из зоопарка,
но хитрый пьяненький сторож
вдруг предложил ему посмотреть обезьян —
на зиму их запирали в тёплом бараке,
посреди которого был выгорожен проход.
«Не пожалеете!» — шептал сторож так,
словно речь шла о чём-то запретном,
тайном, невиданном и сладострастном,
и Степанов послушно вошёл в тамбур.
Боже ты мой, какая жуткая вонь
ударила ему с ходу в нос,
какие крики оглушили его!
Макаки метались, словно бешеные,
они орали, разевая огромные рты,
в их крике было нечто такое,
от чего Степанову стало не по себе.
Орангутан, горилла и кто-то чёрный,
неподвижно сидевший во тени,
смотрели на него с дикой ненавистью,
и что уж им такого привиделось в нём —
Степанов даже представить себе не мог.
Он прошёл через обезьянник к выходу,
дёрнул дверь, думая, что выходит на воздух —
но нет, там оказалось ещё одно помещение
с проходом, отгороженным сетками,
тёмное, но чистое и прохладное,
однако эти чистота и прохлада показались ему
какими-то странными, живыми, но явно нечелове…
— Аааа!!! — заорал он не своим голосом,
когда в десяти сантиметрах от него
ударилась о стекло голова крупной змеи,
разевавшей свою ядовитую пасть.
Так вот почему неистовствовали обезьяны —
это был виварий, где держали змей,
которых макаки люто ненавидят,
рептилий было тут так удивительно много,
что хотелось бежать отсюда со всех ног.
Как ошпаренный, выскочил Степанов
из вивария наружу, и проказник-сторож
издали весело помахал ему рукой:
«Понравилось? Ещё приходите!»
«Нафиг-нафиг!» — дрожа, пробормотал
несговорчивыми губами Степанов, и был таков.
Через месяц ему предложили место
в Главном управлении, в доме со львами,
что по тем невесёлым временам
было просто немыслимой удачей,
но Степанов отказался, отчётливо понимая,
что «крапивное семя» непременно
либо сожрёт его, либо отравит,
испугался, что станет вскоре таким же,
как угодливый и ласковый Ананьин.
Да он сопьётся от ненависти к себе,
от необходимости врать и пресмыкаться!
Поэтому он распределился в почтовый ящик,
на самый настоящий патронный завод,
строившийся тогда посреди тайги,
выбрал себе суматошную стезю
рядового бедолаги-снабженца,
грузил-возил свои баллоны, бочки и ящики,
летал и колесил по всей стране.
По крайней мере, это было живое дело.
Спринтер Лёшка, тот, наоборот,
с радостью согласился остаться,
и хотя в Главное управление на Орджоникидзе
его так и не позвали — не проявил себя,
то вернулся он после защиты диплома
в ставшее родным «Запуралкомплектооборудование»
подсиживать своего начальника Ананьина,
отработал там за столом все эти годы,
и если бы не «Одноклассники»,
они б со Степановым никогда и не нашлись.
Говорит, что всё у него хорошо.
А вот обезьянок почему-то до сих пор жалко.
Дипломник
Степанов написал пять дипломных работ.
Свою — в Перми на преддипломной практике,
остальные четыре сотворил от нечего делать
в комнате студенческого общежития,
куда вернулся в апреле восемьдесят шестого.
Поработать для безалаберных приятелей
в роли литнегра было легко и даже приятно —
до обеда Степанов вдохновенно ваял нечто
о заготконторе, вторсырье или о нефтебазе,
а после сытного обеда приятно ужинал —
и всё за счёт обделённых писучестью друзей.
Тему своего диплома выбирать долго не пришлось,
к нему сама подошла заместитель декана Саенко,
предложила написать диплом про новшества,
робко пробивавшиеся тогда в экономике.
Диплом в те времена писали шариковой ручкой,
вставляя текст в специальную рамочку —
для того, чтоб всё было ровно и красиво.
Никакой отсебятины не требовалось,
подтвердить веяние времени, только и всего.
Потом оставалось дождаться очередного пленума,
вставить в текст парочку свежих цитат,
отнести диплом на рецензию указанному лицу,
дождаться его лихого росчерка,
сдать свой труд в деканат секретарю —
и вуаля, институт был практически закончен.
Так Степанов стал настоящим дипломником,
втайне то и дело радостно пробуя на вкус
это долгожданное и удивительное слово,
открывавшее наконец-то двери в светлое будущее.
Вот только зря строил он свои грандиозные планы…
В конце апреля Степанов отпросился в деканате
от участия в городской демонстрации
под каким-то благовидным предлогом,
чтобы увезти будущую жену свою в Амурск
для серьёзного знакомства с родителями.
Поскольку Степанов относился к жизни
почему-то всегда крайне ответственно,
то решил жениться сразу — зачем оттягивать?
Распределение на работу после диплома
будило фантазию обилием предложений —
Степанову прочили аспирантуру,
предлагали остаться на кафедре и на практике,
звали в Советскую Армию начфином,
вербовали на Томский почтовый ящик —
словом, планов у него имелось громадьё,
оставалось сделать правильный ход,
шагнуть вперёд на полную пятку.
Майские денёчки пролетели, как один день.
Счастливый Степанов примчался на учёбу,
полный надежд и радужных планов,
но был немедленно вызван в деканат —
ректор намеревался отчислить его за пьянку.
Восемьдесят шестой год стал страшным,
поломавшим немало судеб и карьер.
«Трезвость — норма жизни!» —
провозгласил чрезмерно болтливый генсек,
в стране началась антиалкогольная кампания,
бессмысленная и беспощадная.
Ничего не понимая в случившемся,
Степанов ринулся к ректору на приём,
тот сделал вид, что они незнакомы,
однако увидал билеты на поезд,
вывел Степанова в коридор и шепнул:
— У тебя есть сутки. Решай. А иначе…
Степанов примчался в общежитие,
приятели встретили его каменными лицами.
Что-то произошло в отсутствие Степанова, но что?
Однако свет без добрых людей не обходится —
Витька-сантехник рассказал ему по старой дружбе,
что в майские праздники проходил «пьяный» рейд,
в общежитии был задержан поддавший студент,
назвавшийся зачем-то Степановым.
Шутка была глупая, что и говорить,
Степанов много лет отработал вахтёром,
в студгородке его знал каждый встречный,
но разбираться никто не стал — праздники,
преподаватели были люди случайные,
составили акт о пьянке и быстро исчезли.
Степанов нашёл по журналу имена дежуривших,
которых и вправду никогда не видел.
Это были времена, когда сотовых не было,
поэтому инфа добывалась на бегу и лично —
преподавателей пришло в тот день двое,
аспирант с кафедры вычислительных машин,
который в тот же вечер улетел в Петропавловск,
а вторая — беременная дамочка-политэкономша,
у которой начался декретный отпуск.
Как и где выманил Степанов заветный адрес,
он так и не смог потом вспомнить.
Помнил только тяжёлые двери подъезда,
высокие потолки и раскосую беременную даму,
с подозрением смотревшую на него через очки:
— Что ж вы обманываете? Это Вы и были!
Впрочем, я могу ошибаться, конечно…
Такой же светлый, стриженый, в очках.
Но голос… Нет, тот как-то дребезжал.
А у вас такой приятный баритон, даже басок.
У нас все в семье музыкой увлекаются.
Нет, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.
Степанов встал с колен и побрёл к двери.
Жизнь была закончена однозначно.
Оставалось только напиться как следует,
чтоб разнести проклятое общежитие в чертям.
— Постойте! Улыбнитесь, пожалуйста!
Нет, всё верно, я ошиблась, точно — это не вы.
Господи, у того студента, которого мы оформили,
во рту зуба вот тут, впереди слева, не было…
Утром ситуацию, как говорится, замяли.
Степанова допустили наконец-то к госэкзаменам,
он окончательно переехал жить к будущей тёще,
находиться в общежитии было противно —
те, кого он считал настоящими друзьями,
оказались обычными мерзавцами.
Он догадывался, кто мог назваться его именем.
Но эти-то, другие, они почему промолчали?
Получив долгожданные диплом и значок,
на банкет Степанов не пошёл, хотя звали.
Опасался заехать в рожу хитрому Лёхе,
тот один среди всех цыкал передним зубом,
давно дышал на Степанова ядом — гнил.
Через много лет он встретил Игоря Запарацкого,
с которым прошёл все студенческие годы,
работал бок о бок в стройотрядах,
летал на практику в Петропавловск-Камчатский,
тот лично видал ту стародавнюю подставу,
но почему-то промолчал — интересно, почему?
Бывший друг за «рюмкой чаю»
начал жевать в ответ что-то кривогубое —
мол, Степанов в молодости был больно дерзок,
понтовался, острил, нахальничал,
получал всё от жизни на шару,
да как-то не по чину и не по годам.
За то и пострадал тогда, надо понимать…
Надо быть проще, и люди к тебе потянутся.
Ну да, всё повторялось снова,
как тогда на школьных экзаменах —
единственным выходом оказался тот самый,
который он неосознанно выбрал,
сократив общение с однокурсниками до минимума.
Они все продолжали держаться вместе, но зачем?
Чтобы жить за счёт слабых, идти по головам?
Но тогда это получалась стая крыс каких-то!
Надо же, он написал им дипломные работы,
а они его за это возненавидели и наказали,
отмолчавшись в нужный момент.
Это было нормально?
Степанов молча встал из-за накрытого им стола,
потянул свою кожаную куртку со спинки стула.
Двадцать лет, двадцать долгих лет
он как-то умудрился прожить без друзей,
ничего, как-нибудь проживёт и оставшиеся.
Мысль так понравилась ему, что он захохотал.
— Э-э-э! Ты чё? — пьяно заорал однокурсник,

через пару лет пропавший навсегда.
Шептались, что партнёры по бизнесу,
не поделив какие-то акции,
утопили Запарацкого в таёжной реке на рыбалке —
по крайней мере, так рассказывали.
Степанов вспомнил, как его самого
возили однажды к проруби посреди Амура,
и — поверил.
Жизнь тогда выкидывала и не такое.
Секс Советского периода
Должен ли автор предупреждать читателя о том,
что текст его может вызвать отвращение,
паче того — больно ранить чувства читающего?
Недолго Степанов мучился над этим вопросом,
поскольку сам он справедливо считался в миру
человеком грубым и насмешливым,
хотя и старался жить по принципу
«фонарные столбы никогда не нападают первыми».
Поэтому что выросло — то выросло.
Весёлая студенческая юность Степанова
пришлась на восьмидесятые годы прошлого века,
время странное и мало кем доселе описанное —
ханжество и однообразие терпели крах,
нравы становились вольными,
юбки всё более и более короткими —
молодёжь решительно брала от жизни всё,
не сильно церемонясь насчёт строгостей
морального кодекса строителя коммунизма.
Степанов все эти годы жил на «фронтире»,
в комнате на первом этаже рядом с вахтой.
Вахта была линией фронта — тем самым местом,
где постоянно происходили кровавые побоища
между теми, кто рвался в общежитие,
и теми, кто отстаивал «цитадель порока» —
социалистическое общежитие по замыслу партии
должно было напоминать женский монастырь,
хотя монашками обитательницы общежития
как раз совсем и не являлись.
Вахтёр Степанов не понимал тогда многих вещей,
ему казалось, что если люди решили переспать,
то флаг им в руки и попутный ветер в спину.
Получалось, что он зря охраняет границу,
всячески препятствуя чужому счастью,
воссоединению, так сказать, любящих сердец!
Потом он осознал всю важность своей роли —
вахтёр гасил животный промискуитет масс,
направляя энергию секса в русло брака,
заставляя безответственных самцов
заводить крепкую советскую семью.
Советскую семью охраняло государство,
за отношениями пар бдительно следили все —
от соседей до парткома и даже профкома —
попасть в семью было всё равно, что сесть в тюрьму,
где постоянный надзор и жёсткие ограничения.
Поэтому мужчины старались «нагуляться» на воле,
а девушки знали о том, что любой секс
легко можно выдать за изнасилование —
или садись, дружок, или пожалуй под венец.
Как никогда была актуальна в то время
фраза Петрухи из фильма про белое солнце пустыни:
«Женишься, а там крокодил какой-нибудь!»
Считалось обязательным вступать в половую связь
исключительно после свадьбы,
что лишало молодых возможности
хоть немного узнать друг друга заранее.
Потому и женились, словно в омут прыгали —
а если что не так, то стерпится — слюбится, Петруха!
Хитроумные самки, одетые в сексуальные наряды,
приходили в переполненный местный ресторан,
заказывая самый минимум — салат да винцо,
томно танцевали под популярную музыку
с подвыпившими щедрыми самцами,

обещая всем своим видом неземную любовь.
Выпив и закусив за счёт танцующих с ними,
девушки устраивали обычное «динамо»,
поскорее убегая в родное общежитие
под защиту толстых стен и крепких кулаков.
Обманутые граждане долго стучали в двери,
воинственно требуя «продолжения банкета» —
кому приятно уходить ни с чем, понимая,
что тебя развели как последнего лоха?
Наивные красавицы забывали, что мир тесен,
вскоре снова шли «потанцевать и развлечься»,
но «потерпевшие» были теперь уже начеку —
иногда всё заканчивалось групповым изнасилованием,
но чаще всего знакомством и свадьбой.
Как-то раз Степанова позвали на помолвку,
происходившую в общежитии напротив,
там жили студенты автомобильного факультета —
мероприятие подгадали к Восьмому марта,
девушек на факультете училось всего двое,
а при таком раскладе женский праздник
выглядит практически настоящей свадьбой,
где все гости почему-то одного мужского пола.
Сам Степанов когда-то мечтал стать инженером,
поэтому тепло относился к студентам политеха,
а с женихом Серёжкой был знаком давно —
вместе гоняли мяч в коробке за оврагом,
однажды Степанов крепко выручил знакомца,
переведя для того за шесть литров пива
огромный топик по двигателям внутреннего сгорания,
в которых сам не понимал ни бельмеса —
а надо сказать, что такие подвиги редко забываются.
После застолья началась дискотека,
уставший после ночной смены Степанов раскис,
сомлел и решил прикорнуть в чужой комнате,
которую жених Серёга от греха закрывал на ключ —
в общежитии ожидалась проверка из деканата.
Степанов застелил чистую простыню,
покурил, разделся, залез под одеяло —
в общаге он научился засыпать мгновенно.
Сквозь сон он слышал крики, кто-то тряс кровать,
на Степанова падало что-то большое и тяжёлое —
но разбудили его тихие голоса множества людей.
Он открыл глаза и увидал странную картину —
посредине комнаты лежала нагая невеста,
над которой суетился раскрасневшийся жених,
вокруг на кроватях сидело человек десять народу,
деловито тыкавших пальцами и дававших советы.
— Ого! Групповуха? За кем буду, мужики? —
обрадовался спьяну остроум и циник Степанов.
На него зашикали, и он вдруг с ужасом понял,
что в комнате происходит нечто сюрреалистическое.
Оказалось, что к моменту прихода проверки
невеста по имени Лариса крепко надралась водки,
начала выяснять какие-то старые обиды,
после чего жених закрыл её в комнате,
в той самой, где мирно спал Степанов,
а напоследок отвесил подруге доброго леща.
Лещ пьяной девушке пошёл совсем не в прок —
вместо того, чтобы слегка протрезветь,
она жестоко обиделась на весь белый свет,
отыскала где-то моток верёвки,
чтобы повеситься на верхнем шпингалете окна —
прямо над головой храпевшего Степанова.
Между тем праздничная проверка закончилась,
в общей суматохе про Ларису как-то забыли,
а когда вспомнили, то было уже слишком поздно.
Теперь она лежала посреди комнаты,
бесстыдно и страшно раскидав руки и ноги,
Степанов подполз к ней поближе и увидал,
что лицо её изменилось почти до неузнаваемости —
смерть всегда вызывала у него странное любопытство.
Жених неумело давил Ларисе на пухлый животик,
пытаясь вернуть возлюбленную к жизни,
ему советовали сделать ей дыхание «рот-в-рот»,
Серёжа закрыл глаза и дунул что было силы —
из носа девушки хлынула буро-зелёная слизь,
зато неожиданно появился вялый пульс —
только тогда у кого-то хватило ума вызвать «скорую».
До Степанова наконец-то с трудом дошло,
что он стал невольным свидетелем суицида,
вдруг кому-то втемяшится в голову обвинять его —
всё, кому теперь и что можно доказать,
прощай, диплом — привет, колючка!
Но автомобилисты уже всё решили за него,
Степанова выперли из комнаты в одних трусах,
он, счастливый, понёсся скорее домой,
прижимая к груди скомканную одежду,
извещая всех встречных-поперечных:
— Лариска повесилась! Лариска повесилась!
Бедную Ларису спасти так и не смогли —
в мозгу начались необратимые изменения.
Её единственная однокурсница на следующий день
отравилась какими-то таблетками —
что-то у неё тоже не срослось по любовной части.
Откачать её врачи, как ни спешили, не успели.
По всему выходило, что автомеханика —
дело опасное и несовместимое с любовью.
То ли шёл по городу шквал женского суицида,
то ли просто так совпало — трудно ответить.
Но жизнь неуклонно летела дальше,
вокруг Степанова всё цвело и влюблялось,
сам он должных выводов не сделал,
позабыв о том, как опасны отношения
с девушками пубертатного периода,
о чём однажды горько пожалел и сам —
вступил в случайную связь с пьяной девицей,
а та через пару недель наложила на себя руки,
хорошо ещё, что испугалась — вовремя дурочку откачали.
Считая себя главным виновником драмы,

Степанов занял денег у друзей на апельсины,
перетрухал и собрался уже на полном серьёзе
ехать в больницу делать предложение —
в те времена половая связь с девушкой
легко становилась капканом для мужчины,
общество жестоко боролось с промискуитетом,
требуя от нарушителей немедленной расплаты.
Но пока Степанов бегал в поисках фруктов,
с ужасом отгоняя грустные и тяжкие мысли о том,
как он будет объясняться с родителями,
ему сообщили, что у девицы другая проблема —
легкомысленная, она спала с кем попало,
причём он, сельский дурачок Степанов,
в её списке оказался не самым последним,
а переклинило девушку на почве ревности
к отказавшему ей в ласках старому дружку.
Но в те времена пособий по сексологии не было,
учились этому нехитрому делу кто как мог,
психологические тонкости оставались тайной —
люди вступали в интимные связи вслепую,
совершенно не зная ничего о сексе,
а уж тем более о семейной жизни.
Это уже потом хлынуло жарким водопадом
изо всех щелей со стонами и вздохами —
от Эммануэль до американского силикона.
А до того все жили как зашоренные кони-лошади,
спросить про секс было негде, да и некого.
Так вот и жили, мучаясь, герои кинофильмов —
увести невесту у лучшего друга они ещё могли,
а вот что с нею дальше делать, явно не знали.
В девичьей тетрадке, найденной в чужом столе,
Степанов прочитал «роман» про любовь:
«Она вздохнула и потеряла сознание…
А через три месяца узнала, что беременна.»
Что там случилось между ними ночью —
так и осталось для читателя страшной тайной.
А вообще Степанову невероятно повезло.
Когда с мутного экрана старого телевизора
прозвучало знаменитое «В СССР секса нет!»,
он оказался всего-то пять дней как женат.
В тот самый день, 17 июля 1986 года,
рванула в ошеломлённой великой стране
самая настоящая сексуальная революция,
начало которой совпало с его медовым месяцем.
Так что Степанов потерял совсем немного.
Случились и в его личной жизни
простые маленькие праздники,
в которых действо происходило так же,
как в популярной некогда песенке:
«Сзади, сбоку, сверху, снизу,
На ковре и на карнизе,
На полу, на потолке и просто лежа в гамаке,
На столе, на стуле, в ванной,
И на валике диванном,
На неструганной доске
И на мелком наждаке,
На кровати, на тахте
И на газовой плите,
На скамейке, на толчке
И на мусорном бачке,
На полу, на потолке,
И даже стоя в гамаке…»
Да, всё-таки жизнь удалась.
2. ПАТРОНОВ НЕ ЖАЛКО (1986—1993)
Валенки
Унылый пейзаж дальневосточных болот
быстро приедается искушённому взору —
чёрные выгоревшие мари, рыжие сопочки,
низкорослые чахлые деревца,
тусклые свинцовые пятна мелких озёр —
Степанов с детства привык ко всему этому.
Малая родина не баловала красотами,
весной багульник, летом рыжие лилии-саранки,
осенью наводнения, зимой снега по пояс —
вот вам и все радости местной жизни.
Получив наконец-то желанный диплом,
он устроился по направлению на завод,
штамповавший оружейные патроны.
Ему невероятно повезло, должностей не было,
его взяли инженером в отдел снабжения
взамен ушедшей в декрет женщины,
Степанов занимался спецодеждой, спецобувью,
хозяйственными товарами, тканями и войлоком,
даже типографскими заказами на бланки,
ему подчинялась заведующая складом,
хитрющая мадам по имени Евдокия Степановна,
откровенно презиравшая нового инженера,
но в глаза лебезившая —
о ней шла слава наипервейшей «росомахи» завода,
которую она, собственно, чем-то и напоминала.
Что Степанов ни привозил, его ждала недостача,
ни одна его поездка за товаром на базу
ещё ни разу не увенчалась успехом,
каждое утро Евдокия Степановна со скорбным лицом
сообщала незадачливому снабженцу,
что кистей-филёнок не хватает,
а вот флейцы, те совсем пропали.
Степанов был в отчаянии — потери росли,
списывать их на цех он ещё не научился,
без хороших знакомств такое не делалось,
коллеги наблюдали за ним с лёгким злорадством,
неискренне вздыхая и посмеиваясь за спиной.
Степанов понимал, что дело тут нечисто,
он сам пересчитывал товар на базе,
сам грузил его в машину и сам выгружал —
что-то здесь явно было не так, но что?
Тогда он был ещё наивен и верил людям, а зря…
Плохо было ещё то, что обо всех его недостачах
немедленно информировали начальника отдела,
который Степанова почему-то сразу невзлюбил —
когда тот устраивался на работу,
начальник был в командировке,
и назначение страшно задело его самолюбие.
То ли начальник хотел устроить кого-то своего,
то ли почувствовал в Степанове некую угрозу,
сказать точно было весьма трудно —
худощавый лысый человек по фамилии Лимберг
был непредсказуем, неконкретен и лжив,
за что на заводе его особо не жаловали.
Пока оборонное предприятие строилось,
в его кадровой политике царил бардак,
но выпуск нормальной товарной продукции
потребовал адекватного обеспечения сырьём,
а Лимберг и Евдокия Степановна
появились здесь ещё в те времена,
когда всё заводоуправление умещалось
в маленькой панельной двухэтажке,
саму стройку комплектовали отдельно,
потребности управления были минимальными —
бочка краски, баллон кислорода, пара уголков.
Постепенно случайные люди оказывались лишними,
их должности упразднялись или перерастали хозяев.
Те уходили — со скандалами, с криками,
плодя интриги и устраивая саботаж.
Лимберга ненавидели уже только за то,
что вместо честного труда в поте лица
начальник Степанова ловчил, врал и отговаривался.
Степанов трясся в кабине ЗИЛ-130,
направляясь в Комсомольск-на-Амуре,
странный город, построенный в тридцатых годах
на берегу Амура отчаянными комсомольцами
в преддверии скорой войны с Японией —
там, на ближней окраине его,
в промзоне рядом со знаменитой Амурсталью
располагалась большая оптовая база,
на которой Степанов получал свои заказы.
Он вздохнул, потрогал большой пакет —
дамы с базы попросили его привезти
из тепличного совхоза огурцов и помидоров,
нужные отношения постепенно налаживались.
Трасса Амурск-Комсомольск-на-Амуре. Фото из архива
Его уже ждали, женщины обрадовались,
начальница поманила его в сторону и шепнула:
— Они пришли! Выписывай скорей!
Кто, кого — Степанов не раздумывал, дают-бери,
через десять минут он уже спешил к базе,
счастливый донельзя — ему выписали валенки,
которые он долго клянчил, целых двадцать пар,
на улице резко похолодало и навалило снегу,
у Степанова лежала на столе пачка заявок,
заводу требовалось пар триста, не меньше,
вопрос был на контроле у директора —
оказывается, вокруг царил тотальный дефицит,
Степанов на своей шкуре узнал теперь,
что это такое — в институте таким вещам не учили.
— Грузи осторожнее! — скомандовала кладовщица.
Степанов опешил — начальница за каким-то хреном
выписала ему какие-то бракованные унитазы
непонятной системы, с краниками в странных местах,
он бережно перетаскал все десять обрешёток,
выставил их поближе к кабине, чтоб не прыгали.
Водила примерял валенки, напевая от удовольствия,
он был тот ещё жук, с вороватыми глазёнками,
Степанов кое-как отобрал у него полученное,
ЗИЛ взревел — они успевали вернуться засветло.
По дороге он проклинал себя за уступчивость,
вот ведь дурак, взял какую-то ломаную сантехнику,
кому она сто лет нужна, такая некомплектная,
Евдокия Степановна непременно откажется принять…
Потом успокоил себя — зато выпросит ещё валенок.
Всё довезли нормально, а наутро грянул скандал —
все добытые валенки, не дожидаясь выписки,
забрал со склада бывший замдиректора Ройба,
разжалованный за большие грехи в начальники цеха,
Лимберг подписал ему — они были старыми друзьями,
Евдокия Степановна, конечно, валенки выдала.
Степанов был в шоке, коллеги хихикали —
он чувствовал себя использованным презервативом,
решил устроить начальнику истерику,
но быстро скис и решил махнуть рукой,

что поделаешь — судьба, нужно терпеть,
кто он таков сейчас, так, простой инженеришка,
жизнь бекова — все имеют его, а ему некого…
«Опять искать валенки…» — закручинился Степанов.
— Где они? — вдруг страшным голосом заревел
на него с порога маленький человек в дублёнке,
седой, с чеканным лицом, ростом почти лилипут,
из-за плеча которого испуганно выглядывал Лимберг.
Степанов подскочил, вытянулся — он догадался,
что это не кто иной, как сам директор завода Авдеев:
— Так уже всё забрали…
— Кто забрал?! Когда? Кто посмел? Кто отдал?
Степанов ткнул пальцем в ненавистное лицо,
Лимберг побелел, директор развернулся к нему:
— Опять Ройбе отдал? Ты снова за своё? Ну, хватит!
Пиши заявление и завтра же уматывай с завода!
«Ни хрена себе! Вот тебе и валенки…» —
только успел подумать Степанов,
как директор завода снова обернулся к нему:
— Привёз? Молодец! Почему сразу не доложил?
Такие вещи надо сразу мне докладывать, понял?
Ворьё! Они всё тащат, сволочи! Как фамилия?
Степанов? Отца твоего знаю. Давно работаешь?
Степанов не успевал отвечать, запинался.
В коридоре царила паника — в кои-то веки
сам директор явился в отдел снабжения,
разносит в пух и прах разгильдяя Лимберга!
Улучив момент, Степанов спросил директора:
— А может, я ещё достану? Давайте, я съезжу!
Тот махнул перчаткой, отворачиваясь —
в дверях уже маячила Евдокия Степановна,
вытиравшая ладонью лоснившиеся жиром губы,
она что ни день жарила себе картошку на сале:
— Как же так, Дуся? Не ожидал, не ожидал…
— Цело, цело всё, Иван Иннокентьевич, сейчас иду!
— Цело? Ну смотри, если врёшь! Ой, смотри!
Когда Степанов подошёл к складу,
двери того были широко раскрыты,
небольшая толпа в дублёнках переминалась там,
где он вчера выгрузил бракованную сантехнику,
начальство радостно хохотало и крякало,
поддавая ногами обрешётки с унитазами,
расталкивая народ, к нему подбежал директор:
— Ну, гер-рой! Ну, молодец! Два года ждали!..
А он р-р-раз, и привёз! Вот это парень…
Степанов догадался, что речь идёт не о валенках —
оказалось, вместе с ними он привёз на завод биде,
из-за этих сантехнических штучек уже два года
не могли сдать в эксплуатацию главный корпус,
вернее, сдали, но обязались обеспечить в срок,
который давно уже истёк.
Лимберг вечно что-то лепетал,
на базе разводили руками: «Москва не даёт!»
а Степанову, тому просто повезло, вот и всё…
Но начальство думало по-своему, иначе —
вскоре Степанов стал начальником бюро,
начал ходить вместо Лимберга на планёрки,
потом тот ушёл переводом на завод,
который собирались строить в городе Зея.
Новый начальник Степанова, пожилой дядька,
научивший его житейской мудрости,
воспитавший в нём руководителя, говорил так:
«Не надо крови, не спеши никогда менять людей,
делай себе команду из того говна, что досталось.
Воспитать коллектив, способный творить чудеса —
в этом вызов, в этом твоя главная задача, парень!»
Кстати, именно он преподал Степанову первый урок,
и касался тот именно злополучных валенок.
В один прекрасный день новый начальник
собрал все заявки от цехов завода на валенки,
пригласил инженера по технике безопасности,
и тот через неделю вынес ошеломляющий вердикт —
валенки были положены только узкому кругу лиц,
и вышло таковых — не поверите! — два десятка!
Вот, а некоторые ругают Советскую власть,
которая была далеко не дура, между прочим,
всех и каждого валенками отнюдь не баловала…
С Евдокией Степановной всё оказалось просто.
Степанов привозил товар поздно, оставлял до утра,
вечером хитрая кладовщица возвращалась с зятем,
открывала склад и брала себе всё, что вздумается —
просто из подлости — а утром возникала недостача…
Он поймал «росомаху» на горячем случайно —
засиделся как-то на работе допоздна, вот и всё.
Степанов не тронул её — дело своё она знала отменно.
Ну, само собой, кое-что притыривали водители,
через год Степанов заматерел, кое-чему научился,
обмануть его стало теперь весьма трудно,
дело порой доходило до драки,
как-то раз разъярённый его неуступчивостью шофёр
«забыл» Степанова в кузове
и вёз таким макаром километров двадцать,
не давая тому спуститься в кабину — а был январь,
но обозлённый Степанов повидал в жизни и не такое.
Ах, как горько этот шофёр сожалел о содеянном…
Кстати, именно в его кабине красовалась надпись
«Фонарные столбы никогда не нападают первыми»,
ставшая потом девизом Степанова на всю жизнь.
Добро должно быть с кулаками, безгрешных мало —
когда дело касалось воровства,
Степанов пускал в ход административный ресурс,
превращая за пару месяцев жизнь человека в ад.
Он практиковал системный подход, «жизнь по уставу»,
методичность и неуклонность его действий
напоминали автомат по штамповке патронов —
Степанов не припоминал никого,
кто не сбежал бы с завода без оглядки,
попав под безжалостные челюсти
инструкций, распоряжений и приказов.
История про биде стала легендой, удручало одно —
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
