
Бесплатный фрагмент - Окраина
В редколлегию второго альманаха «Хороший текст» вошли 350 человек. Среди них как именитые писатели, так и читатели, доказавшие своё право решать судьбу присланных в альманах текстов.
Уважаемые читатели!
Перед вами — второй выпуск альманаха «Хороший текст», изданного порталом horoshiy-text.ru.
Для отбора текстов в альманах мы применили новый, оригинальный принцип. Победители были выбраны широкой редколлегией. Её членами могли стать все желающие, прошедшие на портале квалификационный тест и тем самым доказавшие своё право судить.
Главный редактор второго выпуска, очеркист Евгения Долгинова, задала тему альманаха — «Окраина», его структуру и композицию.
По условиям конкурса принимались только ранее неопубликованные произведения. Широкая редколлегия рассматривала их анонимно, то есть без имён авторов.
Каждый текст оценивался по восьми критериям, после этого член редколлегии выносил финальное решение: рекомендовать к публикации или нет. Оценки по всем критериям, включая решение, были агрегированы с помощью математической формулы, а результат — отранжирован.
В альманах было подано около 300 рукописей, часть из них была отклонена за несоответствие условиям, в итоге редколлегия рассмотрела 195 рукописей. В альманах вошли 15 произведений с наивысшими суммарными оценками. Оценки проставило более 300 человек. Кроме того, были добавлены ещё четыре текста, которые для рубрики «Вне конкурса» выбрала главный редактор альманаха Евгения Долгинова.
Судить этот альманах, стать авторами следующих, а также поговорить на литературные темы вы можете на нашем портале «Хороший текст» (horoshiy-text.ru). Будем рады вас там видеть!
Ваш «Хороший текст»
Предлагаемый альманах трудно назвать редакторским высказыванием, каковым является любой альманах традиционной сборки. Обыкновенно редактор сам отбирает тексты, выстраивает из них некоторую композицию, думает про сочетания, сквозную идею, стилистические подходы — иными словами, режиссирует выпуск, за что и отвечает по всей строгости. Но у «Хорошего текста» другие правила игры: это была попытка «честных выборов» по итогам читательского голосования при минимальном редакторском произволе. Поэтому да, приходится, не без извинительности, повторять ещё раз: не все тексты, одобренные квалифицированными читателями, были бы отобраны редактором (мной).
Были сняты несколько текстов, прошедших в финал. У каждого из отвергнутых есть свои достоинства. Добрый и светлый, мучительно политкорректный рассказ «Бобо», прекрасно начатый, но так и не придуманный «Боммм» (автор написал завязку — и немедленно заскучал). Не думаю, что исключение из шорт-листа заслуживает каких-то больших переживаний — впереди новые конкурсы и новые голосования. И ещё несколько текстов мы поставили в рубрику «Вне конкурса» (их авторы не получат гонораров) — для полноты впечатления.
Однако общий счёт — хороший счёт. Большинство авторов верно поняли задачу, и окраина наша вышла богатой, пёстрой, прекрасно разнолицей, несколько шизофренической — от буквальных городских задворков до окраинных состояний души и жизненных маргиналий.
Радостно, что вышли вперёд лонгриды — длинное чтение, это свидетельствует о том, что электорат портала умственно не ленив.
Лучшие рассказы из прошедших по конкурсу (за небольшими исключениями) принадлежат: 1) профессиональным журналистам; 2) журналистам из регионов. Тут всё логично: владение словесными техниками и непарадное знание жизни — притом никто из них не пошёл по пути наименьшего сопротивления, — описания ландшафтных неблаговидностей, трубной вони и экологических пагуб; все вышли на метафорический уровень.
В целом у нас получилась честная окраинная Россия (даже там, где она не Россия) — нецентровая жизнь, неглобальные смыслы, непрямые послания, фоны и вторые планы… — то есть самое яркое, живое и интересное.
Спасибо всем!
Евгения Долгинова,
главный редактор альманаха
Наталья Бакирова
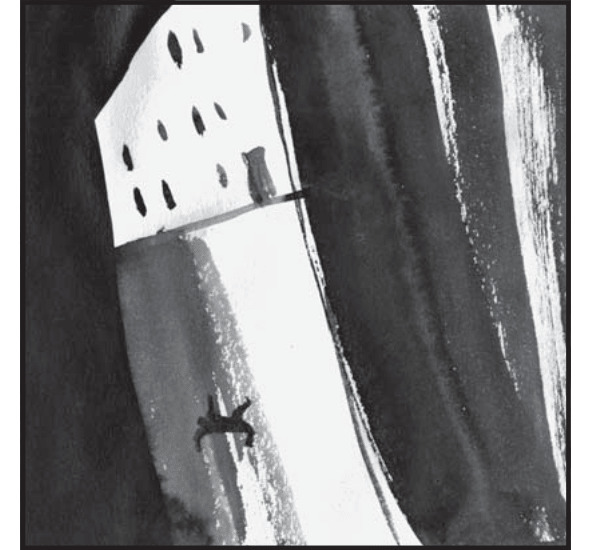
Евгения Долгинова: «У Вернера Херцога есть фильм «Фицкарральдо» — о каучуковом короле, задумавшем построить оперный театр в перуанской сельве в начале XX века. Мечта мегаломана Фицкарральдо — привезти в сельву Карузо. Мечта режиссёра Фоминой — ставить хорошие спектакли в любительском театре малого города на Северном Урале, где ей довелось оказаться. Не пасти народы, не привозить Питера Штайна, не просвещать и облагораживать, не чувства добрые… — но просто: ставить хорошие спектакли, то есть делать то, что она любит и умеет, и получать от этого своё режиссёрское удовольствие.
Профессионализм и есть — миссия; тогда и рождаются разные смыслы, влияния, культурные ветры и радиации, медленно и часто парадоксально — а иногда жестоко — преображающие окраину. И тогда получается уже вторая история: о том, как недушеприятно работает культура, о цене повышающего опыта, о плате за очарованность искусством — иногда непоправимо, убийственно высокой.
Рассказ Натальи Бакировой, журналиста и преподавателя из атомограда Заречный Свердловской области, — один из самых впечатляющих в альманахе. Она избегает броских красок, резких ходов, прямоговорения, — всё вроде бы лёгкие касания, неочевидности, импрессионистские штучки, бормотание-всплеск-бормотание, — а остаётся ощущение «Фицкарральдо» — эпического большого текста, яркого, сильного и многопланового высказывания о времени и культуре».
Всего лишь театр
1.
— Ну что, дети… С премьерой! — произнесла Фомина, и все поднялись, и чокнулись (Королевич — соком), и выпили всё до дна. Уселись, стали передавать друг другу тарелки, вилки, закуски — запорхали над столом белые салфетки, женские руки, поплыли салатницы.
Фоминой немедленно захотелось ещё рюмку, но было неприлично. Тогда она вышла в туалет, достала из сумки фляжку и глотнула оттуда.
Страшный день — премьера. Дети радуются, дурачки… Думают, это праздник, итог чего-то… А на самом-то деле не итог — конец. Труд закончен, всё, ничего нет! Ещё цветов натащили, тьфу, как будто на похороны.
Цветов, и точно, было много. Ещё букет, пока не подаренный, был в руках у Сонечки, соседки Фоминой по лестничной клетке. Прячась за ним, Сонечка вытирала глаза. Вручить цветы сразу она постеснялась: зрители хлопали, что-то кричали, лезли на сцену, с разных сторон сверкали фотовспышками… «Лучше будет, — подумала Соня, — переждать шум, да и самой успокоиться кстати, а потом пройти в репетиционную и там тихонько поздравить Римму Васильевну один на один».
То, что в репетиционной бушует застолье, ей в голову не пришло.
…
Говорили, конечно, о спектакле.
— Ты, Каримова, ложишься на мужика, как очень уставшие люди ложатся поспать…
— Да ну вас! Вы меня ещё на репетициях замучили!
Cцена секса, и правда, вызывала отдельный интерес.
— Неправильно ты, Ирина, на Сеню залазишь, — говорил Сергей Палыч. — Сейчас я тебе покажу, как надо…
— Нет! — пугался Сазонов. — Не надо ничего показывать!
Секс не должен был выглядеть как в жизни, в этом всё дело. Ну что хорошего, если двое возьмут и улягутся в кровать? В коробке сцены покажутся они со своей кроватью мелкой деталью. Поглотит их сценическое пространство. А надо — чтоб они им владели, его оживляли, чтобы их энергия наполняла всё вокруг. Поэтому Фомина придумала такую картинку: молодые люди гоняются друг за другом. Дурачатся. Потом Ирина толкает Сазонова на скамью — и почти сразу обрушивается занавес, скрывая пару, а на авансцене начинает туда-сюда дёргаться самосвал. Детская игрушка, забытая, по сценарию, сыном главного героя… Самосвалом управлял из-за кулис Вовка Маслов, чётко соблюдая хорошо ему известный ритм.
— А давайте, — предложил сейчас Вовка, — следующий спектакль по Камасутре поставим!
— Одноактный! — поддержал Сергей Палыч, и получилось, что Соня впервые вступила в этот храм искусства на взрыве хохота.
Её поразило, что они смеялись. Даже Сазонов смеялся. И это после всего!
…
Репутация Сенечки в Бельске, вообще говоря, напоминала репутацию в мирном поселении берсерка. И был стишок, частично её отражавший:
— Как-то наш Сазон воробьёв кормил.
Кинул им батон — восемь штук убил.
Сазонов ржал.
— Щас я вам расскажу про воробьёв, погодите… Первого своего воробья я убил в восемь лет.
— Из рогатки?
— Садист малолетний!
— Мы с отцом принесли его домой, ощипали, поджарили и съели.
— Там разве было что есть?
Соня, которую упихали за стол, не спросив как зовут, сидела розовая, с блестящими глазами: её почти физически подпирал источаемый Сазоновым жар.
— Так, держите все рюмки! — распорядился Маслов. — У нас тут новый человек пришёл, пусть скажет тост!
Соне хотелось сказать, что спектакль был прекрасен, что Фомина — просто подарок для Бельска, подарок незаслуженный — ведь явно же велика она этому городу — и оттого тем более ценный… Какая злая судьба занесла её сюда? — режиссёру такого класса надо работать с лучшими артистами, по всей России ездить, сотрясать гастролями театральную среду… Но от общего внимания Сонечка стушевалась, пробормотала неловко:
— Я бы хотела… за Римму Васильевну.
…
Было время, когда Фомина вела жизнь, соразмерную своему таланту. Жили они тогда в областном центре, она служила там в театре: всегда аншлаги, и билетов не достать, и постоянные гастроли. С гастролей-то и начался разлад в семье.
— Это — жизнь?! — кричал Дима. — Это — семья?! А Мишка? Какая ты мать! Ты же его почти не видишь! Я про себя молчу! Ты хоть раз в жизни ужин приготовила? Чтоб я пришёл с работы — и ужин на столе? Как любой мужик!
Когда ему предложили переехать, занять должность начальника цеха на электростанции, недавно запущенной в уральском посёлке, Дима в это предложение просто вцепился.
— Я понимаю, у тебя здесь работа и всё такое… — сказал он ей.
— Но это всего лишь театр, — добавил.
— А мы, — напомнил, — семья. Для женщины это главное. Должно быть, по крайней мере.
Каждое слово попадало в неё как пуля.
А Мишка сидел на полу и катал по рельсам игрушечный паровозик.
…
Директор местного Дворца культуры, куда Римма пришла с трудовой своей книжкой, обрадовался страшно:
— Да золотая вы моя! Мы с вами тут таких дел натворим! Мне нужен — позарез нужен, понимаете? — режиссёр массовых праздников! Вы — просто счастье мое! Всё-всё-всё, я вас оформляю! И — знаете что? Мы для вас откроем театр! Любительский, а? Вот я дурак! — хлопнул себя по лбу. — Растерялся прямо от такой встречи…
Он встал, сделавшись официальным, подошёл к ней, поклонился, чуть нагнув прямой свой полный стан. Представился:
— Кобрин, Семён Петрович. Так, что мы с вами запишем, Римма Васильевна? В приказе? Режиссёр любительского театра при Дворце культуры «Соратник»? — Кобрин поморщился. — Любят же, — пожаловался, — давать у нас дурацкие имена… Вслушайтесь: «Дворец — Соратник!» Дворец — и вдруг соратник, бред же! А люди, Римма, какие тут люди попадаются! Это же — вообще! Вчера одна заходит и заявляет мне со всей прямотой: «Здравствуйте, я — с училища…» «Чем же, — говорю, — в таком случае я могу вам помочь?»
Римма засмеялась. «Ну и пусть, — подумала, — пусть театр будет любительский. Пусть в маленьком городе. Всё-таки — театр. Сцена».
…
А потом Дима ушёл к другой.
Да потому что не было! Не было никакого Димы! Был обычный средний мужик, который после двадцати лет брака берёт и уходит к молодой. Тебе пятьдесят, а ей тридцать — и в чём его обвинять? Это естественный путь событий. А ты иди к своим слесарям, электрикам, юристам — ставь с ними, с деревяшками, Бунина. Подпирай их светом, музыкой, придумывай мизансцены, придумывай каждый жест, потому что сами они ни черта не могут… Паши девять месяцев — это ж родить можно! — чтобы спектакль шёл час. Посмотрят его человек, может, двести, больше тут не наберётся, — считай это успехом. И подыхай потом, подыхай, пока новый замысел не придёт и ты не начнёшь опять пахать, прячась от факта, что никому это здесь не надо, что давно в твоём существовании нет никакого смысла…
Просрала ты свою жизнь, Римма Васильевна.
Фомина выбралась из-за стола.
Её ухода никто не заметил: у детей начались уже танцы.
…
Огромный Вовка Маслов прижимал к себе Любу, которая в спектакле играла привидение, и неплохо играла кстати, несмотря на свою вызывающую материальность.
— Ты меня задавишь! — капризничала Люба.
— Ну, я ещё никого не задавил… — успокоил Вовка. — Ребро как-то сломал — это было.
— ?!
— Танцевал тоже с одной… Обнял покрепче — смотрю, она побелела, ни слова сказать не может. Думаю: что такое? Ребро, оказалось, сломано. Потом в больницу к ней ездил…
— И всё?! Как честный человек, ты должен был на ней жениться!
— Дак она уж была замужем.
Между танцующими ходил и улыбался Королевич, носил на стол ещё какие-то закуски, чистые стаканы.
Сын вечно занятой мамы, Королевич отдан был в своё время в круглосуточный детский сад, и бронебойная система тамошнего ухода и воспитания навсегда закрепила некоторые особенности его развития: был он молчалив, запуган, учёба у него не шла, работать он устроился сторожем. В театре Королевич ничего, конечно, не играл, но всегда был под рукой для разных мелких поручений. Фомина любила его и как-то берегла: ни разу в жизни — ни разу! — не повысила на него голос. Больше-то этим никто из детей, включая безукоризненного Сергея Палыча, не мог похвастаться.
— А ты, значит, английский преподаёшь?
Сазонов и Соня стояли на крыльце. Он вышел покурить, она — составить компанию.
— Я его так и не выучил… Скажи что-нибудь!
— You are absolutely irresistible… — пробормотала Соня, и последний звук слова Сазонов снял с её губ поцелуем.
— Я ведь правильно понял? — улыбнулся он и поцеловал Соню ещё раз.
Губы были мягкие, не настойчивые, ничего-то Сенечка не добивался, а ему просто нравилось целоваться. Недокуренную сигарету он за Сониной спиной послал в урну точным щелчком.
2.
Телефон зазвонил в два часа ночи.
— Вы, конечно, теперь столичный житель, Семён Петрович… — укорила Фомина звонившего. — Можно и не помнить, сколько у нас тут времени! Я сплю давно…
— Я хорошо помню, что у тебя сегодня премьера, — просто сказал Кобрин. Не притворяйся, мол.
— Римма, поскольку ЮНЕСКО объявило следующий год годом театра, есть решение учредить масштабный фестиваль для любительских коллективов. Крайне масштабный, крайне престижный — я даже не буду тебе говорить, каких людей мы приглашаем в жюри. Стартуем месяцев через восемь. Тема уже объявлена, и это, Римма, творчество твоего любимого драматурга. Поэтому прошу: сделай мне подарок. Поставь, наконец, ту пьесу. После твоей победы, в которой я не сомневаюсь ни секунды, тебя будут ждать лучшие театры. Слышишь? Лучшие площадки страны!
Фомина села в кровати.
Из темноты, из давно обжитой им вечности, выступил автор пьесы. Он улыбнулся Римме Васильевне. И протянул ей руку.
…
— Прошу внимания! Перестань чесаться, Сеня, мне нужна тишина. Я вам решила доверить самое дорогое, дети, — свою мечту.
Дети притихли.
— Эту пьесу я хотела поставить давным-давно, но не видела в театре подходящего состава. Теперь вижу. «Самосвал» очень вас продвинул… Всех. Особенно тебя, Ирина.
Каримова нервно улыбнулась.
— Теперь могу тебе дать по-настоящему большую роль. Ты готова, моя девочка. Я вижу, что ты теперь справишься. Я делаю на тебя ставку, ты у меня поднимешь этот спектакль!
Тишина неуловимо изменила оттенок.
— Римма Васильевна…
— Да, детка?
— Я решила уйти из театра.
Дети прижали уши и втянули головы в плечи. На Каримову никто не смотрел, кроме Сони, которая мало что понимала. Впрочем, ничего особенного не произошло.
— Что ж, — сказала Фомина. — Не держу.
И отвернулась.
…
Остаться в театре Ирина никак не могла.
— Никому не интересно смотреть, как ты путаешься в собственных ногах! — кричала Фомина на репетициях.
— Ты живая вообще? — интересовалась. — Ира, я стесняюсь спросить, у тебя в жизни секс — был?
— Так, послушайте все! — объявляла. — Вот у нас Ира Каримова пропустила прогон… Потому что у неё умерла бабушка. Сообщаю. Для тех, кто не знает! Театр — это искусство коллективное. И вы знаете, сколько тут, во Дворце, коллективов, кроме нас! Знаете, как редко нам дают сцену. Меня не волнует — вы слышите, не волнует! — что у вас происходит в вашей личной жизни! Дали сцену — извольте быть. Здесь! На этом самом месте!
Ирка потом рыдала, забившись в гигантский платяной шкаф, вздрагивала и тряслась среди фраков, пышных юбок, а Сергей Палыч тихонько гладил её по голове и говорил:
— Ируша, ты на неё не обижайся… Это просто темперамент такой…
Иру убивал этот темперамент. Выходя с репетиций, она кое-как добиралась до дома, забиралась в ванну, и лежала там отмокая. Она лежала в ванне, а баба Маня лежала в земле, и надо было играть спектакль, потому что театр — искусство коллективное.
В гробу она видела это искусство.
…
Фомина раздала детям отпечатанные листки пьесы. Одну из пачек сунула Соне. Соня испуганно подняла глаза — сидевший рядом Сергей Палыч сжал ей руку, сделал, как мог, страшное лицо: молчи!
История начиналась с того, что в свой деревенский дом приезжает брюзгливый профессор. Никто даже не спросил, кто его сыграет. Конечно, Сергей Павлович! У профессора — молодая красивая жена.
— Это будет Люба, — определила Фомина.
— То есть Сергей Палыч мой муж?
— Муж тебе низачем не нужен, а вот есть у тебя кавалер, который ради тебя постоянно в округе отирается… Это Сеня.
— Целоваться будем? — ухмыльнулся Сазонов.
— С тобой, Сенечка, всегда! Даже если в пьесе этого нет! — Люба обворожительно улыбнулась.
— Соня! Тебе даже к сценическому имени привыкать не придётся, сыграешь тёзку…
— Боже мой, кого она мне сыграет, она же в зеркало на себя и то стесняется смотреть…
Дети шелестели страницами.
«Я некрасива… Некрасива!» Соня читала и перечитывала эти слова — первые попавшиеся слова её героини — и от ужаса ничего не понимала.
Сергей Палыч достал из футляра очки, надел их, уставился в текст, шевеля губами.
— …И что, мы — вот это будем ставить? — сказал вдруг Сазонов.
— Другого-то ничего нет? — поддержал его Вовка. — Тут фигня какая-то, я не понимаю ничего…
— У тебя прекрасные широкие плечи, Вова, — прищурилась Фомина. — И очень красивые руки.
— В смысле? — не понял Вовка.
— Римма Васильевна хочет сказать, извини, Вова, что чувство прекрасного не твоя сильная сторона, — разъяснил Сергей Палыч.
— Так. Дай сюда, — Фомина забрала у Вовки листки с текстом, повернулась к Королевичу:
— Вадик, вылезай из угла. Ты у меня будешь звезда, вот, держи, отсюда начнёшь читать…
Королевич взял роль дрожащей рукой.
…
Соня теперь приходила к Фоминой каждый день — работать над ролью.
— Смотри, какое слово тут самое важное? Вот это? Или всё-таки это? Во-оот. Его надо выделить.
— Прочитать громче?
— Ни в коем случае. Просто заложи перед ним паузу. Но паузу — не пустую! Внутри неё должна быть сила, энергия. Мысль!
Это была работа с мыслью. Работа с чувством.
Само производство речи тоже требовало труда. Что толку в мыслях и чувствах, если голос твой тускл, невнятен и слаб? Чтобы сделать голос сильней, надо было дать звуку опору. Включить резонаторы. Поднять купол верхнего нёба. Ты знала, Соня, что надо дышать диафрагмой? Слышала, как в позвоночнике отдаётся звук?
Это была работа с телом.
А ещё была работа — с языком. Оказалось, например, что слово «дождь» надо произносить как «дожжь», а вовсе не «дошть», как все тут говорят, как она, Соня, говорила. Требовалось избавиться от провинциального говорка, уральского оканья. Замедлить слишком быстрый темп речи, сохранив её ритм.
Чем ближе к премьере, тем Фомина становилась нетерпеливее.
— О господи, Соня! Ты же в этом спектакле — ключевая фигура! У тебя — финальный монолог! Ты вдумайся в то, что говоришь: «Мы увидим ангелов, мы увидим всё небо в алмазах…» А ведь ничего этого не будет, Соня! Вот что страшно! И у тебя с любимым человеком — ничего не будет! Твоя жизнь пропала, ты это понимаешь? У тебя слёзы должны в глазах стоять! А ты болтаешься как сопля!
Или ещё прилетало, например:
— Вот что ты стоишь с таким счастливым лицом! Я понимаю, это приятно — Сеня обнимает, — но ты же Соня! Тьфу… Ты — другая Соня! Та Соня! Когда он кладёт ей руку на плечо — это же не-мы-сли-мо!
Да. Среди трудностей, поджидавших Сонечку в театре, было и это: её героиня оказалась влюблена в Сазонова. То есть не совсем в него, конечно, а в его персонажа… И оказалось, это трудно сыграть. Потому что чувства людей девятнадцатого века, может, и были такими же, как сегодня, но выражались иначе.
Вот их эпизод. Темно, освещена только коробка буфета. Соня говорит Сене о том, какой у него чудесный голос, как он не похож на остальных людей — это правда! — говорит, что он прекрасен… И тут Фомина:
— Ты слишком легко это произносишь. Слишком просто: «а, люблю!». Так не бывает. Эти слова у тебя в горле должны застрять!
И Соня в который раз приступала к чужой речи, подлаживалась, приспосабливала её к своей душе.
— Вот если бы у меня была подруга… или младшая сестра… И она бы вам сказала… что… ну…
— Без «ну»! Нет в тексте никакого «ну»!
— …сказала бы вам… что… любит вас… — Соня смотрела на Сазонова с таким страхом и надеждой — явно своей личной надеждой! — что тот помимо воли расплывался в самодовольной ухмылке. Сценический образ рушился, Фомина злилась…
Соня, при всех огрехах, была в конце концов убедительна. А вот Сеня — нет.
Зато он был чертовски хорош в сцене с Любой.
— Вы хищница, — говорил, нежно глядя на неё. — Красивый пушистый хорёк… Нате, ешьте! — и склонял голову. Следовал поцелуй. Сеня хватал Любу, припадал к шее. Целоваться на сцене по-настоящему было непринято.
…Как ни странно, никому с первой читки не понравившийся спектакль постепенно наполнился душераздирающей искренностью.
Даже Королевич, от которого вообще никто ничего не ждал, был на удивление в спектакле уместен.
— Жена моя, — рассказывал он, выходя на авансцену, — сбежала от меня на второй день после свадьбы по причине моей непривлекательной наружности…
Тут Королевич смущался, ведь он, получалось, всех обманывал: не было у него никогда никакой жены… И слова его от этого звучали ещё более трогательно и достоверно.
Единственное, чем была недовольна Фомина — финальным монологом Сони. Ну, не умеет девочка заплакать на сцене. Хоть ты что с ней делай! Но в целом спектакль было не стыдно показывать.
3.
На фестивале Королевич объелся мороженым и потерял голос.
— Сколько же он его съел? Тонну? — простонал Сазонов. — Я в детстве десятками мороженки жрал, и ничего…
— Да тебя из пушки не убьёшь, Сазон, нашёл, с кем себя сравнивать!
— Ну всё, — сказала Фомина. — Придётся снимать спектакль с показа.
— Как — снимать?!
— Подождите…
— У него же там две фразы всего! Давайте вырежем!
— Давай тебе палец отрежем, Вова. У тебя ведь десять, зачем тебе все?
— Римма Васильевна говорит, — по привычке объяснил Сергей Палыч, — что спектакль — это единый организм и даже если какая-то из его частей маленькая, это не значит, что она не нужна…
— Римма Васильевна! — крикнула Соня. — А давайте кого-нибудь попросим заменить Вадика!
— Кого попросим? Спектакль через три часа!
— Ну, слов-то там немного, можно выучить… — буркнул Сазонов.
— Слов-то немного! А куда идти? Что делать? На сцене надо жить! Для этого надо знать всю историю!
— Так вот Маслов знает, пусть он… Всё равно простаивает!
— А что? — я могу…
Сазонов не удержался:
— Выходит такой Вова и говорит: «Жена моя сбежала от меня на второй день после свадьбы, по причине того что во время брачной ночи я сломал ей три ребра!»
Соне показалось, что Фомина сейчас Сенечку убьёт.
Однако та уже взяла себя в руки.
— Так. Никто никуда не уходит! И мороженого — убийственный взгляд на Королевича — не ест! Через час жду всех на сцене. Прогоним ещё раз спектакль. Ключевые моменты. Грим потом.
В своём номере набрала Кобрина.
— Семён. Ты ведь местных артистов знаешь? Мне нужен толковый парень, способный связать пару слов и не стоять на сцене столбом.
…
Королевич смотрел спектакль из зала, первый и единственный раз. Ему было стыдно за мороженое — вот ведь, не удержался… И он сначала даже не понимал, что говорят: мучился, что всех подвёл. Казалось ему, что сейчас на сцену, где должен стоять он — он, Королевич! — просто никто не выйдет и там, где были его слова, поместится тишина. И все — Люба, Соня, Сеня, Сергей Павлович — будут смотреть на него молча, и тогда он заплачет от стыда и умрёт на месте… Но вышел кто-то, вдруг взял и вышел. Это был незнакомый кто-то, первый раз в жизни видел его Королевич, но он говорил правильные слова — Королевич шептал их беззвучно со своего одиннадцатого ряда. Нет, нет, всё получилось хорошо, не пропал спектакль, и можно было не бояться. Он ещё поводил глазами туда и сюда: не заметно ли кому-нибудь в зале, что на сцене не тот человек?
Но все сидели спокойно. Слушали.
Королевич тоже стал слушать.
И вдруг провалился в историю.
Исчезли Люба и Сеня — теперь это были Елена Андреевна, доктор Астров… Соня исчезла, оказалась совсем незнакомой девушкой. Так жалко было её! Так всех их было жалко!
А потом это случилось. Соня подошла к краю сцены и заговорила, глядя прямо в глаза Королевичу.
— Что же делать? Надо жить…
Жизнь не обещала ничего хорошего, и по щекам Сони текли слёзы: ах как же долго ещё придётся жить, как долго! Трудиться для других, и теперь, и в старости, не зная покоя. Ничего не ожидая для себя.
И ужаснулся Королевич. А ведь и правда… Ничего нет в ней, в жизни, хорошего…
Он даже не понял, почему вдруг вскочили люди и начали громко хлопать. Таращился бессмысленно вокруг. Не замечал собственных слёз, которые провели по его щекам дорожки. Только удивился потом: почему-то стал мокрым уголок воротника рубахи.
…
В комнате для обсуждений были не разговоры даже — шипение.
— Конечно, ей дадут гран-при! Ей же сто лет в обед, это, может, её последний спектакль, вот из жалости и дадут…
Появилась Фомина, сопровождаемая Сергеем Павловичем и Соней, — шипение стихло.
Соня быстро потеряла надежду услышать что-нибудь толковое: слово давали всем, кто просил, — а просили почему-то вовсе не те, кого хотелось послушать. Например, дама в зелёно-фиолетовом костюме выступила с нелепой претензией:
— Скажите, почему ваш Сазонов так отнёсся к девочке? Он что — фашист?
Другая дама, с брошью, ядовито хвалила не режиссуру, а актёрскую игру:
— Какая ваша девочка молодец! У неё же слёзы ручьём лились! Просто диво дивное, а не актриса — где вы её откопали?
Со слезами получилось вот что.
Соня, в ожидании своего выхода, стояла за кулисами и смотрела на Сазонова, который как раз отыгрывал сцену с Любой. Ей, по-хорошему, не обращать бы ни на что внимания, о своей роли подумать, как учила Римма Васильевна, собраться, вжиться в образ, в предлагаемые обстоятельства, — но это было выше Сониных сил. Так красив был Сенечка в белом костюме, у него так блестели глаза!
— Милый пушистый хорёк, — сказал он Любе, схватил её, обнял — и впился поцелуем прямо ей в губы, и у Любы подогнулись колени.
Соне хорошо было это видно.
Так что не диво, что слёзы потекли ручьём во время последней сцены. Диво, что она до этого сумела от них удержаться.
Фомина ничего такого не знала, конечно. Но была Соне от души благодарна: это и есть настоящий театр! — живые эмоции, живые глаза, тепло друг друга чувствуешь, энергетику друг другу передаёшь… Человек рассказывает историю для человека.
В этой постановке она сознательно превратила зрителя в главное лицо, в участника событий. Актёры подходили к рампе и смотрели ему в глаза, и его спрашивали, и ему жаловались — и не отпущенный даже на антракт зритель начинал думать: а я-то что ж? Я такой же, у меня — так же… И уходил задумчивый, и завтра на работе вдруг на какой-то вопрос ответит он чеховским: пропала жизнь…
…
…Жизни было жалко.
Обида до слёз, обида маленького ребёнка! — что вы мне подсунули?! У других вон как, а у меня что? Так бывает, когда хотел один подарок, а подарили другой — швырнуть его в угол! Не хочу! Не надо мне! Хотелось прыгнуть, взлететь, умчаться отсюда! Туда, где небо в алмазах… А ведь правда.
Он немного успокоился.
Есть же небо в алмазах… И ангелы… Как хорошо, что есть.
Ангелы ворковали на краю крыши. Он подошёл к ним поближе — они порхнули и полетели.
И он, не раздумывая, полетел с ними.
Вот только голоса не было, чтобы крикнуть и попрощаться.
4.
— Наливай, — распорядился Вовка. — Прикиньте, у меня начальник, когда командировку подписывал, говорит: «Я, Владимир, очень одобряю, что ты ходишь в театр. Вот не ходил бы в театр — по-любому бухал бы!»
— Ф-фуу! — выдохнул Сеня. — Я уж не ждал, что мы это сыграем. Где там наш отмороженный, кстати? Что-то не видать его.
— Да уж, Вадик выдал…
— Но пацан, кстати, ничё так вписался! Как его — Максим? Откуда он, вообще?
— Римма Васильевна нашла в местном театре.
— А чего он не с нами-то, давайте позовём!
Заглянула Фомина.
— Много не пейте, дети. Завтра на вручении гран-при все должны быть свежими и красивыми. Сеня, постарайся не заработать второй фингал.
— А вы, Римма Васильевна? Посидите с нами!
— Нет, мне надо к Кобрину. Звонил, умолял зайти…
…
— Римма, меня поймали! — Кобрин кивнул в сторону невысокой девочки с рыжими волосами. — Я уже обещал прелестному созданию двадцать минут своей жизни…
— Ничего-ничего! Я подожду.
— Садись. Это, понимаешь, газета фестиваля, они тут имеют полное право на всех и на всё… Хорошо, что среди ночи меня не разбудила! Хотя я, может быть, это предпочёл бы… Так. Что ты там меня спрашивала — про театр?
— Про его место в жизни… — бойко повторила рыженькая. — Он ведь огромное место занимает в жизни общества!
— Огромное? Вот тебе точная цифра: театр посещает четыре процента населения. В любом месте это так. В Нью-Йорке, в Лондоне, в Москве. Четыре процента! Так что театр — нечто очень маленькое внутри жизни общества. Другое дело, что признавать это неохота…
— А любительский театр, получается, совсем уж маленькое тогда… — расстроилась девочка.
— Подожди, тут не так просто. Вот мы все привыкли к понятию «градообразующее». Это нормально, когда говорят, например, — тут Кобрин бросил на Фомину цепкий взгляд, — что электростанция — градообразующее предприятие Бельска. Но есть ещё понятие «культурообразующее». И с этой точки зрения значение электростанции и значение, скажем, театра «Гамма» абсолютно для Бельска идентично. Уберите вы группу этих людей, которые занимаются полной ерундой: играют то Бунина, то Островского… Вопрос: что изменится? Ответ: вроде бы — ничего… Но через какое-то время вы поймёте, что изменения всё-таки происходят. В городе появляются лишние наркотики, возникают убийства на бытовой почве… Почему так получается, какая связь? — объяснить невозможно. Почему, когда на полке лежит книжка, она меняет атмосферу в доме, даже если её не читают?.. Думает ли о таких вещах Фомина? — ни секунды. Она занимается своим театром. Думает ли об этом Сазонов? — ничего подобного. Он стоит на сцене, у него на морде просвечивает фингал, и он безбожно перевирает Чехова. Но объективно ситуация именно такая: на сегодняшний день «Гамма» — не просто театр.
Фомина отвернулась и украдкой глотнула из фляжки. Ну, Семён… Ну, Семён!
— Твой спектакль лучший, Римма, — сказал Кобрин после того, как рыженькая ушла. — Это, без преувеличения говорю, шедевр. Я плакал сидел — а сколько раз я Чехова видел? И конечно, гран-при надо отдавать тебе. Но у нас, понимаешь в чём дело, случилась беда. Беда с вашим Вадиком. Его только что, Римма, отскребли от асфальта. Так, спокойно. Спокойно. Фляжка, я так понимаю, как всегда, в сумке? Дай сюда. Вот, глотни. Ещё раз! Тут уже ничего не поправить, а всё, что нужно сделать, будет сделано. Сейчас мы договорим о наших незначительных делах и пойдём. Я буду с тобой, не переживай. Так вот. Ты понимаешь, что в этой ситуации гран-при вам давать нельзя. Иначе такой вой поднимут — не отмыться. Шум этот вокруг вас, вокруг фестиваля, не нужен. Поэтому приз дадим не вам. Пресса налетит не на вас. И есть надежда, что шума не будет. И спасибо вашему Вадику за то, что он хотя бы сиганул не с крыши гостиницы. Всё, что мы можем, это дать приз вашей девочке — за лучшую женскую роль, чтоб не так обидно, тем более, что девочка действительно годится.
…
Выпили не чокаясь.
Формальности были позади. Билеты поменяли. Точнее, Фомина поменяла свой.
— Поезжайте, дети. У вас дела, семьи. А я буду сопровождать… Вадика.
— Дела подождут, — сказал Сергей Павлович. — Я останусь.
— Я тоже, — буркнул Маслов.
— Нет, Серёжа. Вова, нет, спасибо. Я справлюсь сама, мне Семён Петрович поможет. А ты, Сергей, пожалуйста, когда приедешь, найди его родных… Мама там давно умерла, но есть брат двоюродный… Надо сообщить.
Налили по второй и снова выпили, молча.
В голове не укладывалось.
Поэтому налили по третьей.
После четвёртой Сазонов вылетел на улицу и принялся дубасить стену гостиницы. Оглянулся на выскочившую за ним Сонечку:
— Что хочешь думай! Урод я? Да, я урод! А этот мудак — слабоумное дерьмо! Лучше-то ничего не придумал! Тоже мне, Мартин Иден! С крыши бросаться!
— Мартин Иден бросился в море, — машинально поправила Соня.
— Да! Девушка, вы такая культурная, не подскажете, как пройти в библиотеку?! Нет, ну какая сволочь! Сволочь!!
Фомина ушла к себе. Легла на кровать прямо в парадной одежде. Лежала, думала: … что же ты натворил, Вадик… Это — всего лишь театр.
А потом тихонько постучалась к ней Соня.
…
— Римма Васильевна… я ведь педагог… Я про это всё знаю. Скажешь одно слово — одно случайное, неверное… А человеку потом жить с этим…
Полились слёзы. Как же легко теперь лились слёзы.
— Или не жить… — договорила за неё Фомина.
— Или… не жить… — с трудом повторила Соня. — А мы, получается, в ответе. Я в ответе. Это он, наверное, из-за меня, из-за этих слов в конце…
— Так! А ну, молчать! Сопля!
Соня уставилась на Фомину большими глазами.
— В ответе она! Да ты за себя саму не можешь быть в ответе! Что у тебя с Сазоновым? Яйца крутишь парню? И хочется и колется? Эгоист он? Эксцентричный слишком? Не понимаешь, нужен тебе такой или нет? А когда поймёшь — года через два?
Соня вскочила.
— Сидеть! Страшно ей… Всё страшно. Жить — страшно. Любить — страшно. Прикасаться друг к другу — страшно! Мыслить, по-настоящему мыслить, — тоже страшно! Думаешь, что за люди тут собрались? Почему, как все, не сидят с пивом перед телевизором? Потому что живые! Потому что думают! Чувствуют что-то! А ты — сопля! Бревно! Жизни боишься! Сидеть, куда пошла!
Потянулась, стащила со стула сумку, достала фляжку. Разлила в гостиничные стаканы последнее.
— Пей.
Соня послушно глотнула.
— Он… не только эгоист, Римма Васильевна. Пьёт много. Бабник. Я видела, как он с Любой целовался!
— Это шестьсот человек видело… — Фомина проворчала. — А что тебе любовь — орден, что ли, только за подвиги награждать? Тут уж на кого бог пошлёт… Судьба.
Она тоже сделала глоток.
— И театр — это судьба, Соня. Кого-то убивает. Обычно не зрителей, конечно… Но Вадик был особенный, ты знаешь. Может быть, мне не надо было его в труппу принимать. Я не педагог. Не дефектолог. Я не знаю, как действует искусство на такие вот… души. Искусство действует! Понимаешь? Искусство! Не ты. Не я! Ты — провод, по которому этот ток бежит… И я — провод. Вот он встретился с искусством — и не пережил. Но встретился! Смог! Посмотрел в глаза! Что-то почувствовал! Не все на это способны. Допивай.
Фомина подвинула Соне початую плитку шоколада.
— Риск есть, конечно… Но люди приходят к нам — и просыпаются. Спящие просыпаются, бессловесные — говорить начинают… Их тут много таких. В таких вот вшивых городишках. И куда им идти? Кто им что покажет? Да и захочет ли ещё он, такой, пойти-то, когда у него душа — не развита? А вот на соседа посмотреть, на собутыльника посмотреть — захочет! И придёт в театр, в наш театр придёт, где этот его сосед-собутыльник играет! А там что-нибудь и поймёт, глядишь.
— А вам, Римма Васильевна, не обидно, что гран-при теперь не дадут?
— Знаешь, Соня, мне достаточно того, что Семён сказал. А он сказал — мы лучшие. И хватит.
«В конце-то концов жизнь сложилась как надо, — думала Фомина. — Долго ли бы я в той же Москве продержалась? Да меня б там сожрали мои амбиции. Я бы там жопу порвала на германский крест, чтобы стать лучше всех. И всё равно не стала бы, потому что невозможно это: там все разные, а лучшего — нет. И с моим темпераментом валялась бы сейчас где-нибудь в Склифосовского… А Семён всё правильно сказал. В Бельске я на месте, и дело моё там — большое. Ну, а что в режиссуре я кое-что понимаю, это вот даже Вадик доказал».
Эх, Вадик, Вадик…
…
Гроб прибыл закрытый, оно и понятно.
Народу было немного, и это тоже было понятно: родных у Королевича пшик, а друзья… какие у него могли быть друзья?
Стоял в стороне какой-то парень, руки в карманы, щека оттопыривается, как будто за ней леденец. За спиной гитара. Петь он собрался тут, что ли?
Ирина Каримова — кто-то позвонил ей — пришла, прятала лицо на груди Сергея Палыча, ревела тихонько.
У Любы лицо тоже было в слезах.
Соня не плакала. Рядом с ней стоял Сазонов.
И цветы, цветы… гроб утопал в них.
— Как на премьере… — прошептал кто-то.
— Спасибо, дети, что пришли, — сказала Фомина. — Простимся с Вадиком. Он был светлая душа, и умер светло. Все люди покрыты коркой. Толстой коркой… Не прошибить. А он был — без кожи.
Под эти слова гроб опустили в землю.
Поставили крест, укрепили фотографию.
С фотографии застенчиво смотрел Королевич.
Был он не похож на себя настоящего, точнее на себя живого, потому что кто ж знает, удаётся ли нам при жизни стать настоящими? Может, это возможно только после смерти? Потому что смерть, как ни крути, подводит черту. И если человек — это парадигма всех своих мыслей и поступков, от начала сознательной жизни до её конца, то только после смерти и можно сказать, кто он, собственно, был такой. Потому что при жизни — он не перестаёт меняться…
С другой стороны, после смерти его уже нет среди нас, есть только память о нём. А память — избирательна и лукава. Память приукрашивает или чересчур очерняет. Память изобилует лакунами, а иногда хранит то, чего и не было вовсе. Иными словами, она — тоже искусство.
Теперь Королевич принадлежал искусству полностью.
Когда-нибудь ему будет принадлежать и она, Римма.
…
— Римма Васильевна… — Каримова с зарёванным лицом подошла к ней. — Я понимаю, что сейчас не очень удачный момент… И много всякого было между нами… Но я хотела бы вернуться в театр.
— Конечно, моя девочка. Конечно.
…
Соня и Сазонов шли рядом.
— Фигня какая-то получается, Сонь… — сказал Сазонов. — Уж слишком мы разные.
— Да уж. Ёжик плакал, кололся, но всё-таки лез на кактус…
— Ну уж нет! Если мне будет плохо — я уйду! Я вот с этим, что ты говоришь, не согласен!
— Может, потому что ёжик — это я?
Сазонов ухмыльнулся, привлёк к себе Соню и поцеловал в макушку. Как он это сделал, неясно: они ведь были одного роста.
Солнце выскользнуло из-за кладбищенских берёз, свет охватил их. В воздухе носились пушистые семена иван-чая.
Екатерина Михалевич

Евгения Долгинова: «Блестящий рассказ. Екатерина Михалевич, предприниматель из Минска, пишет жёстко. Удар у неё мужской, короткий, наотмашь: накануне Вена, просекко, сверкающий внедорожник, всемогущие кредитки, — а сегодня пруд, крест, мост и от судеб защиты нет. Дистанция между сияющими бра Захер-кафе и пасмурным восточноевропейским постапокалом ничтожна.
Это и в самом деле история о преобразовании материи — или, если угодно, о невозможности смерти, о невозможности отменить человека. В мире богооставленном, или отринувшем Бога, что, собственно, одно и то же, тоска по бессмертию лишь обостряется. Автор выстраивает блестящую смысловую инверсию: свежий вдовец — экономист-материалист — ждёт утешного церковного слова, а священник задумчиво бормочет о языке кварков, частиц, энергетических переходов и отсылает за утешением к Хокингу, этому апостолу сциентизма. Но именно в этом смешении духовного и предельно материалистичного, небесного и земного может прорасти предположение, что и вправду ничто никуда не может уйти просто так. Что «энергетические переходы», может быть, и есть чудо воскресения. Ничто не утешает, но надежда на вечную встречу существует — по крайней мере, пока. Пока в этом смутном мире, занятом бесконечным самоопровержением, остаются крест, пруд и мост».
Преобразование материи
— Что-то мне нехорошо, — были её первые слова.
— Слишком много просекко, дорогая. С утра было лишним, нет?
— Мммм… венский завтрак, классика. Который час?
— Лучше спроси, какой день. Уже утро, Марта. Ты спала весь день и всю ночь.
Они ехали по кривоватой пустынной дороге. Бортовой компьютер показывал +19 внутри и +14 снаружи. Вокруг виднелись уходящие в туман мутно-бежевые поля с одинокими тёмными деревьями, как на детском рисунке: ствол и круглая крона. Дубы? Липы? Шёл мелкий дождь.
— Какая унылая местность… Где мы?
— Не забивай себе голову деталями.
— Очень смешно. Голова болит, кстати. Мы уже прошли границу?
— Ты её проспала. Я же говорю, это всё шампанское.
— Я попробую отгадать страну по указателям. Вот какой-то… Что за загогулина? Смешная буква какая.
— Пока нас не было, тут наплодилось разных стран. Придумали себе языки. Действительно смешно.
— Не будь снобом, Боб!
— Не будь Бобом, сноб! Я не виноват, что маленькие, но гордые государства вместо того, чтобы сделать нормальные дороги, рисуют закорючки на буквах, чтобы не было похоже сама знаешь на что.
Руки Боба лежали на руле в щёгольской кожаной оплётке. Машина неслась, мягко подлетая на неровностях дорожного покрытия. Справа вдалеке показались размытые пеленой крыши домов — какое-то поселение.
— Боб, жуть какая, а представь, что мы бы тут жили. Лужи, тоска, автолавка два раза в неделю…
— Ты родилась в мегаполисе и в пять лет переехала в мегаполис же! Что ты можешь знать про автолавки?
— В мегаполис Ж из мегаполиса М. Бабушка рассказывала. В её детстве летом в деревню приезжал грузовик с продуктами. Тушёнка, хлеб кирпичиками, килька в масле и в томате.
— Я бы сейчас бутерброд с анчоусами навернул.
— Сам ты анчоус, килька — совсем другая рыба.
— Килька — это шпрота.
— Оооо… Это лакшери вариант! Шпроты в те времена давали только в спецзаказах.
Они проехали мимо автобусной остановки. Столбы, покосившийся козырёк. Рядом на горке деревянная инсталляция: огромный гриб с крашеной в красное шляпкой. На шляпке белые неровные круги. За грибом чуть дальше деревянный же заяц, не меньше двух метров в высоту, вполовину выше гриба. На круглой морде выделялись смело намалёванные бело-красные глаза. Видимо, другой краски у авторов не нашлось. Обе скульптуры не выглядели свежими — дерево порядком почернело.
— Господи, — Марта потрясла плечами. — Хочу это развидеть.
— Что за новояз, — поморщился Боб, — тебе не идёт.
— Какие мы нежные снобы-бобы! Слова не скажи. А вот гнать не надо, это же населённый пункт.
— Кого я тут могу задавить? Курицу? Людей вообще не видно.
— Мало ли ребёнок выскочит. Ещё мне нужна аптека. Поезжай медленнее.
— Я могу как лимузин катить со скоростью 10 км в час, но аптеки здесь точно не будет.
— Где-то же они покупают себе лекарства?
— Автолавка привозит.
— Не смешно. Голова раскалывается и мутит, мутит…
— Потерпи. Я рассчитываю к вечеру приехать в цивилизацию. Переночуем, отдохнём, за завтра сделаем все дела, отметимся с родственниками и назад.
— Кстати, какие тут деньги?
— Какое это имеет значение в век электронных платежей?
— А вдруг они не принимают карты?
— Да, и отправляют сообщения по телеграфу. Телетайпу. Завтра, завтра же вечером уе… уедем обратно.
— Не понимаю, как ты можешь сутками не спать.
— Ненавижу остановки в жопах мира.
Они продолжали ехать, пейзаж не менялся, дождь не прекращался и не усиливался. Боб попробовал включить радио, но ни одна нормальная станция не ловилась. Какие-то взвизги, треск и периодические заклинания диктора драматическим полушёпотом с присвистом. Сигнал сотовой связи был слабый, как придушенный, зато навигатор исправно рисовал красную линию маршрута, что, впрочем, было не так важно, потому что дорога теперь вела всё время прямо.
Марта завозилась, пытаясь найти в бардачке лекарства, Боб щёлкнул переключателем освещения в салоне.
— С ума сошёл! Выключи! Прямо в глаза.
— Просто хотел подсветить.
— Пожалуйста, не надо, и так режет…
— Дай-ка лоб, да у тебя температура!
Марта откинулась на спинку сиденья.
— Может, мне лечь сзади?
— Там не так много места. Это тебе не семейное авто папочки.
— И очень жаль. Нам бы сейчас не помешало.
— Станем старпёрами, будем ездить на таком.
— И кому здесь нужны твои триста лошадей?
— Могу выжать 150 миль, но тогда мы оставим подвеску в этой деревне. Оторвёмся через 300 км, обещают автобан, ну в местном понимании этого слова.
— Надо было лететь на самолёте.
— И торчать там весь уикенд? Спасибо, нет. И так идея маман с семейно-объединяющей встречей на кладбище, мягко говоря, напрягла.
— Так отказался бы.
— Очень остроумно. Ха-ха. Ты хотела проехаться по Европе? Наслаждайся.
— Теперь мне хочется умереть.
— Марта, камон. Мы с тобой гоним на супертачке, молодые, наглые, можем за содержимое отделения для мелочи наших кошельков купить всю эту деревню с её коровами и курами. Что-то она, курва, никак не закончится…
— Останови.
Автомобиль мигнул стоп-сигналом на элегантном изгибе багажника. Остановился у развилки. Дорога как раз неуклюже вильнула, намереваясь обогнуть жидкую берёзовую рощу, но не решила, с какой стороны это лучше сделать. На месте поворота образовалась лужа, в которую и вступил, выходя, Боб.
— Шит, мои мокасины, — он обошёл машину сзади, высоко поднимая ноги в коротковатых льняных брюках, и открыл пассажирскую дверь.
Марта сидела не двигаясь.
— Ээээ, старушка, ты чего? Совсем сплохело тебе? К врачу срочно? Сириёз?
Марта молчала.
— Вот же, блин… попробуй тут теперь… угораздило… а если и правда карточки не берут… и страховки международные… дикость какая.
Боб бурчал себе под нос, крутил руль, выворачивая колёса из лужи, и чувствовал, как ползут за шиворот идеально отглаженного поло «ла коста» холодные гусеницы пота, гадость.
Марта тяжело дышала, глаза закрыты, на лбу испарина.
— И где тут… — он потыкал пальцем в экран компьютера, — серч ниабай… медсин, хелфкэр, чёрт, чёрт, да что ж такое!
Впереди показалась тёмная фигура, Боб затормозил. Спустил стекло со стороны Марты. Старик в брезентовом дождевике стоял, опершись о самодельную палку-трость.
— Скажите, пожалуйста, где тут больница? Старик молчал. — Простите, врач… нам нужен, врач… ей нужен. Старик заглянул через окно, посмотрел на Марту, осклабился, будто увидел знакомого. — Это ничто, — сказал, — ничего. — Что ничего, старый пень, доктор где тут у вас? Крестьянин моргнул, почесал тёмным пальцем около носа, поправил капюшон. — Док-тор! Ме-ди-цин! Старик махнул рукой в сторону леса. Боб резко нажал на кнопку стеклоподъёмника. — Болван какой-то!
Ещё через триста метров опять нажал на тормоз. Крупная молодая женщина с большой сумкой переходила дорогу возле остановки, помахала ему рукой. Опять отъехало вниз стекло. — Доброго дня, как поживаете? Женщина смотрела приветливо. — Да вот, врача ищем. Нет, ничего не случилось, просто плохо стало человеку… вот ей. — Лекаря ищете? Я вас тут не видела раньше. А панна была… — Что за вздор, мы тут впервые… проездом. — Но… не знаю, — задумчиво сказала женщина, — хлопец-то иной был, а вот она точно, не спутать, родинку я запомнила. Она спит? Болеет? Это ей помощь? А что вам дедушка Петрович сказал? — Тот с палкой? Ничего толком, а вы не знаете, где здесь больница? — Как не знать, у меня сестра там работает. Отсюда километра три напрямки, а по дороге все семь. Надо через мост и там свернуть за пристанком — как этот! автобусный! и ехать просто, смотреть: как будет крест, сразу влево, мимо пруда и так до горы пойдёт дорога, на вилице держите право, и там будет табло. Я бы показала, но у меня автобус, вы извините.
— Какой-то бред, абсурд, нонсенс. Пруд, крест, мост. Марта, Марта, очнись, вот напасть, вот угораздило… Ты хотела тут задержаться, замки и озёра посмотреть, вот тебе и приключение. Новая страна! Какой ты нелюбопытный, Боб! Весь график накроется тазиком, ещё и машину разберут на запчасти, пока буду с тобой ходить по врачам. Если ещё найдём их в этой дыре. Так, где тут этот чёртов крест? Просто, просто, целый час просто, а там будет табло, дурацкий язык. Задворки Европы, поля да пригорки, больше ни ногой, в самом деле, лучше самолётом, бизнес-классом, с пересадкой через Катар, Дубай, Прагу, Хельсинки, Шанхай, прилетел-улетел, кладбище-ресторан, привет, маман, увидимся дома, бай.
Справа в сеточке дождя прорезался знак: прямоугольник с синей каймой и красным крестом в центре. — Не обманула ведьма, больница тут. Боб проехал по указателю, свернул два раза и заложил вираж перед трёхэтажным приземистым зданием из силикатного кирпича. На ступеньках курил бородатый дядька в накинутом на плечи белом халате и почему-то в резиновых сапогах.
— Добрый день, больница здесь? Мне нужен врач. Позовите врача!
Бородатый затянулся. — А некого звать. — Как так? Дежурный хотя бы, фельдшер, не знаю, медсестра, у нас страховка. — Медсестра на уколах в деревне, фельдшер в отпуске, дежурный врач уехал. — Другие врачи есть? — Были до войны… сейчас нет, проблемы с кадрами. — А далеко до ближайшей больницы? — Так это и есть ближайшая, милый пан. Остальные далеко. — Джизес фрикин крайст, я не знаю, как вам сказать: у меня в машине человек болен, понимаете? — Как не понять, человек в машине болен, не вы, правильно? Давайте его сюда, осмотрим вашего человека. — Пани Олёна! — крикнул куда-то в глубину. Везите каталку.
— Стойте, стойте, зачем каталку? Боб захлопнул дверцу. На крыльцо выкатилась допотопная каталка, обитая облезлым дерматином, за ней показалась сухая старушка в белой косынке. — Пане доктор, а кто у нас болен?
— Почему не сказали, что вы доктор. Морочите голову! Бородатый подошёл к Марте, взял её руку, пощупал пульс. — Подъезжайте к заднему входу, будем оформлять. — Как… куда? — Давайте не будем терять времени, милый пан, девушка ваша без сознания, и у неё сильный жар.
С заднего входа Марту погрузили на каталку и повезли, дребезжа на деревянных порогах. Внутри было темно и холодно, как в погребе. Боб наощупь шёл за каталкой. Сбоку включился свет: комната в белом кафеле, люминесцентные лампы. Бородатый сел за стол и взял верхнюю бумагу из стопки.
— Имя, фамилия, год рождения. Адрес… как? Напишите здесь сами. Можно по-английски. I do understand. Почтовый код, извольте. Так надо, не мы с вами эти формы придумали, не нам и менять. Жалобы: головная боль, слабость, тошнота. Хронические заболевания. Аллергия. Инфекционные заболевания, ВИЧ, гепатит. Как не знаете? Гепатитис отрицает, — крикнул кому-то за ширму.
— Какой, к собакам, гепатит, — зашипел Боб, — анализы возьмите у неё. Вот её страховка, — он стал рыться в пластиковом конверте с бумагами, — нет, не это, и не это, вот, возьмите.
Бородатый взял полис, прочитал внимательно с одной и с другой стороны. — Термин… страховка истекла. — Как? Нет, погодите. Послушайте, я просто взял старый полис, невнимательно собирался, вы можете сделать запрос, проверьте, позвоните в страховую… — Мы здесь не делаем запросов. — Хорошо, пусть так, выпишите счёт, я оплачу, где у вас касса? — У нас здесь нет кассы. В нашей стране бесплатная медицина. — Так и лечите её бесплатно, а не сидите здесь, пока ей плохо! — Не кричите на меня, милый пан, мой рабочий день уже, между прочим, закончился. Порядок есть порядок, от иноземных граждан нам нужна страховка. — Вот, возьмите мою, у нас одна фамилия, у меня платиновая карта, все страны мира, можете проверить в интернете. — У нас здесь нет интернета.
Боб явственно ощутил, что у него внутри что-то лопнуло.
— Тогда мы поедем отсюда, — сказал он, но не пошёл к выходу, а, наоборот, опустился на стул с дерматиновым сиденьем, который выглядел как двоюродный брат каталки.
— Я сделаю ксеро. Бородатый ушёл с его карточкой, Боб остался сидеть. На стене висел график дежурств. — Ну и язык, вместо фамилий, у них отчества. Петрович, Антонович, Задупович. На столе тикали часы с чёрными стрелками, за окном шелестел дождь. Ветки дерева с округлыми листьями подрагивали прямо у форточки. Марта, Марта, что ты придумала.
Вошла старушка, отдала ему карточку. — Вам здесь нельзя, посидите в коридоре. Или погуляйте, пока пан доктор посмотрит вашу дружину… жену. — Где она? — В смотровой, где ещё. Старенькая Олёна смотрела строго. — Ступайте, тут не надо быть. — А есть у вас аппарат с кофе или минералка? сэндвичи? — Я вам вынесу чай, только туда. Здесь не можно.
В коридоре у стены стояли два стула. Все двери были закрыты. Слабый свет шёл из узкого окна в торце. Боб сел на стул боком и прижался к стене. Поверхность была некачественно выкрашена масляной краской. «Небось зелёная, как в старорежимных богадельнях», — подумал Боб и застонал.
— Машина! Закрыл ли он замок? Он вскочил и стал шарить в карманах. — Господи, ещё не хватало! Так, сюда и направо, — он спрыгнул со ступеньки. Авто стояло на месте. И он-таки забыл заблокировать двери, мудак.
Если бы упёрли вещи или документы, вот была бы потеха. Хотя кому тут воровать, за полдня встретили четверых. Дедок на остановке, ведьма с сумкой, эта старушенция в приёмном покое и, с позволения сказать, дохтур. Сериал «Скорая помощь». Интересно, больных тут тоже нет или только персонала нехватка?
Боб сделал несколько вдохов-выдохов, держась за перила крыльца. Вдох животом, выдох через спину. Следующий вдох двухфазный, расширяются рёбра. — Прошу! — слабый голос. Пани Олёна возникла в коридоре с кружкой в руках. — Ваш чай, — извольте. Хотите печиво? — Что-что? Ах, пирожок. — Спасибо! Забавно, слова вроде похожи, а означают немного другое. Не проще было бы всем говорить на одном языке, как вы считаете? — А зачем? — Ну понимали бы друг друга лучше. — Я и так вас добро разумею. Если что-то потребуется, я буду в пятом кабинете. Старушка развернулась и пошла по коридору тихими чёткими шагами. Обиделась. Какие же они чувствительные, эти малые народности. Как дети. Боб вспомнил, как его друг рассказывал про жизнь на одном карибском острове. Что люди там обидчивые и наивные. Легко верят, но с трудом прощают любую несправедливость. И никакими деньгами уже не купишь их расположения. Кстати, насчёт денег. Боб, конечно, бахвалился перед Мартой, но на самом деле на счетах у него было меньше, чем хотелось бы. Маман стрясла с него долю в банкете, попросила оплатить билеты двум кузинам и тётушке, да ещё объявился один старый кредитор… хорошо бы со страховкой уладилось, а то неизвестно, во что выльется эта их бесплатная медицина.
Часы где-то пробили три часа. Ни фига себе… день к концу, а он ничего не ел. Где бы тут найти пропитание? Пирожка пани Олёны явно недостаточно. Хотя он вкусный… с чем интересно: фасоль, картошка? Остренькая начинка. Боб достал телефон. Да, борода был прав: с интернетом здесь не густо. Вот тебе, Бобик, жажда экстрима. Во всём мире гугл подскажет, где поесть и выпить, а тут остаётся только спрашивать придурочных местных. А те слова в простоте не скажут, всё с подвывертом. Да и сколько мы ни ехали, ничего похожего на харчевню не попадалось. А магазин, кажется, был. Боб вышел, сел в машину и развернулся. Магазин точно должен где-то быть, где-то быть.
Поиск занял довольно много времени, плюс к этому он заблудился на обратном пути и пришлось объехать пруд кругом. В магазине он купил нарезанный хлеб, длинные тонкие колбаски, вонявшие чесноком, чипсы и литр томатного сока. Представив себе, что это бифштекс с картошкой и салатом из помидоров, съел в машине. «Ну вот, — подумал обречённо, — теперь сиденье в крошках. Тут химчистку не найти… хотя бы пылесос». Когда он вернулся, начинало смеркаться.
Пани Олёна и бородатый стояли на переднем крыльце, будто его поджидали. Он запарковал авто под жухлым каштаном, не спеша отстегнулся.
— Видимо, номер со страховкой не прошёл, денег ждут. Ничего, подождут. Боб вышел и медленно двинулся в сторону здания больницы. Кстати, на ней не было вывески. Странно, обычно на больницах написано, что они больницы. Доктор и старушка стояли на ступеньках, не двигаясь. Халаты на них были застёгнуты на все пуговицы. На ногах у доктора, вместо резиновых сапог, были кроксы с бахилами сверху. Пани Олёна была в чёрных туфлях.
— Нам очень жаль, пан Роберт, — сказали они в унисон.
Боб остановился.
— Какого чёрта здесь… Что за…
— Нам жаль, — повторили они. Извините.
— Ма… Марта?
— Она скончалась, — сказала пани Олёна.
— Мы не смогли ничего сделать, — добавил доктор. — Ничто.
— Примите соболезнования, — это они опять сказали хором.
Боб присел на корточки. Поправил волосы. Машинально щёлкнул замком машины. Он только сейчас заметил, что справа и слева от входа есть дефекты в кирпичной кладке, замазанные цементом, а разбитое подвальное окно заложено куском фанеры. На фанере Боб увидел размытые чёрные буквы, но не мог разобрать слова. On ne peut plus lire les noms éffacés. Они с Мартой познакомились во французском клубе. Она любила книги. Любила Пруста. А Бобу его книги казались нудными. И читал он, в основном, специальную литературу, где никаких надгробий со стёртыми именами.
— Надо заполнить бумаги, — сказал доктор. Мы связались со страховой, они пришлют агента.
— Агента?
— Для всех формальностей. Ещё раз, наши соболезнования.
— Погодите, нет-нет. Вы что-то путаете. У неё просто разболелась голова. Она… чёрт… вчера чересчур налегла на просекко. Конельяно Вальдоббьяндене, знаете, всё это… Мы так удачно забукировали отель в Вене, в старом городе, с видом на… Стойте, тут что-то не так.
— Нам очень жаль, — повторил доктор.
— Какого хрена? Что вы с ней тут сделали? Она была абсолютно здоровая, молодая женщина. Ей только исполнилось двадцать шесть! Она никогда ничем не болела!
— Покажите мне её! Куда вы её спрятали? Я хочу видеть Марту!
Доктор кивнул старушке. Та сделала шаг и взяла Боба за руку. Она вела его по сумрачным коридорам куда-то направо и налево, потом по ступенькам вниз. За железной дверью, где было ещё темнее и промозглее, она показала ему на узкую кровать, накрытую простыней.
— Стойте. Знаете что, я богат. Я дам вам много денег. Надо просто ещё попробовать. Дефибриляцию, реанимацию, что там ещё. Просто вы не всё попробовали. Или заморозить, креон. Мало ли как медицина шагнёт вперёд. Или уже шагнула, только не у вас… Пани Олёна слегка поклонилась и вышла, прикрыв дверь. Он бросился было за ней. — Постойте, не уходите. Но её шаги уже постукивали по ступенькам, потом по дощатому полу. Он не решался посмотреть на кушетку.
— Господи, это какая-то ошибка, нелепость, кошмарный сон! Сейчас всё разрешится, и это окажется другая пациентка, с онкологией или инфарктом.
Он сдёрнул простыню. Марта лежала со спокойным лицом, будто спала. На ней была больничная рубашка с косо поставленным клеймом на плече. Белая, в мелкий синий цветочек. Родинка на щеке выделялась необычайно контрастно. Он дотронулся до руки. Рука была холодная. Марта, очевидно, была мертва уже не меньше часа.
Какой же он дебил! На хера он попёрся в этот долбаный магазин! Колбаски ему захотелось? Вот тебе колбаска. Вот тебе хлебушек. Вот тебе пиво безалкогольное. На кладбище завтра будет Марта, к месту, мёртвая Марта. Заодно и помянем. Мамочка будет довольна. Она всегда довольна, когда всё складывается по её воле. Да, мамусь?
Боб выскочил из подвала, налетел на какой-то стул, опрокинул его. Доктор стоял в коридоре. — Вам надо подписать документы. — Какие ещё документы? — Для страховой. — Да я вас засужу, вы убийцы.
— Надо успокоиться, — строго сказал бородатый. — Всем надо успокоиться и делать своё дело. Вот у вас было дело вылечить её, а вы? — А мы не смогли. Так бывает, увы. Инфекция развилась молниеносно.
— Боже, инфекция, молниеносно. Средневековье какое-то. Антибиотики открыли вроде как пару веков назад. — Священник будет потребен? — это уже сзади спросила пани Олёна. — Да, давайте. Какое шапито без служителей культа? Уже по полной программе. Еже иси на небеси. Бог дал, бог взял. — Пани Олёна, — позвоните русскому, — тихо сказал доктор. Моментик, — певуче отозвалась старушка и исчезла в коридорах.
— Слушайте, я сейчас разнесу всю эту вашу халабуду. Пусть какой-нибудь нормальный вменяемый человек объяснит мне, что здесь происходит. Ему показалось, или бородач улыбнулся. — Пройдёмте в мой кабинет, присядьте. Чаю выпьете? Покрепче не предлагаю, вам ещё за руль. У нас с этим строго, а вам сейчас неприятности не нужны.
Боб положил руки на лоб и глаза, сжал, как во время практик по даосской йоге. Потом надо провести пальцами по направлению к ушам. Напряжение уйдет.
«А теперь упражнение „поднимаем небеса, раздвигаем облака“. Все свои страхи, все тревоги и сомнения, негативные эмоции поднимаем вверх и сбрасываем», — услышал он твёрдый голос инструктора.
— Фак! Факин шит! Блядь! Марта умерла.
Он плохо помнил, что было потом. Пил чай из кружки с надписью «мой лучший доктор», подписывал бумаги в отмеченных птичкой местах, давал паспорта для копирования, свой и Мартин. — Небольшая формальность, вот счёт за услуги, — доктор пододвинул к нему листок с распечаткой. — Можно сейчас оплатить картой, а потом страховая фирма всё пану вернёт. Из ящика стола был извлечён портативный терминал. — Можно эту карту? — доктор взял в руки пластиковый прямоугольник.
— Mar-ta Stas-sov. У вас был общий счёт? Чтобы, знаете, не было проблем…
— Ааааа! — Боб закричал, схватил терминал и бросил им в доктора. — Тиш-тиш-тиш… Надо было сразу подумать… — доктор как-то странно извернулся и воткнул Бобу в плечо шприц. — Тиш-тиш-тиш… добренько, ладненько, кто у нас молодец?
— Карта сближается? Отлично. Так… оплата прошла. Всё в порядке.
Боб обмяк на кушетке. Значит, касса появилась. И интернет нашёлся, судя по жужжанию терминала. Как говорила его воспитательница Алла Ивановна, всё в порядке, бобик сдох.
В дверь деликатно стукнули. В проёме показался статный человек в короткой осовремененной рясе. — Здравствуйте и мои соболезнования. Боб слабо приподнял руку в знак приветствия. — Какие-то проблемы? — этот вопрос уже адресовался доктору. — Я слышал шум. — Всё в порядке, отец Сергий. — Просто пан стрессует. Я вас оставлю, побеседуете?
Священник присел рядом с Бобом.
— Откуда вы родом?
— Родом? — переспросил Боб. — Из соседней страны, нашей общей страны, если можно так выразиться.
— А живёте, судя по всему, далеко?
— Далеко.
— Отпевать у себя будете?
— Зачем? — хмыкнул Боб. Он уже понемногу приходил в себя. — Её нет, не вернуть, всё кончено, какой смысл в ваших нелепых ритуалах?
— Мы не можем помочь её телу, — мягко сказал отец Сергий, — но мы в состоянии помочь её душе.
— Ах душе, хорошее клише, найс трай, только вот я материалист, святой отец. Марта померла. Испустила дух. Скапустилась, моя девочка. Через пару часов её прекрасное тело начнёт разлагаться. Ткани будут разрушаться, она засмердит, и пройдёт совсем немного времени, прежде чем она превратится в кусок гниющей плоти. Зачервивленного мяса. Её запаяют в гроб и привезут в крематорий. Там огонь её дожрёт, и Марта — молодой-специалист-по-культуре русского-зарубежья-первой-волны — первой! не второй и не третьей! — станет кучкой золы. Золу насыплют в урну и отдадут мне. Её мамаша будет рыдать и кидаться на меня. Её папаша возьмёт меня под руку и уведёт выпить в другую комнату. Моя маман наденет шляпку и будет выглядеть сногсшибательно в своём траурном прикиде. Через три дня мне позвонит старая подружка с соболезнованиями, а там уж как пойдёт. А Марты не будет нигде. Совсем. Абсолютно.
— Вы кто по образованию? — спросил отец Сергий. Боб махнул рукой: экономика, финансы… аналитика.
— Понятно. Молодой человек, вот я физик по первому образованию, философ по второму, теолог по третьему. Материя вечна, вы, как материалист, должны быть знакомы с таким утверждением.
— Вы хотите сказать, что мою Марту съедят червячки, а тех склюют птички, а птички…
— Нет, я о другом. Мы можем трактовать материю шире. Мы можем отталкиваться от такого свойства материи, как энергия. Поля, частицы. Кварки. Энергетические переходы… ну или совсем просто: представьте две частицы, которые несутся навстречу друг другу. Они сталкиваются и превращаются в другие частицы. С неслабым выделением энергии. Преобразования материи гораздо сложнее и разнообразнее, чем мы можем себе представить, даже с сегодняшним уровнем знаний. А хоть бы Хокинга почитайте, доступно пишет кстати.
— Нет, это точно холи шит. Боб хохотнул. — Вы такой до хера умный, учите меня жизни и приоткрываете мне тайны долбаной Вселенной. Что вы делаете в этой дыре? Доморощенный физик, философ и этот, как его… о! теолог!
— Живу, — коротко сказал священник. Должен же кто-то здесь жить, почему бы и не я.
— А зачем здесь кому-то жить, здесь же ничего нет, леса-волки-советские постройки, всё в разрухе, даже людей нет!
— Почему нет людей, почему волки, — отец Сергий слегка покраснел.
— Ну зайцы. Гигантские грибы. Здесь жить нельзя!
— После недавней войны, конечно, ещё не всё восстановлено, но у людей есть надежда. Им нужны духовники.
— Духовники? Не врачи? Нет, вы ответьте, — Боб старался говорить громко и уверенно, — только без этой вашей поповской витиеватости, честно! На фига все эти высокие материи, поля и тайные знания, если никому даже не известно, отчего умерла Марта!
— Почему никому? Мне известно. Ваша супруга умерла от менингита. Быстрое течение, позднее обращение. Так бывает. Кокковая инфекция может развиваться стремительно и вызывать сепсис. Не удивляйтесь, я ещё и медицину на досуге изучал. Посмотрел эпикриз, всё понятно. Лечение было назначено верное, если вас это волнует. Даже мини-следствие было, хотя что тут расследовать. Пан офицер подписал осведчение.
— Могу я?..
— Можете, но вряд ли поймёте, оно на местной версии языка, там много греческих букв. Я знаю, это сложно принять, но тут нет виновных. Я бы сказал, что такова Его воля, но вам это вряд ли придётся по душе.
Боб почувствовал, что соскальзывает по дерматину обивки, взмахнул рукой в воздухе, будто дирижируя невидимым оркестром. Священник подхватил его за плечо. — Вам бы на воздух, — сказал он.
— И что теперь, святой отец? — Бобу никак не удавалось глубоко вдохнуть. — Что бу-будет с материей?
— Будут хлопоты, — сказал священник. — Как говорят гадалки, казённый дом и хлопоты. В ваше купе, если я правильно определил тип кузова автомобиля во дворе, гроб не поместится. Нужно заказывать трансфер. Я могу провести обряд над покойницей, если вы пожелаете.
— Fuckin’ hell… блин, — булькнул Боб, — душно… на улицу…
Они вышли на крыльцо, отец Сергий деликатно поддерживал Боба одной рукой, другой держался за деревянные перила. Какое-то время постояли на ступеньках. Уже почти стемнело. Далеко за полями над лесом ещё вяло золотилась полоска закатного неба. Отец Сергий молчал, и Боб был ему за это благодарен. Он раньше думал, что в религии есть какие-то слова для утешения скорбящих. Но, видимо, таких слов нет, или есть не у всех. Иначе отец Сергий не стал бы говорить про трансфер. Кварки. Менингококковую инфекцию. Так бывает. Вдох-выдох. Представим падающий водопад. Вода смывает напряжение и боль. Мы сливаемся с природой. А теперь руки вверх: поднимаем небеса, раздвигаем облака. Все свои страхи, все тревоги, весь негатив поднимаем и отпускаем. Опустите руки. Вдох. Успокаиваемся, осознаём своё присутствие здесь и сейчас. Занятие закончено.
Наталья Жилякова

Евгения Долгинова: «На окраине, наверное, каждой большой семьи коптит небо эрзац-родня: троюродная золовка, семиюродный дедушка, — много вод на нашем киселе, и если бы только десятая! Кормить хлопотно, но бросить — бесхозно, всё ж таки пряник ресурса увесист: у городских — квартирка, у деревенских — пенсия. Молодой жлоб страдает, мается, бранит себя за пустодомство, а потом вдруг озаряется: замочек же!
День будет прожит не зря.
Всегда, всегда здоровая «хозяйская сущность» найдёт недоприватизированный кусок железа. И придёт за ним. А что взамен — стакан воды? — Завтра, старый, завтра. По свежему снежку, по румяному морозцу поспешим же к просторным почтальоншиным прелестям, сперва положим в нагрудный дедову пенсию — собственно, единственное, что как-то оправдывает задержку деда на земле. А потом, с чувством исполненного, возляжем на диванчик, освещённый мерцанием дедова голубого экрана — прибытка первой волны приватизации.
Так — ёмко, коротко, беспощадно — автор говорит о том, что прежде называли — не вполне корректно с исторической т. з. — «кулацкой психологией», а теперь — «психологией эффективного собственника».
Вещь, в отличие от человека, драгоценна, самоценна, — а дедушка старый, ему всё равно. Старик обобран до простыней, до полотенец, до, можно сказать, исподнего, — а всё равно найдётся вещичка! Чем беззащитней жертва, тем пышней аппетит, и в наследнике вдруг подпрыгивает азартный Плюшкин, собиратель рваных подошв да глиняных черепков. Эта музыка будет вечной, эта утроба никогда не насытится.
Наталья Жилякова, журналист и редактор из Воронежа, пишет жёстко, точно, почти безэмоционально, это замечательно неженская проза. Много воздуха — безошибочность деталей, — жёсткий финальный удар.
Крем «Балет» — отдельная удача. Вроде бабская приблуда, а вот поди ж ты: позарез! Как и все знаменитые «свободовские» снадобья (лютая отдушка, натуральные ингредиенты), «Балет» — из ранних 80-х, из последнего вещного слоя советской цивилизации, из времени дедовой силы. «Балет» — о том, что и самой ссохшейся, растрескавшейся от времени коже (органике, душе, судьбе) жизненно потребно нежное прикосновение, умягчение, умащение, «косметика», — а без неё мгла, гибель, смертный холод.
Дедов взгляд прожигал при жизни, после смерти — сверлил. Но надеяться на дыру в сердце, увы, нельзя: о хозяйско-молодецкую грудь сломается любое сверло».
Замочек
— А замочек-то я заберу! — сказал — и сам себе не поверил. У него бы кто так потребовал — ни за что бы не отдал.
По дороге к деду Сашка всячески вертел эту фразу: замок был почти новым, сам покупал с год назад. Ржавчина ещё не разошлась, да и ключ входил легко. Понимал — надо забирать. Пора. Хозяйская сущность требовала. Да и ясно было: не он, так другой.
В сенях уже давно пустовало, даже метлу с поломанной палкой и дырявый таз утащили. Что тут говорить о замке. Дед старый — зачем ему этот замок? От кого запираться? Дома пусть сидит.
Уговаривал себя, подбадривал. Понимал, что пора, забирать нужно сегодня, время — то самое. Не упустить бы.
Но как будто что-то не пускало. Вот и сейчас: сказал — и сам себе не поверил. Не отдал бы.
Дед глянул странно — то ли спросить хочет, то ли понять. Дышит хрипло, по бороде иней разошёлся. Печку, видно, не разжигал сегодня. Одетый как на улицу. Валенки хорошие, пригодятся, а фуфайка прожжённая. Но на печку закинуть можно.
Сдался деду этот замок?
— Ты это… — Сашка замялся. Сменить бы тему, но делать это изящно, «по-городковски», не научился. — В лавке надо тебе чего?
Точно! С этого и надо было начинать. Купить-то ему точно нужно будет что-то.
Дед перевёл взгляд на кусок мякиша, который валялся на столе, и на капли разлитого молока.
— Был, значит, — понял Сашка. И тут же разозлился: — Сказал же тебе — сам ходить буду!
— Так тебя ж не было три дня как, — подал голос дед. Он смотрел теперь уверенно, словно это была игра, и он начал вести. Кто кого, а призом станет замочек. Новый почти и ржавчиной ещё не брался.
Надо оправдаться или новый удар наносить.
— Замок-то я покупал! — выпалил Сашка и сразу опустил глаза.
Дед в своём уме, помнил же, на чьи деньги замок этот куплен был.
— Куда тебе ходить? — ещё сильней разозлился на старика. — Дома сиди! Ишь вздумал по деревне бродить! Надо оно тебе? — Решил в наступление перейти, да и распалился уже. Тряхнуть бы деда этого, да так, чтоб он с лавки сполз под печку. Будет он ещё за замок оправдываться! В прислуги-то к старому не нанимался. Так, родня, притянутая за уши глупым семейным долгом.
Дед вертел мякиш в руке. Крошка завалилась в трещину на клеёнке. Пальцы потрёпанные, хотел кремом вчера смазать, да не выдавилось уже ничего. Просил Сашку купить, и денег даже давал, да нет, говорит, в лавке крема-то — не привозили. Но деньги не вернул. Будет, сказал, сразу куплю.
Сегодня вот руки сильнее обморозил. Рукавиц не нашёл, хотя всегда на лавке у выхода лежали. Так решил до магазина дойти. Крем «Балет», 48 рублей. Удивился ещё, что крем привезли. Обрадовался. А Нинка, продавщица, говорит, всегда, мол, стоял здесь. Надо — бери, а нет, так и глазеть нечего.
Надо-то надо, да денег только на полбуханки хватало. Хорошо, что соседка литрушку молока принесла. С покойницей ещё дружила, жалеет видимо. Заглядывает раз в неделю, а то и реже. Пенсию ведь давно Сашка за него получает. Так, говорит, спокойнее будет, да и деньги целы.
Кому спокойнее-то?
Хорошо, Володькину копилку нашёл — бочонок деревянный, под кроватью за коробкой стоял. Крышку откорлупал, а там богатство — почти сотня мелочью. Под подушкой находку хранил, хоть бы Сашка не добрался. Сегодня последнее в лавку отнёс, как раз на половинку хлеба хватило.
Домой длинным путём шёл, оглядывался. Почтальоншу выискивал. Сказать хотел, что Сашка не сын ему, пенсию, мол, не надо ему отдавать. Знал бы, что почтальонша у Сашки сейчас, не морозился бы лишнее.
У деда всегда было тяжко. Он вроде не говорит ничего обидного и денег напрямую не требует, но смотрит будто насквозь прожигает.
— Ну, полно! — Сашка повертел в руках замок с ключом, сунул его в карман, а взамен другой выудил — чуть крупнее и в ржавчине весь. — Вот тебе замок новый, этот покрепче будет!
— Да не нужен мне крепче-то, — дед выкорлупал наконец крошку из зазубрины и аккуратно положил её на кончик языка. — Воды бы лучше принёс. На дне уже.
— Завтра зайду! — буркнул Сашка. — Некогда мне с тобой тут возиться. И так вона сколько просидел.
Перед уходом обвёл взглядом комнату. Телевизора нет, с год как в починку отнёс, у почтальонши до сих пор «чинится». Холодильник забрал сразу, как бабка Меланья померла. Кажется, и не объяснял ничего. Из одежды и посуды и так ничего не осталось. Постельное и полотенца постепенно заменил на тряпьё. Дед, чай, не король, и на дырках поспит.
Глянул в ведро — пара кружек, на сегодня хватит, а завтра с утра зайдёт да натаскает на неделю сразу.
— Тут это, пенсию твою получил. Продуктов завтра накуплю, а тебе вот сотку на всякий случай оставлю.
Сотка — богатство! Дед оживился, засуетился. Хотел до дверей проводить, да Сашка быстро вышел. Нечего со стариком церемониться. Не король же.
Назавтра с утра вызвали в колхоз. По пути завернул к почтальонше, да у неё и заночевал. Про деда вспомнил на третьи сутки. Забежал в сельпо, купил хлеба да полкило сосисок подешевле. Дед их, если что, и сырыми поест.
Калитку снегом занесло. Выдохнул: не выходил, значит. Отодвинул с трудом, зашёл и обомлел — на крыльце сидел дед, завалившись на правый бок. Остекленевший взгляд сверлил Сашку прямиком в душу. В руках плетёная авоська, так с ней и похоронили. Полбуханки хлеба, две сосиски и крем «Балет». Итого по чеку 99 рублей 50 копеек.
А замок пришлось спиливать. Крепкий, зараза, оказался. Даже Сашка его на морозе открыть не смог.
Надо было его проверить, что ли, прежде чем деду отдавать.
Екатерина Белоусова

Евгения Долгинова: «Дерево, марево, зарево. Всякая «пустыня отрочества» (Толстой) есть отчасти аутизм, — можно подобрать и другие измы, но в любом случае: аномалия, отклонение. Клинические признаки, они же переживания тонкого плана — светящееся дерево, нумерология, симметрия, — работают единственной опорой. Но застревание в них — гибельно. Должна прийти мама. Без мамы ничего не получится.
Эта короткая история — о выходе из панциря неприкаянности, о сломе стекла между собой и миром, о внезапной возможности будущего и о воле к жизни. И о том, что безусловная любовь — материнская, родительская — рано или поздно вытаскивает если не из болезни, то из «дерева», из «чулана», из тёмного убежища, куда так часто гонит детей звериное одиночество.
Очень тонкая работа, оставляющая читателю простор для самых разных толкований.
Екатерина Белоусова, юрист по образованию, участник многих конкурсов и победитель в некоторых из них, пишет о подростках. Уверена, что и другие её работы тоже станут открытием».
Она поймёт
Сегодня второе сентября, я отсидела в школе два урока и теперь иду домой.
Это было наилучшим решением. Останься я с классом, и непременно случилось бы что-то плохое. Знаю себя, вот уже шестнадцать лет, как знаю. В таких обстоятельствах, какие возникли сегодня, самый верный способ сохранить лицо — исчезнуть.
Пусть думают что хотят, пусть ставят прогул. Это лучше, чем паника и истерика на виду у всех. Они всё равно меня не поймут.
Мне стало очень плохо в школе, в груди всё сжалось, и воздух отказывался входить в лёгкие. Ещё чуть-чуть — и мог случиться приступ. Чтобы внутренне устоять, сохранить спокойствие, я считала про себя, стучала пальцами по мочке уха, но это не помогло. Я обещала маме, что буду думать не только о себе. Поэтому ради блага учителей и одноклассников пришлось идти домой.
По дорожке от школы прямо, потом налево. Пройти мимо старой котельной, коснуться второго от угла кирпича — он красный среди белых — и заглянуть в пустые бетонные кольца, врытые невесть зачем в землю. Дальше двигаться по прямой до самого дома, но сделать круг, прежде чем подойти к подъезду.
Если путь пройдёт правильно, аккуратно и без сбоев, то мне станет легче. Моя дорога домой из школы всегда такая. Люблю одинаковые маршруты, ем одно и то же, с трудом привыкаю к новой одежде. Когда вещи вокруг меняются внезапно, резко, я чувствую, будто падаю в пропасть. Чтоб удержаться, сначала стучу пальцами по ушам, а потом кричу и плачу, меня трясёт, а люди думают, что это истерика. Многие считают меня ненормальной.
Два раза нажать на вызов лифта. И кнопку этажа надавить дважды. Два — хорошее число. Не помню уже, когда я это поняла, но с тех пор два со мной постоянно. Если надо выбрать из девяти и десяти, то я выберу десять, ведь оно делится без остатка на два. Если из пяти и семи — то пять, оно ближе к двойке. Восемь прекрасно, но четыре лучше, потому что первое число есть два в кубе, а второе — в квадрате. Одиннадцать раньше меня настораживало, но когда смотришь на него как на две единицы, становится спокойнее.
Понимаете? Вряд ли. Хотя очень хотелось бы, чтоб кто-то понял. Раньше мне всегда было хорошо самой по себе, но недавно пришло осознание, что число два диктует необходимость найти друга. Вдвоём быть лучше, чем одной.
Два поворота ключа в замке. По два шарканья о коврик каждой ногой.
С кухни доносится лёгкий запах табака. Мама дома. Пытается спешно прибрать на столе: знает, что я не переношу крошки и грязную посуду. Она не ждала меня так рано. И из школы, значит, ей не позвонили… Теперь придётся объясняться. Ненавижу разговоры! Я постоянно беседую внутри, вот как сейчас, и это легко. Но говорить наружу мне очень трудно. Ещё куда ни шло отвечать урок в школе: запомни и выдай параграф из учебника, немного изменяя порядок слов. А вот когда просят рассказать о себе, о своих мыслях и чувствах, я совсем теряюсь.
Мама подошла:
— Маша, что-то ты рано.
Я молчу. Не понимаю, вопрос это был или утверждение. Разобрать интонации и услышать эмоции за словами — трудная для меня задача.
— Вас уже отпустили с уроков?
Ну это явно вопрос.
— Нет.
Мама молчит и ждёт. Она всегда даёт мне шанс заговорить, а я всегда пренебрегаю этим шансом.
Не люблю смотреть в глаза и на лицо собеседнику, но приходится взглянуть мимоходом. Я честно пытаюсь научиться общению, хотя и не понимаю, зачем мне это. Молчать зачастую гораздо проще и приятнее.
Мама не выдерживает, засыпает меня вопросами. Она тоже вот уж сколько лет учится общаться со мной, но не всегда у неё получается следовать советам врачей и психологов. Хорошо хоть, что она перестала пытаться меня обнять всякий раз, когда ей кажется, что мне требуется поддержка. Ненавижу объятия! Меня начинает физически выкручивать внутри, трясти, и всё заканчивается тем, что со стороны выглядит истерикой или припадком.
Мама успела наговорить очень много, а я и не слушала. Не специально, просто слова слились в один поток. Молчу. И мама молчит.
— Так, всё-таки почему ты ушла из школы раньше? — она задаёт вопрос, разделяя слова. Чтобы они доплыли до меня из потока.
— Ну это… Как его… — так я начинаю почти каждый разговор вслух. — Ну это самое. Там всё розовое.
Дальше мама задаёт кучу подробных вопросов и выясняет, что все стены в классах и вестибюлях из бывших зелёными на протяжении десяти лет стали розовыми. Мерзкими розовыми, и от них слезятся глаза и стучит в ушах. Ненавижу этот цвет.
Но мама не понимает. Она не чувствует так, как я. Говорит рассудительно, что с приступами паники нужно бороться, что мне жить среди людей. И так, мол, мне столько поблажек. Первого сентября я была на линейке лишь раз — в первом классе. Мне казалось, что голова взорвётся, так громко, жарко и тесно там было. Как я орала! С тех пор учебный год для меня всегда начинается второго сентября.
Опять я прослушала маму. Она говорит очень быстро. Как только успевает делать слова из мыслей? Вот я, когда начинаю думать, не могу говорить. А когда хочу высказать мысль, голова отказывается думать.
Что-то насчёт борьбы… Не хочу я бороться. Хочу жить, и пусть среди людей, но без перекраски стен. И без постоянного шума слов. И чтоб никто не трогал мои волосы!
— Мама! — я наконец превратила чувства в слова. — Он трогал мои волосы! Он сидит слишком близко! Мне стало плохо, и я ушла.
— О боже, — только и говорит мама.
Потом мы молчим, и я уже надеюсь, что разговор окончен, но она спрашивает:
— Кто он?
— Ну это, как его…
И вновь долгие слова.
Я всегда сидела одна. Это хоть как-то примиряло меня со школой. Одноклассники ко мне не лезли. Слышала, они называли меня угрюмой, отсталой, замкнутой и психованной. В третьем классе я прокусила щёку Юрке Вавилову, когда он хватал меня за косу. Но ведь если б он не приставал, я и не прокусила бы…
И вот в одиннадцатом классе приходит к нам новенький, Матвей Чесняков. А место свободное только за моей партой, где я всегда сидела одна. Я сразу положила на середину линейку и отодвинулась ближе к краю. Но этот всё смотрел на меня, спрашивал что-то, а потом раз — и погладил по волосам. Когда трогают волосы, у меня в голове гудят поезда, а перед глазами расходятся тошнотно-фиолетовые спирали. Мне больно, хотя это не такая боль, как при ударе или уколе. Я не могу её объяснить, а они — все они — не могут понять.
Вот и мама не может понять, хотя пытается слушать внимательно. Она и сама страдает из-за меня. Я видела её дневник в сети. Там она пишет про замкнутую дочь, про диагнозы и психологические приёмы, а такие же несчастливые мамы рассказывают ей про своих детей с отклонениями. У меня ещё не такой тяжёлый случай, я даже учусь в обычной школе, не коррекционной.
Всё, устала. Наверное, мама замечает это, потому что отправляет меня в комнату отдохнуть.
В моей комнате порядок. Всё на своих местах, и эти места не меняются подолгу. То, что может пригодиться в двух экземплярах, расставлено аккуратно и симметрично: диванные подушки, кресла, фоторамки. Стены, мебель, шторы и покрывала в зелёных, серых и коричневых тонах. Никакого оранжевого, розового и уж, тем более, ни пятнышка фиолетового!
Здесь спокойно. Есть лишь одно место, где мне так же хорошо. И после обеда я иду туда.
Дорога получается радостной от предвкушения встречи. Там ждут. Моя подруга — единственное живое существо, которое полностью понимает меня.
Ступаю по золотистым от листвы дорожкам парка, сворачиваю на узкую тропку, бегущую в лес. Пробираюсь над каменистым обрывом и бреду по заросшим к осени полянам.
Здесь бывают люди. Но никто не входит в невидимый круг, куда вскоре вступаю я. Внешне это просто мшистый пятачок около старой корявой сосны. Но есть в этом месте нечто такое, что отталкивает и людей, и животных. Пустота, молчание, безжизненность. А меня тянет сюда, к моей подруге сосне. Это тем, кто болтает без умолку и не мыслит себя без компании, дерево может показаться мёртвым. На самом деле сосна живая, лишь одинокая, как и я.
Я подхожу к ней и глажу шершавую кожу, дышу смолой, чувствую сквозь подошвы кроссовок пушистый слой старых иголок. Я разговариваю с ней без обычного «ну это, как его…». Сосна слышит мысли, да и слова у меня складываются здесь легко и ладно. А ещё с ней я часто улыбаюсь, чего почти никогда не случается ни дома, ни в школе. Мама бы удивилась. Но она не поверит и не поймёт, если рассказать. Да и рассказывать я не умею.
Взбираюсь на дерево и устраиваюсь на толстых ветвях. Лежу, долго глядя на обрыв внизу. Моя сосна стоит прямо на откосе, даже корни торчат в воздухе из отвесной стены обрыва. Но подруга держится за этот свет, за жизнь. И пусть все считают её мёртвой и засохшей, страшной и неприглядной, но я её люблю.
Сосна шепчет ветвями, напевает скрипом свои истории, а я улыбаюсь.
Вдруг внизу, на дне обрыва, появляется человек. Он идёт неспешно, жестикулирует, разговаривает сам с собой. Приглядевшись получше, я понимаю, что это мой сосед по парте, Матвей. Он один в лесу, как и я. Размышляю, вдруг мы похожи, вдруг он и есть та пара, тот второй человек, которого мне надо найти.
Рассказываю о нём сосне и спрашиваю, что она думает.
— Я так долго была одна, и никто, кроме тебя, не приходил ко мне… Я стала забывать, какими бывают люди. Если бы он подошёл ближе, я могла бы разглядеть, что у него на уме.
На следующий день, третьего сентября, я иду в школу своей обычной дорогой. Только дорога в школу не та же, что обратно. К «гранитно-научному» зданию я иду напрямик, по самому короткому пути. Через газон, теплотрассу и лужи. Хорошо, что сейчас сухо. Хуже всего зимой: этой дорогой хожу только я, поэтому часто собираю в сапоги все сугробы на пути. Но так заведено, а избавиться от привычного ритуала для меня, пожалуй, невыполнимо.
Я считаю шаги. Если получится чётное число, то день будет хорошим, если нечёт — ждут неприятности. И это всегда работает. Когда-то я пыталась рассказать маме, но она заявила, что всё дело во внушении. А по-моему, суть в том, что для каждого есть своя правильность действий. И мамина правда состоит в отрицании моей.
Дохожу до школьной ограды. Хорошо, что прямой путь не упирается в забор, а проходит как раз через ворота. Мне остаётся сосчитать десятка два шагов, и тут в голову врывается окрик.
Я сбиваюсь со счёта, останавливаюсь, пытаюсь вспомнить последнее число, а меня догоняют. Это Матвей. Он заговаривает, я злюсь, ведь счёт потерян, и теперь совершенно непонятно, каким будет день, тем более когда это третье сентября.
А потом вспоминаю Матвея в лесу, бредущего по дну глубокого рва. Может, и хорошо, что он подошёл? Вдруг он станет вторым человеком? Другом…
Матвей тем временем говорит, что не хотел обидеть меня вчера, что я ему нравлюсь и было бы здорово пообщаться, ведь он новенький и кто как не соседка по парте поможет ему обжиться в классе… Короче, мелет чушь. Но я отвечаю:
— Ладно. Только это самое… — я опять «глохну».
— Чего это самое? — улыбается Матвей.
Я вдыхаю и выдаю резко:
— Никогда не смей трогать мои волосы.
— Ну… как скажешь.
Я не смотрю на него, но он идёт рядом и всё что-то рассказывает.
Чтобы поддержать беседу, замечаю:
— Я не люблю говорить.
Он смеётся:
— Тогда слушай и изредка кивай. Идёт?
И я киваю.
В школе всё проходит гладко. О вчерашнем меня не спрашивают. Классной позвонила мама, объяснила, что мне поплохело, а одноклассникам просто плевать.
Мы договорились вечером прогуляться с Матвеем. Вернее, он сказал, что надо бы погулять, а я кивнула.
Сейчас восемь тридцать. Матвей пришёл. Восемь делится на два без остатка, а два — хорошее число. Но тридцать минут… Надо было договариваться ровно на восемь.
Мы идём вместе там, где я всегда ходила одна. Он следует за мной и сперва говорит, но вскоре замолкает. Сначала радуюсь: может, он тоже видит красоту вокруг и чувствует величавое спокойствие природы. А после слышу, как он тяжело дышит. И смотрю в глаза. Я так редко это делаю, потому что ощущения от чужих глаз слишком сильные. Меня захлёстывает эмоциями. В глазах Матвея блеск и нечто пугающее. Я стучу себя по мочке уха, чтобы успокоиться. Он приближается, тянет руку ко мне. Отшатываюсь. Говорит с хрипом:
— Ты чего? Уж и за руку подержаться нельзя? Хорошо же гуляем.
Думаю, а вдруг опять я спутала чужие эмоции, напридумывала страхов? Даю ему кончики пальцев. Он берёт мою ладонь, но я отхожу, вытягиваю руку, и так мы идём дальше.
Матвей молчит и пытается приблизиться. Я отстраняюсь и жалею уже об этой прогулке. Не понимаю, почему он замолчал, смотрит и дышит так странно.
Мы приближаемся к кругу, где стоит моя сосна. Привычная дорога привела нас сюда. Может, подруга рассмотрит Матвея вблизи и скажет мне о нём всё как есть.
Я вхожу в круг, а Матвей задерживается на секунду за невидимой чертой. В этот миг сосна шепчет мне:
— Он опасен для тебя. Им движет похоть и жестокость.
Матвей рывком нагоняет меня. Я внутренне замолкаю от страха.
— Не могу больше, — глухо рычит он, слов почти не разобрать. — Сюда иди, недотрога.
Он притягивает меня. Вырываюсь, но движения скованы ужасом. Он сдирает с меня куртку, лапает, толкает на землю.
— Видишь, я не касаюсь волос, — глумливо говорит «друг».
И тут страх вырывается наружу, я ору, пронзительно, так, что у самой болят уши.
Матвей на миг останавливается, потом грязно ругается и вновь идёт на меня.
— Беги, — доносится до меня шорох сосновых веток.
И я бегу, вывернувшись из хватки Матвея. Бегу не прочь с этого места, а к сосне.
Выдыхаю:
— Спрячь-помоги.
И вижу, как дерево светится. Кора истончается и впускает меня. Шагаю в дрожащее древесное марево и замираю.
Я теперь едина со своей подругой. Стою в дереве, вижу мир со всех сторон. Передо мной озирается опешивший Матвей. Ходит вокруг, стучит по стволу, но нам с сосной не больно.
— Эй, ты где? — теперь я слышу и наглость, и жестокость в его голосе и вижу гнусные мысли. — Всё равно я тебя найду и…
Он не успевает договорить. Тяжёлая ветка с размаху опускается ему на голову, Матвей падает и спотыкается за вовремя выступившую из земли корягу.
Он падает с обрыва, но успевает схватиться за корень, торчащий прямо из отвесной стены. В следующий миг мы с сосной протягиваем нижнюю ветку и даём хлёсткую пощёчину обалдевшему от этого зрелища Матвею.
Тот скатывается кубарем вниз, теряя с каждым ударом свою самоуверенность и обуявшее его желание. И вот он на дне оврага. Лежит, не шевелясь.
Мне страшно. Смотрю с минуту на мерзавца, представляя, что я — мы с подругой — убили его, и мне страшно, хоть я и ненавижу его.
Но Матвей встаёт. Медленно, прихрамывая и озираясь, идёт прочь по дну оврага.
Я стою в сосне долго, и ничто не зовёт меня наружу. «Ты можешь остаться», — говорит мне сосна. Наверное, я действительно останусь здесь. Буду наблюдать за редкими людьми по ту сторону круга. И никто меня не найдёт…
Но тут голос выдёргивает меня из отрешённости:
— Маша! Машенька, где ты?
Мамин голос. Звук приближается, и вот мама уже на краю круга, плачет, зовёт меня.
Я отвечаю ей шорохом веток. Но мама смотрит прямо сюда, как будто увидела меня в дереве.
— Маша! — и бежит ко мне.
«Я пойду. Спасибо тебе», — говорю сосне. Подруга понимает. Тогда я выхожу навстречу маме.
Она спешит ко мне, но в последний миг останавливается. Помнит, что со мной надо держать дистанцию. Раньше надо было. А сейчас я сама подхожу к маме и обнимаю её. Она замирает, будто не верит, что я так могу. А потом плачет от радости, прижимает к себе, гладит по волосам. И мне не больно. Единственное, что я чувствую — нежность.
— Так и должно быть? — спрашиваю я.
Мама смеётся сквозь слёзы, отвечает:
— Да.
И мы идём домой. Я рассказываю о случившемся и знаю: мама поймёт. И ни разу не говорю «как там его, ну это…».
Выходим к дому. Темно и безлюдно. Мама смотрит время на телефоне: двадцать два часа двадцать две минуты.
— Хороший знак, — тихо говорит она.
— Да, — отвечаю я. И улыбаюсь.
Кира Поздняева

Евгения Долгинова: «Журналист Кира Поздняева уже много лет живёт в Гонконге, пишет прозу, интересуется историей русской эмиграции первой волны в Восточной Азии (она исследована совсем не так хорошо, как европейская эмиграция, но по остроте трагедийности, возможно, даже превосходит её). Насколько я могу судить по работам Киры в «Хорошем тексте», две самые сильные её стороны — сюжетное мышление и большая историко-культурная эрудиция.
«Полуостров» — название очень ёмкое. В какой мере нам свойственна островная отдельность и в какой мы принадлежим континентам? Может быть, мы часть «острова Россия», или всё-таки мы существуем в большом европейском (европейскость, как известно, наилучшим образом выражает себя в Азии). Человек интеллектуально ответственный редко принимает категоричные ответы на эти старинные вопросы, но не перестаёт ими озадачиваться. История русской девочки, оказавшейся в японском лагере для интернированных под опекой двух англичан, — в некотором роде и опыт самопознания, и попытка осмыслить Россию вне России, в контексте катастроф и исторических откровений XX века».
Полуостров
Никогда в жизни мне не было так страшно, как в тот январский день. Сначала мы долго шли пешком, трамваи перестали работать, когда японцы вошли в Гонконг. Мама несла новорождённую сестру Викторию, а папа должен был взять на руки брата Колю, который устал и начал капризничать.
Мама всё спрашивала, может, стоит вернуться домой? Но папа не соглашался, хотя видно было, что он устал, и из-за Коли ворот его выходной рубашки помялся, а галстук съехал в сторону. «Мы теперь британцы», — всё повторял папа.
На площади перед бывшим банком собралась толпа, почти все европейцы. Некоторые держали в руках чемоданы, а кто-то, как и мы, был налегке.
Я почти ничего не видела из-за своего роста, только японские флаги повсюду. «Держись за моё платье, Ира», — сказала мама. А потом вдруг толпа заволновалась, кто-то закричал.
— Что? Что сказали? — мама дёргала папу за рукав.
— Всех британцев арестовывают. Нас поместят в лагерь.
— Какой лагерь?! Какой лагерь, Витя, у меня младенец!
Коля заплакал, все начали куда-то двигаться, мама уткнулась в одеяло, которым была спелёнута Виктория, и визгливо причитала. Меня оттолкнули в сторону.
«Держись крепко за маму, Ира!» — крикнул отец, и я ухватилась за мамин подол так, что кулачку стало больно.
Что-то кричали по-японски, раздавая команды, некоторые женщины визжали. Я боялась, что меня раздавят, и взялась за платье двумя руками. От страха казалось, что ткань стала тонкой и шелковистой и норовит выскользнуть из рук. Нас теснили в сторону моря.
Когда толпа остановилась, я подняла голову и увидела, что держу за подол не маму, а незнакомую молодую женщину. Она смотрела на меня глазами полными ужаса.
— Ты чья? Где твои родители? Господа, чья девочка? Где родители, говорю? Что тебе от меня нужно?!
Тремя годами ранее мы переехали в Гонконг из Шанхая, оккупированного японцами. К тому моменту война охватила почти весь Китай, и нам крупно повезло, что компания, где работал отец, эвакуировалась в спокойную британскую колонию. А для людей с паспортами Российской империи — страны, не существовавшей уже 20 лет, — это был ещё и шанс получить британское гражданство.
Мы приехали в декабре. На первом этаже гостиницы, куда нас поначалу поселили, стояла большая ёлка и пахло корицей, а посередине зала несколько девочек и мальчиков, мои ровесники, пели рождественскую песню. Коля, тогда годовалый, остолбенел, смотрел во все глаза. Меня ещё качало и поташнивало после корабля и отвратительных запахов каюты, которыми пропахла вся одежда. Я спряталась за спинку кресла и мечтала, что тоже пою в хоре в бархатном платье с белым воротником. Мама обняла меня и сказала: «Закончились наши мытарства. Скоро и ты так будешь петь».
А перед следующим рождеством папа вернулся с работы торжественным и сообщил, что нам дали британские паспорта.
«Теперь ты не Ирина, а Айрин. Так всем и представляйся; Ирина — только дома, для нас с мамой, — сказал отец. — Теперь мы под защитой, мы — британцы. Боже, храни королеву!»
В школе меня поздравили; целое утро я ходила гордая, а когда после обеда начался рождественский концерт и мы выстроились на сцене и запели «O, Holy Night», мама в зале расплакалась.
Когда родилась сестрёнка, её назвали Викторией в честь великой английской королевы. «Эта наша маленькая победа», — шутили родители.
В понедельник 8 декабря 1941 года я собиралась в школу, когда зазвонил телефон. Я не понимала, о чём говорит отец, но мама застыла с Викторией на руках и не обращала внимания на Колю, который дёргал её за подол.
— Они напали на Пёрл Харбор, — сказал отец.
— Где это?
— Здесь, в Тихом океане.
— Что теперь будет?
— Не знаю.
Мы с отцом вышли на улицу, было солнечно и почти безоблачно, так что можно было сосчитать все девять гор на горизонте.
— Сегодня все девять драконов видны, — сказала я. — Ну, посмотри, почему ты не смотришь?
И тут раздался вой и грохот, и опять вой, очень страшный. Отец сгрёб меня в охапку и побежал домой.
Так в Гонконг пришла война.
На несколько дней воцарилась странная жизнь. Папа уходил на работу, но возвращался в середине дня. Трамваи встали, и с притихшей улицы были хорошо слышны отдельные голоса и громкие шаги. Дома стояла какая-то колодезная тишина, затаившаяся под высоким белым потолком, освещённым ярким солнцем. И только вдалеке, по другую сторону пролива, грохотало густо и раскатисто, а потом надолго замирало.
Родители не разрешали приближаться к окнам, и я делала вид, что рассматриваю игрушки на свету, а сама украдкой выглядывала наружу. Воды пролива серебристой чешуёй переливались на солнце, а над горами-драконами стоял чёрный дым. Я смотрела и пыталась осознать — вон там, на другом берегу, куда мы ездим в русскую церковь, — враг.
Приближалось западное рождество. По традиции мы отмечали православное, но я втайне от взрослых любила 25 декабря. Засыпая в канун, я молилась, чтобы рождественским утром всё стало, как прежде. И больше не нужно никаких подарков.
Мне снился снег, снежинки в небе, как пятнышки на оленьей шкуре, большие и частые. Он сравнял с тротуаром проезжую часть, засыпал гидранты, и только красные колпачки почтовых ящиков торчали над ровной белизной. «Как же мы теперь выйдем из дома?» — думалось мне. И тут послышались бубенцы и топот копыт. Это Санта!
Я проснулась, звон бубенцов явственно стоял в ушах. Комнату заполнял молочный праздничный свет, как будто за окном было белым-бело. Коля ещё спал, я прокралась к окошку, раздвинула занавески и отпрянула от яркого солнца. День был погожим, безоблачным, на хлопковом дереве перед нашим окном карминовые упругие лепестки уже проклюнулись из налитых бутонов.
Опять зазвенело — это не бубенцы, это кто-то звонит в дверь. В прихожей стояла заплаканная соседка, и следом за ней заплакала мама, страшно и некрасиво, с визгом. Пробудившийся Коля ухватился за мою ночную рубашку и спросил: «А что такое капитуляция?»
Через несколько дней папа принёс газету с объявлением — всем представителям стран, воюющих с Японией, 5 января явиться на площадь для регистрации.
— Мы ведь русские, Виктор, может, не надо идти? У России с Японией договор.
— Мы британцы, душа моя. Ты забыла?
Папа надел свой выходной костюм, и мы пошли.
— Открой рот и зови своих родителей! — кричала молодая женщина и трясла головой, а я не могла произнести ни слова и думала только о том, что если сейчас с её кудрей слетит шляпка, то мне совсем не поздоровится.
— Успокойтесь леди, разве Вы не видите, что у ребёнка шок?! — вступился высокий худой мужчина. — Господин офицер, тут ребёнок потерял родителей!
Японский офицер оборотил к нам равнодушное лицо и погнал толпу вдоль улицы.
Мужчина крепко взял меня за руку:
— Не бойся, детка, найдём твоих родителей, нас всех соберут в одном месте, сейчас главное, чтобы тебя не затоптали, держись. Как тебя зовут?
— Айрин.
— Да у тебя, оказывается, прекрасный голосок! И имя красивое. А я — Николас.
Так мы двигались около получаса, пока не остановились на набережной за Западным рынком, где нас стали пересчитывать и загонять в грязные тесные гостиницы. Молодая дама в шляпке опять оказалась рядом. У неё были светлые волосы, уложенные по моде на одну сторону, большие глаза и аккуратный вздёрнутый носик, словно кто-то положил палец на переносицу и легонько потянул вверх.
— Это же бордели! Здесь зараза на заразе! Чёртовы коротышки!
— Сожалею, леди, но «Пен» уже занят японским главнокомандующим, не думаю, что он захочет потесниться, — ответил мой избавитель.
— Я ценю Ваш юмор, — сказала женщина холодно.
— Занимайте комнаты на всех этажах, кроме нижнего, — скомандовали нам, и толпа начала ломиться на узкую деревянную лестницу.
— Давайте девочку мне, — сказала молодая.
— Вы же кричали, что это не Ваш ребёнок.
— А разве Ваш? Или в этом заведении Вам нужна девочка?
— Мисс… Я поищу её родителей и приведу их к Вам. Не дерзаю спрашивать адрес, но позвольте хотя бы обменяться с Вами именами. Николас Янг.
— Элизабет Хантер.
— Леди Элизабет, Вы ещё не знакомы с Айрин. Айрин, познакомься — леди Элизабет.
— Давай за мной, а то, пока мы тут соблюдаем ритуалы рыцаря Ланселота, все лучшие места займут.
Мы медленно двигались в очереди вверх по лестнице.
— Сколько тебе лет? Восемь? Девять?
— Мне — одиннадцать.
— Одиннадцать?! Такая маленькая и худая? — Элизабет задумалась и захлопала длинными ресницами. — Значит, в старости будешь молодушкой.
— Будет ли у нас всех старость? — громко вздохнула грузная женщина с одеялом вместо воротника на плече.
Элизабет словно не расслышала.
— Что у тебя за акцент? Ты не англичанка?
— У меня британский паспорт, — я отвернула голову и тут же споткнулась о ступеньку.
— А родилась ты где?
— В Шанхае.
— Ну не китаянка же ты. Откуда твои родители?
— Они русские.
— Ах вы русские! Ты, наверно, какая-то княжна?
— Нет.
— Признавайся, княжна? Графиня? Может, за тебя мне дадут золота и соболей?
Комната, которая нам досталась, была тесной, без окна, с одной большой кроватью, оказавшейся уже занятой. Элизабет кошкой метнулась в угол и бросила на пол пальто.
— Расстилай свой плащ, Ваше сиятельство. А то не успеешь оглянуться, как кто-нибудь угнездится на голове, — скомандовала она. — Сиди здесь и никуда не уходи, а то тебя никогда не найдут. Я скоро.
Моих родителей в гостинице не оказалось.
Николас, навещавший нас несколько раз в день, приносил мне кусочки шоколада и молоко и развлекал Элизабет новостями.
У него были карие глаза, домиком очень густые брови и крупный красноватый нос. Мама говорила про такой — типичный английский нос. Чёлка, усмирённая бриллиантином, через два дня пребывания в отеле встала смешным хохолком, что придавало Николасу сходство с добрым попугаем.
Прошёл слух, что всех иностранцев отправят в один большой лагерь. Где расселят — неизвестно, поэтому нужно запасаться всем, чем только возможно, учил Николас. Но Элизабет и без него знала что делать и после своих отлучек из комнаты возвращалась то с вилками, то со старой простынёй, то с грязной мышеловкой.
Наконец, недели через две, объявили, что в лагерь отправляется первая партия.
— Вам так не терпится за колючую проволоку? — спрашивали соседи Элизабет, которая стремилась попасть в число первых.
— Не хочу провести ближайший год в углу на полу, — отвечала она.
— Год?! Дева Мария! Типун Вам на язык! Нас скоро освободят, мы ведь не военные.
Ещё через день жильцы нашего этажа, в основном женщины, высыпали в тесный коридор. Пока толпа гудела и распределялась по зазорам, высокий японский офицер в круглых очках держался в профиль. Коротко подстриженные усики очерчивали недовольной скобкой круглый рот. Когда все успокоились, он заговорил: «Вас отправляют в лагерь для интернированных лиц в Стэнли. Там будут хорошие условия проживания и изобильная еда. Матери с детьми получат привилегии. Надеюсь, каждый из вас оценит щедрость Японской императорской армии. Как вы знаете, солдаты Великой Японии всегда были великодушны к женщинам и детям».
У офицера были красивые руки. С длинными пальцами, как у моего учителя музыки в Шанхае.
Жильцы загудели и задвигались, из комнаты доносились шутки и смех, словно впереди ожидало забавное путешествие. От Элизабет пахло духами с горчинкой, будто цветок размяли пальцами.
Нас погрузили на катера. Было свежо и солнечно, на борту отдавало сыростью и топливом, отяжелевшее судно двигалось медленно вдоль береговой линии. Японские конвоиры, коренастые земляные человечки с неподвижными, словно уставшими, лицами, смотрели за борт. Истосковавшиеся по свежему воздуху арестанты сначала возились и галдели, а потом тоже затихли, глядя на море.
Мы плыли несколько часов и после обеда причалили в полукруглой бухте, мягко врезавшейся в основание полуострова и делавшей его похожим на шею. Можно было вообразить, что шею кто-то сдавил и на мысу полуострова надулась гора.
Лагерь устроили в сдавленном месте.
Вереница заключённых тянулась от пристани вверх на холм, к месту поселения, которое ещё не успели оградить колючей проволокой, и китайские рабочие в круглых шляпах растягивали железные мотки между столбами, поглядывая на нас испуганно.
На плоской вершине холма было оживлённо: прибывшие ранее заключённые из других отелей перетаскивали мебель, тюки, матрасы. Кто-то встречал знакомых и обменивался новостями. Посреди этого броуновского движения неподвижными частицами стояли равнодушные с виду японские конвоиры.
— Бетси?! И ты здесь? Вот так встреча! — маленькая полная женщина с острыми карими глазками оглядывала нас из-за свёрнутого в рулон матраса. — А мы думали, что ты в Америке коктейль попиваешь где-нибудь на яхте. Ведь Уильямс-то уехал?
Её маленький точёный носик двигался между румяных щёк вверх-вниз, как хоботок насекомого. Бетси передёрнула плечами:
— Очень рада тебя здесь встретить, Карин! Я не собиралась уезжать. А ты-то почему не в Америке?
— Ну, ты же знаешь, что мой супруг не мог покинуть свой пост, — сказала она, не сводя с меня глаз. — Но он — мудрый человек, всё предусмотрел, мы взяли с собой четыре чемодана. А ты, я смотрю, налегке? Кто это с тобой?
— Это? Девочка, — Бетси улыбалась и смотрела женщине прямо в лицо. Карин подождала ещё несколько мгновений и пошла дальше со своим матрасом. Ветер приглаживал длинный ворс её мехового воротника и манжетов.
Лагерь, развернувшийся на плоской вершине и склонах холма, с севера захватил большую территорию колледжа, а с юга — соседствовавшие с ним дома охранников тюрьмы. Сама же тюрьма — современная, передовая, гордость британских колоний — примыкала к лагерю тыльной стеной. С запада и с востока было видно море, и когда стихал гомон, можно было слышать, как волны накатывают на каменистый берег. Полуостров Стэнли больше походил на курорт.
Ещё три недели назад здесь шли отчаянные бои. В главном здании колледжа квартировал военный госпиталь, и слухи оттуда приходили такие страшные, что люди обходили стороной разбитое обстрелянное здание без окон и старались занять бунгало, где до войны жили учителя и сотрудники. Первая партия заключённых, попавшая сюда два дня назад, немного расчистила территорию и похоронила трупы, но на земле ещё было много обломков, осколков, тряпья, кусков резины.
Бетси, по-орлиному оглядев территорию, направилась к дальнему бунгало. Кряжистый одноэтажный дом, приплюснутый, как китайский садовник шляпой, невысокой треугольной крышей из красной черепицы, ближе других подступал к обрыву над пляжем. В нескольких шагах находилось небольшое старое военное кладбище, на котором не хоронили уже лет 50.
— Лучшие соседи — рыбы и мертвецы, — объяснила свой выбор Бетси.
Дом уже хорошенько обчистили японские солдаты, а после них — местные рыбаки. Из обстановки в комнатах остались только каркасы кроватей и пара тумбочек. На стенах висел свиток с каллиграфией и две фотокарточки — с одной смотрел малыш в китайском пальтишке, а на другой несколько мускулистых азиатских юношей в теннисных рубашках и шортах позировали на фоне главного здания. Бело-синие горшки с растениями стояли забытыми на подоконниках, несколько цветков уже увяли. На полу угловой комнаты валялась распахнутая птичья клетка, полувысохшая лужица воды ещё оставалась на дне фарфоровой поилки. Я взяла клетку себе.
После раздумий, где будет теплее зимой и прохладнее летом, Бетси остановилась на угловой комнате с двумя большими окнами: «Зато светло».
В наш домик начали прибывать люди.
— В таких жила одна семья, да и то китайцы, а нас по 20 человек запихивают.
— Всё лучше, чем в грязном борделе без окон. Да и ненадолго, мы ведь гражданские.
— Думаете, правительство за нас заступится?
— Не сомневайтесь! Так же, как оно заступилось за Гонконг.
Новые соседи рассказали, что в самую ночь Рождества в главном здании была резня. Японцы закалывали раненых прямо в кроватях, насиловали медсестёр. Трупы потом сожгли, а какие-то валялись целых три недели, хорошо, что сейчас не лето. Там, где было костёрище, можно собрать пуговицы. Многих убитых опознать не удалось, так и закопали безымянными. Тяжело пришлось хоронившим. Зато у них теперь кожаные сапоги. А вообще, в здании есть одеяла и матрасы. На первом этаже, где до войны были классы, можно раздобыть парты, стулья и много полезных вещей, что не растащили местные.
О моих родителях никто ничего не слышал. Уже вечером к нам зашёл офицер с красивыми руками и сообщил, что отец попал в другой лагерь, для военнопленных. А мать с детьми должны отпустить на особых условиях, она будет работать в пекарне. «Айрин Орлофф интернирована в лагерь в Стэнли».
В самую первую ночь в лагере я никак не могла уснуть. Было холодно, страшно без родителей, и в нескольких десятках метров от нас лежали в земле безымянные мертвецы. За окнами насекомые стрекотали так громко, что заглушали шум прибоя. Я закрывала уши, но тогда мешали глухие и частые толчки в висках. Слышно было, как моргают глаза, и этот звук был таким же, какой издавала моя кукла, когда моргала. А вдруг я — кукла? Меня передали от одной хозяйки другой, она теперь будет обо мне заботиться. Живут же куклы, и им хорошо, надо просто помнить о том, что всё вокруг — игра, тогда не будет боязно.
— Не спишь? — Бетси перевернулась на другой бок. — Спи. У меня в желудке словно мячик с шипами. Чёртовы коротышки.
Утром нам огласили распорядок: в 11 дня и 5 вечера — еда. В здании общественной кухни несколько раз в день дают кипяток, получать по очереди. Выходить на улицу после 9 вечера запрещается. За попытку пересечь границы лагеря — расстрел.
Командование Императорской армии Японии великодушно разрешает заключённым готовить в домах, заниматься рукоделием, с разрешения командования — собираться для проведения религиозных обрядов, праздников и иных массовых мероприятий. В лагере будет действовать самоуправление под надзором администрации. Заключённые должны приветствовать японских солдат поклоном под углом 45 градусов и офицеров под углом 90 градусов.
Наш ежедневный рацион состоял из риса. К нему добавлялась пара ложек рагу, или горстка рыбных костей с редкими вкраплениями мяса, или самое отвратительное — вонючая креветочная паста.
— Пять процентов риса — лучше, чем сто процентов ничего, — шутил Николас. Но через неделю у него, как и у большинства заключённых, начались сильные боли в животе. Несколько правдолюбцев, рискуя понести наказание, обратились к лагерному начальству с жалобой, но им объяснили, что интернированный съедает в день ровно столько же, сколько японский солдат.
Николас как-то позвал нас с Бетси в гости и подвёл к распаханному квадратику земли, откуда торчали небольшие ростки.
— Вуаля! Семечки из консервированных помидоров, оказывается, неплохо прорастают!
Бетси присела на корточки и принялась разглядывать побеги.
— Откуда такие способности?
— Я работал на метеорологической станции Королевской обсерватории, мы там чего только не выращивали, сидя в горах неделями.
— Ого! — присвистнула Бетси, — Рыцарь Ланселот предсказывал погоду?
— Предсказывал. И отправлял сводки морякам и в газету. А Вы?
— Я работала в «Лэйн Кроуфорд». Одевала богатеньких дамочек в роскошненькие наряды.
— Ах вот почему Вы так элегантны даже в лагере, леди!
Несколько помидорных побегов переехали в наш огород, который мы с Бетси вскопали за домом. Посадили всё, что можно было добыть на обеде — куски моркови и сладкого картофеля, корешки кинзы и много семян помидоров.
В домах, где прежде жили охранники тюрьмы, нашлось несколько швейных машинок, и Николас выменял одну из них на свой портсигар и подарил Бетси.
— Боже! Что Вы хотите за это сокровище, Ланселот? Только душу не просите, её у меня нет.
— Это — мой рыцарский дар, леди. Но я не так бескорыстен, как может показаться — у меня всего две рубашки, и скоро они придут в негодность. Рассчитываю на Ваше полное понимание.
Бетси прекрасно шила и перешивала ветхую одежду, а я делала вышивку по её задумкам, вышивать меня научили рано. Вещи мы могли обменивать на еду или продавать. Торговые операции в лагере запрещались, но японцы закрывали на это глаза, а охранники и сами приторговывали, доставляя из города сигареты, продукты, нитки, иглы.
Поначалу никто не верил, что наше заключение продлится долго, но, когда стало очевидным, что освобождение не при дверях, люди успокоились и принялись устраивать жизнь кто как мог. В очищенном от грязи и завалов главном здании наладили школу, профессора университета читали лекции для взрослых, артисты ставили спектакли, пасторы совершали богослужения и скрепляли браки. Жильцы, квартировавшие в крыльях главного здания, пытались изгнать оттуда хоровой кружок, но победила музыка.
В нашем классе было 12 человек, «дети беспечных родителей», как называла нас учительница. Заботливые родители вывезли своих детей в эвакуацию до начала войны. У меня был русский друг Мишка, сын полицейского. Его семья, как и наша, переехала из Шанхая, отец поступил на службу в полицию и получил британское гражданство. Всю семью из четырёх новоиспечённых британских душ интернировали в лагерь. А дядя Мишкин остался на свободе, ему паспорт с королевским гербом получить не удалось, и теперь он, наверное, радуется.
Николас однажды достал сигаретную пачку, и я увидела, что вся она размечена столбцами мелких цифр и букв.
— Наблюдения за погодой, не могу без этого. Вот это — осадки, а здесь — направление ветра, а самое интересное начнётся в тёплый сезон — тайфуны. Обожаю тайфуны!
— Они ведь опасные.
— В этом и вся прелесть. Сначала ты ощущаешь, что воздух уплотнился, словно множество мелких капель встало плечом к плечу. Ветер пахнет по-новому — далёкими морями, чужими странами, и вся природа начинает нервничать, как малый ребёнок, — вспыхнет солнце, а через минуту закапает дождь, и опять солнце. И вот — пришёл чужестранец, завоеватель, ловкий охотник-великан. Вздыбил воду, повыдёргивал с корнем деревья, ободрал листья и растёр их в клочки. И ты смотришь на этот сумасшедший дикий танец, от которого у тебя ноет на сердце, и понимаешь: вот это и есть — жизнь! — Николас махнул рукой, задел пустую жестянку, и она прогрохотала по полу.
— Да Вы, — страстный человек, Ланселот, — в дверях, прислонившись головой к притолоке, стояла Бетси и улыбалась, мы не заметили, как она пришла. Она сняла косынку, повязанную вокруг головы, и растрёпанные светлые кудри упали на загорелый лоб. Она была очень красива в этот момент в своей защитного цвета рубашке, перешитой из гимнастёрки, с вышитой слева на груди волной.
Наступил май, жаркий и влажный. Целыми днями мы шили на заказ шорты и майки. Пришла Карин с отрезом лёгкой материи и стала предлагать его Бетси.
— Что-то подозрительно дёшево ты отдаёшь этот шёлк, Карин.
— Только тебе по такой цене и предлагаю на добрую память. Нас ведь скоро освобождают, куплю себе новый.
— Да ладно, — усмехнулась Бетси. — Нас уже полгода освобождают.
— Не вас, британцы остаются в лагере. Американцев.
Машинка Бетси остановилась.
— Представь, как повезло той англичаночке, что обвенчалась в воскресенье с нашим парнем! Поедет на свободу, в Америку.
Бетси стала часто пропадать на другой стороне полуострова в квартале, где раньше жили охранники тюрьмы, а теперь — американцы. Комнаты здесь были теснее и кишели клопами, но людей в них жило меньше, а Карин с мужем и вовсе роскошествовали вдвоём. Николас не переставал удивляться, неужели Бетси сдружилась с Карин так, что встречается с ней ежедневно?!
Днём мы работали, а к вечеру Бетси убегала, от неё пахло духами. Возвращалась домой без нескольких минут девять; а однажды и вовсе не пришла ночевать. Всю ночь я воображала, как её схватили японцы за нарушение комендантского часа или убили безымянные мертвецы, но она вернулась к завтраку в прекрасном настроении.
Как-то я застала на кухне сцену — перед вечерним выходом Бетси вытащила из-за шкафа консервную банку с мясной тушёнкой.
— С ума сошла! Это же ваш запас на чёрный день! — всплеснула руками соседка.
— Я закрепляю у него рефлекс: Элизабет Хантер — праздник.
— Смотри, не прогадай, Бет. Попользуется тобой, да и только.
— А я свои капканы расставляю грамотно.
Летом, под наблюдением охраны, нам позволили спускаться к пляжу в Твидовой бухте. Купаться ходили все, кто не ленился преодолеть несколько десятков ступеней. Воскресным днём на пляже мы с Николасом строили песчаную метеорологическую станцию; он соорудил башню и приспособил бечёвки, на которых поднимались специальные знаки, отображавшие силу тропического циклона.
«Сильный ветер и вихри с юго-востока», — объявлял он, и я поднимала за верёвочку перевёрнутую букву «Т». «Штормовой ветер с северо-запада. Нет, Айрин, треугольник углом вверх, а не вниз».
Я увидела, как по ступенькам к пляжу медленно спускается Бетси с худым и низкорослым пожилым мужчиной.
— Ой, Бетси с каким-то дедушкой.
— Дедушкой? С женихом!
Я рассмеялась, а Николас повернулся лицом к морю и начал с силой бросать в воду камешки.
Минуло несколько дней, Бетси вернулась домой рано, не сказав никому ни слова, бросилась на свою кровать лицом к стене, накрылась с головой одеялом и пролежала целые сутки, не издав ни звука. Мне было страшно, я подходила к её кровати и подолгу стояла рядом, а потом ложилась на свою и лежала, глядя в потолок.
Вечером следующего дня пришёл Николас, принёс поесть, присел на краешек кровати и начал нежно тормошить Бетси за плечо, раскачиваясь и читая нараспев:
Ставан был упорный малый,
Скажем мы ему спасибо,
Что он дал коням напиться
И помчался за звездою,
В той ночи, во тьме холодной,
Звёзды радостно мерцали.
Два коня в пятёрке были
Рыжими, скакали живо,
Знали, что бежать им нужно
За звездой, что ярко светит.
Бетси затряслась и всхлипнула, совсем как девчонка: «Не могу! Я больше не могу здесь!» А Николас смешно возвысил голос:
«Так вставай, петух мой старый,
Пой же, если это правда»,
И вскочил петух безглавый
Прокричал он горлом утро.
В эти радостные святки,
Пьём за петуха и радость,
И за всех людей хороших,
И за тех коней, что мчали
Ночью Ставана Святого…
Николас, едва касаясь, гладил рыдающую Бетси по волосам. Брюки на коленках у него вытянулись, и из скукоженной гармошкой штанины торчала тощая щиколотка в огромном самодельном башмаке. Бетси вскочила, обхватила Николаса за шею, выставив свои костлявые локотки, и долго плакала, пока он укачивал её и повторял: «Ну, всё. Всё».
Наутро больше тысячи человек запрудили кладбище, откуда открывался вид на море и на два военных корабля, стоявших на рейде под американским флагом. Вместительные шлюпки и катера, гружённые до отказа, увозили с пристани интернированных, теперь свободных, американцев. Бетси среди провожающих не было. Её пропуск в Америку уплывал домой к жене и детям.
Однажды утром Бетси побежала знакомиться с новой партией заключённых — медиков и инженеров, которых японское командование держало на службе в городе.
— Смотри, Айрин, кого я тебе привела!
В дверном проходе стоял высокий мужчина. Ему пришлось слегка нагнуться, чтобы войти к нам в комнату:
— Здравствуй, Ирина! Меня зовут Александр, — произнёс он по-русски с акцентом и продолжил уже по-английски, — моя невеста — русская, мы познакомились в Харбине и перед войной переехали в Гонконг. Ты не знакома с Еленой Борисов?
— Можешь говорить с ним по-русски, Алекс немного понимает. И он может приходить к нам, чтобы не скучать по своей невесте, да, Алекс? — Бетси сияла.
Александр стал часто у нас бывать. На свободе он служил врачом, и в лагере сразу поступил на работу в лазарет. Он научил нас заваривать иголки австралийских сосен, источник витамина С, и приносил к чаю то бисквит, то сахар, то кусочки затвердевшего шоколада с белым налётом. — С врачом мы не умрём от голода, — смеялась Бетси и в благодарность чинила Александру одежду. Он сначала отговаривался, что проживёт и с дырками на рукавах, а потом привык.
Как-то раз мы вернулись в комнату, получив на кухне тарелки утреннего риса, и увидели на столе шапку, накрытую тряпицей.
— Это ещё что? — нахмурилась Бетси.
Послышался тонкий писк, я подняла тряпку — в шапке сидел цыплёнок, крохотный желтоватый, как зимнее солнце, испуганный комочек.
— Боже! — завизжала Бетси.
Через минуту на пороге появился смеющийся Александр.
— Где ты его взял?! Айрин, мы должны расцеловать этого мужчину!
Целый день цыплёнок переходил из рук в руки. Прибегали соседи из других бунгало и просили подержать или просто посмотреть.
Зашёл Николас, и мы вдвоём долго болтали и наблюдали, как цыплёнок забавно путается в высокой траве.
— Надеюсь, Бетси не приготовит куриный пирог? — хмыкнул он. — Хотя, вряд ли, масла и сала в лагере не добыть.
— Ну нет, — засмеялась я. — Она его гладит и зацеловывает.
— Цыплёнка?
У врачей лазарета было много работы. А вечерами Александр заходил за Бетси и они шли гулять на кладбище. «Пойдём-ка навестим наших самых любимых соседей».
Мишка однажды засиделся у меня, мы нашли в библиотеке папку с фотографиями колледжа и рассматривали их допоздна.
— Ну я побежал, а то темно совсем, — засобирался он. — А Бетси где?
— На кладбище, думаю.
— На кладбище?
— Они с Александром по вечерам навещают могилы.
— Ну ты, Иринка, наивная! — засмеялся Мишка как-то нехорошо и покраснел.
— А что ещё можно делать в темноте на кладбище?
— Любиться! Все этим там занимаются.
Горячая волна ударила мне в лицо, и в ушах сильно зазвенело.
— Дурак! — крикнула я вдогонку. — У него есть невеста!
Перед Рождеством мы решили перемыть все окна в доме. Декабрь стоял тёплый и сухой, работалось весело, вспоминали рождественские песни.
— Только не «Тихую ночь», а то заснём и свалимся с подоконника. Давайте что-нибудь повеселее, «12 дней рождества».
Пели, путали слова, смеялись. Вечером сидели вдвоём в комнате с чистыми окнами и пили чай. Я встала, чтобы затворить створку, холодало.
— Как ты выросла, Айрин.
— Выросла?
— Да, смотри, это платье было тебе по колено, а стало почти мини. Ну-ка, повернись кругом.
Я повернулась, как в танце.
— А ты красивая. Аккуратненькая такая. Гладкие волосы, и профиль точёный, благородный. Не вертись, постой ровно. Ты точно не княгиня? И двигаешься красиво. Мишка в тебя не влюблён?
— Да нет! — я рассмеялась, а потом вспомнила последний разговор с Мишкой и покраснела.
— Ага! Краснеешь! Влюблён?!
— Бетси, ты любишь Николаса?
— Ланселота? Люблю.
— А почему не выходишь за него замуж? — выпалила я и осеклась. — Просто он такой хороший.
— Ты бы за такого вышла?
— Да.
— Эх, Айрин, выходить надо не за хороших, а за любимых! — Бетси обхватила меня за плечи. — Пойдём посмотрим, не видать звезды?
Это было последнее Рождество в оккупации. Все — и заключённые, и японцы — чувствовали, что война на исходе. В городе случались перебои то с электричеством, то с водой. Наш рацион сократился до горстки риса, и даже то, что территория лагеря превратилась в заросли томатов, не спасало от хронического недоедания и связанных с ним болезней.
К празднику получили посылки от «Красного креста» — сахар, чай, солонину, карамель, желатин, сардины, мыло. После обедни устроили большой стол для друзей, сделали себе короны из веток.
— Мы больше похожи на скелетов в День всех святых, чем на рождественских волхвов, — заключил Алекс.
Вспомнили, что ещё до ёлки в Англии было святочное полено, послали мужчин за поленом, раз ёлки нет. Подожгли его потом на улице и долго сидели в свете костра, пели песни. Пламя отражалось в начищенных стёклах и бросало тени на стену нашего дома, заросшую плесенью. Разыграли представление теней, много смеялись. Николас поднялся подбросить хвороста в костёр, и на стене выросла его тень.
— Ой, смотрите, Николас похож на человека без головы, — засмеялась я.
Он вздрогнул и обернулся, и все как-то неловко затихли.
— Пойдёмте в дом, — позвала Бетси.
В январе в небе над Гонконгом появились американские бомбардировщики. Завязались воздушные бои. Мы наблюдали и молились.
— Смотрите, какой дым!
— Это в Тайку.
— Японские склады горят! Молодцы ребятушки!
Недалеко от лагеря находилась пулемётная станция. «Они не имеют права держать огневую точку рядом с таким скоплением людей. На крышах должны быть начертаны белые кресты, чтобы лётчики распознали лагерь», — говорили сведущие.
В 8.15 утра 5 января мы завтракали, когда прогремел сильнейший взрыв. В доме повыбивало стёкла, предметы попадали со своих мест. Люди кричали. Мы выскочили на улицу и увидели, как пылает соседнее бунгало.
В те дни у Мишкиного папы было много работы, он вырезал надписи на четырнадцати могильных камнях.
Зарядили дожди, настроения ни у кого не было.
— Давайте сами выложим из камней белые кресты, — предложил Николас. — Пойдём-ка, Айрин, соберём камешков для вашей крыши.
Все спорили, что одного большого креста будет достаточно, чтобы лётчики не нанесли удар, но Николасу хотелось обезопасить наш дом. Мы с ним спустились к пляжу; я промокла под дождём и капризничала:
— Они, когда мокрые, — все серые.
— Ничего подобного, надо только сделать усилие, и тогда заметишь, как много белых вокруг.
Я делала вид, что присматриваюсь, а сама набирала любые, только бы скорее вернуться в дом. Николас смешно поскальзывался в своих неуклюжих башмаках с подошвой, сделанной из автомобильной шины, но собирал по-честному.
Наша крыша была слегка покатой, и камни можно было уложить между черепицей. Николас полез наверх.
— Айрин, сходи пока за кипятком, у меня зуб на зуб не попадает. Напоишь своего друга чаем.
— Вам из Дарджилинга или из Нилгири, сэр? — поинтересовалась Бетси.
— О, что Вы, леди, только с берега Стэнли, с вершин австралийской сосны.
— Ты там аккуратнее на своей вершине! Скользко.
За кипятком стояла очередь, я встретила Мишку, поболтали.
— Ну я побежал, а то у нас с отцом сейчас одна пара обуви на двоих, мои истёрлись и малы, а кожу найти не можем.
— Беги.
Чайник был тяжёлым, но от него шло тепло, согрелись руки и ноги. Над кустами показалась наша крыша с крестом, Николас успел закончить. Я поторопилась.
У дома стояла толпа. Я подумала — пришли посмотреть на крест, подошла поближе и увидела, что Александр накрывает брезентом кого-то лежащего на земле.
Брезентовый холмик получился совсем невысоким, можно было подумать, что там лежит что-то плоское. Справа из под грубой ткани торчала очень худая нога в огромном башмаке с подошвой из шины.
Дальше ничего не помню. Очнулась я через несколько дней в лазарете, рядом были Бетси и Александр. Бетси почему-то — в белом халате и косынке с красным крестом. Похудевшая, с ввалившимися глазами, красивая как-то по-новому.
— Иринка! Моя дорогая! — она целовала мои ладошки.
— Ты была здесь со мной?
— Да. Я теперь всё время буду здесь, — она указала на крестик на своей косынке. — Будешь помогать?
— Буду.
Когда я смотрела на неё, привыкая к новой, ещё незнакомой Бетси, она отводила глаза, словно боялась вопроса. А я хотела спросить, но тоже боялась. Наконец она решилась:
— Иринка, ты помнишь, что произошло?
Я покачала головой, боясь расплакаться.
— Хочешь увидеть, где его похоронили?
— Да.
— Там хорошо. На холме, море видать, как будто ты птица. Будет наблюдать свои тайфуны.
Я притянула Бетси к себе и заплакала. Первый раз с того момента, как потеряла родителей. Меня учили, что плакать при посторонних — дурная манера.
Александр всё это время стоял рядом:
— Я бы сказал, что тебе сейчас нельзя плакать, Иринка, но я рад. Мы думали, что эта девочка не умеет плакать, её заколдовали.
Уже много позже я узнала, что под койкой Николас хранил коробку с выцарапанной надписью: «День победы». Внутри лежали хорошие туфли, рубашка, брюки, галстук. В них и похоронили.
Три года время тянулось как нитка из новой бокастой катушки, разматываемой вручную. После смерти Николаса казалось, что катушку вставили в машинку, и она закрутилась как сумасшедшая.
В августе 1945-го японский император Хирохито объявил о капитуляции, об этом нам сообщили на общем сборе. Мы не понимали, чего ждать дальше. Японцы ходили угрюмые, часть лагерной администрации уехала в город, но из лагеря никто не уходил. За ограждением со стороны деревни толпились китайцы, местные рыбаки. Швыряли камнями в будку охраны, и им за это ничего не было.
А через пару дней в небе поднялся рёв самолётов. Американцы кружили над лагерем и выделывали такие трюки, что женщины и дети визжали. На нас полетели цветные парашюты — жёлтые, зелёные, красные — с едой, одеждой, лекарством. И тогда, когда у всех уши заложило от шума и охрипло горло переговариваться друг с другом, вдруг пришло осознание того, что мы победили. Закончилось.
Вскоре после войны вся наша семья переехала в Австралию. Папино здоровье было сильно подорвано лагерными работами. Мама, пережившая войну одна с малыми детьми в голодном городе, не хотела оставаться в Гонконге. Выходило, что мне повезло больше других.
Когда наш корабль проходил мимо Филиппинских островов, в регионе разыгрался тайфун Ирена. Был самый конец ноября, не характерное для тайфунов время.
Николас рассказывал, что давать этим явлениям имена начал австралийский метеоролог Клемент Рагг; он называл тайфуны именами парламентариев, которые ставили палки в колёса метеорологическим исследованиям. В войну американские пилоты называли тайфуны в честь тёщ и сварливых жёнушек.
Небо над нами прояснялось, а через несколько минут налетали тучи, ветер швырял дождевую воду пригоршнями, Ирена буянила.
Я представляла, как Бетси, оставшаяся с Александром в Гонконге, прочитает погодную сводку, состроит ухмылочку и скажет: «Я ценю Ваш юмор, Ланселот».
Анастасия Разумова

Евгения Долгинова: «Ваби, саби, сибуй — базовые принципы японской эстетики — часто перечисляются с четвёртым элементом — югэн. Где ты, югэн, и почему не назван Михеевым?
Югэн в самом рассказе Анастасии Разумовой — журналиста из города Березники Пермского края. Это красота скрытого, невидимого, тайного, мистического, красота послечувствования и недосказанности. Анастасия Разумова работает вот прямо по югэн. Михеев, тусклый болезненный человек «с сердцем в плёнке», фактически — «человек без свойств», оказывается раненым и преображённым праздной красотой, явившейся к нему в образе слегка японствующей дачной соседки. Луноликой скучно, она несёт очаровательные манерные пошлости, — тут-то читатель, выдрессированный Петрушевской (а Михеев — это почти Петрушевская девочка), и ждёт уж рифмы розы — можно ли не ждать от нимфы засады, издёвочки, подлой насмешки, острого каблука прямо в душу? Ан нет, извольте обмануться. Пропажа луноликой пускает трепещущего Михеева в упоительный трип по оскаруайльдовскому бобовому стеблю, — и там уже всё сходится. Вся жизнь, «ненужно прожитая», обретает форму, очертания, смысл.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.