
Бесплатный фрагмент - Очень маленькие трагедии
Посвящается Элле Боксер
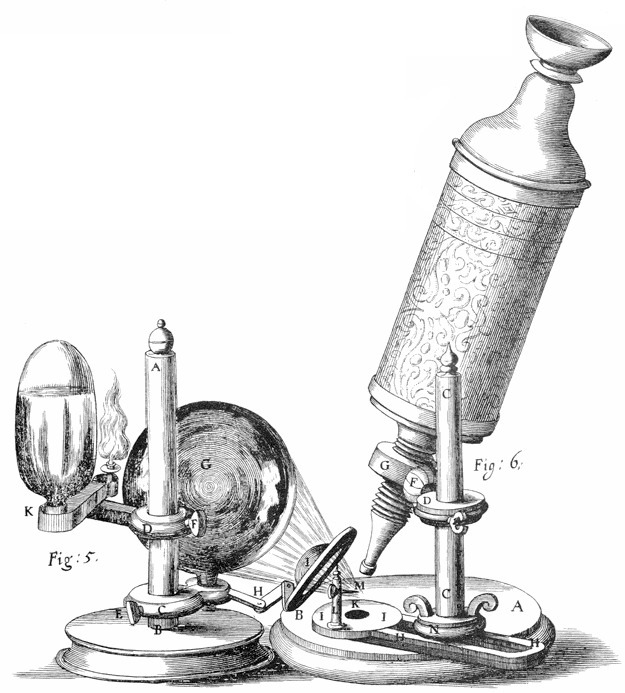
Мы с Левой поженились, когда мне было двадцать три года. Через тридцать пять лет он умер, и моей жизнью завладела пустота. Несколько лет я в ней барахталась, пока не стали появляться твердые островки Левиного присутствия — эти рассказы. Мой муж присутствует во всех них. В одних он рассказчик, в других персонаж, в третьих — в массовке, среди неразличимых «мы». А в остальных он растворен в читателях. Лева не прочел ни одного моего рассказа — пока он был, их не было. Я в них не нуждалась. И не знаю, понравились бы они ему или нет.
Жили-были
О бессмертии
Мы с подругой летели на каникулы в Ленинград. Нам было по восемнадцать. Мы закончили первый курс, и мамы впервые разрешили нам самостоятельно уехать из дома. Разумеется, эта неподотчётность была ограничена разумными рамками. В Тбилиси нас провожали родители, а в Ленинграде встречал Олин дядя, дома у которого мы и должны были прожить месяц под присмотром его старенькой мамы и тетки.
Мы были уверенными, взрослыми, опытными женщинами; высшая алгебра, аналитическая геометрия и общая физика были уже сданы. Мы были умны и образованны, а если и не красивы, то, черт возьми, просто привлекательны! Восторг путешествия без родителей одолевал нас и не давал заткнуться ни на минуту.
Я сидела у окна, и голубое небо с белыми ватными облаками принадлежало мне одной. Но я иногда великодушно позволяла Ольге поглядеть, если в поле зрения попадалось что-нибудь особенно красивое и необычное. И оно, это необычное, стало появляться всё чаще. Самолет делал виражи, припадая на одно крыло, и внизу появлялась земля с маленькими деревьями, домиками, машинками и поездами. Это было удивительно интересно и необъяснимо. Наш путь лежал на северо-запад, а мы кружили над грузинскими деревнями. Причем уже второй, а потом и третий раз пролетали над одним и тем же местом. Мы предвкушали, что будем рассказывать об этом домашним и друзьям, и с удовольствием примечали, как недовольны и испуганы наши соседи.
Из заднего салона нашего Ту-104 даже раздавались какие-то смутные то ли крики, то ли восклицания. Пришла стюардесса и объяснила, что при взлете самолету не удалось закрыть одно из трех шасси, и поэтому мы вынуждены вернуться на посадку в Тбилиси, после того как весь керосин будет слит. Потом оказалось, что сливаемый керосин загорелся, и задний салон наблюдал в окнах поток огня и дыма, стекающий по крылу.
Соседи вокруг окончательно перепугались. Молодой человек, сидевший третьим в нашем ряду, был абсолютно бел, поминутно отирал пот со лба и выглядел, как будто вот-вот хлопнется в обморок. Это побудило Ольгу рассказать анекдот. Он звучал так: «Приятель успокаивает друга, которому надо лететь в командировку, а он ужасно боится самолетов: „Гоги, дорогой! Зачем переживаешь? Лететь не опаснее, чем ехать в машине. Вот мой сосед — ехал на автомобиле по шоссе и погиб! На него упал самолет — и всех в лепешку!“». Мы хохотали до слез. Мужчина в соседнем кресле разозлился. И так сильно, что, если бы не абсолютный код поведения грузина, дело могло бы дойти до затрещины. Он почти не владел собой. Зато стал из белого красным, и это снова было очень смешно — но мы сдерживались, потому что были хорошо воспитаны.
Наконец появился аэродром. Мы увидели несколько пожарных машин и с десяток машин «скорой помощи» — тут мы бы тоже могли испугаться, но не успели. Самолет сел на дорожку, проехал, сколько положено, и остановился как ни в чем не бывало. Нас высадили. Провожающих уже не было. Мы помыкались с багажом несколько часов. Потом тех, кто всё еще не раздумал лететь, погрузили в другой самолет, и мы отправились в Ленинград.
Стояли белые ночи. Мы разглядывали оград узор чугунный, и не передаваемый словами архитектурный ритм этого чуда света, и единственное в мире слияние неба и воды, в тонком пространстве между которыми, как городок в табакерке, расположились дворцы, мосты, парки, скульптуры, светофоры и пешеходы.
Я и Ольга прожили похожие жизни. Наши мужья очень тепло относились друг к другу. Мы обе проводили их до самого-самого конца. И наши воспоминания включают множество вещей — то, что было у всех, и то, что касается только нас. Но поездка в Ленинград — одно из самых прекрасных, жемчужина в коллекции. А лучшее в этой поездке было то, что мы ощущали свое бессмертие так же несомненно, твердо и материально, как люди чувствуют замечательный запах свежего грузинского хлеба.
Старый дом
Тбилисский дом, в котором я родилась, был построен моим дедом и его товарищем. Оба были малярами, оба жили в съемных хибарках, у обоих были семьи и очень мало денег. Они работали вместе в одной бригаде. Ремонтируя квартиру в старом дворе, они обнаружили большой полуразвалившийся сарай, который хозяин продал им с удовольствием и задешево. По счастливой случайности, в это же время им разрешили взять старые кирпичи от разобранной церкви — молодое советское государство не нуждалось в культовых учреждениях. Наняли каменщика, который на древнем фундаменте сарая выложил новые стены из старых кирпичей, и за несколько месяцев во дворе номер 17 по улице героя Революции Серго Орджоникидзе образовались две приличные квартиры.
Крышу покрыли красной черепицей. Штукатурка была, разумеется, собственной выделки и самонаилучшая. Дед разбил свою часть на пять маленьких комнат и галерею; дядя Сема для себя, жены — тети Хаи и двух сыновей спланировал три комнаты и большую, не в пример нашей, кухню. Альфрейные работы изукрасили все помещения самым прихотливым образом: в одной спальне — колонны и голубое небо с облаками, в другой — букеты роз, разбросанные по стенам, в столовой — рога изобилия и амфоры над золочеными арками, а на галерее — волк и три поросенка в курточках, но без штанов, неустойчиво стоящие на маленьких копытцах в простенках между дверьми. У каждого из хозяев — свое крыльцо, а у нас даже садик, размером с небольшую скатерть. В садике рос куст невероятно пахучих алых роз и две лозы — белого и черного винограда.
Этот дом стал родным для двух растущих семей. Мой отец, вырвавшись в сорок первом из еще не замкнутого блокадой Ленинграда, привез туда мою маму. Дядя с фронта — свою жену. У обеих пар там родились дети.
Дом этот никогда не был новым и требовал вечных усилий для поддержания своего существования. Во всех стенах были тоненькие, но неистребимые трещины — память о старом фундаменте и кирпичах, один раз уже отслуживших свой век. Черепица во время дождей с ветром срывалась со своих желобков, и папа вылезал на скользкую крышу через слуховое окно чердака и возвращал ее на насиженное место. Обогревались двумя стенными печами.
В моем детстве на пол положили линолеум, изображавший паркет, а печь оклеили белой бумагой, разлинованной карандашом на клеточки размером с кафельные плитки. Гости, приглашенные после ремонта, дружно ахали и делали вид, что печка им кажется кафельной, а пол паркетным. К этому обязывал бонтон. В период расцвета нашего дома и у нас, и у дяди Семы полы действительно были паркетными, а печи декоративными — дом обогревался паровым отоплением. Ванные блистали хромированными кранами и импортной керамикой.
Постепенно население уменьшалось. Умер мой дед. Отселился дядя с семьей. Переехали в свои квартиры женатые дети дяди Семы. Женился и переехал мой брат. Бабушка умерла, едва мы отпраздновали ее семидесятилетие. Тетя Хая заболела раком груди, и ее тоже не стало. Дядя Сема прожил один около года и уехал к сестрам в Батуми. Его половина дома опустела. Дети не смогли договориться ни о чем. Дом стал яблоком раздора. Невестки рассорились, да и между братьями отношения напряглись. Квартира разрушалась — никто ей не мешал. Мы заколачивали там свои ящики, уезжая в Израиль. Потом и родители мои уехали.
Дом опустел. Круг замкнулся. Этот угол двора сегодня выглядит, как восемьдесят лет назад. Правда, это уже не та улица — теперь она называется улицей священника Петре. Стоило разрушать старую церковь?
Моя бабушка Клара
Моя бабушка закончила церковно-приходскую школу. Все три ее класса. Она умела отлично читать по-русски, а писала с ошибками, как, впрочем, и я, несмотря на медаль, полученную по окончании десятилетки.
При рождении она получила имя Эстер. Потом заболела, и для надежного выздоровления ей добавили второе имя — Хая («живая»). Детство ее было мало примечательно. То есть такое же, как у миллиона маленьких еврейских девочек, родившихся в начале прошлого века. Отец уехал в Америку, чтобы там устроиться и вызвать семью. Мать тем временем умерла от воспаления легких в возрасте двадцати четырех лет. Шифс-карта оказалась невостребована. Детей разобрали тетки. Так она очутилась в Киеве, где в семнадцать лет вышла замуж за романтического красавца-балагура — моего деда. На дворе был двадцатый год, в Киеве бурлила гражданская война.
Будь я писателем, я бы рассказала, как она родила первенца, и как муж ее заболел смертельно и безнадежно. И как она по смутному совету доктора взяла лежачего больного, годовалого ребенка, свой беременный живот и малюсенький скарб, нажитый после свадьбы, запихнула всё это в поезд, идущий в Крым, и сохранила все четыре жизни в жутком водовороте истории начала прошлого века.
Но я не писатель! Поэтому скажу только, что дед выжил, и они перебрались в теплый Тбилиси, где она устроилась поварихой, подавальщицей и судомойкой в столовую, получив доступ к огрызкам хлеба и остаткам каши и супа. Теперь семья была если и не сыта, то, по крайней мере, голодна умеренно, что позволило деду выучиться на маляра и устроиться в бригаду, получавшую время от времени заказы на ремонт квартир. На первую свою зарплату дед купил бабушке бриллиантовые сережки. И хоть она предпочла бы мешок муки и десять метров бязи на простыни, а всё ж и она была женщиной. Эти сережки она носила всю жизнь, не снимая. Я получила их в наследство и потеряла при таинственных обстоятельствах.
Когда я родилась в этой семье, бабушку звали Кларой, а оба её сына уже имели высшее образование. Отец был инженером, а дядя — хирургом. Дед был всё еще веселым и красивым и играл на мандолине. Впрочем, и на любом другом инструменте, но у нас была только мандолина. У бабушки было черное панбархатное платье, сандаловый веер и перламутровый бинокль. Всё это было необходимо, чтобы ходить в оперу, которую у нас все очень любили.
Дед умер, не дожив до шестидесяти, от очередного инфаркта, и бабушка из хозяйки дома превратилась во вдовствующую королеву-мать. Она вела хозяйство, воспитывала меня и брата, варила обед, ходила на базар, чистила керосинки толченым кирпичом, кипятила постельное белье во дворе в огромном закопченном баке и ежемесячно отчитывалась перед моим отцом во всех расходах, сверяясь по тетрадке, куда записывала каждую потраченную копейку. Разумеется, этих отчетов никто с нее не спрашивал, но так уж было ею заведено.
Почти каждый день к нам заходили соседки посоветоваться с бабушкой о важных семейных делах — она была умной женщиной. Я помню, как она выговаривала молодой грузинке: «Нечего теперь реветь, Этери! Когда муж приходит с работы, его надо сначала накормить и расспросить, я тебе сто раз объясняла. А ты что? Сначала стала жаловаться, что сын получил двойку. Ну, он побил его, а заодно и тебя… Что хорошего?»
Мои молоденькие сослуживицы иногда спрашивают меня, как уклониться от слишком жарких объятий семьи мужа или стоит ли брать маленького ребенка в поездку за границу. Я уверенно отвечаю на все вопросы и слышу, как моим голосом на приличном иврите говорит моя мудрая бабушка Клара. Разумеется, и вся ответственность за последствия — на ней!
Мои соседи
Самую первую соседку, какую я помню, звали Ольгой Матвеевной. Мне было года четыре — середина пятидесятых годов. Она была старенькой, худенькой дворянкой и носила длинную старорежимную юбку, которую я теперь могу датировать ранними двадцатыми годами. Жила она в нашем дворе, в глубоком страшном подвале.
В ту эпоху государство не считало, что должно помогать нетрудовому элементу, и Ольга Матвеевна не получала ничего. Возможно, хозяин дома не брал с нее плату за жилплощадь. Вода была во дворе, может быть, и бесплатная для нее. Но за свет или керосин платить всё же надо было. Так что, вероятно, она просила милостыню, но где-то вдалеке, так что мы ее никогда не видели настоящей нищенкой. Весь двор относил ей зачерствевший хлеб, заплесневевшие остатки колбасы и кастрюльки со скисающим супом.
Мы иногда покупали торт, украшенный множеством разноцветных роз, изваянных из сливочного крема. Бисквит был вполне съедобным, но сладкий маргарин крема, щедро сдобренный пищевой краской и ванильной эссенцией, бабушка тут же снимала ножом и отправляла со мной к Ольге Матвеевне. Я спускалась к ней, и пока она с благодарностью перекладывала это чудовищное лакомство с моей тарелки на свою, разглядывала крошечную каморку, стены которой были увешаны разными картинками, шляпками и непонятными притягательными вещицами с тряпичными цветами, оборками, бусинками и бахромой. Один раз Ольга Матвеевна подарила мне такую необыкновенную штуковинку, оказавшуюся подушечкой для булавок. Ветхой, пыльной и неописуемо милой моему детскому сердцу.
Она скоро умерла, и подвал этот стал служить подсобным помещением для ее соседей, трех сестер, живущих в более светлой и просторной смежной комнате. Одна из них служила поварихой, другая была медсестрой, а третья буднично и безо всякого пафоса работала проституткой.
Через двадцать лет мы с Левой оказались в высотном ведомственном доме, в отличной трехкомнатной квартире. Мы сделали там основательный ремонт и даже переместили главный стояк отопления, который по прихотливому произволу прораба либо по стечению обстоятельств отстоял от стены кухни сантиметров на сорок. Сварщик-сантехник Вася, милый человек, балагур и весельчак, играючи сделал нам сложную работу, передвинув трубы и батареи отопления, освободив проходы и облагородив ванную комнату импортным унитазом. Нам очень понравились результаты его усилий и он сам. Кухня стала уютной и вместительной. Однако осенью, когда в систему пошла вода под высоким давлением (ведь мы жили на пятом этаже четырнадцатиэтажного дома), из стояка на высоте двух метров забил твердый горизонтальный кол ледяной воды. Васю отвлекли во время работы, и он недоварил шов на пару сантиметров.
Пока мы совладали с этой струей, прошло по меньшей мере минут двадцать. Мы, конечно, испоганили свой паркет и стены и пролили целое озеро на нижних соседей. Под нами жил маленький гордый армянин с женой и детьми. Как только воду удалось отключить, мы ринулись к нему, чтобы наладить отношения, обещать ему ремонт за наш счет и прибрать по мере возможностей его полуразрушенное потопом жилище. Он молча выслушал нас. Кивнул. И только повелительным запрещающим жестом остановил мою попытку начать собирать в ведро куски отвалившейся штукатурки. «Женщина придет — уберет!» — коротко сказал он.
Жена действительно пришла с работы и навела в доме возможный порядок, нисколько не удивившись, что несусветная грязь и лужи ждали ее возвращения несколько часов. Наши отношения не пострадали от этого инцидента. Марго даже научила меня нескольким собственным секретам приготовления сациви, которыми я с благодарностью пользуюсь по сей день.
В Иерусалиме мы снимали свою первую квартиру на улице имени персидского царя Кира. Вдумайтесь — мы помним этого царя, отпустившего нас из Вавилонского плена в шестом веке до нашей эры, и называем улицы в его честь.
Так вот, мы жили возле самых стен Старого города, и нашими ближайшими соседями оказались… э-э-э… дешевейшие иерусалимские блудницы, чья биржа располагалась точнехонько под нашими окнами второго этажа. Нашему сыну было пятнадцать лет, он учился в религиозном интернате и возвращался домой только на субботу. Как раз в горячее время, когда, кроме ночных бабочек, под домом крутились клиенты попроще, которые искали самых доступных в городе удовольствий, и покровители жриц любви, которые приходили, чтобы забрать часть выручки, не дожидаясь конца смены. Неописуемых сцен насмотрелись мы, подходя к дому, и непередаваемых моим лексиконом выражений наслушались длинными теплыми ночами. Мой бедный мальчик, днем изучавший благочестивые трактаты, ночью невольно овладевал виртуозным ивритским матом, сдобренным отборнейшими арабскими проклятиями. И попутно приобрел прививку против продажной любви.
Теперь я живу в Иудейской пустыне, в доме, полном эфиопскими семьями. Из моего окна сейчас видны несколько десятков соседок в белых покрывалах и субботних тюрбанах. Они приветливы и дружелюбны. Многочисленные их дети очаровательно красивы.
Несколько лет назад в эфиопской семье, живущей над нами, проходила таинственная церемония, в ходе которой прямо в квартире забили небольшое парнокопытное — козленка, что ли? Я видела, как выглядела эта, обычно очень опрятная, квартира через короткое время после жертвоприношения. Дело в том, что по недосмотру копыта животного попали в канализацию, и поскольку я живу на первом этаже, я и стала жертвой закупорки главной клоаки…
Нет, не буду пересказывать дальнейшего. Люди с опытом — отлично представят. А те, которые еще не видели такого несчастья, всё равно не смогут понять. Не мне, с моими скромными литературными притязаниями, описывать тот вечер и ночь…
Жизнь моя, как поезд, двигается в известном направлении. Соседи остаются позади, как маленькие станции и деревни, которые разглядываешь из окна своего купе, уютно устроившись на животе на верхней полке, улыбаясь их светящимся окнам и станционным часам, показывающим, как недолго осталось ехать до пункта назначения.
Прекрасный человек двоюродный мой брат
Мой двоюродный брат Саша был красавец и щеголь.
Однажды утром он поехал на работу. Приближаясь к повороту на Военно-Грузинскую дорогу, он вспомнил, что давно не видел своего дорогого друга Толика, который жил в Пятигорске. «Надо навестить Толика», — подумал он и свернул в сторону Кавказских гор. Пути было, учитывая, что он был блестящим водителем, участником всяких ралли, — часов на семь-восемь. Его это нисколько не смущало. На работе его ожидали неподписанные бумаги, дома — мама с папой и жена с дочкой, но впереди сияла встреча с Толиком, и Саша не стал морочить себе голову грядущими объяснениями.
Так ехал он пару часов по одной из живописнейших в мире дорог и ни о чем особенном не думал. Впереди показался указатель «Ананурская крепость», и огромный автобус затормозил и въехал на туристическую стоянку. Саша тоже остановился. «Обратите внимание, — услышал он. — Ананурская крепость, построена в шестнадцатом веке». «Вот это да! — сказал себе Саша. — Мне уже тридцать лет, а я еще ни разу не видел крепости шестнадцатого века!» И он пошел вслед за экскурсоводом, радостно впитывая историко-романтические бредни, так любимые всеми туристами на свете. Потом вся группа и Саша пообедали.
На часах было около трех, и Саша подумал: «А нафига сейчас пилить к Толику? Может, его и нет вовсе? Может, он в командировке?» И Саша повернул домой. Он вернулся в прекрасном настроении и охотно рассказал жене и мне обо всех своих впечатлениях.
На работе сильно не удивились. Саша служил там зитц-председателем. У него была большими трудами заработанная справка, свидетельствующая о том, что он шизофреник. Таким образом, если бы ОБХСС, несмотря на регулярные подати, которые это заведение, крывшее коммунальные крыши скверным шифером, им платило, всё-таки пришел с проверкой, — заведующий (Саша) не подлежал уголовной ответственности, а бухгалтеру пришлось бы выкручиваться, как умеет.
Справка эта дарила Саше невиданную в Советском Союзе личную свободу, но была в ней и одна червоточинка: шизофреникам не давали водительских прав. Что ж — Саша очень успешно на протяжении пятнадцати лет ездил без прав. Он клал под заднее стекло полковничью фуражку и уверял, что армейских полковников ГАИ не останавливает. Не стану спорить — ему было виднее.
Потом мы все переехали в Израиль, и Саша срежиссировал себе еще много разнообразных захватывающих приключений.
Он умер пять лет назад. Упал на улице — и умер. Тучный одинокий больной религиозный старик пятидесяти шести лет.
Шить сарафаны и легкие платья из ситца
Я помню себя с трех-четырех лет. Я стояла в нарядном белом крепдешиновом платьице с вышитыми на нем бабочками, а тугая кудряшка падала мне на лоб. Папа фотографировал меня. Тогда я еще любила фотоаппараты, и мне ужасно нравилось название «Зоркий». Удивительно, что эта фотография сохранилась. И трижды удивительно, что я помню это платье и узнала бы его из сотни других. Все-таки одежда очень важна для женщины…
Следующее платье, которое мне запомнилось, было сшито из темно-синего ситца с белыми точечками. Оно было туго перетянуто на животе (лет через десять это место можно было бы назвать талией) десятком тоненьких резиночек, которые отчетливо отделяли верхнюю часть с рукавчиками фонариком от юбочки «клеш». Если покрутиться, то юбочка сначала приподнималась, а потом вообще становилась горизонтальной, как пачка у фарфоровой Улановой, которая стояла у бабушки на буфете. Статуэтка была маленькой и манила мои жадные детские ручки подержать ее, потискать и еще как-нибудь выразить мою любовь и восхищение. Иногда мне это разрешали.
Важное платье, которое я запомнила на всю жизнь, — моя первая школьная форма. Куплена она была в Москве, разумеется, на вырост, так что была намного ниже колена. Юбку укоротили и выпускали каждый год, но плечи, рукава и талия не имели ко мне ровно никакого отношения, что было и не очень важно, так как поверх коричневого платья носился черный шерстяной фартук. Завидная принадлежность московской формы. Тбилисские шились из полупрозрачного нейлона, что ли? — если его тогда уже придумали. Был, конечно, и белый фартук. Казался мне невероятно красивым. Однако, нарядившись по большим праздникам в парадную форму с белыми бантиками в косичках, я всегда поражалась тому, как мало мое отображение в зеркале соответствует воображаемому образу девочки из «Пионерской правды». Белый фартук не стоял торчком, несмотря на крахмал, бантики имели самый поникший вид — то ли ленты были не те, то ли искусство вязать роскошные многолепестковые банты, как у других девочек, было незнакомо моей маме… И галстук из какой-то красной хлопчатой ткани изумлял своим безобразием. Только в шестом классе я обзавелась алым шелковым галстуком, который можно было завязать как следует, чтобы свисающие уголки не топорщились жалко и неуклюже, а покойно лежали на пионерской груди. Как повяжешь галстук — береги его.
В университете мне запомнился яркий сарафан из какой-то крупноячеистой трикотажной ткани. На исходе каникул, вернувшись из Сухуми, загорелая и похудевшая, я спешила в нем к метро, цокая каблучками нарядных босоножек. Навстречу шел сосед-одноклассник. Он посмотрел на меня мельком, не узнал, остановился, потом посмотрел другим взглядом, узнал и изумился. Я моментально вошла в образ неприступной красавицы, надменно кивнула и прошелестела мимо, как ветка, полная цветов и листьев. Он был болван и бездельник, а всё же приятно.
Следующее запомнившееся платье — свадебное. Длинное, доходившее до самых лакированных белых туфель. Его сшила соседка, тетя Циля. Мне оно очень нравилось — я была не искушена. Теперь-то я знаю, какие бывают свадебные наряды, а тогда и это было прекрасно.
Дальше запомнилось больше то, что носили дети. Первая серьезная покупка в Израиле была белой блузкой, купленной для дочки после тяжелых сомнений и колебаний. Я была не уверена, что могу бездумно потратить сорок шекелей на пасхальную обновку, но к блузке прилагалась очаровательная брошечка, и мы с дочкой не устояли. Эта блузка потом несколько лет надевалась по патриотическим поводам (белое с голубым) и просто как нарядная одежда.
Сейчас мой шкаф наполовину забит военной формой, с которой ни сын, ни дочь не захотели расставаться, но и не забрали к себе. И две бритые зеленые кумты хранятся в узеньком ящике.
Сама я всю рабочую неделю хожу в белом халате и помню все халаты, которые мне нехотя и с большими задержками выдавала прижимистая больница. Среди них были и мужские, и укороченные до состояния блузы, и мешковатые бязевые чудовища.
Теперь в витринах меня притягивают платьица для внучек. Я покупаю их без колебаний — легкие, удобные, милые и ужасно дорогие. Какие из них запомнятся моим девочкам на долгие годы?
Женский взгляд на прожитую жизнь. Курочки вы рябы, дурочки вы бабы.
История с географией
Нашего учителя географии звали Иваном Элефтеровичем. Это был маленький, лысоватый, полноватый человечек, небрежно одетый и неотчетливо выбритый. Понятно, что он был грек. И имел странное прозвище Тер-тер. Не мы, разумеется, это выдумали. И уж точно не мы возражали против бессмысленного прозвища. Тер-тер, как и все на свете учителя географии, требовал, чтобы мы приносили на уроки контурные карты, но, будучи снисходительнее других, редко заставлял нас что-нибудь в них рисовать.
Урок происходил таким образом: кого-нибудь одного или двух вызывали к доске, и он отвечал заданный материал, тыча более или менее успешно указкой в потрепанную карту на стене. Потом учитель велел открыть учебник на следующем параграфе и учить его на отметку. Поскольку больше заняться было нечем, большинство так и поступало. За десять минут до звонка Тер-тер вызывал желающих к доске, и они очень сносно — только что прочли! — рассказывали заданную главу. И получали хорошие отметки. Система была великолепна! Учитель на каждом уроке имел с полчаса свободного времени. Ученики, от скуки и желая избавиться от домашнего задания, если не выучивали назубок, то хотя бы знакомились с темой. А потом еще слушали ответы тех, кто прочел параграф до самого конца и понял написанное. Я думаю, что в географии наши двоечники были осведомлены лучше, чем во всех остальных предметах.
Мучимый укорами совести, а может, и по условиям программы, Тер-тер брал нас иногда на экскурсии, и мы ездили на Джвари, осматривали слияния рек, любовались Светицховели и определяли север по наличию мха и расположению годовых колец на пнях. Все, не исключая и учителя, очень любили эти экскурсии. Но организовывать их было хлопотно, и они доставались нам как приз за хорошее поведение не чаще чем два раза в год — весной и осенью.
Однажды, на первом году изучения географии, Тер-тер снизошел до того, что сам объяснил нам урок. Тема касалась геологических слоев, из которых сложены материки. Учитель объяснил, что под действием гравитации тяжелые породы опускаются глубже, а более легкие расположены на поверхности. Для доказательства этой максимы он велел каждому налить воды в поллитровую стеклянную банку, насыпать туда камней, глины и песка и дать всему этому отстояться. В результате мы должны были увидеть через стекло, что белые камни заняли место на дне, следующим четким слоем была бы черная глина, сверху желтый песок, а над ним чистая вода. Банки следовало принести и сдать учителю и по ним получить окончательную годовую оценку.
Отчего-то я приняла это задание необычайно близко к сердцу. В те времена родители не заморачивались помощью детям в освоении школьных знаний. Мне выдали стеклянную банку и велели сделать всё остальное. Ареалом моих поисков был наш двор. Разумеется, не позволялось выходить за его пределы, да мне это и в голову бы не пришло! Двор был немаленький и захламленный. Но ни гранита, ни кварца в нем почему-то не оказалось. После долгих мучительных поисков, в районе сорного ящика — самом запретном районе двора — я нашла пригоршню кирпичных осколков. И совок грязи, который мог условно сойти за глину. Немножко песка мне дала, сжалившись, соседка, у которой была кошка. В плохую погоду она не выпускала кошку во двор, и песок должен был служить в гигиенических целях.
Трепеща, я положила кусочки кирпича на дно, сверху осторожно пристроила мерзкую полужидкую грязь, засыпала всё это слоем песка — выглядело довольно неплохо — и налила воду. Как я ни старалась лить воду по каплям, струйка взбаламутила всю мою геологию и передо мной оказалась банка неразличимой бурой грязи. Я угомонила свое отчаяние надеждой на силы тяготения и время. Однако и назавтра, и через пару дней положение нисколько не улучшилось. Я мошенническим путем пыталась уложить вниз хотя бы кирпичи, и это мне удалось, но надо было отнести всё это в школу. А по дороге мерзость взболталась окончательно, какие усилия я ни прилагала, чтобы идти плавно и не встряхивать банку. Я поставила банку, на которой была наклейка с моей фамилией, на учительский стол в ряд таких же и почти без надежды села за парту ожидать приговора.
К моему удивлению, учитель не стал оценивать наше задание, но отнесся к нему серьезно, потому что попросил после урока помочь ему переправить все наши работы в учительскую. Тем дело и кончилось.
И только став взрослой, я поняла, что лучшие порывы моей любознательной души были принесены в жертву домашнему консервированию. Тер-тер собрал к сезону сто двадцать банок из трех параллельных классов, и его жена смогла накрутить консервов на немалую семью на весь год вперед.
Вова Миндин
Вова Миндин был нашим соседом. Он переехал в наш двор, когда я была в первом классе. Наши семьи крепко и навсегда подружились всеми поколениями. Он был красивый, высокий, ясноликий молодой человек, прекрасно образованный и воспитанный.
Вовины родители были намного старше моих — скорее принадлежали к поколению наших бабушек. Отец его был замечательным зеркальщиком, и скоро наша квартира украсилась прекрасными зеркалами с разнообразными затейливыми фацетами, подаренными соседями на дни рождения моих родителей. Это были царские подарки. Никогда позже я уже не видела таких зеркал в продаже, а только во дворцах и в фильмах о жизни аристократов. Вовина мама была всего лишь пожилой домохозяйкой и женой ремесленника, но вызывала некий трепет своей твердостью, сдержанной и уверенной манерой поведения и безупречной прической. Муж называл ее «мамочка». Она была настоящей дамой, и звали ее соответствующе — Софьей Марковной. А Вовиного отца, удивительно для меня, звали Юдой. Они были весьма обеспеченными людьми и купили самую лучшую квартиру, оставшуюся в нашем дворе после смерти ее хозяина.
В другом жилище — трудно назвать его апартаментом — в подвальной комнате жили три сестры в возрасте между тридцатью и сорока годами. Одна из них, Ася, была медсестрой и делала за деньги уколы всем соседям. А мелкие медицинские услуги, вроде перевязки пальца или измерения давления, оказывала бесплатно, по-соседски. Другая, огромная толстая Ира, была сестрой-хозяйкой в больнице и возвращалась с работы с тяжелыми сумками, полными продуктов. У нее все соседи покупали сливочное масло. Третья, Армуся, была проституткой. И днем, когда старшие были на работе, приводила клиентов домой, а вечером устраивалась как-то иначе. У нее единственной была дочь. Девочка лет шестнадцати, умница и красавица. Она отлично училась в школе, носила длинные косы и приглянулась даже Вове, интеллектуалу и аристократу духа.
Когда девочка подросла, мать резко сократила прием клиентов дома и старалась показывать дочери только наилучшие примеры поведения. Однако немолодая проститутка была нежеланной мехетунес для Софьи Марковны. И хотя Вова только улыбчивым взглядом обозначал, что Тата ему симпатична, Софья Марковна не могла скрыть своего раздражения в адрес всех четырех соседок. Однажды ее недоброе слово вызвало резкий отпор. Услышав громкие голоса, муж вышел во двор и тоже вступил в объяснения. Тогда из подвала выплыли остальные сестры, Армуся уперла руки в бока и показала высокий класс дворового скандала.
Нет слов, скандалы во дворе случались и раньше — из-за общих подпорок для бельевых веревок, из-за очередности развешивания белья, и просто так — под плохое настроение участниц. И никто не стеснялся в выражениях. Поэтому с приближением громкого разговора между соседками бабушка за руку забирала меня и Мишу со двора и запирала дверь. Но все предыдущие скандалы были детским лепетом в сравнении с той атакой, которую повели сестры на семейство богатых спесивых жидовских чистоплюев. После нескольких минут, в течение которых Армуся своим профессиональным языком объясняла старому еврею, кто он есть, Юда Исаакович положил руку на грудь, опустился на дворовый асфальт и умер.
Так Вова стал главой семьи и защитником матери, которую он не только горячо любил, но и искренне почитал. Через несколько месяцев после похорон, немного придя в себя и утратив на время свою суховатую сдержанность, Софья Марковна рассказала маме историю своей жизни.
Она вышла замуж до революции и в девятнадцатом году родила старшего сына Яшу, а в двадцать первом Лазаря. Оба мальчика, особенно старший, были необыкновенно талантливы. Они уехали учиться в Москву. А с Софьей Марковной случился ужасный конфуз. Она забеременела, когда сыновьям было уже за двадцать. Сама мысль — дать понять кому-нибудь, что такая почтенная дама в возрасте около сорока лет занимается с мужем постыдными делами, от которых могут родиться дети, — была невыносима. Она подумывала сделать подпольный аборт. Но прежде всё же собралась с духом и написала сыновьям письмо в Москву. Оба были в восторге, поздравляли родителей и благословляли еще не рождённого брата или сестру со всей пылкостью, на какую были способны. И Софья Марковна родила Вову в сороковом году. А старшие ее сыновья уже в студенчестве проявили себя как выдающиеся филологи. Введение к академическому изданию «Цветов зла» Бодлера написано Яшей, который к этому времени едва успел закончить институт. В этой же книге опубликована статья в память не расцветшего до конца молодого филолога, лучшего в Советском Союзе знатока Бодлера — Якова Миндина, погибшего смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1942 году в возрасте 23 лет. Его брат погиб еще раньше. Так судьба распорядилась жизнью всех членов этого семейства.
А Вова стал ученым-электрохимиком, довольно известным в своей профессии. Именно он показал мне, что если в тетради по арифметике записывать каждую цифру в отдельную клеточку, то все примеры решатся сами по себе и без всяких ошибок.
Эмик
В детстве день моего рождения никогда не праздновался по-настоящему. У моих одноклассников накрывали стол. Десять-двенадцать детей сначала наслаждались грузинским хлебом и сыром, докторской колбасой, вареным языком и жареной курицей. Всё это запивалось отличным лимонадом. Потом получали по куску пирога с чаем, а потом — игры под руководством мамы именинника: «кольцо с места», «золотые ворота» и «испорченный телефон». А мой день рождения был в августе. Все на каникулах, да и я сама где-нибудь на даче.
Но когда мой возраст перевалил за двадцать, мама стала беспокоиться. Никаких поклонников не было и в помине, и, значит, следовало принять меры, чтобы ввести меня в подходящий круг, где я могла бы познакомиться с подходящим еврейским мальчиком.
На мой двадцать первый день рождения было приглашено блестящее общество. Чертог сиял. Архивны юноши дарили мне букеты тугих роз на длинных ножках, а студентки Консерватории и Института иностранных языков — все дети и племянники родительских знакомых — обсуждали своих общих приятелей.
После этого и я получила приглашение к признанной королеве этого круга — томной и уверенной в себе законодательнице по имени Суламифь. Приближенные звали ее Суламой. В гостях были чуть знакомые мне Фирочка, Белочка, Инна, Лина и Нонна. И пять-шесть мальчиков, которые по замыслу должны были мной заинтересоваться, начать ухаживать, приглашать меня в кино и в театр. В перспективе, выдержавшему все отборочные туры предстояло на мне жениться. Это отборное еврейское общество мне ужасно не понравилось. Хозяйка подала ладошку, не сделав ни малейшего мышечного усилия, чтобы сжать ее. Что мне следовало делать с этой тепловатой оладьей? Может, поцеловать? Все остальные были такие же бесстрастные и высокомерные. У одной из девочек мама именинницы спросила, что делает ее папа. Ответ прозвучал так, что ему позавидовала бы Елизавета Английская. Что Первая, что Вторая.
— Мой папа! — сказала она. — Ха! Мой папа!!!
И правда, ее папа был каким-то подпольным советским миллионером.
Я ушла с этой вечеринки раньше всех, сославшись на неотложные дела. Никто не вызвался меня провожать.
Однако через пару дней один из присутствовавших на этом вечере позвонил мне и пригласил на концерт. Его звали Эмик. Было в нем высоты не больше ста шестидесяти сантиметров, и я была для него ценной находкой. (Рост Эллочки льстил мужчинам.) Он стал приходить раз в неделю и водить меня на эстрадные концерты в Филармонию. Таких концертов я раньше не посещала. Билеты на них были очень дорогие, музыка громкая, разноцветные прожекторы бестолково шарили по сцене, публика ликовала, а я скучала и смотрела на часы. После концертов мы пешком шли домой и делали вид, что разговариваем.
Мне льстило, что настоящий взрослый аспирант приглашает меня на настоящие свидания. Приятно было одеваться и подкрашивать ресницы. Но томительные, скучные разговоры с длинными паузами, которые я вынуждена была заполнять неумолчным щебетом, с каждым разом становились всё менее выносимыми.
Ужасно неловко было отказаться от встречи. Самолюбие маленьких мужчин казалось мне особенно уязвимым. В конце концов я придумала оригинальный выход. Вы не поверите — я сказала ему: «Эмик, ты прекрасный человек! Это не ты виноват — это я! У меня было чувство к другому, и я еще не пережила его. Я не готова к нашим встречам!»
Потом я с удивлением обнаружила, что помимо меня, эту напыщенную бредятину сказали своим постылым кавалерам еще сто миллионов других девушек. И всё равно он обиделся.
Диана
Мы вместе с ней учились на физическом факультете университета. Что занесло меня в эти дебри? Судя по результатам жизни — явно не выдающиеся способности к точным наукам. А так — серебряная медаль, фильм «Девять дней одного года» и любимый брат, окончивший этот же факультет. А что привело туда Диану? — еще более тонкая и загадочная материя. Меня волновала причастность к сложным и возвышенным знаниям, доступным лишь немногим. А Диана не принадлежала к этим немногим, и уравнения матфизики приводили ее в ужас и замешательство.
Она была очень миленькая, пухленькая, но с отчётливо выраженной и подчеркнутой пояском талией. Полненькие ножки были обуты в хорошенькие туфельки на каблучке. Черные блестящие удивленные глаза были окружены зарослями длинных и густых ресниц. Во время экзаменов, когда я, не умея справляться с нервным напряжением, рвалась зайти с первой группой экзаменующихся, Диана внезапно вскрикивала, разражалась рыданиями и убегала по коридору, стараясь удалиться как можно дальше от того места, в котором ей должны были задавать ужасные вопросы. За ней бежали самые добрые и беззаботные из наших мальчиков. Догоняли и приводили обратно, поддерживая с двух сторон и уговаривая зайти на экзамен и отдаться на волю судьбы.
История, которую я сейчас рассказываю, произошла на преддипломной практике, а значит, Диане удалось пережить все ужасы интеллектуальных пыток и сдать все экзамены по меньшей мере на тройку.
Она была сирота. Отец ее умер, когда она была маленькой девочкой. Брат отца — выдающийся грузинский академик, один из родоначальников советской кибернетики, — очень любил племянницу и опекал ее изо всех сил. Может быть, отчасти и это позволило ей благополучно преодолеть такие предметы, как электродинамика сплошных сред — темный лес, в котором я передвигалась на ощупь. Она носила фамилию академика, и все преподаватели знали трогательную историю сироты. Ее черные, широко раскрытые, круглые от ужаса глаза и так обезоруживали любого из наших экзаменаторов. А дядя без всяких просьб, одним только своим существованием обеспечивал ей незыблемую тройку по всем предметам. О чем она, по-видимому, не догадывалась.
Кроме попытки убежать от экзаменов, у Дианы были еще некоторые странности. Она горячо дружила со своей мамой — и практически только с ней одной. И она иногда рассказывала в гогочущей компании мальчиков анекдоты настолько непристойные, что мои друзья, только что отсмеявшись, отказывались даже намекать мне на их содержание.
Как бы то ни было, на пятом курсе на дипломной практике Диана что-то делала в Институте физики полупроводниковых приборов. Ее хорошо там приняли. Девочки горячо обсуждали с ней фасон ее свадебного платья, длину фаты и необходимость белых перчаток — она собиралась замуж.
В этот день кто-то из МНС принес на работу отпечатанную постранично на отдельных листах фотобумаги книгу чешского сексопатолога о норме и отклонениях в сексуальном поведении. Это был первый текст на русском языке, толковавший о таком волнующем предмете не обиняками, а самым прямым и недвусмысленным образом. Снабженный иллюстрациями и сносками пояснений. Лаборатория была потрясена! Листочки стали передавать от одного к другому, так что прочитавший очередную страницу тут же передавал ее следующему читателю, а сам получал следующую страницу от предыдущего читателя. Эффект был неописуемым! Вскрикивания, смешки, цитирование — полный восторг всех и каждого. В упоении никто не обратил внимания на Диану. Она прочла несколько страниц, вскочила на ноги и грохнулась в обморок.
Когда ее привели в чувство, она потребовала, чтобы ребята признались, что это розыгрыш. Она умоляла, чтобы кто-нибудь сказал, что все эти гадости придумали нарочно. Что на самом деле ничего такого не может быть. Она рыдала, смеялась и икала. Неопытные физики твердого тела совершенно потеряли голову. В конце концов кто-то додумался плеснуть ей в лицо воды и увезти домой.
Бедная девочка ничего не знала о физическом взаимодействии полов. Мама не говорила с ней на эту тему, а в пионерлагерях, где мы все получали свои первые сведения о сексе — она не бывала. Диана отказала своему жениху и перестала ходить в институт полупроводников.
Теперь самое удивительное в этой истории. Как и большинство моих однокурсников, Диана после института больше никогда не занималась физикой. Прихотливые и запутанные тропинки судьбы привели ее — именно ее — в мир уголовных преступлений. Она эксперт-криминалист. Выступает в суде, доказывает свою позицию, полемизирует с адвокатами. Можете себе представить?
Уж замуж невтерпеж
Нас с Левой познакомили потому, что у нас обоих брачный период клонился к концу. Мне было 23, а ему 29. Мы абсолютно подходили друг другу по всем параметрам: по росту, возрасту, образованию, происхождению, склонностям и намерениям. Оба думали, что целью человеческой жизни является защита диссертации на соискание звания кандидата физико-математических наук. Оба были травоядными, но взамен клыков и когтей природа наделила нас обоих чувством юмора, что в известной мере и в некоторых случаях может заменить агрессивность.
Лева стал заходить за мной почти каждый вечер, и мы гуляли по городу. Он был очень красив, а я могла бы называться замухрышкой, если бы не дефицитные импортные кофточки, которые доставала мне мама. Кроме того, брачные игры вынудили меня обратить внимание на косметику и причесываться тщательнее обыкновенного. Лева мне ужасно нравился — и неудивительно. Удивительно другое: он влюбился в меня по всем канонам куртуазной поэзии. Его руки были так горячи, что я каждый вечер сызнова пугалась, что он заболел какой-то неизвестной болезнью с высокой температурой. Ему нравились во мне странные вещи — щиколотки, например, или как я жмурюсь… Да что вспоминать!
Через три месяца, в октябре, мы поженились. До самого нового года Леву сотрясала горячка молодоженства. Он жил в каком-то необыкновенном состоянии счастливчика. С ним невозможно было играть в стохастические игры. В нардах он выбрасывал любые нужные ему кости. Заранее говорил, что выпадет, и получал, что хотел. Карты раскладывались по его желанию. Он решал, не задумываясь, любые головоломки. И только в январе стал возвращаться к стационарному квантовому состоянию.
Я представляла себе семейную жизнь серой и нудной. Мне, конечно, было интересно, чем и как занимаются в супружеской постели, но значимость этого предмета представлялась грубо преувеличенной. Мне казалось, что теперь нужно будет утомительно долго объяснять и оправдывать всякое свое намерение и добиваться одобрения мужа на любое пустяковое действие. Я считала, что мое согласие выйти замуж и было согласием на всю эту мороку на всю предстоящую жизнь.
Действительность была удивительно хороша. Никто не мешал мне дышать. Мы почти не спорили по пустякам. Лева даже готов был подождать меня в парикмахерской или зайти со мной в магазин. Я с удовольствием слушала его рассказы об определении возраста геологических пород методом радиоактивных изотопов, а он мои — о столкновениях Клодия с Милоном на римском Форуме в 49 году до нашей эры. Мы много смеялись вместе.
Теперь пришло время знакомиться с родственниками. У нас были совершенно одинаковые старые дядюшки и тетушки — носатые, с певучим местечковым акцентом и саркастическим выражением лица. У некоторых было бельмо на глазу. Они как будто вышли из антисемитской брошюры. Чувство такта было им незнакомо. Одна такая двоюродная тетка Хася в день свадьбы своей племянницы громко спросила у сестры: «Бася! Ты уже сделала молодым ую-ю-ют?» И не успокоилась, пока ей не показали двуспальную кровать с кружевными подушечками.
Когда у этой Хаси умер муж, она всем, кто приходил с утешениями, говорила: «Он был такой внимательный!» — как будто бедняга Натан для того и родился, чтобы оказывать своей жене знаки внимания. Несколько лет потом она жаловалась всем встречным на плохую жизнь, маленькую пенсию, нечутких детей, непослушных внуков, шумных соседей и грубых продавцов. Я научилась улыбаться ей, не слушая вечного нытья. Ее жалобы были так невыносимо скучны и однообразны… Пока мы не узнали, что восьмидесятилетняя Хася умерла в горячей ванне, перерезав себе вены на обеих руках мужниной опасной бритвой. После смерти Натана ни один человек на всей земле уже не был к ней внимателен.
Вокзал для двоих
Мы с Левой проводили свой первый отпуск. Наше свадебное путешествие было так прекрасно, что столица манила нестерпимо. На этот раз мы жили не в гостинице «Москва», куда попали после свадьбы благодаря нечеловеческим усилиям моего папы, задействовавшего длинную цепочку знакомств, а в гостинице «Шахтер». Туда, тоже не без знакомств и барашка в бумажке, мы устроились сроком на шесть дней. Я была уже довольно значительно беременна, переваливалась утицей, и мы с очкастым интеллигентным Левой представляли собой такую благопристойную пару, что нас пустили на завтрак в «Националь», куда швейцар без объяснения причин перекрыл вход двум молодым людям, следовавшим за нами. Прекрасный завтрак, чудесное чувство вписанности в жизнь, принадлежности к элите. Немножко стыдно вспоминать, ну да один раз, сорок лет назад.
На шестое утро нас безоговорочно выписали из гостиницы, и мы, намереваясь гулять еще весь день вплоть до ночного самолета, оказались в сложной ситуации. У Левы в молодости бывали приступы недиагностированной болезни. Один врач сказал нам, что это «армянская болезнь». Ничего похожего, кроме разве периодичности. На самом деле случалось вот что: у него внезапно и резко поднималась температура. Сорок градусов со всеми сопутствующими прелестями — озноб, головная боль и полное изнеможение. Это продолжалось часов 30—35 и проходило само собой. Уже выписываясь из гостиницы, мы поняли, что температура стремительно растет. Назад нас, разумеется, не пустили ни за какие деньги, а обнаружив, что Лева болен, не велели и сидеть в вестибюле. Только позволили оставить чемоданы в камере хранения.
И мы в полном отчаянии подались на ближайший вокзал в медпункт. Только взглянув на нас, фельдшерица немедленно уложила Леву на кушетку и придвинула мне табурет. Никогда больше я не встречала людей, которые так мгновенно и безошибочно определяли, кто есть кто, как работники медпункта на Казанском вокзале в Москве в 1975 году. Мы оставались там до самого вечера. Лева то уплывал в полубредовое состояние, то возвращался и просил пить. Но даже он вспоминал потом некоторые события, потрясенными свидетелями которых мы оказались в тот день. А я совершенно изменила свое представление о том, что такое жизнь.
Главными персонажами были отчаявшиеся наркоманы, которые пробовали под разными предлогами выпросить у врача укол морфия. Имитировали почечную колику, падали на колени на грязный зашарканный пол, рассказывали истории о нестерпимых фантомных болях — безногий инвалид войны. Ничего не помогало. Медсестра хладнокровно выставляла их вон, только изредка прибегая при этом к помощи милиционера.
Несколько раз заводили подравшихся, которым надо было перевязать кровоточащие ушибы, а пару раз даже зашить ножевые порезы. Все они были тяжело пьяны и говорили хоть и громко, но невнятно. Так что я не понимала их совершенно, вдобавок я и слов этих почти не знала. Им оказывали первую помощь и немедленно выталкивали за дверь, стремясь как можно быстрее избавиться от мата, перегара и вони их отвратительных одежд.
Пришла молодая, почти приличная женщина, про которую медсестра, удочерившая меня с первой минуты, рассказала длинную историю. Девушка была бездомной. Вещи носила с собой в чемодане. Мыться и переодеваться приходила в уборные разных вокзалов. Там же стирала свое белье. Ночевала в залах ожидания. В столовых ела бесплатный хлеб — как раз была пора постепенного перехода к коммунизму, и дармовой хлеб стоял на столиках вместе с бесплатной солью и перцем. Медпунктовские относились к ней неплохо. Дали ложечку соды от изжоги и мирно поговорили о том, помогает ли от вшей дегтярное мыло.
Телефон звонил каждые несколько минут. В этот день из поезда от родителей сбежал шестилетний ребенок. Его ловили на всех станциях. Координировал эти мероприятия медпункт Казанского вокзала, которому принадлежала и «Комната матери и ребенка». Мальчишку следовало поймать и отправить с сопровождающим. Там, где его отловили, сопровождать было некому. Проводник отказывался везти его одного. Да и непонятно, куда везти — родители не звонили и не проявляли к пропавшему ребенку никакого интереса.
Привели женщину в истерике. У нее украли сумку с билетом, деньгами и паспортом. Медсестра щедро накапала ей валерьянки, позволила посидеть на стуле и даже налила стакан чаю с сахаром. И та выпила и ушла. А я всё пыталась представить, как она доберется до своей Казани без сумки, денег и документов. И если бы наш кошелек не лежал во внутреннем кармане Левиного пиджака, боюсь, уже у нас не хватило бы денег, чтобы добраться до дому.
Наступил вечер. Лева получил еще две таблетки пирамидона, мы простились с нашими благодетельницами, постояли с полчаса в очереди за такси, заехали за чемоданами и помчались в аэропорт Внуково. Назад, к нашей чистой жизни, где все купались раз в неделю, любили своих детей, спали в своих постелях и пили только по праздникам хорошее грузинское вино, за нарядным столом, в сопровождении красивых тостов.
Аджарские хачапури
В Тбилиси не было антисемитизма. Во всяком случае, в его грубой форме, вылезающей на поверхность человеческих отношений. Разумеется, не все были равны. Даже среди грузин. Кахетинцы считались грубыми и неотесанными, горцы (сваны, хевсуры) — дикими и уж слишком приверженными дедовским идеалам, мингрелы — хитрыми, гурийцы — вспыльчивыми и остроумными, рачинцы — медлительными и туповатыми. Классический анекдот: «Зря считаете, что все рачинцы одинаковые — был среди них один шустрый! Жаль, вчера попал под асфальтовый каток!»
Еще менее равны были армяне. Они жили в Тбилиси на протяжении многих поколений — куда дольше, чем большинство тбилисцев-грузин. Прекрасно говорили на трех языках. Соблюдали неписаные правила. Были сметливы и подвижны. Но всё же, всё же… Хотя к человеку, совсем свободно владевшему грузинским, относились почти как к своему. Не укорененные в Грузии русские почитались наиболее примитивными представителями рода человеческого.
Мы были образованными ашкеназскими евреями — и это был наш плюс, но не владели языком, и это мешало быть «своими». Разумеется, русским языком в Тбилиси владели все. Многие на исключительно высоком уровне. Очень хороший русский тогда ценился, как кембриджский английский сегодня.
И мы с Левой, родившиеся в Тбилиси, и даже наши родители, приехавшие в молодости, впитали уйму негласных правил: вино не пьют без приличного, не совсем банального тоста; старику надо уступить место, даже если ты сам нездоров; любой, даже незнакомый жилец моего четырнадцатиэтажного дома — сосед, а следовательно, надо прийти к нему на келех и просидеть там по меньшей мере час (а женщине — помочь вдове, ее подругам и дочерям в приготовлении пиршества и в мытье посуды); и тысяча подобных мелочей, отличающих культурного человека от варвара. Все рожденные в Грузии питали тайное презрение к «пьющим без правил».
Теперь можно и об аджарском хачапури. Это такая мастерски испеченная лодочка размером с тарелку, на которой поверх всего находится яркий живой яичный желток и кусочек сливочного масла. Едок, владеющий соответствующим искусством, аккуратно подрезает бортики, нежно разрушает сферическую целостность желтка, ножом и вилкой мелкими деликатными движениями смешивает яйцо с маслом и с верхним слоем сыра и подсовывает эту вкуснейшую смесь за бортики по всему периметру, в те потайные местечки, где до сих пор было только подобие дивной булки. Всё это делают с видимой небрежностью, непременно сопровождая процедуру легкой беседой. Потом можно отрезать по кусочку и отправлять в рот. Горе и презрение тому, у кого горячая смесь капнет на брюки — ему не место среди истинных умельцев.
У Левы была конференция в Батуми. И разумеется, оказавшись в центре Аджарии, мы и думать не могли о другом, как съесть в лучшем ресторане лучшее и самое аджарское на свете хачапури.
В ресторане не оказалось свободного столика, и нас подсадили к мужчине, который обедал с мальчиком лет десяти. Отец был невысоким, худощавым, чуть-чуть за тридцать. Они беседовали между собой, но, приняв нас за свой стол, перешли на русский. Мы осведомились о качестве хачапури, сказали друг другу несколько вежливых слов и подозвали официанта. Наш сосед не вмешивался, пока мы делали заказ, но по завершении сказал по-грузински: «Счет принесешь мне!»
Мы поняли, удивились и стали протестовать. Грузин спокойно и даже как-то прохладно пояснил: «Люди, сидящие за моим столом — мои гости. Мои гости не платят».
Он говорил нам, но обращался к своему мальчику. Речь его была негромкой, но категорической, как тот императив. Мы не посмели отказаться и сорвать урок, который отец преподносил сыну. Съели всё до последней крошки, поблагодарили хозяина и вышли из полутемного подвала в душный, влажный, слепящий солнцем и морем батумский полдень.
Ундина
Когда-то мы с Левой жили в маленькой, но очень уютной квартирке на четырнадцатом этаже. Наш сын начал там ходить и на моих глазах доковылял с большим отцовским молотком до балкона и с удовольствием уронил молоток между прутьев балконной решетки, прежде чем я успела добежать до него и предотвратить это ужасное действо. Я могла только стоять и следить, как молоток стремится к земле с подобающим случаю ускорением, и неистово надеяться, что в нижней точке своей траектории он соприкоснется не с головой соседа или его машиной, а непосредственно с дворовой травкой. Так оно и вышло, и я, потеряв дар речи, уселась прямо на пол и прижала к себе своего неразумного годовалого дитятю.
Мы очень любили эту квартиру. У нее были только два недостатка. Когда оба лифта не работали, то, возвращаясь с работы домой, я поднималась по лестнице, неся на одной руке ребенка, а на другой рабочую сумку, авоську с молоком и хлебом и увесистый пакет с детскими штанишками и пеленками. Нечего и рассказывать, что уже с седьмого этажа у меня из глаз лились слезы и каждая следующая ступенька казалась безнадежно непреодолимой. Мысль оставить сумки на лестнице, поднять домой ребенка, запереть его одного, потом спуститься и снова подняться с оставленным грузом вызывала уже не просто слезы, а настоящие рыдания. Но как бы то ни было, такое случалось и преодолевалось, хоть и не часто.
Вторым недостатком квартиры было то, что при сильном ветре дом раскачивался и стекла страшно дребезжали, обещая вот-вот вывалиться вместе с балконными дверями. Разумеется, ночью в таких случаях света не было, и огонек свечи жутко колебался под ветром, проходящим в незаконопаченные щели. Один раз, когда Лева был в командировке, в такую ночь я отчетливо представила, как ветер, выдавив стекло, опрокинет свечу и вызовет пожар. Я положила возле себя паспорт, кошелек и большой плед, чтобы закутать ребенка, и в полной готовности бежать из горящей квартиры — заснула.
Однажды ночью к нам в дверь позвонили. Я всегда успеваю оказаться у двери или звонящего телефона раньше других, и тут я открыла еще прежде, чем Лева проснулся. В дверях стояла девушка. Она была босиком и в ночной рубашке. В руке она держала маленькую веточку цветущей яблони. За окном был март. Я машинально посторонилась, и она вошла в комнату. К этому времени и Лева в трусах выглянул из спальни, и мы с ним наблюдали, как незнакомая полуголая молодая женщина неторопливо идет к балконной двери, открывает ее и выходит наружу.
Тут мы вместе одновременно смекнули, что на нашем балконе нет абсолютно ничего привлекательного, кроме перил, отделяющих четырнадцатый этаж от пустоты. Мы с криками бросились за ней и вдвоем силой втащили ее назад в комнату. Она слабо сопротивлялась и ужасно дрожала. Я мигом сунула ее в свою постель, и под одеялом она затихла. Сама я залезла под одеяло к Леве, и мы шепотом (чтобы не разбудить спящего ребенка и задремавшую Ундину) обсуждали наше положение. Мне, разумеется, досталось за открывание дверей незнакомым людям среди ночи — но шёпотом!
Как только начало рассветать, Ундина встала и сказала: «Я пойду!»
Я сунула ее ноги в какие-то тапочки, обрядила в какую-то кофту, сама надела пальто, и мы вышли. Жила она совсем близко — через дорогу. Мы дошли до какого-то дома барачного типа, она вернула мне кофту, сказала, что ее зовут Аней, и ушла в длинный коридор с множеством дверей. Только при свете дня я разглядела у нее на шее несколько синяков — девочку душили или просто били.
Я запомнила адрес и имя и несколько дней пыталась привлечь внимание милиции и психдиспансера, но меня высмеяли по всем телефонам. Больше я ее никогда не видела. Может быть, потому, что она была не моей соседкой, а духом девушки, умершей из-за несчастной любви…
Вариационно-стержневые страсти
Несколько счастливых лет я проработала в Институте энергетики под руководством заведующего отделом вариационно-стержневого метода профессора Константина Михайловича Хуберяна. Это был чрезвычайно интеллигентный, забавный, маленький скособоченный старичок, всегда в костюме с жилетом и при галстуке. Он был талантливым человеком, который не только прекрасно знал и понимал, но еще и чувствовал странную свою науку под названием «Строительная механика». Он не придавал особого значения ни своему научному потенциалу, ни огромной эрудиции. Что вызывало у него настоящее уважение — это способность перевести его формулы на АЛГОЛ и положить на стол небрежно сложенную десятиметровую широченную бумажную ленту с напечатанными на ней нечеткими цифрами, изображающими напряжения в бетоне плотины, сдавленном огромной тяжестью своего собственного веса. Поэтому он набрал штат молодых бездельников (включая и меня), которые, бесконтрольно шляясь между удаленными друг от друга корпусами института, делали необходимые Хуберяну вычисления на электронной машине ЕС-2010, а по особым случаям и на БЭСМ-6. За это мы все получили право и возможность написать в течение шести-семи лет свои диссертации и претендовать на должность старших научных сотрудников.
Хуберян был одинок. Когда-то в молодости жена изменила ему, и он непреклонно с ней развелся, почти потеряв доступ к горячо любимому маленькому сыну. Лет через сорок после этого мои родители свели знакомство с его бывшей женой — пышной, говорливой незаурядной дамой с громким голосом. Среди прочего она рассказала, что в молодости была замужем за одним инженером, который оказался единственным настоящим мужчиной в ее длинной и совсем не одинокой жизни. Мне по молодости лет было смешно вообразить, что кто-нибудь может считать Хуберяна «настоящим мужчиной». В те времена я представляла их иначе. Но старуха разбиралась в этом вопросе гораздо лучше меня.
Пока мы занимались своим АЛГОЛом, а позднее Фортраном, Хуберян сидел в крошечном, забитом книжными шкафами кабинете и беспрестанно строчил. Он писал рецензии и отзывы на диссертации, статьи в журналы и главы в альманахи и учебники. Утончал и развивал свой вариационно-стержневой метод, который уже через несколько лет был начисто вытеснен методом конечных элементов, взявшим верх благодаря неожиданно бурному расцвету компьютерной техники. Кроме того, он по нескольку раз в неделю беседовал с каждым из нас, досконально записывал каждое слово, сказанное обеими сторонами, и отдавал эти записи перепечатывать в трех экземплярах. Один экземпляр отдавался на руки беседуемому, второй клался в папку, помеченную его именем, а третий — в папку, посвященную теме беседы. Помню документ, который начинался так: «В ответ на недоуменный вопрос Нелли о граничных условиях уравнений…»
Он очень огорчался, когда кто-нибудь из нас болел, уходил в отпуск или по иной причине прерывал свою плодотворную работу. Когда заболела няня и я сказала ему, что несколько дней вынуждена посидеть дома с ребенком, он горячо посоветовал мне купить большой термос, заложить в него обед и объяснить трехлетнему Давиду, в котором часу он должен будет выложить этот обед на тарелку и съесть его самостоятельно, пока я буду семимильными шагами двигать вперед инженерные науки.
А потом всё кончилось известным образом: СССР развалился, институт перестал получать заказы из России и закрылся, а Хуберян оказался замкнутым в своей одинокой квартире на крутой обледенелой улице Энгельса, где до смерти писал безупречным инженерным почерком никому более не нужные уравнения.
Русский Ваня
Саша был одним из самых блестящих людей, с кем сводила меня судьба. Он не достиг ничего особенного в своей карьере — так, кандидат технических наук, старший научный сотрудник… Но беседа с ним искрилась, пузырилась и переливалась. И собеседник, даже если мог соответствовать ее уровню, отнюдь не выбирал направления, а послушно следовал за всеми извивами Сашиных переходов-перескоков от утреннего разговора с тестем к политической оценке Грузинского Народного Фронта, а оттуда прямиком к предполагаемым альковным проблемам завлаба дружественно-конкурентной лаборатории. Внезапно, но вполне логично беседа завершалась поголовным опросом сотрудников о способах крепления тяжелой люстры к ненадежному потолку. Отхохотавшись и отерев слезы, понимающие расходились к своим столам работать. А непонимающие пожимали плечами и делали то же самое, время от времени вспоминая Сашин утренний дивертисмент и уточняя у соседей детали: «А что, Джемал действительно ухаживает за Нателой?» — что заставляло соседей прыскать от смеха.
Временами, наскучив строительными конструкциями, Саша забредал в комнату, где сидело большинство сотрудников и я в их числе, усаживался на свободный стол и ввинчивался в общий разговор. Среди нас была одна исключительно простая русская женщина, по иронии судьбы носившая аристократическую немецкую фамилию Гессен. Она любила рассказать о своих родственниках и соседях, о вариантах приготовления борща и пельменей и о маленьких женских уловках, позволяющих избежать больших неприятностей и даже несчастий. Это от нее я узнала, что если джадо (грузинский вариант диббука) отравляет жизнь семье, то первым делом следует вынести горшки с цветами, ибо именно они являются излюбленным местом гнездования злых духов.
Саша внимательно выслушивал ее рассказ о коварстве двоюродной сестры мужа, задавал правильные вопросы и плавно вступал с исключительно похожей историей, приключившейся с одним студентом Института Патриса Лумумбы, который внезапно влюбился в племянницу Сашиной соседки. Студент непременно хотел жениться на блондиночке, и она не устояла перед напором его страсти. Родители ее безуспешно сопротивлялись, но все-таки уступили молодым и даже сняли им однокомнатную квартиру. Однако счастье черно-белой пары было неустойчивым. Муж оказался требовательным, а жена неаккуратной и несобранной. Она постоянно всё забывала и теряла, отчего он приходил в ярость и даже пугал ее своим гневом. Особенно он сердился, когда пропадали носовые платки… К этой точке рассказа все, кроме Лиды, уже догадывались, какую печальную судьбу уготовил рассказчик бедной Зинаиде. А Лида слушала, затаив дыхание, и уточняла подробности. Отвратительный поступок несдержанного студента, который задушил-таки рассеянную девочку из-за пустяковой пропажи, вызвал у Лиды гневную реакцию. Особенно ее сердило, что все смеялись, и никому не было дела до красавицы, невинно погибшей в расцвете лет. Даже то, что студент, опомнившись и раскаявшись, закололся хлебным ножом, не могло примирить Лиду со случившимся. А мы смаковали каждую новую деталь и вносили уточнения и дополнения, чем несколько сбивали ее с толку. Она немного удивлялась, что столько народу оказалось знакомыми с Сашиной соседкой и ее племянницей.
Таким манером мы выслушали «Анну Каренину» (спортсмен-наездник и молодая бухгалтерша — жена второго секретаря райкома), «Евгения Онегина» (юная агрономша пишет письмо тунеядцу, а потом выходит замуж за профессора), «Гамлета» и даже «Преступление и наказание».
Саша был невысок ростом, неказист и курнос и себя называл в третьем лице «русский Ваня». «Ну конечно, никто пальцем о палец не ударил, статью писать будет русский Ваня». Или: «Русский Ваня сейчас сбегает в магазин и прикупит к завтраку на всю компанию чего следует».
Он был классический юдофил. Любил евреев и особенно евреек. И пользовался взаимностью. В результате чего у него родился сын, которого он бестрепетно признал, наделил своей фамилией и всеми сыновними правами, несмотря на то, что был женат и своего старшего ребенка обожал и не собирался оставлять. Он менял своему маленькому сыну пеленки, водил его в зоопарк и собирал с ним модели парусников. Как-то умудрялся.
В прошлом году он умер. Младший сын его удивительно похож на отца. Просто удивительно… Точно такой же. Только очень высокий и очень красивый.
Первоклассная история
Мой сын укусил своего товарища. Ему было шесть лет. Он был маленьким, худеньким самолюбивым очкариком. А товарищ был крупным, веселым, румяным ребенком с жгучими черными глазами. История конфликта осталась неизвестна. Кто бы ни был прав — у Давида не было ни единого шанса выяснить отношения в честном единоборстве.
Когда я пришла забирать его из школы, его не было в коридоре. Он был узником в классе, где кроме него находились еще две учительницы. Они все ждали меня для воспитательной беседы о случившемся безобразии. Одна из учительниц была «наша» Валентина Федоровна. Замечательная женщина с постоянной то явной, то скрытой улыбкой и подозрительной фамилией Уманская. Другая была учительницей параллельного первого класса. Звали ее Надеждой Ивановной, и она была высоко ценима родителями обоих классов за безупречно правильное умение соединять прописные буквы «о» и «м». Общаясь с другими родительницами, я постоянно попадала впросак, невольно выражая сомнение в том, что твердым ядром школьного воспитания должно быть именно чистописание. Парочка наиболее активных и авторитетных блондинок из родительского комитета не позволяла усомниться, что ребенка, начинающего писать цифру 5 не с левого верхнего угла, а как-нибудь по-другому, ждет дурная компания, наркотики и колония строгого режима.
Меня ввели в курс дела, и, подчиняясь невидимому сценарию, я спросила Давида, почему он укусил Арменака. Наступила пауза. Нераскаянный преступник молчал. Я тоже не знала, что сказать. Тогда вступили учительницы. Каждая из них сказала то, что ей казалось правильным. Надежда Ивановна сказала рассудительно:
— Если ты будешь кусаться, мы принесем щипчики и вытащим у тебя все зубки.
Одновременно с этим Валентина Федоровна сказала:
— Ведь у него на руках микробы! Ты же мог заболеть!
Я смотрела на двух женщин и маленького сердитого очкастого мальчика и думала, что жизнь слишком сложна для моего разумения.
Роза и крест
С нежностью вспоминаю Грузинский институт энергетики, в котором я проработала несколько счастливых лет перед отъездом в Израиль. Небольшой отдел профессора Хуберяна располагался в трех комнатах и представлял собой довольно пеструю компанию, связанную узами взаимной симпатии. Там работала очень близкая моя подруга, и поэтому вопрос душевной акклиматизации в новом коллективе прошел на ура. Она предварила мое появление рассказами о моих действительных и вымышленных достоинствах, и меня приняли очень хорошо. В этом отделе все были инженерами, и только мы с подругой закончили физический факультет и имели о сопромате и теории строительных конструкций самое смутное понятие. Однако не боги горшки обжигают. Было довольно интересно, и люди вокруг оказались симпатичными и занимательными.
С некоторыми я сблизилась, другие остались приятелями. Только одна молодая женщина была чуть холоднее остальных. Ее звали Розой. Она приехала из маленького приморского городка и работала над своей диссертацией, как и каждый из нас. У нее было удивительное свойство. Ее одежда, обувь, чулки, волосы всегда были в идеальном порядке. Юбка никогда не мялась. Стрелка шла точно в середине лодыжки и не изгибалась в сторону ни на миллиметр. Никакой дождь не мог сделать ее волосы вислыми сосульками, как это постоянно случалось со мной, да и с другими — кроме лысого шефа и безволосого, благодаря редкой болезни, Марселя. Но самое удивительное: лужи, через которые приходилось в дождливую погоду прошлепывать между остановкой автобуса и широкими величественными ступенями института, не оставляли на ее чулках и светлом плаще никаких следов. Я искренне восхищалась: это была фея вежливости и точности. Она никогда не шутила, но улыбалась нашим шуткам.
В отличие от прочих, она занималась мягкими вантовыми конструкциями, и хотя у нее были серьезные проблемы, никто из нас не мог что-нибудь посоветовать — все остальные были погружены в расчеты арочных плотин. Роза билась на своем фронте совершенно одна. Ее результаты оказались парадоксальными, и шеф уже подумывал о теоретическом обосновании этого удивительного явления, которое он должен был закончить к Розиной защите. Однако защита не состоялась. Однажды ночью, в квартире своих дальних родственников, у которых она жила в Тбилиси, Роза внезапно умерла от таинственной болезни — арахноидита.
Я проплакала всю ночь, представляя, как она одна, раздетая и одинокая, лежит в морге на цинковом столе. Казалось, если бы она лежала дома и кто-нибудь держал ее за руку, дело было бы более поправимым. Наутро приехали родители и забрали тело, чтобы похоронить его на кладбище в Очамчире. Похороны были назначены через неделю. Ведь с Розой должно было проститься множество человек. Неделю они сходились со всего города и съезжались из деревень, чтобы вечерами обойти вокруг открытого гроба, поцеловать ближайших родственников, сидящих на стульях вдоль стен, а потом поцеловать покойницу в лоб и оставить на крышке гроба букет цветов. Приехавших и оставшихся до похорон надо было кормить; соседи собирались во дворе дома, резали кур, пекли хачапури, варили кофе. Мы приехали на похороны в последний день. То, что мы увидели, трудно достоверно пересказать. Уже на вокзале нам охотно и без вопросов показали, как пройти к дому директора школы, у которого скончалась юная невинная дочь. Улица была полна народу, во дворе вообще не протолкнуться. Блеял баран, которого готовились зарезать к поминкам. Пришли не только все, кто когда-нибудь учился в школе, но и родители всех бывших учеников. Съехались не только родственники из деревень, но и их ближайшие соседи. Двор кипел хозяйственной деятельностью. Входящим сразу же давали напиться и предлагали закусить.
Наконец мы вошли в залу. Посредине комнаты на возвышении стоял гроб. В нем лежала наша Роза в подвенечном платье. На груди блестел толстенький золотой крестик. В руке была зажата сторублевая бумажка — щедрая плата Харону. А в ногах — о ужас! — лежали колоды перфокарт — все, что Роза сделала для Хуберяна за годы работы.
Мы посмели только переглянуться. Поцеловали всех, кого следовало, проводили нашу подругу до могилы и не вернулись с кладбища на поминки, потому что опаздывали на обратный поезд в Тбилиси. Мы были потрясены. Подвенечное платье, специально сшитое к похоронам, сторублевка, крест и перфокарты. Всю дорогу домой сквозь приличную случаю и вполне искреннюю печаль прорывались вспышки смеха и молнии неуместного веселья. Мы болтали без умолку. Прикидывали, как скажем Хуберяну, что от программы расчета мягких конструкций не осталось камня на камне, и что он, бедняга, ответит.
Впрочем, Хуберян мне же и поручил восстановить программу, а когда я написала ее заново, там не обнаружилось никаких парадоксов. Результаты полностью соответствовали теории. Жаль, Роза этого не видела.
История телевизора
У меня была родственница — одинокая старушка. Собственно, она была второй женой моего деда. Ее отец, Абрам Берг, был керченским купцом — торговал селедкой в бочках. Потом купил засолочный цех и сильно разбогател. Его селедка была и лучше, и дешевле, чем у других. Детей своих он обучал в гимназии. Дочь Идочка была красавицей и рукодельницей, играла на рояле и рисовала акварелью.
Революция отобрала у них баркасы, бочонки, селедку, дом и все, что можно отобрать. Но красота, образование и хорошее воспитание остались. Идочка удачно вышла замуж за советского работника Эппельбаума, родила ему двух сыновей и заняла в обществе то же место, что занимала при отце. Любимая, красивая, обеспеченная, прекрасно одетая, с хорошими манерами и гостеприимным домом.
История шла своим чередом. В сорок втором году ее муж и двое сыновей погибли на фронте, дом был разрушен, друзья и родня погибли в Катастрофе.
Потом она встретила моего деда. Он происходил из очень простой местечковой семьи, но был высоким, статным голубоглазым красавцем. Так что в 1913 году он проходил армейскую службу в гвардии и даже оказался в Ливадии, где служил в личной охране Великой княгини. По семейной легенде, еврейское происхождение было причиной того, что, сопровождая карету Великой княгини, он скакал всегда сзади, в пыли. А впереди кареты скакали двое стройных, голубоглазых гвардейцев православного вероисповедания.
После службы дед вернулся домой, в Каменец-Подольск, женился на хорошей девушке, завел хозяйство. Служил счетоводом и принадлежал к лучшему еврейскому обществу почтенного города.
Но история шла своим чередом. В сорок первом деда призвали в армию. Он уходил под пули, а жена оставалась дома в безопасности — ведь рядом была семья, друзья, соседи… И дочь должна была вот-вот приехать на каникулы из Ленинграда.
Одиннадцатого августа мою бабку расстреляли вместе со всеми родственниками, подругами и соседями-евреями. Дед остался жив и даже избежал тяжелых ранений. В конце войны у него не было ни жены, ни дома, ни родни, ни друзей. И дочь пропала.
Тут им обоим сверкнула искра удачи: они встретились, Ида Абрамовна вышла замуж за моего деда и была ему хорошей женой. Дед нашел маму и переехал в Тбилиси. Они пристроились в крошечной комнатке в старом тбилисском дворе на улице Клары Цеткин. Он работал бухгалтером в каком-то цеху.
Я помню его, красивого, с прямой спиной, в белом кителе и отглаженных светлых брюках. И туфли были белые, парусиновые. Ида Абрамовна чистила их каждое утро зубным порошком. Все стены их комнаты были увешаны ее вышивками. Среди прочих был даже портрет Максима Горького, выполненный болгарским крестом. Мне ужасно нравилось. На диване лежало множество вышитых ею подушек. Я тогда еще не видела никаких музеев и думала, что именно так они и выглядят.
Потом дед умер, и Ида Абрамовна осталась одна. Она ходила в гости к нам, и мы навещали ее хотя бы раз в неделю, но всё же жизнь ее была ужасно одинока. И тут история преподнесла еще один сюрприз. Появились первые доступные телевизоры, и папа купил для одинокой старушки новенький «Рекорд». В ее комнате опять зашумела жизнь. В красном углу светился экран, и на нем толстый дядька бубнил что-то на непонятном ей грузинском языке. А всё же она была не одна! По вечерам показывали кино. Прямо дома можно было смотреть настоящее кино со звуком!
Как украсилась ее безнадежная жизнь! Впереди забрезжили праздники с Голубыми Огоньками и концертами из Колонного Зала Дома Союзов. Певицы с напомаженными сердечком губами, поджав руки, пели арии из опер. Потные полуголые мужики поднимали штанги и дрались между собой тяжеленными кулаками. Пионеры танцевали народные танцы. Генеральный секретарь ЦК КПСС читал на съезде отчетный доклад…
Иногда кто-нибудь из нас предлагал ей переключиться на второй канал — их было уже два. Или поправить изображение, или хотя бы ослабить звук. Она всегда испуганно отвечала: «Что ты! Как можно! Не трогай! Еще перекрутишь что-нибудь!»
Тетя Маша
В молодости тетя Маша была высокой худощавой блондинкой. У нее были головокружительные романы с грузинскими офицерами, несмотря на чисто русскую внешность, курносый нос, острый язык и полное отсутствие хороших манер. В конце концов блестящий военный летчик, красавец и единственный сын из интеллигентной грузинской семьи умолил ее выйти за него замуж и дал ей свою звонкую фамилию — Метревели. Родители его были в ужасе, но любовь, как известно из пьесы «Ромео и Джульетта», игнорирует родительское мнение.
Несколько лет они пытались завести ребенка и в конце концов удочерили маленькую девочку. Еще через несколько лет выяснилось, что любовь к бесплодной жене слабеет, а к маме остается такой же, как была. Тетя Маша развелась с мужем, но он — уже гражданский летчик — продолжал регулярно навещать ее с ребенком и платить алименты. Чудом этой женщины было то, что все люди, с которыми она встречалась в жизни, навсегда сохраняли к ней острую и необъяснимую симпатию.
Я знала ее с детства — она была подругой моих родителей еще с военных времен. Иногда приходила к нам домой. Была способна внезапно, находясь в гостях, играючи преодолев твердое сопротивление моей бабушки, завладеть нашей крохотной кухонькой и сварганить там за полчаса какое-нибудь необъяснимое, но исключительно вкусное блюдо. В детских воспоминаниях она мелькает неуверенно. Но когда у нас с Левой родился ребенок, роль тети Маши в моей жизни стала совершенно особенной.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.