
Бесплатный фрагмент - Обжигающие вёрсты. Том 1
Роман-биография в двух томах

Пролог
В долгом путешествии по крутым и извилистым, подчас весьма и весьма тернистым жизненным путям-дорогам бессчетное количество раз приходилось писать автобиографию: требовали в школе, в военкомате, на новом месте работы, в пионерии, комсомоле и, наконец, в партии, в той самой, единственной и неповторимой — КПСС. С меня требовали, я писал. Всегда — с большущей неохотой. Почему? Правду — нельзя было, а лгать не хотелось. Поэтому ограничивался короткими, но обязательными, сведениями: где родился и кто родители; где учился или работал. А когда «забывал» упомянуть о братьях и сестрах, а их у меня в живых было четверо, то мне строго напоминали.
Вот примерно как выглядела моя анкета:
Фамилия, имя, отчество — Мурзин Геннадий Иванович;
Число, месяц, год рождения — 9 февраля 1941 года;
Место рождения — деревня Чусовая, Ирбитский район, Свердловская область;
Социальное происхождение — из служащих (с этим пунктом всегда возникали проблемы и часто затруднялся, как правильно написать: с одной стороны, отец из батраков, мать из середняцкой части крестьянства, следовательно, по корням, ближе к земледельцам, с другой стороны, к моменту моего появления на грешной земле отец уже был служащим, то есть агрономом, а мать — домохозяйкой… Так кто я?);
Национальность — русский;
Образование — неполная семилетка;
Место работы — Верхнетуринский машиностроительный завод;
Профессия — ученик каменщика, каменщик, разнорабочий, формовщик, грузчик, токарь;
Пребывание в пионерии — да;
Пребывание в комсомоле — да;
Пребывание в КПСС — кандидатом в члены КПСС стал в марте 1962 года…
Ну и прочее.
И вот только теперь рискую (потому что не знаю, что из затеи станется) вернуться к тем, когда-то писанным на треть тетрадного листочка, автобиографиям. И вот только теперь попытаюсь тогдашнюю скупость расшифровать. Расшифрую, естественно, в меру сил и способностей.
Сказано — сделано. Что-то дельное получилось? Судить не мне. Мне же изначально хотелось, чтобы читатель не судил строго мою искренность (буду очень стараться быть предельно правдивым); чтобы читатель не искал в моем опусе некого политического заказа, оплаченного некими политическими силами. За мной никто и никогда не стоял, не стоит и, смею, надеяться, уже стоять не будет.
Моя жизнь, как бы она не выглядела со стороны, — это моя и только моя жизнь; та самая, которая у человека одна и которую человек проживает так, как ему на роду написано. И как бы он ни тужился, но в корне изменить предначертанное судьбой не сможет. В его лишь воле — легкая корректировка. Ну и я пытался скорректировать постоянное давление судьбы, что-то изменить, как-то повлиять на ход истории одной-единственной жизни. И как? Повлиял? Самую малость, честно говоря. Если что-то удавалось, то судьба тотчас же била — крепко, больно, наотмашь.
Моя жизнь — это жизнь миллионов; она не хуже, но и не лучше, чем у других; она такая, какая была у поколения, которое народилось на свет либо перед самой Великой Отечественной, либо на первой ее стадии. Это поколение заморышей, у которых имелся единственный заменитель грудного молока матери: в лучшем случае — хлебный мякиш, смоченный слегка сладкой водицей, а в худшем — собственный указательный палец.
Мой опус расходится с устойчиво внедряемым в сознание нынешнего молодого поколения мнением насчет прежней, советской жизни. Эта, жизнь советская, была очень даже полосатенькая. Во всяком случае, не настолько розовенькая. Да, трубили пионерские горны и маршировали колонны счастливых красногалстучных. Да, были детские дома пионеров и пионерские лагеря (кстати, мне так и не довелось почему-то ни разу переступить порога дома пионеров или пионерского лагеря), где дети жили по однажды заведенному правилу (ну, об этом сужу по рассказам других, счастливее счастливых), в котором все было прописано — от часа пробуждения и до того, с кем дружить пионеру и кого любить. Да, человек имел право на бесплатное образование, на труд и на отдых (лично мне из трех этих компонентов достался один — право на бесплатный труд). Да, советские люди имели право на достойную старость. Да, значительная часть советского общества всем этим довольствовалась и более ни на что не претендовала. Потому что знала: нет в мире другой такой страны, где «так вольно дышит человек». И дышали полной грудью. До той поры, когда не появлялся некто и не перекрывал дыхательные пути. Но, задыхаясь, корчась в судорогах, все равно были счастливы. Садомазохизм какой-то.
Но была у тогдашнего советского человека и иная жизнь, значительно отличающаяся от кадров кинохроники. В той, иной жизни было место для жестокости и насилия, для предательства и трусости, для нищеты и голода-холода, для разгула преступности и вандализма, для тунеядства и бродяжничества, то есть именно для всего того, за что корят вчерашние нынешнюю власть.
Таким образом, мои воспоминания — это то, что не нашло места в кадрах советской кинохроники; это то, о чем не любили писать советские журналисты (кстати, те же журналисты, которые и нынче рулят средствами массовой информации).
Не славы ищу, берясь за роман-биографию. И нет намерения потешить собственное самолюбие или покрасоваться перед кем-либо. Все это сейчас мне уже не нужно. У меня цель одна: собственным опытом (совсем не книжным) напомнить всем и каждому, что и тогдашняя жизнь была ну, очень разная: одни вкушали парную телятинку, бутерброд с икоркой и сливочным маслом; другие довольствовались, собираясь на тяжелую физическую работу, поллитровкой, наполненной слегка подслащенным чаем, и куском черного хлеба, тоненько намазанным маргарином.
Говорят: кто старое помянет, тому глаз вон; но кто забудет, тому — оба. Надо вспоминать прошлое. Нельзя предавать забвению то, как советские люди жили семьдесят лет. Мои воспоминания — личный вклад в написание истории недавнего прошлого, точнее — написание той, оборотной стороны медали, которая не столь хорошо была представлена, как лицевая, парадная.
Делаю то, что могу. Рассчитываю, что у моих воспоминаний будут как союзники, так и противники. Как тех, так и других призываю последовать моему примеру и оставить будущим поколениям то, что мы пережили тогда. Не беда, что потратите несколько лет оставшейся жизни. Да, ваши воспоминания будут иными, отличными от моих, но это же хорошо. Пусть потомки судят, кто есть кто и что есть что. Короче говоря, приступаю! Признаюсь сразу: бередить начавшие затягиваться раны болезненно и неприятно. Но…


Глава 1. На заре-зореньке
Уж таким уродился
Если по большому счету, то я был социально близок советской власти. Ведь ее опорой считался рабочий класс, а его союзником — трудовое крестьянство. Никогда и нигде об этом не писал и не говорил, то есть не кичился своим социальным происхождением.
Мой отец Иван Андреевич Мурзин в юности батрачил на кулака. Он родился и провел детство в селе Зайково Ирбитского района (это на северо-востоке Свердловской области). Его отец Андрей Михайлович последние годы жил жизнью бедной, хотя и не был ни калекой, ни умственно отсталым. Говорят, что раньше и он имел свой небольшой надел земли и кое-какое хозяйство, но пропил. И под конец своей жизни мой дед стал слепнуть. Односельчане, вспоминая его, моего деда, язвительно говорили, как тот зимой, лежа на печи, замерзал, однако никак не мог решиться спуститься с печи, выйти во двор, принести охапку дров и затопить печь. Спасали его лишь сердобольные соседки.
Один штрих, но, считаю, очень яркий, характеризующий тогдашнюю крестьянскую бедноту.
Моя мама Наталья Петровна (в девичестве Родионова) была, как потом станут говорить, из середняков, то есть мой дед по этой линии Петр Иванович имел крепкий дом, надворные постройки, надел земли, лошадь, две коровы, две пары овец, два десятка кур. Свою семью кормил, одевал и обувал.
Он был хозяином небогатым. Потому что ему, по правде сказать, не везло на сыновей. Один лишь и появился на свет божий — Афанасий Петрович, а и тот вскоре же укатил в Челябу (в Челябинск, иначе говоря), где и проработал до пенсии на тракторном заводе. Так сказать, изначально — отрезанный ломоть.
Одна надежда на двух дочерей. Вот те и с малолетства — с ним в поле. Работали, вставая ни свет, ни заря. Все гнули спину, но, к счастью, на себя.
Проблема рабочих рук заботила деда. Поэтому, как потом рассказывала мама, и был взят в дом мой отец в качестве мужа Натальи Петровны. Пришел в дом, по рассказам очевидцев, чуть ли не в одних подштанниках — гол, как сокол. Не знаете, что такое подштанники? Это элемент крестьянского нижнего белья, заменявший трусы. Так что маме пришлось еще и обшивать обретенного супруга.
Конечно, середняк — не батрак, но тоже являл собой союзника советской власти. Судя по отзывам, Петра Ивановича Родионова в селе Худяково (того же Ирбитского района) очень уважали. За что? За то, что выкручивался и справно вел свое личное хозяйство.
Зачем все это вспомнил? Затем, чтобы сразу объяснить свою классовую близость к тогда существовавшей власти. А это, по определению, должно было сказаться на моем будущем. Поспособствовало ли это? Создало ли предпосылки для карьеры? Пусть сам читатель ответит на эти вопросы.
…Итак, мое явление на свет Божий, напоминаю, состоялось 9 февраля 1941 года. А когда мне было четыре с небольшим месяца, грянула Отечественная война. Отец, как истинно русский патриот, одним из первых и добровольно отправился на защиту Отечества. А так как по тем меркам он считался ужасно грамотным (семь классов сельской школы и впоследствии приплюсовал еще десятимесячную агрономическую школу), то его направили учиться во 2-е Горьковское танковое училище, так как Красной Армии нужны были командиры. Закончив в 1943-м, присвоили звание младшего лейтенанта, направили в Нижний Тагил для получения новехонького танка Т-34. Оттуда — под Москву, где активно формировался 6-й механизированный корпус для 4-й танковой армии, которая готовилась к участию в предстоящем грандиозном и знаменитом теперь на весь мир Орловско-Курском сражении.
Его боевой путь пролегал от Москвы до Орла, Львова и Берлина, а потом еще и до Праги. Первое ранение (легкое) заработал под Смоленском. Потом еще было несколько ранений и контузий. Но самое серьезное — при освобождении восставшей Праги, на помощь которой он прибыл в составе всё той же 4-й танковой армии легендарного генерала Лелюшенко. Случилось это 9 мая 1945 года. Война закончилась, но не для моего отца, так как он еще до июня 1946 года будет таскаться по госпиталям и санаториям, где его будут выхаживать, то есть ставить на ноги.
Тут надобно сделать одно существенное пояснение.
Отец ушел на войну, оставив жену и пятерых детей: старшей (это сестра Клавдия) было чуть больше четырнадцати, а младшему, то есть мне, около пяти месяцев. Вряд ли стоит описывать, каково было матери.
Из письма (почти не писал) от отца мама узнала, что он офицер Красной Армии. А офицеру, как мама узнала от знакомых, на семью полагался продовольственный аттестат. Надо думать, каким подспорьем для всех нас оказался бы такой аттестат. Но, увы… Отец за всю войну не выслал ни одного продовольственного аттестата. И вернулся домой в 46-м с пустым рюкзаком за плечами. Хотя все его товарищи-офицеры, сослуживцы (я сужу по его же собственным словам) привезли с фронта немало заграничного шмотья.
По этому поводу в семье разыгрывались настоящие драмы. При первом же удобном случае мама кричала ему: «Как ты мог, оставив большую семью, ни разу не вспомнить о ней?!» На этот прямой вопрос она получала столь же откровенный ответ. Он звучал примерно так: «Я чем занимался на войне? Я родину защищал! Я — не крохобор! Я — русский офицер. Я честно воевал. И до продовольственного ли аттестата было мне?!»
В этом случае всегда был на стороне отца. Потому что он бил, душил, давил фашистскую гадину (ГЕРОЙ!), а она, мама, не понимая этого, попрекает его за какой-то продовольственный аттестат, за какую-то, фи, бумажку.
Одни из ярких детских впечатлений — рассказы отца о своем боевом пути. Как их слушал, как слушал! Это надо было видеть. Как только отец приходил домой пьяным (к трезвому боялся подходить) приставал к нему с расспросами. Тот охотно откликался. Пользуясь благодушием, вызванным изрядной дозой выпитого отцом, мама по-своему комментировала рассказ, то есть добавляла скепсиса.
Что касается той войны, то как раньше, в детские годы, так и сейчас с искренним уважением отношусь к его боевому пути. Потому что всё свидетельствует, что отец действительно воевал на славу; что он прошел огонь, воду и медные трубы. И ордена — не главное. Звания — тоже. Главное — безупречная честность и порядочность русского офицера, в чем сомневаться не приходится. И этого вполне достаточно.



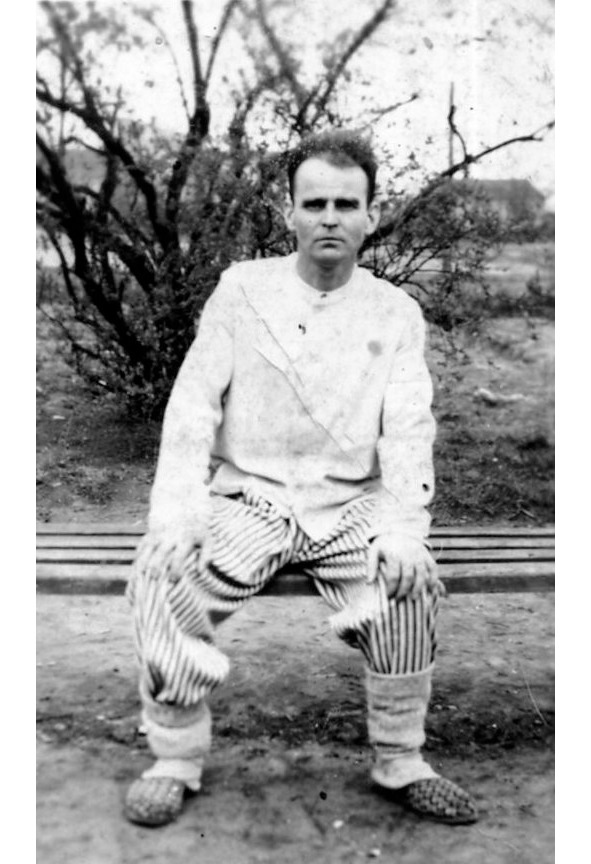
Нежеланное дитя
Вот говорят: советская власть гарантировала каждому счастливое детство. Не знаю, не знаю… Как-то на себе и не почувствовал ту самую «гарантию», никак не почувствовал. Мне могут сказать: исключение из правила — не правило. Если бы!
Увы, но обида, большая, не затухающая с годами обида в моей душе на родителей. Не уверен, что прав, но поделать ничего не могу. Очень хорошо видел, что в семье я самый нежеланный ребенок. Почему? С чем это связано?
Отец вызывает во мне жуткий страх, особенно, когда трезв или когда приходит домой лишь выпивши, то есть, недобрав спиртного. Тут уж лучше не попадаться на глаза. Тяжел на руку отец, ох, как тяжел!
Мать как-то рассказывала деревенским соседкам следующее…
В июне сорок шестого отец возвращается из госпиталя. Он входит в избу. Я, четырехлетний заморыш, никогда прежде отца не видел, возможно, поэтому моя реакция на его появление несколько отличалась от других детей.
Он вошел. Меня с лавки, на которой сидел, как ветром сдуло. Бросился ему на шею (откуда только силенки взялись?) и со слезами на глазах закричал:
— Папа, ты вернулся!..
А потом… Отец злобно отодрал меня от себя и, будто паршивого котенка, отбросил в сторону. Улетел под кровать и лежал там несколько часов, боясь высунуться.
Это, так сказать, со слов матери. А вот собственное воспоминание.
Январь 1948-го. Сижу на лавке у полузамерзшего окна и завистливо гляжу на улицу, где деревенские, мои сверстники весело возятся в сугробах: одни играют в снежки, другие лихо катаются на санках. Светит солнышко. Легкий морозец. Мне жутко хочется на улицу, но… Знаю, что мне нечего надеть.
Соблазн же настолько велик, что забываю о строгом родительском запрете появляться на улице. Лезу на печку. Нахожу там какое-то драное, наверное, материнское, пальто. Натягиваю на себя. Великовато: подол волочится по полу. Нахожу веревку, подпоясываюсь. Теперь — сойдет. Ищу, что бы можно было натянуть на голову. Нахожу малахай, нечто похожее на воронье гнездо. Водружаю на голову. Сойдет. Однако все еще босоног. Что бы надеть? Валенки? Их нет. Думаю. И вспоминаю, что где-то за печкой должны быть «отопки». Не знаете, что это такое? Это когда-то были валенки, но голенища отрезаны, так как их использовали для подшивания других валенок. Нахожу, верчу в руках, возникает еще одна проблема: отопки настолько изношены, что повсюду сплошные дыры. Нахожу какие-то тряпки, наворачиваю на ноги, втискиваю ноги. Ничего. Снег не будет набиваться.
Выхожу, беру во дворе деревянные санки и вот в таком-то виде появляюсь на улице. Несмотря на довольно экзотичный внешний вид, ребятишки с восторженным визгом встречают меня.
Увлекаюсь. Бесконечно счастлив и совсем забываюсь… В очередной раз с воплем восторга скатываюсь на санках с вершины большущего сугроба. Санки выехали на проезжую часть улицы. Санки остановились. Гляжу и вижу перед собой лошадиные ноги. Медленно поднимаю глаза и… О, ужас! В кошевке — председатель колхоза, держащий в руках вожжи, а рядом — мой отец.
Вскакиваю. Хватаю санки за головку и, путаясь в полах одежины, которая на мне, пытаюсь бежать домой. За спиной слышу вопрос председателя:
— Не твой ли, сынок?
Потом слышу за спиной тяжелые шаги. Не оглядываюсь. Съёживаюсь. Знаю, чьи это шаги, поэтому все еще пытаюсь торопиться. Бросаю во дворе санки. Взбираюсь на крылечко. Вот уже сенки. Еще секунда и — дома. Но… Сзади меня хватают тиски, поднимают вверх, переворачивают вниз головой и, держа за ноги, сильно бьют головой об пол. Раз! Еще раз! Еще! Еще! И все! Наступает темнота. Как выражается современная молодежь, отрубился.
Дальнейшее — по рассказу матери.
Отец пришел, разделся, злобно сверкая глазами, сел за стол и стал молча обедать. В доме была соседка. Она, завидев, что хозяин из-под насупленных бровей мечет молнии, засобиралась домой. Она вышла в сенки и тотчас же вернулась. На ней не было лица.
— Петровна, — сказала она матери, — там… там Генашка лежит… Кровь кругом… Кажется, мертвый… не шевелится.
Мать кинулась туда. Подхватила меня и занесла домой. Обмыла от запекшейся крови, привела в чувство, завернула во что-то и уложила на печку.
— За что? — спросила она.
— Опозорил перед председателем. — Хладнокровно ответил отец, потом улегся на кровать и тотчас же беззаботно захрапел.
Опозорил? Но каким образом? Не отрепьем же, в котором был на улице? Эти и другие вопросы могут возникнуть у нынешнего читателя, на которые следует ответить.
Дело все в том, что отец работал агрономом. А агроном тогда в колхозе — это второе лицо, если не первое. Причем агроном, в отличие от председателя, получал за работу в колхозе не трудодни, не натурой (например, зерном или мукой), а деньгами, которых колхозники не видели. И деньги хорошие, на которые можно было прилично содержать семью. И зарплата шла не от колхоза, а от МТС. В этой ситуации сын агронома, в отличие от детей колхозников, должен был хорошо одеваться. В моем же случае… Почему же наша семья, имея гарантированный денежный заработок, бедствовала? Ответ на поверхности: отец почти все пропивал.
Кстати, в школу-то пошел не семи лет, а лишь в восемь с половиной. Опять-таки по той же самой причине: нечего было надеть. Впервые сел за парту только в 1949-м. Да и то, как сейчас догадываюсь, лишь после того, как все чаще деревенские стали задавать вопросы насчет моего непосещения школы. Отец был вынужден к осени сшить мне хлопчатобумажный костюмчик, перелицевать старенькое сестринское пальтецо, купить шапку и валенки.
Потом мать не раз будет возвращаться к эпизоду избиения меня в сенках. Особенно часто будет звучать одна и та же ее фраза: «Парень — с характером. Его избивают, а он — не пискнул. Мы же были в доме и ничего, ни звука не слышали. Упрямец».
Это правда. Пощады не просил никогда. И ни от кого! И слезы родители из меня вышибить не могли, хотя и старались очень. Возможно, это мое молчание и вело к остервенению, с которым чинили надо мной расправу.
Нет-нет, не думай, читатель, что по ошибке слово «родители» использовал во множественном числе. От матери (хотя и пореже) также доставалось на орехи. Приведу один случай, но больше к этой теме не буду возвращаться.
Уже учился в четвертом классе. На одном из уроков у меня сломалось у ручки перо. Запасных у меня никогда не было. Чтобы сымитировать, что на уроке не лентяйничаю, сделал вид, что пишу. Конечно, не писал, а царапал обломком пера. Учительница увидела, возмутилась подобным «безобразием» и выгнала меня из класса. Ушел домой. А следом — пожаловала к нам и учительница. Она возмущенно рассказала, что я вытворяю на уроках. Учительница ушла. А мать, которая в это время стирала белье в корыте, вынула деревянную с железными ребрами по середине стиральную доску и ею стала охаживать меня. Пытался увернуться (больно же!), но не всегда получалось. Отделала мать меня тогда хорошо. Учительница, когда на следующий день пришел в школу, даже не поинтересовалась, отчего это у меня на лице такие большие синяки? Ребята спрашивали, но и им ничего не сказал. В тот раз также не пролил ни слезинки, не проронил ни звука.
Так вот и протекало на заре-зореньке мое детство. Все себя спрашиваю: где была та самая советская власть; почему не вмешалась и не остановила произвол, недопустимый в принципе в цивилизованном государстве? Ответ один: ей, советской власти, по большому счету было наплевать на судьбу отдельно взятого ребенка.
Чтобы и вовсе закрыть эту весьма неприятную для меня тему, вспомню еще один эпизод.
Мне уже было двадцать пять лет. «Комсомольская правда» (да-да, та самая, нынешняя!) проводила дискуссию среди своих читателей на предмет того, должны ли дети во всех случаях почитать родителей? Подумал, что это моя тема, а посему решил поучаствовать в дискуссии и направил в редакцию свой отклик, описав и здесь приведенный эпизод. И, конечно же, мой отклик не был опубликован в массе других писем. Почему? Редакция, спустя пару месяцев, устами (или точнее — рукой журналиста) ответила мне. Смысл письма, полученного из редакции, сводился, собственно, к одному: в советской семье ничего подобного происходить не может. Журналист признавался, что был потрясен прочитанным, что именно по этой причине мой отклик не может быть растиражирован по всему Советскому Союзу. Вот так: на мое участие в дискуссии был наложен запрет. Им там, в Москве, показалось мною рассказанное слишком страшным. Как же они были далеки от народа! Потому что я в советском обществе был не одинок, очень даже не одинок. Подобное отношение к детям со стороны родителей встречал. И многократно!
…За детство счастливое наше — спасибо, родная страна!

Глава 2. Ученье — свет?..
Выскочка — первая кличка первоклашки
Ну, и вот первого сентября 1949 года отправился в сказочную «страну знаний», то есть первый раз в первый класс деревенской школы. По правде сказать, это мало походило на школу, если судить по нынешним меркам. Это был дом-пятистенник, разделенный надвое. В одной половине — одновременно занимались первый и четвертый классы с общим учителем, в другой — второй и третий также с одним и общим учителем.
Урок проходил так: сначала учительница занимается с ребятами из четвертого, а мы, первоклашки, листаем и разглядываем букварь или раскладываем по парам счетные палочки, сделанные нами из прутиков домашнего голика-веника. Дав задание для самостоятельной работы старшеклассникам, учительница возвращается к тем рядам парт, где сидим мы, малыши. Начинается работа с нами.
Собственно, сразу же у меня возникли противоречия с учительницей, которой почему-то страшно не понравился. Например, она дает текст для прочтения. Читаю: «Маша варит кашу. Мама моет Пашу».
Учительница останавливает и начинает сердиться.
— Я что говорила тебе на прошлом уроке? — Выговаривает она. Стою, обидчиво опустив головенку, так как не понимаю, за что сердится Анна Ивановна на меня. — Я тебе говорила, — назидательно продолжает учительница, — чтобы ты читал по слогам. Вот так: Ма-ша ва-рит ка-шу. Ма-ма мо-ет Па-шу. Почему вредничаешь? — спрашивает учительница и громко стучит линейкой по столу, а потом добавляет. — Садись, за домашнее задание — двойка.
Сажусь. Обида раздирает. Страшно хочется заплакать, но сдерживаюсь. Не могу понять, почему тот же Сережка до сих пор еще половины азбуки не выучил, читать не может, но его учительница не ругает и двойку не ставит? Не могу и другое понять: почему должен читать по слогам, если могу читать не по слогам? Спросить? Кого? Мать? Но она неграмотная. Отец? Но к нему страшно подходить.
На следующий день все повторяется, хотя из кожи вон лезу, чтобы учительнице угодить и читать по слогам. Не получается. Учительница злобно шипит:
— Долго это будет продолжаться?
Не знаю, что на это сказать. Потому что уже в первый месяц учебы не только весь алфавит знаю назубок, но и все тексты в букваре знаю чуть ли не наизусть. И мне неинтересно на уроках чтения. Единственную отдушину нахожу в четвертом классе, то есть я-то все еще в первом, но то, что происходит в четвертом и чего я свидетель, не оставляет равнодушным, и активно реагирую.
Анна Ивановна нам, первоклашкам, дает задание писать в тетрадке букву «я». Добросовестно, хотя и коряво, пишу, а краем уха слушаю, что происходит там, в четвертом, куда учительница только что перешла. А там происходит следующее.
Учительница говорит:
— Вам было задание на дом выучить стихотворение. Все выучили? — Класс молчит. — Смоленцев, расскажи стихотворение.
Тот самый Смоленцев встает лениво, долго что-то мычит и переминается с ноги на ногу.
Учительница:
— Садись, единица.
Тот садится и, шмыгая носом, глазами водит по грязно-синему потолку.
— Ребята, — снова обращается учительница, — может, кто-то добровольно?
Четвертый класс глухо молчит. Но зато последний вопрос Анны Ивановны отношу и к себе, а потому изо всех сил тяну вверх руку. Никак! Однако с завидным упрямством продолжаю попытки обратить на себя внимание.
Наконец, учительница замечает мою руку. Поворачивается ко мне.
— Что?!
С необычайной радостью, что Анна Ивановна все-таки заметила, вскакиваю и без всякой подготовки начинаю:
— Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь.
Читаю то самое стихотворение. Пытаюсь читать с чувством, толком и расстановкой, чтобы заслужить похвалу, но, увы, учительница снова сердится.
— Садись! — бросает она и презрительно добавляет. — Выскочка!
Учительница не понимает, что выскакиваю с одной-единственной целью: хочу, чтобы похвалили. Всего-то! И потом, когда стану взрослым, буду продолжать «выскакивать» с той же самой надеждой, с надеждой на похвалу.
Сажусь. Не знаю, что это слово «выскочка» означает, но чувствую: что-то не очень хорошее. Три дня хожу сам не свой. На четвертый набираюсь храбрости, во время перемены подхожу к учительнице и спрашиваю:
— Анна Ивановна, а кто такой выскочка?
Она, не отрываясь от тетрадки, говорит, но уже помягче, чем тогда, на уроке:
— Выскочка — это человек, который все время сует свой нос туда, куда его не просят.
— Но, Анна Ивановна, вы же сами, ну… это… попросили… добровольно…
— Я обратилась к кому? К четвертому классу! А ты в каком?
— Я-то? В первом. Но что тут плохого, если знаю наизусть стихотворение?
Учительница морщится как от зубной боли и машет рукой.
— Отстань. Иди, играй и не мешай мне.
Ребятишки хихикают. Но ни они, ни я все равно ведь из объяснения ничего не поняли. Но это неважно, так как в школе за мной прочно укоренилось прозвище — «выскочка»
Прошло, наверное, с полгода. Мало-помалу учительница ко мне стала привыкать и не стала уже так болезненно реагировать на всякое мое «сование носа туда, куда не просят».
Однажды тому же четвертому классу она задала на дом выучить отрывок из поэмы Лермонтова «Бородино». На следующий день стала спрашивать, но никто до конца отрывок не смог прочитать. А что же я? Как обычно, отчаянно, до боли в суставе тянул руку.
Потеряв, видимо, надежду добиться от класса чего-либо, Анна Ивановна милостиво обернулась ко мне, заранее зная, что будет поднята моя рука.
— Ну?..
Вскочил и затараторил. Торопился, пока не остановили. Мне очень хотелось не просто рассказать отрывок, а всю поэму.
— Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, французу отдана?.. Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя: богатыри — не вы!
— Не спеши, — непривычно мягко остановила меня учительница. — Тараторить не надо. Спокойно.
Окрыленный подобной неслыханной милостью, продолжил:
— Бывали схватки боевые, да, говорят, еще какие! — С пафосом и, выпятив грудь, читал. — Не даром помнит вся Россия про день Бородина.
На одном дыхании прочитал всю поэму и замолчал. Горделиво посмотрел на ребят, которые, разинув рты, сидели и слушали.
— Все? — спросила учительница. Кивнул. — Тогда садись.
Конечно, сел. Обидчиво насупился. Никак опять же не мог взять в толк, почему Анна Ивановна не ставит мне оценку? Все же рассказал — все-все! Что ей еще надо? Да, верно, она не похвалила меня, но позволила же, позволила до конца рассказать поэму! Не отрывок, как было в домашнем задании для четвертого класса, а — всю-всю!
Так и начался мой странный поход в весьма экзотическую «страну знаний». Странный в том смысле, что советская система народного образования, именовавшаяся самой демократической, самой гуманной и самой эффективной, постепенно отбила у меня изначально заложенную сильную тягу к знаниям, а к четвертому классу уже окончательно потерял всякий интерес, и в школу стал ходить по обязанности, к урокам стал готовиться по необходимости, то есть от отличных оценок скатился к троечкам. Советская система дала понять, что нельзя высовываться, что надо быть на уровне среднем, но не более того, что выскочек у нас не жалуют и даже обзывают, надсмехаются, что надо ходить строем и выравниваться по ранжиру, что надо любить то, что предписано и ненавидеть то, на что указывают старшие, что общее мнение — все, а твое личное — ничто.
Полоумный изгой
Таким образом, с первого класса во мне стали формировать убеждение, что быть умником не в чести и достойно если не осуждения, то ехидных замечаний среднего большинства. И советская школа такую тенденцию открыто поддерживала.
К пятому классу оказался своего рода изгоем. Надо мной потешались, как могли, учителя; на меня науськивали сверстников пионервожатые. И, в конце концов, замкнулся, отдалился от товарищей, то есть внешне стал, как все — не стал высовываться. В обществе еще одним троечником стало больше. И это, похоже, всех устраивало.
Именно в советской школе впервые сделал для себя открытие: в советском обществе, провозглашающем, что у советского человека с рождения равные права и равные возможности, все на самом деле не совсем так. Иначе говоря, стал сталкиваться с неравенством. В чем это выражалось?
…Состоялся очередной переезд родителей, следовательно, очередная смена школы и класса. Это был 1955 год. Это был город Верхняя Тура, в шести километрах от Кушвы. Мне уже было почти четырнадцать лет, хотя все еще был лишь в пятом классе.
И вот оказался в школе №7, в пятом «а». А класс, как потом оказалось, был не совсем обычный. В нем, преимущественно, учились дети из обеспеченных семей, к которым, как уже упоминал, никогда не относился. По большей части, это были либо дети руководителей единственного в городке завода-почтового ящика, либо дети военнослужащих рангом не ниже подполковника, причисленных к заводу в качестве военпредов.
Новые мои одноклассники приходили в школу такие ухоженные, такие нарядные: мальчики — в шерстяных и отутюженных костюмчиках, белоснежных рубашках, кожаных туфлях или ботинках; девочки — также в шерстяной школьной форме и всегда белоснежных шелковых передничках, а на головах пышные и столь же нарядные банты.
На этом фоне выглядел совсем убого. Не знаю, каким образом очутился именно в этом классе. Потому что был параллельный 5 «б», где дети учились из менее обеспеченных семей, и где бы смотрелся не так ужасно. Вполне возможно, оказался не там, а здесь по чистой случайности.
Как бы то ни было, но случилось то, что случилось. И здесь понял свое полное ничтожество. Точнее будет сказать, не я понял, а мне дали понять. В первую очередь, учителя советской школы. Ну, и, конечно, одноклассники, с которыми у меня произошло размежевание по имущественному признаку. С одной стороны, дети из обеспеченных семей, а, с другой, дети из семей, где достаток был весьма скромен. Нам, беднякам (нас всего было двое), приходилось туговато. Доставалось от тех «чистюль», как мы их презрительно называли. Но мы брали не числом, а своей агрессивностью.
Ожесточившись душой, видя вокруг лишь недругов, стал учиться еще хуже. Это, видимо, было моим, своего рода, протестом на царящую несправедливость, чем доставлял классу немало проблем в смысле «снижения показателя уровня успеваемости».
Учителя всегда старались подчеркнуть мое ничтожество. Ну, а я все же хотел, чтобы и ко мне относились так же, как и к другим. Наивный ребенок!
Типичная картинка.
Идет урок геометрии. Преподаватель Карманович Анатолий Петрович (представляешь, читатель, многих забыл, а его нет!) из-под очков смотрит в мою сторону и, даже не называя моей фамилии, говорит:
— К доске!.. Теорема… Доказательство равенства равнобедренных треугольников.
Беру мел, линейку, черчу два треугольника, пишу, что дано и что требуется доказать. Но делаю все крайне медленно. Страшенный тугодум, знаете ли.
Карманович оборачивается, видит, что все еще, так сказать, не готов к ответу, провозглашает ко всеобщему удовольствию класса:
— Садись, единица!
Он уверен: тугодумов в природе не существует, особенно на его уроках; есть лентяи, вроде меня, которые не хотят делать домашние задания, а посему никакой иной оценки не заслуживают. При этом лицо его сияет, как полная Луна. При этом я не понимаю, чему учитель так рад?
Типичная и эта картинка.
Конец полугодия. Урок физкультуры, но проходит он на этот раз не в спортивном зале, а в классной комнате. Учитель идет по списку в классном журнале и публично выводит итоговую оценку. Доходит до моей фамилии. Делает многозначительную паузу и спрашивает:
— Ну-с, друзья, что с ним будем делать? Какую ему выставим оценку?
Он обращается к классу и, издевательски ухмыляясь, смотрит мне прямо в глаза. Вспыхиваю, как порох, покрываюсь краской стыда, вскакиваю со своего места и громко кричу:
— Ставьте… хоть единицу!
Учитель все с той же ухмылочкой берет ручку, выводит против моей фамилии жирную единицу и комментирует:
— Твое желание, Мурзин, для меня — закон.
Типичная также и вот эта картинка.
…В класс входит Черноголова. И первое, что она делает, — заискивающе обращается к одной из моих соучениц, единственной и любимой дочери главного инженера завода.
— Танюша, как твой папа? Как чувствует себя мама? У них все в порядке?
Получив от Танюши утвердительные ответы, она приступает к урокам.
А эта самая Танюша, к слову сказать, была всеобщей любимицей. Все мальчишки класса в нее были влюблены. Я — не исключение. Однако если другие могли каким-то способом это продемонстрировать (например, напроситься в провожатые из школы или пригласить в кино, заранее купив билеты на папенькины деньги), то я всего лишь был самым тайным воздыхателем.
Красивая, но заносчивая была девочка. Конечно, отличница.
Меня же Черноголова буквально третировала. Больше всего, наверное, за то, что портил внешний вид класса. Такой пример.
Однажды прихожу в школу, иду в класс, занимаю свое место за партой на галерке. Кстати, близорук с детства. Классный руководитель знает, но запрещает сидеть на первой парте. Почему? Неприятен, видимо, был настолько, что — с глаз подальше. Сидя на «галерке», с большим трудом разбирал, что написано на доске. Спросить соседа? Стыдно. Первый урок — немецкий язык. Входит классный руководитель. Все, как всегда. Но потом, проходя между рядами парт, Таисия Григорьевна останавливается возле меня, берется за мой пионерский галстук и громко, так, чтобы весь класс слышал, спрашивает:
— Это что за тряпка?
Мои уши горят от унижения. Но молчу, стою, опустив глаза вниз, потому что сказать мне нечего: мой галстук и в самом деле не как у всех — очень древний, от многочисленных стирок вылинял и по краям обреможился.
— Что молчишь? — Грубо спрашивает она. И, не дождавшись ответа, категорично заявляет. — Чтобы завтра же был новый галстук!
Согласно киваю, хотя ведь знаю, что завтра нового галстука у меня не будет.
На следующее утро, хотя первый урок не ее, Таисия Григорьевна перед занятиями приходит в классную комнату. И, увидев, что я в том же самом пионерском галстуке, топает ногами и кричит:
— Вон из класса! Вон!
Послушно беру сумку с учебниками и выхожу. А вдогонку разгневанный голос учительницы.
— Не сметь переступать порог школы до тех пор, пока не будет достойного галстука!
Сначала подумал, что угроза не будет исполнена, поэтому на другой день вновь был в школе. Но меня снова выгнали. И не допускали до занятий ровно две недели. Я, конечно, безнадежно отстал и с большим трудом закончил пятый класс и перешел в шестой. Это, видимо, и есть советское школьное воспитание. Это, видимо, и есть гуманизм советского педагога.
Как сложилась, кстати говоря, дальнейшая судьба той самой Танюши, любимицы родителей, всех учителей и всех мальчишек школы?
Отличница, спортсменка, комсомолка и, наконец, просто красавица в составе делегации Свердловской области участвовала в Московском международном фестивале молодежи и студентов 1958 года.
А ее тайный воздыхатель, то есть я, уже почти два года к тому времени вкалывал на стройке, горбом зарабатывая на хлеб насущный.
Танюша вернулась из Москвы, но не одна. То есть, внешне-то одна. Через девять месяцев родила ребенка. И не беленького, обычного, а черненького, негритенка, что в маленьком городке стало настоящей сенсацией. Продолжать учебу в общеобразовательной школе уже не могла, а в вечерней не хотела, поскольку в вечернюю ходили люди не ее круга. Короче говоря, девчонка пошла по рукам, став доступной каждому желающему. Замуж не вышла.
С Черноголовой старался впоследствии не встречаться. Но пройдет десять лет и судьба все-таки меня сведет. А случится это так.
В 1965 году я уже буду работать заведующим организационным отделом Кушвинского горкома ВЛКСМ. На бюро горкома будет слушаться вопрос, касающийся нравственного воспитания подростков в той самой школе №7, а готовить вопрос будет специально созданная комиссия, руководство которой будет поручено мне. Пытался отвертеться, но не получилось. И вот возглавляемая мною комиссия в школе, порога которой не переступал десять лет.
Черноголова к тому времени была завучем. Я, естественно, ни единым словом не обмолвился, что некогда здесь учился. Но Таисия Григорьевна признала во мне своего ученика. И при прощании она стала говорить, что она помнит меня, знает, каким способным был у нее учеником; она гордится, что не ошиблась во мне; что она и тогда подозревала во мне некие организаторские способности. И так далее, и тому подобное.
Эти дифирамбы мне было вдвойне неприятно слушать, поскольку от начала и до конца являли собой одну большую ложь.
Слушал молча лицемерные слова завуча, а передо мной в это время стоял ее любимчик из 5 «а». Некий Вадим Спирин, единственный сынок капитана первого ранга, главного военпреда ВМФ на оборонном заводе. Дышать Черноголова на Вадика боялась. А он? Впоследствии станет злодеем-убийцей и будет приговорен к исключительной мере наказания — расстрелу. Ничего другого от ухоженного мальчика, но отчаянного драчуна, державшего весь класс в страхе, ожидать не приходилось.
Советская общеобразовательная система сделала все, чтобы вызвать во мне отвращение к учебе.
Но, тем не менее, у меня будет аттестат зрелости, где ни одной тройки и почти все пятерки. Но произойдет это гораздо позднее, в вечерней школе. Будет и диплом о высшем образовании, также полученный без отрыва от производства, разумеется, также без троек.
Советская школа не оставила в моей памяти ни единого светлого пятна. Поэтому и не испытываю никакой ностальгии по ней. Исключительно поэтому не понимаю тех, кто пускает слюну, вспоминая школьные годы. Тем более, что многие просто-напросто бессовестно лгут — себе и другим.

Глава 3. Прощай, кров родительский
Хитрые подкаты
Год 1956-й. Весной с грехом пополам закончил шестой класс сельской школы. К тому времени моя семья, неудержимо гонимая ветрами странствий (отец все никак не мог закрепиться в каком-либо определенном и одном колхозе, так как подавал рядовым колхозникам дурной пример своим непомерным прикладыванием к спиртному) оказалась в небольшой деревушке Сернурского района Марийской республики.
Очаг семейный не слишком грел, поэтому стал задумываться о своем будущем житье-бытье. Для себя решил: через год заканчиваю семилетку, и буду поступать в техникум, чтобы стать специалистом сельского хозяйства: агрономом, как отец.
Мне никак не обойтись и на этот раз без пояснения.
Не хотел бы, чтобы читатель подумал, что решил пойти по стопам отца из-за любви к нему и обожания того, чем он занимался. Нет, не любил отца: его жутко боялся. За что-то ненавидел, но, наряду с этим, за что-то уважал — это правда. Уже упоминал, что гордился отцом и бесконечно уважал за то, что он, спасая Россию, добровольно ушел на фронт, проехав на танке по всей пылающей в огне Европе.
Были у отца и еще положительные качества. Своим детским умом, например, уже в раннем возрасте понял, что отец исключительно добросовестно относится к работе. И того же требовал от колхозников. Не могу забыть, как однажды стал невольным свидетелем такой сцены. Отец приехал на поле, которое пахали трактористы из МТС. Его одного взгляда было достаточно, чтобы увидеть «огрехи» на пашне. Он остановил тракторы. И буквально, топая ногами, в бешенстве от такой недоброкачественной работы, орал на трактористом. Он требовал, во-первых, чтобы те пахали ровно, без проплешин; во-вторых, чтобы соблюдали и другое агротехническое правило — пахали на заданную глубину, то есть, не глубже и не мельче.
Трактористы не возражали. Они, понурив головы, пошли регулировать плуги. Мало того, заставил заново перепахать поле.
По некоторым репликам колхозников знал, что отца не слишком любили, но боялись… Тем более, что от его надзора не было спасения. Он мог появиться в местах проведения агротехнических работ в любую минуту. Люди знали: этот никогда неулыбающийся человек, смотрящий на них исподлобья, не знающий шуток и непонимающий юмора, беспощаден, когда речь заходит о халтурном отношении к земле, к труду, к своим прямым обязанностям.
Повторяю: это почему-то мне страшно нравилось. Неосознанно, но нравилось. Пройдут годы и пойму, почему. Окажется, что неприятие халтуры (в любом ее проявлении) внутри меня, с которым буду идти по жизни и которое будет мне, как и моему отцу, доставлять много хлопот. Окажется, что халтура — это одно из обязательных качеств советского человека. Окажется, что без этой самой халтуры не прожить, точнее — очень трудно прожить. И всякое мое возмущение, переходящее в тихое бешенство, халтурой станет порождать вокруг меня тайных недругов. Хотя ведь все те внешние атрибуты советского общества, насаждаемые пропагандой, говорили об обратном. Наоборот, в общественном сознании неприятие халтуры должно было сопровождаться, по крайней мере, сочувствием, пониманием, одобрением.
В этом смысле и я, и мой отец оказались в чужой стае «белыми воронами». А ведь отец ничего дурного тому обществу не желал. Он лишь хотел, чтобы, с одной стороны, советские люди к общественному труду относились добросовестно; с другой же стороны, он хотел, чтобы земля обрабатывалась с любовью, чтобы пашня давала обильный урожай. Им двигала корысть, личная материальная заинтересованность? Ничуть! Тогдашний агроном даже членом колхоза не являлся (он был в штате государственного сельскохозяйственного предприятия — районной машинно-тракторной станции), и его денежный оклад никак не зависел от урожайности колхозного поля.
На подсознательном уровне с уважением относился и еще к одной отцовской черте характера — к его абсолютной честности. Опять же покажу на одном, на мой взгляд, мелком, но примечательном примере.
Осенью, когда урожай зерновых собран, колхоз начинает подработку семенного фонда, то есть подготовку семян к будущему весеннему севу. К середине зимы — семена в амбарах. И, кажется, для агронома наступила передышка. Однако не для отца. Он отбирает из семенного фонда гречиху, рожь, овес, ячмень, пшеницу, клевер и другие культуры. Все — по отдельным мешочкам. В каждый мешочек — по килограмму. Все отобранное он отвозит в район, где размещается специальная лаборатория, в которой делается научное заключение на пригодность посевного материала к внесению в почву. Семена культур определяются на всхожесть, на засоренность, то есть на наличие мусора, особенно на наличие семян сорняков, на устойчивость к колебаниям температур и так далее. Короче говоря, на основе представленных образцов семян делают заключение, готов колхозный семенной фонд к весеннему севу или нет.
Отец лично отвез пятнадцать мешочков. Оставил там. Проходит несколько недель, анализ готов. Мешочки с зерном он привозит назад. Это, примерно, пятнадцать килограммов. А поскольку приезжает из района поздно вечером, когда кладовщики уже дома и склады заперты, то он до утра оставляет привезенное в избе.
Утром следующего дня, слышу, между отцом и матерью происходит такой диалог.
Мать:
— Что ты там копаешься? — Отец действительно шуршит в углу, собирая в сумки мешочки с привезенными назад семенами. Не дождавшись ответа, мать продолжает. — Мог бы и оставить. Вон, вторую неделю кур кормлю только картошкой.
Отец рычит из своего угла:
— Ты спятила, да?! Как только язык поворачивается… Чтобы я и… — он даже это слово «взял» не хочет произносить. — Какими глазами буду людям смотреть?!
Мать:
— А что такого? Вон, Дуся, кладовщица…
Отец передразнивает мать:
— Дуся, Дуся… Думаешь, сам не вижу, что таскает? Тоже мне… Нашла, кого мне в пример ставить.
Мать возражает:
— Не хуже тебя-то…
Отец окончательно выходит из себя, зверея, кричит на всю избу:
— Ты, что… — тут он вставляет пышный букет крепких слов, которые я и повторить не решаюсь, — не брал! И не возьму! Ни зернышка колхозного не возьму!
Он со злостью взваливает на себя сумки, выходит из избы, хлопая дверью. Подбегаю к окну. Гляжу: идет демонстративно через всю деревню, чтобы все видели, что он возвращает взятые когда-то семена. Всем своим видом он говорит: знай, мол, наших; мы не из таковских!
Мама все же вдогонку отцу бросает:
— Дурак… зайковский. Ты — принесешь, а они — вдесятеро больше унесут.
Конечно, я не уверен, но все же мне кажется, что мой отец не мог надолго прижиться ни в одном колхозе не только из-за пьянства или из-за своего необычайно ревностного отношения к земле. Рискну предположить: отец сильно беспокоил колхозников, в особенности председателя, своим нетрадиционным отношением к воровству — крупному и мелкому. Иметь на месте агронома человека, который сам ничего не берет и другим не позволяет, — это все равно, что бельмо на глазу. Крайне раздражающее ощущение. А избавиться можно, лишь найдя благовидный предлог. Он, то есть предлог, был всегда. Очередной запой — и в район летит докладная. Отца — в МТС: предлагают уволиться или перейти в другой колхоз. Он выбирает второе. Семья вновь собирает «манатки» и меняет место жительства, а я — место учебы.
С отцом на эту тему заговаривать не решался. Однако в детской головенке были вопросы, на которые ответа не было. Но ответы искал. Мать, полуграмотная женщина, закончившая полтора класса церковно-приходской школы и с большим трудом царапавшая письма, становилась единственным человеком, которого смело мог спросить об этом.
Помнится, в очередной раз, приготовив вещички к переезду и ожидая транспорт, спросил:
— Мам, за что отца выгнали из колхоза?
— Все за то же, — грустно ответила мать и тяжело вздохнула. — За пьянку.
— Мам, — продолжаю гнуть свое, — но дядя Тихон, председатель, тоже… Позавчерась, сам видел, как Соловей, — это имя любимого председательского жеребца, — привез дядю Тихона домой и как дядя Тихон долго выбирался из тарантаса, а потом на коленках взбирался на крыльцо.
— То, да не то, — назидательно говорит мать.
— Почему, мам? — настойчиво продолжаю выяснять.
— Председатель умеет жить… И еще… Он — партейный.
Перебиваю.
— А отец?
— Не умеет жить.
— А что значит «уметь жить»?
— Отстань! Мал еще. Подрастешь — сам узнаешь.
Мать была права. Не пройдет и двух лет, как (уже на собственном опыте) стану постигать премудрости советского образа жизни. Нет, не те, о которых взахлеб писала самая популярная среди молодежи тех лет газета «Комсомольская правда», а совсем иные, можно сказать, полярно противоположные: вместо правды — ложь, вместо искренности — лесть и угодничество, вместо принципиальности — умение подлаживаться под тех, от кого сегодня зависим, и способность безжалостно топтать своих вчерашних кумиров, поскользнувшихся или оступившихся.
О, я быстро узнал, что на самом деле честь и честность не в чести; что в реальной жизни проще всего и лучше всего быть, как все, и уж, во всяком случае, открыто не демонстрировать свое превосходство.
О, вскоре же услышу эту фразу: «Глядите, а он грамотный». Потом, когда захотят меня унизить, часто будут произносить эти слова. Не странно ли, что слово «грамотный» в той жизни будет звучать из уст советских людей не как восхищение, а как оскорбление?
О, с самых же первых шагов в самостоятельной жизни услышу не навязчивое пожелание: «Надо уметь ладить с людьми». Что значит ладить? И сегодня не смогу объяснить. Но, по всей видимости, ладить не умел, из-за чего вся жизнь сопровождалась конфликтами. Смех и грех! Впрочем, об этом — потом…
Щепетильность отца имела крайние формы, но мне от этого почему-то было приятно. Родственные, видать, души.
…И все же, почему в сельскохозяйственный техникум решил податься, а не в какой-либо другой? А другого попросту не знал. Дело в том, что за полгода до принятого мною решения отец был на двухнедельных курсах повышения квалификации в том самом единственном на всю республику техникуме.
Итак, учусь в школе еще год, а потом еду поступать в Семеновский техникум — решение окончательное и бесповоротное. Однако надо же и с отцом посоветоваться. Выбираю удобный момент, когда, как мне кажется, родитель в наилучшем расположении духа.
— Пап, — набравшись храбрости, обращаюсь к нему, но близко не приближаюсь, чтобы горячая его рука не достала, если что, — на будущий год решил в техникум поступать, в сельскохозяйственный, — пытаюсь улестить, сделать ему приятное, — на агронома… Как думаешь, это правильно?
Отец сидит на лавке, за столом и читает газету «Известия», оставляя мои слова без какой-либо реакции. Смелею, поэтому продолжаю развивать свою мысль.
— Стипендия-то сто двадцать рублей. На нее, говорят, без поддержки не прожить. Может, поможешь, а? Чуть-чуть…
«Удочка» закинута. Стою все также поодаль, жду, когда «наживку» заглотит. Проходит минута, другая. В избе — тишина. Мать сидит в сторонке и вяжет чулок. Она не вмешивается.
И, наконец, первая реакция. Отец бросает на столешницу газету. Его тяжелый из-под густых черных бровей взгляд сверлит меня.
— Ты, что, а?! — он приподнимается с лавки, а я отхожу чуть ближе к двери, готовя себе «плацдарм» для будущего отступления. — Я тебя вечно, живоглот, стану кормить!? — «живоглот» — это то самое, что всегда заменяет ему мое имя, и к этому уже давно привык. — Ишь, губёшки-то раскатал, — он презрительно сплевывает на пол. — Не надейся! Работать пойдешь! В колхоз! Дармоед!
Дармоед — это еще одно мое имя, любимое отцом и ненавистное мною. Молча делаю разворот на сто восемьдесят градусов и выхожу на улицу.
Хватит слыть дармоедом
Допоздна хожу вокруг избы и думаю, что мне делать дальше. Отец прав: мне уже пятнадцать, а всего лишь закончил шесть классов. Неважно, что отпустили в школу в восемь с половиной лет, когда не отпускать уже было невозможно. Что ж, пора кусок хлеба самому зарабатывать: уж так надоело, так надоело быть дармоедом! Пора и имя собственное обретать.
На утро, когда отец ушел в поле, сказал маме:
— Поеду к Клаве.
— Что там забыл? У сестры и без тебя…
Знал, что сестра живет без мужа и что у нее четырехгодовалый сын, и что без меня, нахлебника, ей трудно.
— Поеду, — упрямо повторил. — Мам, дай на билет, а?
— Откуда у меня? Спрашивай у отца.
— Не буду, — насупившись, ответил и махнул рукой. — Сам на билет заработаю.
В тот же день, взяв в дорогу пустой портяной мешок с лямкой, отправился в путь-дорогу. До райцентра шел пешком, один, лесом. Это километров пятнадцать. Пришел, стал спрашивать, где бы можно было немного заработать. Люди смотрели на мой маленький росточек, щупловатую фигурку, качали головами, сочувствовали, но ничем помочь не могли. Одна лишь бабуля, жившая в покосившейся хатенке, вынесла мне краюху ржаного хлеба. Очень кстати. Потому что с утра — во рту ни маковой росинки. Нашел колодец, опустил вниз бадью, достал воды и, припивая, навернул всю краюху. Поступок неосмотрительный, поскольку в другой раз поесть удастся лишь на третьи сутки.
Но ничего! Зато чувствовал все же себя самостоятельным и абсолютно независимым человеком. Какое все-таки это счастье. И ничего, что в животе бурчит, как говорится, кишка кишке бьет по башке.
На другой день в какой-то конторе мне сказали: если хочу заработать, то могу пойти в карьер (в пяти километрах от райцентра), там каменоломня, идет заготовка камня для строительных работ, заработок выдают по окончании дня и в соответствии с количеством добытого камня; что там могут нанять и несовершеннолетнего, правда, без оформления.
Выбора не было. Пошел. Там встретили недружелюбно. Мастер, осмотрев мою неказистую внешность, сказал:
— Хоть знаешь, что это за работа?
— Нет, — честно ответил.
— Впрочем, ладно, черт с тобой: сколько сделаешь — все твое.
Видимо, жаль стало мастеру. Он выдал каёлку, лопату, небольшой, но увесистый для меня ломик, подвел к откосу и сказал:
— Ну, давай, действуй. Добытый камень складывай в штабель.
Он хмыкнул недоверчиво и ушел.
Семь часов утра. Кругом много солнца, птицы над головой щебечут, воздух — чист и свеж, а в животе урчит. Наверное, мне повезло с местом. Потому что пошел большой плитняк. Знай, выковыривай и складывай в штабель. Невдалеке работали взрослые. Но я на них не обращал внимания, они на меня — тоже.
Заметно стало темнеть. От заходящего июньского солнца по карьеру расползлись гигантские тени огромных елей. Работая, не заметил, что все рабочие уже ушли. Не было и мастера. Значит, остался без денег. Хотя штабель (по моим, конечно, меркам) был не мал.
Устал. Руки, особенно ладони, страшно болели, так как во многих местах кровоточили из-за многочисленных порезов об острые края плитняка. Откуда у меня могли взяться рукавицы?
Тут же прилег, подложив под голову охапку травы. Моментально заснул. Забыл о лесных Леших и прочей всякой нечисти. Проснулся от людских голосов. Протер кулаком глаза. Снова — солнце, снова птицы, снова люди.
С прежним остервенением принялся за работу. Подошел мастер. Оглядел штабель, хмыкнул.
— А ты, пацан, хоть и хлипкий на вид, но на работу горазд. Вот не думал. Вечерком заходи в будку. За работу получишь деньги.
Он ушел. Я продолжил работу. И к вечеру было уже два штабеля.
В животе перестало урчать. Но хотел пить. Стал искать ручей. Что-то похожее на него нашел. Утолил жажду. Пошел к мастеру. Тот подал мне две сотенных купюры и полусотенную: видимо, успел уже замерить.
Вернулся к откосу, надел свои, бережно сложенные, ситцевые шаровары, коленкоровую рубашку (работал-то почти голышом), тапочки на босу ногу, собрал инструмент, принес мастеру.
— Уходишь? Так быстро?
Кивнул. Не стал объяснять, что заработанного мне с лихвой хватит, чтобы купить билет и уехать к старшей сестре. Билет-то стоит сотню. В общем вагоне, конечно.
Есть добрые люди
Вышел из леса. Вдали — по шоссе неслись в обе стороны автомобили. Вышел на обочину. Стал тянуть руку. Долго никто не останавливался. Но вот затормозил старенький ГАЗ-51. Шофер (настоящая русская душа, добродушно улыбался мне) распахнул дверцу кабины.
— Залетай, пацан! — Второго приглашения не потребовалось. Не отрывая глаз от полотна шоссе, спросил. — Куда путь держим?
— В город. Мне на вокзал. Довезете?
— Родители хоть знают?
— Мать — да, отец — нет.
— Что так?
Рассказал. Он недовольно покрутил головой.
— Надо же! Будь поосторожнее там, на вокзале и в поезде. Мал еще.
— Мне уже пятнадцать.
— Надо же! — Шофер усмехнулся. — Так много?
— Да. Не смотрите, что маленький. Это — такой уродился. Мамка рассказывала, что до четырех лет сам сидеть не мог… Все валился на бок… Голова больно тяжелая оказалась.
И тут шофер увидел мои кровоточащие руки.
— Что с тобой? Кто это?
— Никто… Сам… На каменоломне два дня работал, чтобы на билет заработать.
— Надо же! Заработал? Не обманули?
— Нет! — Достал из холщового мешка деньги и показал. — Вот!
— Какой ты молодец!
От избытка гордости и счастья, что меня похвалили, зарделся.
— Голоден, поди?
— Н-н-не очень… позавчера ел.
— Не очень, — передразнил меня шофер. — Там, в «бардачке» возьми хлеб, яйца, соль.
— Это — нехорошее слово, дяденька. Мой отец так ругается.
Шофер заливисто расхохотался.
— Ну, ты, даешь, малый! Извини, но у нас, шоферов, так называется шкафчик, который перед тобой.
Уставился, но ничего, никакого шкафчика не видел. Подумал, что шофер шутит со мной. Он дотянулся правой рукой до какой-то выпуклости на передней стенке, нажал, и отпала небольшая жестяная дверца.
— Ты бери. Ешь.
Увидев, что там лежит огромная булка белого хлеба, мои глаза загорелись голодным огнем. Дрожащей рукой потянулся к хлебу.
— Я, дяденька, только чуть-чуть, ладно? А там, в городе, куплю… куплю… — Отщипнув немного, стал класть булку назад.
— Ты, пацан, отламывай по-настоящему, по-мужицки. И яйцо бери. Вареное.
— Спасибо, не надо, дяденька.
— Кому сказано? Бери! — Строго сказал шофер и насупился.
— Извините, но вам…
— Ну! — еще строже сказал шофер.
— Хорошо, хорошо, дяденька. Вы только не сердитесь, ладно?
Достал яйцо, сваренное вкрутую, и стал чистить, продолжая, меж тем, жевать вкуснющий хлеб. Шофер смотрел на дорогу и молчал.
— Вы такой… такой…
— Какой?
— Очень, ну, очень добрый.
Он засмеялся.
— Чудак! Ну, какой же я добрый?
— Да-да-да!
— Я не добрый, я обыкновенный. — Он снял правую руку с рулевого колеса, притянул меня к себе. — Ничего, малыш, ты еще встретишь немало хороших людей…
Показались первые домишки города. Сначала — маленькие, как в моей деревне, потом пошли и в два, а то и в три этажа. Шоссе стало ровным и гладким.
— Я, малыш, еду на элеватор. — Он на секунду задумался, потом решительно тряхнул головой. — А, ладно, довезу тебя до вокзала.
— Спасибо, но я сам дойду.
Шофер опять засмеялся.
— Чудак! По этому городу пешком не ходят.
Недоверчиво смотрел на шофера.
— Почему? Нельзя?
— Город слишком большой. Тут на автобусах все ездят. А до вокзала без малого с десяток километров. Так что сиди смирно.
Притих. Минут через двадцать машина подъехала к большому трехэтажному зданию с красивыми колоннами, вроде как к дворцу. Шофер развернулся и остановил машину.
— Молодой человек, прибыли.
— Это… вокзал? — Шофер кивнул.
Мы вышли из кабины.
— Пошли.
— Но вам же на элеватор…
— Пошли. Тебе билет могут не продать. Мал еще, чтобы одному в поездах ездить.
Послушно пошел. Он нашел кассу, купил билет, сдачу вернул мне. И наставительно сказал:
— Если хочешь действительно добраться до сестры, то, во-первых, постарайся не попадаться на глаза милиции: ее на вокзале много; во-вторых, в дорогу здесь же прикупи чего-нибудь из еды, ну, чтобы в поезде также сильно не мельтешить, поскольку там также ходят милиционеры: могут, завидев тебя одного, снять с поезда; в-третьих, для пущей твоей безопасности прибейся к кому-либо из пассажиров, создай видимость, что это твои родственники. Понятно? — Я согласно кивнул. — Тогда — счастливо! — Он притянул меня к себе и крепко прижал.
От этой мужской ласки, неведомой ранее мне, испытал удивительное чувство — что-то совершенно новое и непонятное. Пройдя несколько шагов в сторону стоявшего автомобиля, он вернулся.
— На, — он протянул мне тридцатку, — извини, малыш, что больше не могу. — Завидев, что отстранился, добавил. — Бери. Тебе пригодится. Не ближняя дорога.
Все-таки взял. Шофер уехал. А через несколько часов уже был в вагоне поезда, который уносил в новую и неизведанную жизнь.

Глава 4. Под перестук колес
Первый победный приз
Лежа на третьей полке, на багажной, под самым потолком, зорко следил за происходящим внизу. И как только на горизонте появлялись люди в фуражках с малиновым околышем, впивался в стенку вагона, съеживался и становился невидимым. Они уходили. Я вновь продолжал познавать новый для меня мир. Там, внизу все было так интересно! Спуститься бы, но — ни-ни! наставления дяденьки все еще держались в ушах.
Впереди — то и дело гудит паровоз. Под вагонами — мерно стучат колеса. Лежу наверху и все думаю, думаю… Обо всем.
Например, о первом в своем детстве новогоднем празднике.
…Канун Нового, 1950-го. В деревенской школе — кутерьма. Она мне, первоклашке, страшно нравится. Особенно нравится тем, что учительница Анна Ивановна то и дело кричит через всю комнату: Мурзин, сделай то; Мурзин, сделай другое. Пулей лечу, куда сказано; охотно делаю, что велено. А все мы занимаемся тем, что украшаем новогоднюю елку: мальчишки — развешивают украшения, а девчонки, как самые умелые по этой части, — делают разные игрушки, фонарики, например, или хлопушки, или гирлянды. Делают из старых газет. Раскрашивают чернилами или цветными мелками. Склеивают вареной картошкой. Звезду на макушку вырезают из картона, а для раскрашивания Анна Ивановна разрешает воспользоваться малиновыми чернилами. Ну, теми самыми, которыми она нам ставит в тетрадках двойки и записывает замечания.
Верх моего блаженства — сам новогодний вечер. В классной комнате, откуда парты вытащены на улицу, полно народа. Это — многочисленные родственники детей-учащихся. Моих — нет. Никого. Как всегда. Моих и на родительское-то собрание не удалось ни разу вытащить.
Кажется, мне обидно. Но не слишком. Упиваюсь всеобщим весельем. Не могу отвести восторженных глаз от наряженной нами новогодней елки. Сказка!
Наконец, Дед Мороз (Анна Ивановна, учительница наша, в овчинном полушубке и с огромной серой бородищей) объявляет, стукнув грозно о пол посохом:
— Ну-с, дети мои, кто хочет получить мой специальный подарок?
— Я! Я! Я! — несутся многочисленные голоса моих учеников.
Желающих много. Но меня среди них нет. Стою, опустив вниз головенку. Нет, не то, чтобы не хотел получить подарок. Хотел бы, очень! Но мне кажется, что подарки просто так не раздаются: их надо заслужить.
— Тогда, — продолжает басить Дед Мороз, — расскажите-ка мне стихотворение.
На этот раз желающих изрядно поубавилось. Но зато — среди них и я.
И хотя мой голос звучит громче всех, но первой выступить, открыть конкурс Дед Мороз дозволяет Наташке (соседская девчонка, противная ужасно, потому что подлиза, потому что подлизывается к Анне Ивановне, а еще ябедничает).
Наташка выходит вперед. И, шмыгая носом, постоянно запинаясь, кричит:
— Наша Таня громко плачет:
Уронила в речку мячик.
Тише, Танечка, не плачь —
Не утонет в речке мяч.
Аплодисменты артистке. Особенно усердствуют и бьют в ладоши (это я вижу) Наташкины родители.
После Наташки мямлит что-то свое Пашка. Он хоть и друг, но мне за него приходится краснеть.
Я тоже готов. Меня явно не замечают. Но упрямо заявляю о себе. И вот, когда выступило пять или шесть школьников, ко мне подходит Дед Мороз.
— А ты, мальчик, что можешь рассказать? Вижу, давно рвешься. Ну, слушаю.
Вырываюсь вперед. Бесконечно счастлив, что вот, теперь и на меня смотрят люди; что теперь и меня будет слушать вся деревня. Волнуюсь. Мну обшлага старенькой ситцевой рубашонки. Собираюсь с духом и начинаю:
— И живет в колхозе дед
В девяносто восемь лет.
Бодрый он имеет вид
И в работе деловит…
Краем уха слышу, как кто-то из гостей новогоднего праздника комментирует:
— Ишь, ты! Стар, а все робит…
Я же с прежним усердием продолжаю:
— Годы деду не преграда,
У него своя бригада.
И выходят с дедом в ряд
Тридцать пять его внучат.
Все тот же зрительский голос:
— Ух, ты! Надо же! Дед — молодец! Мальчуган — тоже! Вона, как лихо шпарит!
Зрительская ремарка лишь прибавляет мне энтузиазма. Но ладони вспотели. От волнения. Потому что наступает, можно сказать, самое главное: должен перечислить все имена. А это вам не «наша Таня громко плачет»… Посложнее будет. Попробуй-ка, упомни тридцать пять имен. И не абы как, а чтобы складно. Собираюсь с духом и начинаю с мужских имен, а потом…
— Клава, Люба, Настя, Даша,
Катя, Оля, Зина, Маша,
Света, Нина, Лида, Валя,
Аня, Таня, Вера, Галя,
Клим, Игнат, Ефим, Андрей,
Виктор, Игорь и Евсей.
Делаю паузу. С шумом выдыхаю воздух. И готовлюсь к следующему этапу: как-никак, а предстоит повторить все тридцать пять имен и в том же порядке еще трижды. Так в стихотворении. Поэтому не имею права на ошибку.
Все заканчивается благополучно. Радуюсь: без запиночки! Сначала тишина, но вскоре же в классной комнате — буря аплодисментов. Мужики от восхищения громко топают ногами. Кто-то из них восклицает:
— Совсем малявка, а такое учудил!.. Это ж, надо, а! Тридцать пять имен упомнил… И так все складно!
Дед Мороз кладет на мои непокорные вихры мягкую и теплую ладонь.
— Ты чей, мальчик, будешь?
— Агронома сын. — Охотно и с достоинством отвечаю ему.
— А фамилия твоя?
— Мурзин.
— А имя есть?
Вот какой приставучий, думаю про себя, этот Дед Мороз. Однако вслух отвечаю:
— Геннадий, дедушка.
— Геннадий? — Переспрашивает Дед Мороз.
— Да. — Все также с достоинством отвечаю. — А пацаны в деревне меня, дедушка, Генашкой еще называют.
— Спасибо тебе, мальчик, за такое трудное, но прекрасное стихотворение.
Дед Мороз наклоняется и целует в щеку. Это, знаете ли, до того мне приятно! Никто-никто меня не целовал! Дед Мороз выпрямляется и, обращаясь ко всем присутствующим, развязывая свой мешок, говорит:
— Да, все мои маленькие артисты заслуживают подарка. Но я думаю, дети, что главный приз все же заслужил ученик первого класса…
Дед Мороз достает из своего волшебного мешка огромный-преогромный калач, и вручает мне под бурные аплодисменты присутствующих. Беру калач, прижимаю крепко-крепко к груди, мне хочется расплакаться, но изо всех сил держусь. Пытаюсь сказать что-то, но у меня ничего не получается. С трудом и очень тихо выдавливаю:
— Спасибочко, дедушка… родной мой… миленький…
Срываюсь с места и убегаю в коридор. В эту минуту хочу быть один. Потому что слезы — ручьём. Потому что не хочу, чтобы плаксу, которого впервые в его жизни ласково чмокнули, погладили по головке и прилюдно похвалили, таким-то слабаком кто-то видел. С чего слезы на лице пацанёнка? Полагаю, всем понятно.
Два слова о призе. Этот калач пекла сама учительница из ржаной муки, напополам с отрубями, выделенной по такому случаю колхозом. Это был необыкновенный калач! И имел запоминающийся вкус. Хотя бы тем, что испечен был из совершенно несоленого теста. Это потом узнаю, что такое соль в 1949-м. Ее, соли, не оказалось ни в колхозе, ни у самой Анны Ивановны. Соль была еще большим дефицитом, чем ржаная мука.
Съели призовой калач мы всем классом…
…Поезд, лязгнув буферами несколько раз, затормозил и остановился. В окно вижу, что от паровоза дым, смешанный с паром, клубами вьется по перрону какой-то большой станции. Слышу разговор, из которого узнаю, что поезд будет стоять больше часа. Велик соблазн спуститься вниз, выйти на перрон, прогуляться вместе с другими. Можно было бы и картошечки горяченькой немного купить, малость побаловаться. Все-таки больше суток еду, а еще совсем не потратился. Но — нет-нет, нельзя! Уж очень опасно попадаться на глаза тем, у которых фуражки с малиновым околышем.
Лежу и, прикрыв глаза, думаю, думаю, думаю.
И вовсе не «заяц»
…Лежу по-прежнему на своей багажной полке. Внизу — не продохнуть. Люди сидят плечом к плечу. Одна из молодых женщин, ехавшая с маленьким ребенком, собирается кушать. Она раскладывает на столике немудреную еду: огурцы (ах, какой запах!), несколько вареных яиц, краюшку ржаного хлеба, лук-перо, соль. Она обстоятельно начинает жевать, а у меня слюнки текут. Сглатываю, но, видимо, слишком шумно.
Женщина приподнимается со своего места и пытается заглянуть на мою полку.
— Мальчик, а, мальчик, — это она ко мне обращается, — поесть, наверное, хочется? Спускайся.
Высовываю свою взлохмаченную голову из-за сумок.
— Спасибо, тетенька… Я… сытый…
— Сытый? — переспрашивает недоверчиво она. — С чего? Сколько едем, а ты ни разу не спустился. Не стесняйся, мальчик, давай сюда.
— Нет, тетенька. — Подавляя огромное желание, отвечаю ей. — Я, тетенька, сытый… правда-правда.
Женщина догадывается:
— А, понятно, боишься. Ты, что ли, «заяц»?
— Тетенька, почему «заяц»? Что такое «заяц»?
Она охотно поясняет:
— Так на железной дороге безбилетников называют.
Искренне обижен подобным обвинением.
— Безбилетник?! Я?! Что вы говорите, тетенька!
— Нет разве?
— Нет! — Гордо заявляю сверху, потом достаю из карманов штанов слегка помятый билет, показываю ей. — Вот!
Женщина качает головой, улыбается.
— А что тогда прячешься? Кого боишься?
— Прячусь? Я? Боюсь? Ну, что вы такое говорите! И ничего я не боюсь. Просто: мне здесь нравится; никто не толкается и вообще.
— Может, все же спустишься, поешь? А?
Отрицательно мотаю головой.
— Ну, как знаешь.
Женщина садится и продолжает есть.
И тут слышу в вагоне какое-то волнение. Потом улавливаю обрывки фраз, из которых узнаю: ревизор проверяет наличие у пассажиров билетов. Прячу голову и затаиваюсь.
Вот тот самый страшный человек-ревизор уже проверяет билеты у сидящих внизу, щелкая какой-то железякой. Стараюсь не дышать. Минута — и он проходит дальше. Уф-ф-ф, кажется, снова пронесло.
Успокаиваюсь, расслабляюсь. И снова одолевают воспоминания…
…Гляжу в окно, там — идет дождь. Наш поезд проскочил длинный тоннель. Появилась проводница. Она объявила, что поезд через два часа прибудет на станцию Свердловск.
Все стали увязывать узлы и чемоданы. Пассажиры засуетились. Спустился вниз. Увидев меня, проводница удивилась:
— А ты откуда? Безбилетник? «Заяц»? Как проник?
Молчал, понурив голову.
За меня заступились пассажиры и заставили меня показать билет. Проводница немного успокоилась, но все же продолжала кричать:
— Малолетка? Один в поезде?! Надо сдать в милицию.
Кое-как ее успокоили пассажиры. Она отстала от меня. Да и некогда ей было со мной возиться: поезд прибывал в Свердловск, и надо было ей еще многое сделать.
До конца не верил, что проводница обо мне забыла. Поэтому по прибытии соскочил первым и затерялся на перроне в толпе. До отправления поезда Свердловск — Надеждинский завод оставалось восемь часов. Чтобы не мозолить глаза милиции, отправился в город. И появился на станции лишь перед самым отходом поезда.
Мое первое в жизни самостоятельное путешествие подходило к концу. Радовался, что все обошлось. А дальше? Как встретит сестра? Согласится ли принять? Или отправит назад? К родителям? Ни за что! Ни в жизнь!

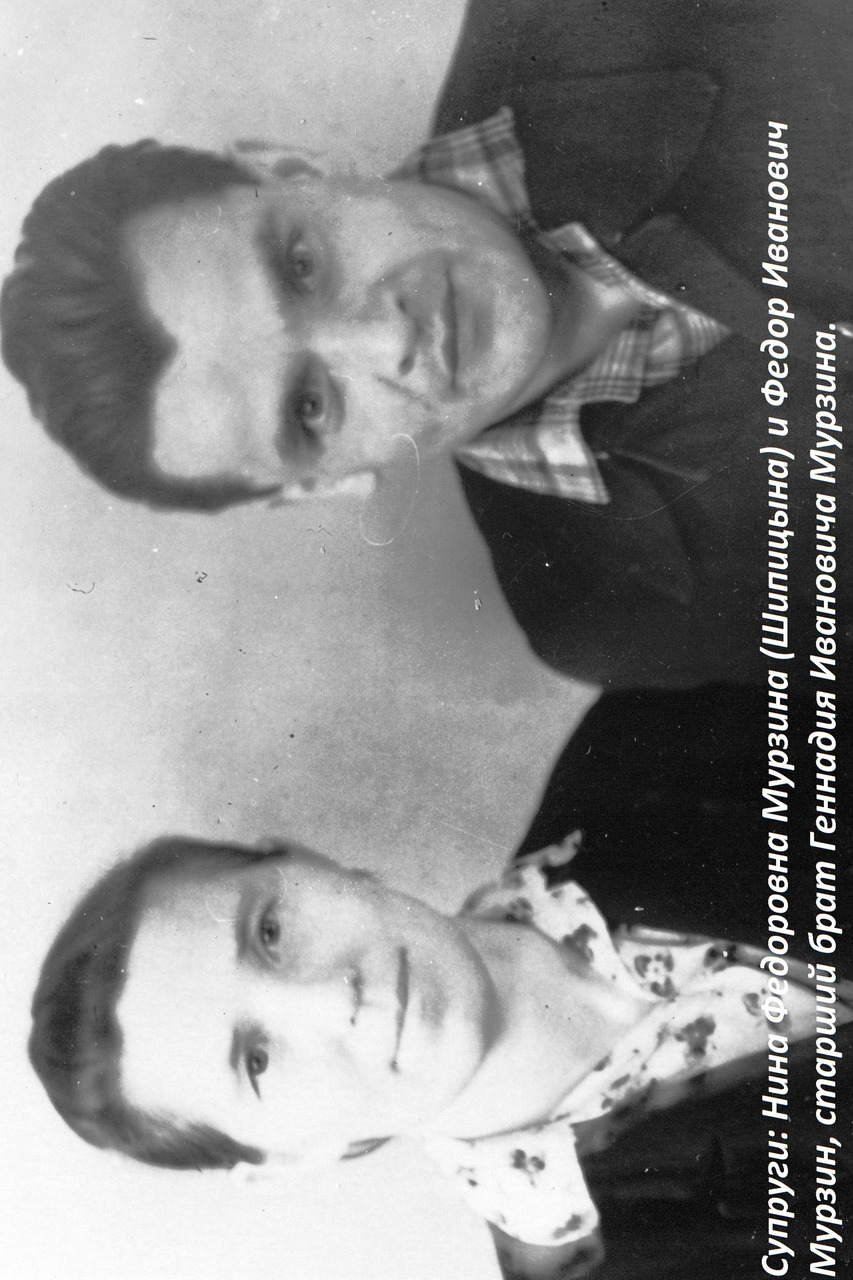
Глава 5. Воспитание трудом
Как снег на голову
Мое явление стало большой неожиданностью для сестры. И вряд ли ее слишком обрадовало. Клава жила в бараке, занимая одну комнату квадратов на пятнадцать. В бараке жило семей сорок, коридор общий.
Выслушав сбивчивое объяснение причин, по которым вынужден был приехать, сестра занялась устройством спального места. Все-таки уже пятнадцать, парень взрослый. Она, потеснившись, освободила один из углов, принесла с улицы кем-то выброшенную металлическую и проржавевшую кровать, поставила, достала старенький матрац, застелила старенькими, но чистенькими простынями. Нашла и подушку, байковое одеяло. Повесила занавески, чтобы мою «спальню» отделить.
Получилось просто здорово. Первая ночь на новом месте показалась царской. Впервые у меня был свой угол. Впервые у меня была своя постель. Впервые спал на белых простынях.
Сестра смотрела на меня, тяжело вздыхала и качала головой. Вечером ей сказал:
— Клава, ты не беспокойся… Буду работать и буду зарабатывать.
Сестра грустно улыбнулась.
— Ну, какой еще из тебя работник? От горшка два вершка.
Сильно обиделся.
— Почему ты так-то? Я могу! Я смогу! Обязательно! Вот увидишь.
— Тебе бы в седьмой класс. — Продолжила сестра. — Куда нынче без семилетки? Но, — она развела руками, — сам видишь, вон, Витюшка подрастает. А у меня зарплата… В общем, втроем не прожить. Прямо и не знаю, что будем делать. — Она поднялась с табуретки, на которой сидела, и стала куда-то собираться. — Схожу к знакомой, посоветуюсь.
С тревогой ждал возвращения сестры. А что, если возьмет и отправит назад?
Часа через полтора сестра вернулась. Увидев мой тревожный вопрошающий взгляд, сказала:
— Подруга обещает помочь.
Встрепенулся. Во мне проснулась надежда.
— Чем?!
— У нее муж работает прорабом в ОКСе. Возможно, возьмет к себе, на стройку, подсобным рабочим. Большой зарплаты не будет, но все же…
— А… на завод? — С надеждой спросил я.
— Нельзя тебе. Завод военный, а у тебя паспорта нет. Беспаспортного не возьмут. В ОКС-то возьмут без оформления, на честном слове.
— Клава, а что такое ОКС?
— Отдел капитального строительства завода. Дома строят и ремонтируют, конечно. Работа не по тебе, тяжелая, но что делать? Потом, когда паспорт получишь, могут определить учеником каменщика. Профессию получишь.
Не знал, кто такой «каменщик», но мне все равно. Лишь бы работать, а где и кем — не важно.
Так начал зарабатывать свои, трудовые. Деньги не ахти, а все-таки поддержка сестре.
Через месяц (на пороге — осень!) Клава купила мне лыжный костюм, клетчатую льняную рубашку, старенькие полуботинки, а чуть позднее — фуфайку и шапку. Так что прибарахлился. Понимал, что на мою зарплату всего этого купить было невозможно. Значит? Посягнул-таки на скудный сестринский бюджет.

Не костюм, а чудо
Осень и зиму перекантовался. А весной появилась подружка. Сестра стала замечать, что стыжусь с ней гулять в том самом лыжном костюме. В одно из воскресений она разбудила меня рано-рано.
— Вставай, — сказала она, — поедем в Нижний Тагил, на барахолку.
Встал, быстренько собрался. Не знал, не мог даже предположить, зачем мы туда едем. Клава молчала, я не расспрашивал.
На барахолке обратил внимание, что сестра постоянно останавливается возле продавцов, предлагающих мужские костюмы. Постоит, посмотрит, помнет в ладони ткань, спросит о цене и идет дальше. Первую же появившуюся догадку отогнал прочь. Не мог, не хотел верить.
Но вот у старушки, держащей в руках костюм, задержались. Сестра изучила все — швы, подкладку, рукава, штанины.
— Перелицованный пиджак-то? — Спросила старушку сестра.
Та кивнула. Что такое «перелицованный», не знал. Сестра приложила ко мне пиджак.
— А вы примерьте. — Посоветовала старушка.
Побледнел.
— Мне? Такой костюм?!
Сестра грустно усмехнулась.
— Кому же еще. Витюшке — великоват пока.
— Но… я… не… Как?!
— Молча. Бери и примеряй.
— Клава! Подойдет!.. — Отчаянно замахал руками. — Конечно, подойдет. Не надо примерять… Он такой хороший. Он… Он…
— Примерь, примерь. — Стала настаивать сестра. — Хотя бы пиджак. Брюки, если что, сама укорочу.
Пиджак оказался впору. Сестра долго торговалась со старушкой. И, кажется, немного удалось сбить цену. Потом сестра купила также поношенную белую шелковую рубашку, галстук, туфли.
С такими вот сокровищами вернулись домой. Потратилась, сильно потратилась сестра. Но зато в следующий выходной шел, нет, не шел, а летел на свидание с подружкой. Это невероятно. Перед тем, как выйти на улицу, долго смотрелся в осколок зеркала и не узнавал себя. Там был совсем другой человек. Если честно, он мне понравился. Да и сестра, глядя на меня, довольно улыбалась.
Весной мне предложили стать учеником каменщика. Согласился. И, пожалуй, зря. Потому что работа осталась та же, что и раньше (на носилках подтаскивать к рабочему месту каменщика шлакоблоки, раствор, кирпич), а вот деньги еще меньше — ученические. И, тем не менее, через три месяца мне присвоили третий разряд и даже выдали удостоверение. Квалификация? Извините…
Тут-то сильно задумался о своем будущем. И это было вызвано не только той квалификацией, которую обрел в результате странного бригадного ученичества, а еще и тем, что продолжал жить в комнатушке, где и без меня было тесно, где и без меня перебиваются с рубля на рубль. Надо было мне что-то делать. Как говорится, погостил и будет, пора и честь знать.
Кто-то из бригады обмолвился о том, что в Кушве есть строительная школа ФЗО, ремеслуха. Съездил, узнал насчет условий приема. Набор шел в разные группы, но мне подходила лишь одна — группа каменщиков, так как, например, в группу помощников машинистов станков канатно-ударного бурения принимали лишь с аттестатом. А у меня? Шесть классов. С таким багажом на многое не замахнешься.
Долго раздумывать не стал. От добра добра не ищут. Настоящую профессию приобрету — раз, трехразовая кормежка — два, форменное обмундирование, начиная с кальсон, обувка, спецодежда — три, общежитие — четыре, гарантия устройства на работу — пять.
Вернувшись, стал советоваться с сестрой. Она одобрила мое решение, сказав, что, действительно, учеба в бригаде — это не учеба, что только в ремесленном получу настоящую квалификацию.

Загадка — без отгадки
Десять месяцев учебы пролетели, как один день. На торжественном собрании по случаю выпуска нового отряда молодого рабочего класса получил аттестат. В нем оценки по девяти предметам и только по одному, черчению — четверка, по остальным — «отлично». Кроме того, директор мне, одному из немногих, еще и вручил почетную грамоту. Кстати, за время учебы в ремесленном это была уже вторая почетная грамота.
Вообще, впервые задумался над этой странностью: в общеобразовательной школе, находясь под опекой родителей, с большим трудом выходил на троечки, мне постоянно указывали на недисциплинированность, а здесь, в ремесленном все наоборот. Почему? В чем тут дело? Что случилось со мной? Откуда появилась жажда знаний? Загадка, которую не разгадать.
Да, за десять месяцев учебы небо надо мной не всегда было безоблачным. Но эти десять месяцев, фактически, стали поворотными в моей жизни. Вспомню лишь некоторые, наиболее типичные эпизоды моего взросления и возмужания.
В группе №5 (одна из двух групп каменщиков) четырнадцать пацанов — домашние, иначе говоря, местные, кушвинцы, поэтому жили дома, в семьях. Они утром приходили на построение, некоторые, правда, и на завтрак, то есть чуть-чуть пораньше. После окончания занятий или практики многие, не дожидаясь ужина, уходили домой.
Оставшиеся четырнадцать — детдомовцы, причем из разных детских домов, в том числе и из далекой Кировской области. Они — жили в общежитии. И плюс — я, пятнадцатый, живший также в общежитии, среди детдомовских. Вскоре же у меня стали возникать проблемы. Одна из них — сугубо банальная: полное отсутствие каких-либо денег. Считалось, что учащиеся находятся на полном государственном обеспечении. Но это не совсем так. Действительно, было бесплатное трехразовое питание, форменное обмундирование (вплоть до носок), по субботам — баня со сменой нижнего (полагались белая нательная рубашка с длинными рукавами и из той же материи кальсоны) и постельного белья, два раза в месяц — бесплатный киносеанс. Однако оставались мелочи. Они для домашних не имели сколько-нибудь серьезного значения, поскольку этими мелочами обязаны были заниматься родители. Что касается детдомовских, то им родителей и здесь заменяло государство. У меня же, хоть и далеко, но оба родителя тогда были живы-здоровы. Мог ли обратиться к ним? Что вы, нет, конечно! Не за тем уезжал от родителей. Теперь — все свои проблемы обязан решать сам.
И что же это были за мелочи? В число форменного обмундирования, которое мы обязаны были носить в школе ФЗО, входила гимнастерка со стоящим воротником, как у тогдашних военнослужащих. А для воротника, как и у тогдашних военных, обязательно должен был быть белый подворотничок. Его наличие замполит на утреннем построении лично проверял. Не знаю, как эту проблему решали домашние, но детдомовским их выдавали регулярно.
Что мне делать? Каждый раз перед всем строем получать головомойку? Не хотелось. Взять же — неоткуда. Однажды решил оторвать полосочку от простыни. Во время смены постельного белья шел к кастелянше со страхом: а то заметит! Несколько раз сошло с рук. Но однажды она слишком пристально стала изучать сдаваемое постельное белье. Понял: обнаружила, что кто-то подсовывает ей регулярно надорванную простынку. И теперь вот ищет виновника. Подошла моя очередь. Но я вернулся вновь в хвост очереди. Потом еще раз.
Тетя Аня, довольно дородная женщина, заметила мои столь странные перемещения. И когда в очередной раз уступил свою очередь, она подняла на меня глаза и спросила:
— Ты что?
— Да… так… Парни торопятся…
— А ты нет?
— Н-н-н-ет. — Промямлил. — Успею, тетя Аня.
— Ну-ну. — Многозначительно произнесла кастелянша и продолжила свое дело.
Но продолжила, что мне сразу бросилось в глаза, с уже меньшим тщанием. Да, мне было страшно оказаться уличенным. Однако еще больше боялся стыда, который последовал бы; стыда перед другими ребятами за свой постыдный поступок. Ждал неминуемой кары. Но кары не при всех.
И вот сдал белье и получил свежее последний учащийся. Оказался один на один с тетей Аней. Опасливо приблизился.
— Ну, давай.
Протянул ей свои простыни, наволочки и полотенца. Но она взяла и, не разворачивая, бросила в общую кучу.
— Вы… не будете… проверять? — С дрожью в голосе, не веря своему счастью, спросил ее.
— А зачем?
— Но…
— Мне и так все ясно.
Тетя Аня, ласково потрепав мои волосы, улыбнулась.
— Надо было сказать… Зачем портить простыню-то, а, голубок?
Я, стоя перед ней, сгорая от стыда, опустив вниз голову, чуть слышно сказал:
— Я… я… на подворотничок… извините, тетя Аня, меня.
— Родители-то что? Не помогают?
Ничего не ответил. Но кастелянша все поняла. Она вновь ласково потрепала меня по волосам.
— Не делай больше этого, ладно?
Согласно и быстро-быстро закивал. Она встала, прошла к одной из полок, где лежало чистое белье, достала что-то и протянула мне:
— Возьми. Надолго тебе хватит.
Благодарно взял в руки и развернул: это была накрахмаленная наволочка. Я поднял на тетю Аню глаза. Прочитав в них немой вопрос, она сказала:
— Бери-бери. Наволочка старенькая, спишу по акту.
После этого у нее стал добровольным помощником, самым усердным помощником: помогал сортировать белье, раскладывать по полкам, бегал по группам, оповещая всех, кому и в какое время надо прийти за получением свежего белья. Очень хотел расплатиться с тетей Аней, кастеляншей, за доброту.
Или вот еще такая мелочь. Учебники для теоретических занятий выдавали в библиотеке бесплатно. Но ручки, карандаши, тетрадки, линейки, циркуль и прочее должен был иметь свои. Опять же нужны деньги.
Поразмыслив, решил заработать. Уговорил еще четверых соучеников по группе взять, так сказать, подряд на строительные работы. Нашел и заказчика. Мужчина на окраине Кушвы решил строить себе новый частный дом. Мы взялись ему выкопать котлован под фундамент, затем вывести под нуль (то есть забетонировать) фундамент. Заказчик пообещал, если мы все хорошо сделаем, выдать каждому по 250 рублей.
Две недели мы работали. После теоретических занятий, скрывая от дирекции школы, мы переодевались в спецовку, и отправлялись на свой объект. И работали до вечернего построения, даже в темноте. Получив расчет, положил деньги подальше, чтобы подольше сохранить. И тратил очень бережно.
У общежитских была и еще одна мелочь. Ужин в школе был в 18.00. И он состоял обычно из щей, пшенной, овсяной или перловой каши, чая или компота. Вечернее построение и отбой в 22.00. К девяти вечера, то есть за час до отбоя, наши молодые желудки начинали уже о себе заявлять открыто.
Я и еще пятеро парнишек из моей группы повадились в столовую. Там была ночным сторожем баба Оля. Она нас привечала и никогда не отпускала с пустым брюхом. Немного каши, оставшейся от ужина, хлеба, а то и компотика нам доставалось. Так что мы возвращались и отходили ко сну умиротворенными. Мы бабу Олю не забывали и помогали ей, как могли, в несении службы: то котлы помоем, то картошки почистим на завтра, то полы выдраим.
Самым счастливым днем для нас, общежитских, было воскресенье. И не столько потому, что выходной, и не столько потому, что вечером идем в кино, а, главным образом, потому, что домашние обычно не приходили ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин. А рассчитывалось на всех, то есть на двадцать восемь человек. Так что это был настоящий праздник живота, поскольку каждому из нас доставалось всего по две порции. Тут мы даже позволяли себе носами крутить, отказываясь, к примеру, от перловой каши.
Контингент в нашей группе, как, впрочем, и в других, был еще тот. Как говорится, оторви да брось. Но вот что странно: несмотря на малый рост и хилый вид (на построении был одним из замыкающих, слева), за всю учебу меня никто пальцем не тронул. Не обижали, не пользовались своим физическим превосходством. Хотя другим, куда более крепким, доставалось. Не знаю, чем это можно объяснить.

Поручение для недоумка
Уважительно ко мне относились замполит, воспитатель. По-моему, я им нравился. Чем? Наверное, тем, что готов был выполнить любое их поручение или просьбу.
Заместителю директора строительной школы №18 (замечу: за десять месяцев учебы наше заведение сменило трижды свою вывеску; когда подавал документы — это была школа ФЗУ, потом — строительная школа, а под самый конец учебы — строительное училище) Ивану Алексеевичу Уткину, то есть замполиту, как-то пришла странная идея: для проживающих в общежитии в красном уголке по субботам проводить политинформации, причем, по его мнению, эту самую политинформацию должен делать кто-то из учащихся. Как понимаю, он долго искал подходящую кандидатуру для столь политически ответственного дела.
Однажды после занятий, пообедав, я поднимался к себе, на второй этаж, где были жилые комнаты. В коридоре встретилась воспитательница Зоя Ивановна.
— Замполит тебя вызывает. Зайди. — Сказала она.
Откровенно говоря, без самой крайней нужды мы к замполиту не ходили, потому что боялись. Боялись гораздо больше, чем самого директора. Гроза-человек! Мы знали, что он майор в отставке, что прошел всю войну, что был трижды ранен, что орденоносец. Наказывал. Самым противным наказанием служило мытье полов в туалете. Получив «наряд вне очереди», мы знали, что исполнение он придет проверять лично, поэтому на поблажку не рассчитывали.
Поэтому шел к замполиту с опаской, хотя понимал, что вины за мной никакой нет. Подошел к дверям кабинета, постоял с минуту, прислушиваясь, что там происходит. Стояла тишина. С радостью и облегчением подумал, что его нет на месте, что наша встреча откладывается. Но, для очистки совести, все-таки решил убедиться. Потянул на себя дверь, в образовавшуюся щель просунул голову и… Он меня заметил.
— Ну-ка! Ну-ка! Давно жду, понимаете ли.
Что мне оставалось? Вошел, конечно. Подошел к столу, за которым тот сидел, остановился напротив. Замполит поднял голову и сказал:
— Присаживайся, понимаете ли. В ногах — правды нет, понимаете ли. — Присел на один из стульев. — Я тут заметил, понимаете ли, что ты частенько газетки разные почитываешь, журнальчики.
В знак согласия кивнул, пока не понимая, что тут такого плохого? Может, подумал, журнал какой-нибудь пацаны стырили и он думает на меня?
— Ты, вижу, смышленый парнишка, понимаете ли, любознательный. Правда, грамотешки маловато. Я тут посмотрел: всего шесть классов. Что так? Из-за лени? — Отрицательно замотал головой. — Чего молчишь? Не хочешь отвечать? — Он махнул рукой. — А, ладно… Я вот чего вызвал… Хочу поручить тебе вести по субботам информацию под условным названием «У карты мира»…
— В красном уголке?! — Воскликнул я. — Перед всеми?!
Уткин посмотрел на меня из-под нависших на глаза длинных и густых бровей и усмехнулся.
— Страшно? Ничего, не Боги горшки обжигают, понимаете ли. Привыкнешь, понимаете ли. Это только поначалу так, чуть-чуть страшновато, а потом ничего, понимаете ли. Итак, в субботу, в 18.00. Ясно? — Вновь кивнул. — Почитай там, погляди, понимаете ли. Запиши, для памяти, в какой стране и чего интересного было на неделе. — Встал, намереваясь уйти. — Не подведи меня, понимаете ли. Возможно, сам директор придет. Ты уж постарайся, хорошо? — Кивнув, вышел.
И вот суббота. В красном уголке — полтораста человек. В первом ряду — директор, замполит, воспитательница и дежурный мастер.
У меня от страха подкашиваются коленки. Превозмогая себя, поднимаюсь на сцену, подхожу к большой карте мира и пробую говорить. Но в горле какой-то сип. Откашлялся. В красном уголке — тихо. Мальчишки и девчонки смотрят на меня и гадают, чего это забрался на сцену? Слышу бас замполита:
— Вперед! Не робей, парень!
Беру указку, обвожу ею территорию и начинаю политинформацию:
— Это — Индонезия, одна из слаборазвитых стран Юго-Восточной Азии. Была колонией мирового империализма, а несколько лет назад получила независимость. — Чем дальше, тем голос звучит увереннее. — В Индонезии, как и во всем мире, на прошлой неделе было неспокойно. Здесь к власти в результате военного переворота пришли военные — ставленники США, приспешники, холуи мирового капитала.
Из последних сил стараюсь, чтобы понравилась моя политинформация. Замполит громко крякает. Интересно, что бы это значило? Очевидно, одобряет, так как сидит, расслабившись, и в знак согласия все время кивает.
Политинформация закончилась. Сначала — тишина. Потом директор, а за ним и другие захлопали в ладоши. В след за начальством — ученики. Спустился со сцены. Замполит, похлопывая меня по спине, сказал:
— Ну, порадовал, понимаете ли! Ну, парень, просто молодчина, понимаете ли! Вот так, чтобы каждую субботу, понимаете ли!
От похвалы сурового замполитаза плечами выросли крылья. Приятно-то как… Прихожу в комнату, сажусь возле кровати, а мальчишки на меня странно смотрят, совсем не так, как обычно. С минуту молчат. Потом один из них растерянно произносит:
— Ну, ты даешь, паря! Отчебучил так отчебучил! И откуда все знаешь?
Падаю на кровать, забрасываю ладони за голову и так спокойненько, наслаждаясь минутой славы, говорю:
— А, ерунда… Подумаешь… — И уже менторским тоном добавляю. — Читать, парни, надо, газеты читать.
На это у ребят нет слов. И они продолжают смотреть на меня как на какое-то чудо. Я и сам себе не верю, что все получилось. А это… так… Хочется же перед пацанами похорохориться. Зауважали меня сверстники. Особенно девчонки из двух групп штукатуров-маляров. Раньше — не замечали, а тут… Всё норовят заговорить.
Это не единственный факт общественно полезного дела. Например, художественная самодеятельность, в том числе и хор. Тогда не знал еще, что с музыкальным слухом у меня серьезные проблемы, так сказать, медведь на ухо наступил. Но меня об этом не спрашивали. Воспитательница сказала, что должен посещать занятия хора. И посещал добросовестнейшим образом.
Наш коллектив художественной самодеятельности участвовал сначала в зональном отборочном конкурсе, проходившем во Дворце культуры Нижнетагильского металлургического комбината. Стали лауреатами. В качестве таковых поехали в Свердловск. Областной смотр проходил во Дворце культуры Верх-Исетского металлургического завода, где также стали призерами.
Конечно, мое участие в хоре вряд ли было столь уж полезным. Однако ехал в областной центр и с сольным номером, так сказать, с художественным чтением, поскольку в Нижнем Тагиле получил высокую оценку.
На областном конкурсе чтецов стал третьим. А со сцены Верх-Исетского Дворца культуры я читал:
— Мистер Твистер — бывший министр,
Мистер Твистер — банкир и богач,
Владелец заводов, газет, пароходов
На палубе играет в мяч.
Ну, и так далее. Тогда выступал с советской политической сатирой.

Иной раз и получал, но по заслугам
Не буду скрывать: и во время учебы в школе ФЗО случались проблемки. Упомяну лишь о двух, наиболее типичных для юношеского возраста.
Половина седьмого утра. Звучит сигнал, оповещающий, что пора вставать, одеваться, заправлять кровать, умываться и — на зарядку. Вскакиваю. Мои глаза упираются в лицо моего соседа, и начинаю дико хохотать. Потому что лицо парнишки все разрисовано чем-то черным. Встают другие, и все также хохочут. Обнаруживаю, что лица и других парней также разрисованы. Но что это? Парни показывают пальцами и на меня. Бегу в туалетную комнату, к зеркалу, гляжу и… Оказывается, сам-то ничем не лучше. Пробую оттереть — ничего не выходит.
Вот так: все пятнадцать человек из нашей комнаты оказались разрисованы ляписом. Все наши усилия избавиться не увенчались успехом. Так что на утреннем построении мы стали героями дня. Все потешались над нами, как могли.
Директор школы, увидев подобное безобразие, оставил нашу группу одних и потребовал, чтобы мы сказали, кто это сделал. Все молчали. Мне кажется, никто просто-напросто не знал.
За укрывательство нас наказали самым жестоким образом. По крайней мере, так нам казалось. Директор приказал всех остричь, как мы говорили, под Котовского, то есть наголо. А у нас к тому времени отросли такие лихие чубчики. Мы так ими гордились. До слез жалко их было. Но пришлось подчиниться. Разрисовка на лицах дней через пять сошла, а вот с волосами… Где бы мы ни появлялись, в след неслось:
— Гляньте-ка, бритоголовые идут! Ха-ха-ха!
И так вот несколько месяцев.
Второй случай, где также отличился.
Как-то вечером мне в руки попалась тетрадка, где от руки был записан рассказ «Дядя и племянница». Теперь уже и не помню, кто автор текста и как ко мне попал (все-таки почти шестьдесят лет прошло). Я, признаюсь, внимательно прочитал. Дернул же меня черт дать прочитать парню с соседней койки. Тот прочитал, потом другой, третий. Короче говоря, тетрадь пошла по рукам.
Вышел в туалет, а когда вернулся в комнату, то увидел, что парни сидят присмиревшие. Они рассказали, что в комнату неожиданно вошел замполит. Увидев, как все читают написанное в тетради, он потребовал, чтобы ему отдали рукопись. Ему отдали. Он глянул и позеленел.
— Откуда? Чьё? — Рявкнул он на ребят.
Ну, и один из них сразу же раскололся. Это, говорит, Мурзин дал почитать. Короче, меня тут же к замполиту. Он мне устроил хорошую головомойку. Я пообещал: больше подобного не повторится; впредь подобную «грязь» (это его слово) в руки не возьму, а не только читать. Он, конечно, допытывался, от кого взял сию литературу. Но я не назвал. Ругался сильно, но потом сжалился. Видимо, учел заслуги. Спустил на тормозах. Директору не доложил о «ЧП». А это было по тем временам действительно «ЧП». Просто непостижимо, что читал?! И не только сам читал, но, хуже того, дал прочитать всей группе!
Повторю: не помню автора, но рискну предположить, что кто-то из известных дореволюционных писателей. Чтобы читателю было понятно, о чем шла речь, очень коротко перескажу содержание рассказа, а, может, и повести.
В карете, запряженной тройкой великолепных лошадей, едут дядя и его племянница. Ему — за пятьдесят, ей — семнадцать. Он — поизносившийся мужчина, повидавший все на своем веку, она — юна, свежа, хороша собой и пока еще не вкусила всех прелестей жизни. Дорога длинна, скучна. Дядя и племянница болтают о всяком разном. Их разговор совсем незаметно переходит на вопросы взаимодействия полов. Племяннице хочется знать многое. Она тормошит дядю, требует все новых и новых подробностей. Он охотно откликается. Он посвящает племянницу в некоторые тайны сексуальной жизни мужчины и женщины. Девушка распаляется, он — тоже. Дядя дарит ей невинный поцелуй в розовенькую щечку, а затем и в пухленькие губки бантиком. Ей нравится. Племяннице хочется уже большего, и она проявляет нетерпение. Дядя поощряет ее, лаская уши, шею, еще не оформившиеся груди, опускается все ниже и ниже. Ее руки тоже не бездействуют. Он — опытен, она — усердна. Дядя овладевает племянницей. Она восторженным воплем встречает это и пытается вовсю насладиться новым, доселе неизведанным.
В таких вот утехах и проходит весь их путь. Племянница ненасытна и требует все новых и новых радостей.
Сегодня, да, и не такое можно увидеть даже по телевидению. Уж не говорю про домашнее видео. Но тогда…

Не ученье, а наслажденье
…«Фэзэушный» (всего десять месяцев) этап моей биографии заслуживает того, чтобы о нем говорить подробнее, в деталях. Это один из очень немногих этапов, который вспоминаю с удовольствием. И тому есть свое объяснение. Как мне сейчас кажется, тот крохотный по времени жизненный период мне дорог тем, что тогда жил полной жизнью, дышал свободно; где не было зла, насилия, подавления личности, грубости и хамства со стороны старших; тогда радовался всему, что делал, чем занимался. Иначе говоря, не было того самого мрачного фона, на котором прошло все мое детство. Впервые почувствовал себя человеком, а не, говоря языком отца, зверёнышем. Впервые почувствовал, что меня ценят, мною по-настоящему и искренне гордятся; что-то могу в этой жизни и что-то значу для других.
Странно все. Потому что (хочу прямо сказать) у городского населения наш брат, то есть ремеслуха, пользовалась откровенно дурной славой. Нас боялись. Замечал: когда мы шли группой по улице, то люди старались посторониться или перейти на другую сторону, считая, что с хулиганьем лучше не встречаться. Какие основания? Наверное, были причины дурной славы. Хотя официальная советская пропаганда до небес превозносила преимущества фабрично-заводского образования, сильно преувеличивая плюсы и всячески преуменьшая недостатки, но факт есть факт: сюда шли недоучки, недоумки, то есть те, кому просто идти было некуда. В общеобразовательной школе их держать не хотели, считая, что они не способны «грызть гранит наук», что учить таких — только зря народные деньги переводить. Перед такими два пути: первый — в систему ФЗУ, для пополнения отряда рабочего класса, гегемона советского государства, второй — в тюрьму.
Тогдашние учителя в общеобразовательных школах и не скрывали перед своими подопечными, что они делятся на две категории: на «чистых» и на «нечистых». «Чистые» — это те, кто учится хорошо и, следовательно, перед ними радужные перспективы продолжить образование в техникумах или институтах. «Нечистые» — это те, кто перебивается с двойки на тройку, те, у кого в мозгах полторы извилины и, следовательно, для них школа ФЗУ — единственно доступное благо.
Кастовый подход замечался во всем. Родители, например, стыдились говорить знакомым, что их ребенок в ремесленном училище. Потому что при всех усилиях официальной пропаганды в общественном мнении это выглядело дурно. Чего-чего, а нормальный родитель не хотел этого своему ребенку. Это правда. Об этом же говорит и такой факт.
Вместе со мной учились две группы на помощников машинистов станков канатно-ударного бурения. Они отличались от всех прочих тем, что набирались на базе среднего образования. Так сказать, наша элита. Так вот: эта самая «элита» неприкрыто демонстрировала, что форма, положенная учащемуся школы ФЗУ, их унижает. И всячески старались уклониться от ее ношения. Дирекция строжайше требовала и контролировала, но элита находила-таки предлоги, увиливала от сей принудиловки. Во всяком случае, будущие машинисты в городе в форменной одежде никогда не появлялись. По правде говоря, дирекция, устав бороться с элитой, в конце концов отступила, перестала замечать нарушения установленных правил по этой части. Дирекция стала закрывать глаза, но, обратите внимание, это касалось лишь элиты.
А что же я? Был всегда в форме, и по этому поводу у меня конфликтов с дирекцией никогда не было. Это было вынужденным, однако лишь отчасти. А иначе носил бы форму, стыдясь ее. Этого не было. Не только не стыдился, но мне (говорю чистую правду) даже нравилась форма. Любил гимнастерку с начищенными металлическими пуговицами и белоснежным подворотничком и брюки, на которых «стрелки» плохо держались, утюгов же не было, поэтому, аккуратно уложив, их помещал на ночь под матрац. Нравились добротные ботинки со шнуровкой. Охотно носил бушлат: зимой в нем было так тепло. И, наконец, атрибутами особой гордости для меня были форменная фуражка с блестящим козырьком и кокардой, а также широкий кожаный ремень с огромной металлической бляхой.
Были ли на самом деле среди фэзэушников драчуны или это всего лишь миф, порожденный обывателями? Да, были. Было явное противостояние между городскими парнями и учащимися школы ФЗУ, случались настоящие между ними сражения. Были драки и среди своих. Но я ни разу не был не только участником, а даже и свидетелем. Почему? Скорее всего, из-за того, что по природе своей был сугубо мирным парнем, не задирой. А еще из-за того, что подобные мероприятия меня не прельщали: любое насилие, а тем более кулачное, мне было противно.
И трусом не был. Любому парню, даже самому физически крепкому, мог сказать в глаза, в лицо все, что о нем думаю. И не раз говорил, без боязни получить в морду. Ни разу, слава Богу, не получил. Почему? Не знаю. Наверное, обладал (неведомой мне) охранной грамотой.
Вообще-то стоит немного объяснить существовавшие тогда взаимоотношения среди учащихся. Они делились примерно на две части: меньшая из них (по численности, но физически самая крепкая) состояла из «авторитетов», которых никто не смел тронуть и которые диктовали свою волю другим; большая — сплошь состояла из трусливых, а потому наиболее злобных и коварных шакалов, являющихся фактически подручными «авторитетов». В школе правили бал «авторитеты», а шакалы исполняли беспрекословно их волю.
К «авторитетам» (а к шакалам — тем более) себя отнести не мог. Был чем-то третьим. Наверное, меня можно отнести к авторитетам — именно без кавычек, где главенствует не грубая физическая сила, а что-то другое — то самое, которое вызывает уважение. Уважение даже у отпетых хулиганов, которые готовы были прибегнуть к физическому насилию в любую минуту — по поводу и без него. А иначе чем можно объяснить, что меня не трогали?
Однажды, правда, была для меня критическая ситуация. Она возникла на почве ревности. Несколько парней (из числа тех самых «шакалов») решили мне сделать темную (сведущие люди из советского прошлого знают, что это такое), но «авторитеты» не позволили. Не позволили, не объясняя причин. Так что затея с темной благополучно провалилась.
А были ли основания для ревности? Думаю, что были. Вспоминаю новогодний бал в школьном общежитии. Зинаида Ивановна, воспитательница и главный организатор вечера, решила провести некую конкурсную игру. Смысл заключался в следующем.
У каждого участника (или участницы) бала на груди был прикреплен номер. Каждый участник (или участница) мог послать поздравительную новогоднюю открытку. Причем не надо было указывать ни имени, ни фамилии адресата, а также ни имени, ни фамилии отправителя. Достаточно было указать номер (этот самый номер у каждого находился, напоминаю, на груди) того, кому предназначается поздравление. И все. Нет, точнее будет сказать, было еще два принципиально важных условия: каждый участник (или участница) мог послать только одну открытку и только представителю противоположного пола, то есть мальчик девочке, девочка мальчику.
Результат конкурса должен был быть подведен по количеству полученных поздравительных открыток.
Естественно, поучаствовал в этом конкурсе, так как он был анонимным и меня ничто не стесняло не только поздравить, но и признаться в своих чувствах своей девочке.
Моя девочка получила только две открытки и, конечно, не стала победительницей конкурса. Кто тот второй ее тайный воздыхатель? Через пару месяцев узнаю. Среди юношей же победил я, что ошеломило не только меня, но и воспитательницу, которая никак не могла даже предположить, сколько у меня тайных воздыхательниц. Кстати, на том новогоднем балу получил 26 открыток, что в четыре (!?) раза превышало результат того, кто занял следующее, второе место. Как говорится, невероятно, но факт. Так что оснований у ребят для ревности (для сведения счетов также) было предостаточно.
Глава 6. На пороге чего-то нового
Выпускной и моя пассия
Десять месяцев, повторяю, учебы в школе ФЗО пролетели мгновенно. Это, пожалуй, единственный временной период (простите, что напоминаю) моего жизненного пути, который с легким сердцем вспоминаю и по которому искренне ностальгирую. Наверное, из-за того, что все сложилось слишком гладко, что на моем жизненном горизонте не появилось ни облачка.
Скажу больше: именно в эти десять месяцев обрел уверенность в себе; именно в этот период почувствовал вкус к общественной деятельности; именно тогда впервые попробовал что-то сотворить. И все это, вместе взятое, в последующем очень сильно повлияло на мою дальнейшую жизнь.
Наверное, это судьба. Ведь мог и не пойти в школу ФЗО, поскольку имел разряд каменщика, полученный в результате бригадного ученичества, и, по большому счету, в получении дальнейшего профессионального образования особой необходимости не было: кирпич от шлакоблока (основной строительный материал того времени) отличить мог; в какой пропорции заложить песок, цемент, известь и воду, чтобы получить раствор наилучшей консистенции для того или иного вида каменной кладки, — тоже знал; самостоятельно выкладывать простенки и «заводить» углы, как наиболее ответственные виды работ у каменщика, также мог…
Итак, 24 июля 1959 года — выпускной вечер, вечер подведения неких итогов.
На торжествах мне (одному из немногих) вручили аттестат, в котором по всем предметам стояло «отлично». Впрочем, нет: по одному предмету, черчению у меня «хор». Если честно, то справедливо, так как никогда у меня ничего путного не получалось из черчения и рисования. Директор вручил также и Почетную грамоту: за отличную учебу, активную общественную работу и примерное поведение — так в ней сказано.
Признаюсь: страшно гордился самим собой. Еще бы! Впервые дана общественная оценка, причем публично, в присутствии таких же, как и я, сверстников и, что также важно, сверстниц. Особенно одной, вон той, что сидит здесь же в зале, возле окна, в окружении подружек.
Крадучись от парней, то и дело бросаю свой взгляд в ту сторону, тяжело вздыхаю, потому что нас разлучают. Группа, в которой Галя Еманова, в полном составе уезжает в Красноуральск. Там особенно нужны штукатуры-маляры, поскольку одна из комсомольских строек близится к завершающему этапу, и предстоят огромные отделочные работы. А я? Как и другие парни моей группы, остаюсь здесь, в Кушве: нас направляют в Гороблагодатское строительное управление треста «Тагилстрой».
Да, Красноуральск — не край земли. Однако ж, двадцать километров от Кушвы — тоже расстояние немалое. Шибко не наездишься. Разве что в воскресенье. Но мне-то хочется ее видеть каждый день, каждый вечер, каждую минуту! Это, что, любовь? И сейчас даже не знаю. Но абсолютно уверен в одном: это было у меня первое сильное чувство к девушке. Настолько сильное, что ради Галчонка (так ее называл про себя) готов был на все.
Сейчас не стану дальше развивать эту тему. Намерен посвятить моим взаимоотношениям с девушками специальную главу. И в ней вернусь к Галчонку, то есть Галине Емановой.
Пока лишь скажу, что сегодняшний июльский вечер, который последует после торжественного собрания в школе ФЗО, проведу полностью с ней. Мы будем, взявшись за руки, долго-долго гулять по улицам горняцкого поселка. А когда повеет предрассветным холодком, то согрею ее, накинув на ее хрупкие и такие милые плечи свой пиджак. И расстанемся лишь в пять утра следующего дня, когда ее провожу до дома.
Это будет незабываемый вечер!
А пока сижу в зале, слушаю речи мастеров и преподавателей-предметников. В их речах часто звучит моя фамилия — это бальзам на душу.

Вот и он — Захар Суббота
Приятно слышать, но мои все же мысли сейчас еще об одном, то есть не только о девушке, как мне тогда казалось, моей мечты. И об этом расскажу подробно, поскольку будет иметь огромное значение в последующем.
…Середина мая 1959 года. Воскресенье. В горняцком поселке Кушвы праздник: в коллективном саду — открытие летнего сезона. Естественно, что вся молодежь (впрочем, не только она) устремляется туда. Там — большое гулянье. Там — духовой оркестр и танцы. Там — аттракционы. Там — буфеты с дефицитными лакомствами. Там — тысячи людей и, соответственно, толчея.
И вот мне захотелось пить: стоит духотища, несмотря на середину мая. Выбираю киоск. Встаю в очередь. Жду, когда дойдет до меня. Доходит. Прошу, как всегда, вежливо:
— Мне — бутылочку лимонада и два пирожка с капустой.
И в амбразуру-окошечко, где вижу лишь огромный живот продавщицы, протягиваю деньги. Но моя десятка летит назад. Буквально летит, поскольку ее вышвырнула рука продавщицы.
— Нет! — Рявкает она, не удосужив никаким объяснением.
Такая неласковость мне понятна: я — в ненавистной форме фэзэушника, а с теми, кто ее носит, нормальным людям, к коим, очевидно, киоскерша относит и себя, иначе обращаться не пристало.
Сзади — слышу ропот очереди: иди, мол, парень; говорит, нет — значит, нет. Я же упрямствую. И все также вежливо говорю:
— Скажите, а что у вас есть?
В ответ — режущий ухо визг:
— А, да ты еще и смеешься?! Сейчас милицию позову!.. Милиция! Тут хулиганничают!
Благоразумно ушел, так как знал, что из свидания с милицией ничего хорошего для меня не будет. Поверит славная советская милиция кому? Только не мне, фэзэушнику.
Однако этого так не оставил. Не мог простить подобное унижение, мне очень хотелось воздать сполна хамке.
Возвращаюсь в общежитие школы. Эмоции переполняют. И тут вспоминаю, что в библиотеке видел как-то газету «Голос горняка». Сходил, выписал адрес редакции. Оказалось, что редакция находится там же, где и контора Гороблагодатского рудоуправления, то есть напротив нашего общежития. Возвращаюсь в комнату, сажусь на кровать, ставлю перед собой табуретку (никаких столов, конечно, не было), беру ручку, чернильницу, два тетрадных листа в клеточку и сочиняю письмо в газету. Сочинил. Точнее — рассказал свои впечатления о том, что со мной произошло в коллективном саду в день открытия летнего сезона. Рассказал точно так, как все происходило во время инцидента с киоскёршей. Написал. Перечитал написанное своим ужасным почерком. Остался доволен: получилось достаточно едко. И, главное, натурально. Особенно мой диалог с киоскёршей.
В понедельник, когда занятия закончились, возвращаясь из учебного корпуса, проходя мимо конторы рудоуправления, решаю зайти в редакцию лично и передать свое письмо «самому главному редактору».
На третьем этаже нахожу редакцию. Стучусь в дверь. И слышу скороговорку:
— Да-да-да!
Разрешение получено. Вхожу. И вижу худощавого мужчину среднего роста (чуть-чуть повыше меня) с начавшими уже седеть волосами, суетливо перебирающего на письменном столе какие-то бумаги. Он поднял на меня глаза.
— А, молодой человек… Ну, здравствуй. Проходи и присаживайся. — Он показал рукой на единственный стул, находившийся в этой маленькой комнатке. Приблизился, но не сел. Заметив, он улыбнулся, как показалось мне, очень по-доброму. — Убери со стула газеты и присаживайся. — Так и сделал. — Извини, юноша, но у меня тут есть дельце архисрочное: надо подвал завтрашнего номера вычитать, сделать корректуру полос и отправить в типографию… Тут, знаешь ли, такие козлищи… Ты погоди, посиди чуть-чуть: я быстро.
Из его объяснения не понял ничего. Но так все загадочно и интересно. Сижу, смотрю, как его рука с карандашом быстро-быстро передвигается по большущей странице довольно грязного печатного текста, и силюсь разгадать произнесенные им странные слова. Ну, разве можно подвал вычитать, а? Наверное, оговорился. Наверное, хотел сказать, что намерен подвал вычистить. Вычистить — да, например, от мусора или там грязи, но как можно вычитать… Или: сделать корректуру. Интересно, а что такое «корректура»? Вот узнать бы! Хочу спросить, но боюсь помешать, поэтому сижу, молча, мысленно пробую разгадать его ребусы. Он, точно, я не ослышался, сказал: тут такие козлищи. Слегка приподнимаюсь, чтобы разглядеть на письменном столе хоть что-то, напоминающее козлов или козлищ, как он выражается, но ничего, кроме груды бумаг, толстых и больших книг, не обнаружил.
Недоверчиво покрутил головой. «Мужик-то, вроде как, добр, но какой-то странный. — Подумал и улыбнулся. — Уж больно непонятно говорит. Может, того… с вывихом, а?»
Прошло с полчаса, а, может, и час. Он, наконец-то, обернулся ко мне, и вновь полилась его скороговорка.
— Не заскучал, нет, юноша! Ты, гляжу по петлицам, в нашем ФЗУ учишься, да? Хорошо учишься? Нет? Как сверстники? Не обижают? Нет? — Вопросы сыпались так быстро, что не успевал сообразить с ответом на один, как на меня обрушивалось с десяток других. Он не ждал ответы. Он продолжал спрашивать. — Ну-с, говори, юноша, что привело тебя, а? Директор школы послал? Нет? Что молчишь?.. Так и будем молчать?
Наконец, поток вопросов прервался на несколько секунд. Он встал, взял в руки большой лист бумаги, по которому только что водил карандашом, стал сворачивать трубочкой. Воспользовавшись паузой, сказал:
— Мне бы редактора увидеть… самого-самого главного…
— Вот как? Самого-самого, значит?.. Тогда — изволь: я и есть…
— Вы?! — Вырывается из меня.
Он хитро смотрит и улыбается.
— Ну, да. А что? Не похож? — заметив мою растерянность, добавляет. — Я и самый-самый главный, и самый-самый неглавный — в одном лице. А больше в редакции и нет никого.
— Да-а-а, скажете тоже, — говорю и смотрю на забавного мужчину недоверчиво.
— Ну, как знаешь: хочешь — верь, не хочешь — не верь.
— А Захар Суббота? Ну, тот самый, который всё критикует… Он разве не в редакции?
Главный редактор заливается в смехе, чем меня и вовсе приводит в полное смущение.
— Вы чего, дяденька, ха-ха-ха да хи-хи-хи? Чего я смешного сказал? Ничего! Думаете, — надуваю сердито губы, — если фэзэушник, то можно, да? Смеяться, да?
Хозяин кабинета вмиг согнал с лица веселость, подошел ко мне, потрепал за плечи и уже серьезно сказал:
— Извини, брат, совсем не хотел обидеть. — Потом с нажимом повторил. — Не хотел!
— Да… не хотели… А сами смеетесь.
— Смеюсь, да, но не над тобой.
— Тогда — над кем? Тут, вроде, никого и нет больше.
Главный редактор слегка взъерошил и без того непослушные мои волосы.
— Я смеюсь над Захаром Субботой.
— Да? — Недоверчиво смотрю ему в глаза, пытаясь разобраться, не шкодничает ли он надо мной. — Он… что… такой смешной?
— Вроде того. — Он смотрит на меня и улыбается, но тут же меняет разговор. — Вот не думал, что и в вашей школе знают про Захара Субботу, не думал.
Начинаю осваиваться и, смелея, спрашиваю его:
— Почему нет? Мы, что, не люди? Я, вот, всегда читаю… Мне он нравится… очень.
— Чем он может тебе нравиться? Он такой зануда…
— Зануда? — Переспрашиваю. — А кто такой зануда?
Самый-самый главный редактор охотно отвечает:
— Зануда — это такой человек, который ко всем пристает и никому житья не дает… Тип, еще тот! Знаешь, как его на нашем руднике не любят?
— Скажете тоже: не любят… Он… он такой правильный! Он… он за справедливость. Как его можно не любить?! Мужик, что надо. Побольше бы таких… Он правильно критикует, по уму.
— Да?.. Выходит, ты мой юный почитатель?
— Вы? А причем тут вы?
— Понимаешь, — он склоняется надо мной и переходит на полушепот, при этом улыбается, — открою тебе страшную тайну, но только ты, чур, никому, понял?
Предвкушая услышать что-то ужасно страшное, округляю глаза и говорю:
— Я — могила, все так и умрет между нами. Никому слова не скажу, вот увидите. — Пытаюсь перекреститься, но вовремя спохватываюсь, что некрещеный.
Он произносит мне в ухо:
— Юноша, как ни прискорбно, но я и есть тот самый Захар Суббота.
Поднимаю на него глаза.
— Ну, да! Так я вам и поверил… Чтобы вы и Захар Суббота?! Ни в жизнь…
— Увы, но это так. Извини, если разочаровал; если ты хотел увидеть кого-то другого, а увидел всего лишь меня.
— Покажите паспорт — поверю. — Окончательно осмелев, довольно нахально заявляю в ответ.
— Показал бы, но это ничего тебе не даст.
— Как так? — Он меня совсем запутал. — У меня в паспорте написано: Мурзин Геннадий Иванович… Ну, и все прочее. У вас должно быть…
— В моем паспорте все не так.
— Ну, что я говорю? Какой вы Захар Суббота, если в вашем паспорте не так, а?
— Это бывает, когда… Как бы тебе объяснить… Захар Суббота — это мой псевдоним.
— Псевдоним? — Переспрашиваю его, выпучив от удивления глаза. — А что такое «псевдоним»?
— У человека иногда бывает две фамилии: одна настоящая, та, что в паспорте, а другая вымышленная, то есть псевдоним.
— Так не бывает. — Возражаю вновь.
— Бывает, юноша, бывает. Особенно в литературе и журналистике. Например, ты слышал о французском писателе Жорж Санд?
Гордо ответил:
— Да! Читал его роман «Консуэло».
— Его, говоришь? Вот и нет: автор романа не мужчина, а женщина.
— Как так? Жорж не может быть женщиной.
— Жорж Санд — это псевдоним писательницы. На самом же деле она — Аврора Дюпен.
— Значит… вы… Захар Суббота?
— Как ни прискорбно, но так.
— Во, здорово! Я разговариваю с самим Захаром Субботой. Скажу пацанам — сдохнут от зависти.
— Ты преувеличиваешь… Впрочем, мне надо в типографию… Ты ведь зачем-то пришел.
— Понимаете, — замялся, — у меня тут письмо. — Протянул тетрадные листки. — Прошу поместить в вашей газете.
— Ну-ка, ну-ка.
Он взял листки и стал читать.
— И почерк же у тебя. — Покачав головой, сказал он.
— Извините. — Виновато опускаю глаза вниз.
Он читает, а я наблюдаю за ним, пытаясь понять его реакцию. Вижу, что он то и дело качает головой. Мне кажется, что одобрительно. Но… кто его знает. Как начнет снова хохотать!
Он перестает читать, откладывает в сторону листки и внимательно смотрит на меня.
— Итак, хочешь, чтобы я поместил? — Несколько раз киваю. — А ты, парень, способный… очень способный. Сразу видно. Ты раньше когда-нибудь писал в газету?
Отрицательно качаю головой.
— Тем более… У тебя сколько классов?
— Шесть. — Краснея, отвечаю ему.
— Это видно… К сожалению. — Вновь стыдливо опускаю вниз глаза. Заметив смущение, приободряет. — Не огорчайся. Ничего… Учиться — никогда не поздно. Успеешь еще. Без отца вырос? — Молчу, он на ответе не настаивает, видимо, догадавшись, что затронутая им тема болезненна для меня. — Учись, юноша, учись… Без образования куда? Подумай.
— А это…
— Что именно?
— Поместите?
— Обязательно, юноша. В следующем номере опубликую. Ты молодец. Ты смог не только пересказать ситуацию с хамством продавщицы, но и пошел дальше. А именно: очень правильно сделал вывод о том, что хамства будет куда как меньше, если организаторы массовых мероприятий станут больше заботиться о том, чтобы люди могли без нервотрепки купить все, что нужно во время отдыха. Ты прав: людей собрали тысячи, а позаботиться о дополнительных торговых точках с тем же лимонадом не удосужились. Не умеют наши руководители думать. — Он встал, хлопнув меня по плечу, добавил. — А ты пиши, ладно?
Кивнув, вылетел из редакции.
Действительно, через неделю держал в руках многотиражку «Голос горняка», где на второй странице внизу под рубрикой «Сатирическим пером» стояло мое «письмо». Прочитал раз, второй, третий. И потом несколько месяцев носил в кармане гимнастерки эту газету с моей заметкой, самой первой в моей жизни заметкой.
Так состоялась моя первая встреча с первым профессиональным журналистом Владимиром Николаевичем Долматовым. Это — мой Мастер! Главный Учитель всей моей творческой жизни.
Газета с заметкой попала на глаза нашему замполиту. Он вызвал к себе. Кивнув в сторону газеты «Голос горняка», Уткин спросил, как всегда, насупив брови:
— Ты? — Кивнул. — Талантливо, понимаете ли… Неужели это ты сам, понимаете ли? — Опять же кивнул. — Все сам-сам?
— Сам… В редакции только ошибки исправили.
— Талантливо, понимаете ли, талантливо. Пиши, понимаете ли, пиши, если так хорошо получается.
— В редакции мне это же посоветовали.
— И отлично, понимаете ли. Мог бы, например, в «Кушвинский рабочий» написать… Например, о своей группе, о товарищах, об учебе…
На следующий вечер так и сделал: засел за заметку о своей группе. Написал-то написал, однако с ней начались серьезные проблемы.
В редакции городской газеты «Кушвинский рабочий» мою вторую в жизни заметку принял корреспондент отдела писем Владимир Колобов. Потом узнаю, что он не настоящий корреспондент, а студент УрГУ, практикант. И он долго возился с моей заметкой. Она ему не понравилась. Собственно, мне — тоже. С грехом пополам заметку подготовили к печати, и она появилась все-таки в газете.
Это дело, писание заметок (несмотря на последнюю неудачу) мне понравилось. А еще больше понравилось общественное мнение вокруг этого. Ребята просто ходили за мной табуном. А в комнате общежития, когда садился за писание очередной заметки в газету, устанавливалась гробовая тишина. Все четырнадцать мальчишек ходили на цыпочках, а в коридоре шепотом всем другим сообщали радостную новость: «Он — пишет!»
От такого всеобщего внимания вскружилась голова юного журналиста. И стал забывать, что за плечами всего шесть классов, что малограмотен, что надо учиться и совершенствоваться. Слава — отрава, ядовита, знаете ли.
Отрезвление придет быстро. Похмельный синдром окажется тяжким. Но это случится уже вне стен школы ФЗО.

Глава 7. Будто обухом по голове
«Ша, парни, писатель пишет…»
25 июля 1959 года в моей трудовой книжке появилась очередная запись: принят переводом каменщиком в Гороблагодатское строительное управление треста «Тагилстрой». Инспектор отдела кадров, оформлявшая документы, заметила:
— Вам крупно повезло. — Она имела ввиду меня и еще четверых моих соучеников по ремесленному.
Все смолчали. Ну, а меня, как всегда, дернул черт за язык, спросив:
— Почему вы так говорите?
— Ну, как же! — Пафосно воскликнула она. — Вы станете членами самого знаменитого, самого уважаемого у нас трудового коллектива — членами бригады Разумова. У Разумова, скажу я вам, работать не только почетно, но и выгодно: в бригаде хорошие заработки. — Женщина посмотрела на нас по верх очков и завистливо добавила. — Вы такие везунчики. Многие бы хотели оказаться на вашем месте.
Что ж, для каждого из нас хорошие заработки не помеха. Мы вступаем в самостоятельную жизнь на пороге осени, когда надо будет прибарахляться, самостоятельно кормиться и прочее.
Нас направили в молодежное общежитие. Комендантша, женщина весьма мрачная, встретила нас холодно. Особенно у нее испортилось настроение, когда мы высказали просьбу поселить нас вместе, то есть в одной комнате, так как мы друг друга хорошо знаем, друг к другу привыкли, за десять месяцев учебы и жизни в школьном общежитии пообтёрлись и нам будет легче сообща выживать. Она нас выслушала, скривилась, как от неожиданного приступа зубной боли, и затем мрачно, не удостоив нас даже взгляда, изрекла:
— Еще чего?! Ишь, им подавай отдельную комнату. А, может, сразу благоустроенную квартиру, а?
И тут длинноязыкость опять-таки дала о себе знать. Возразил:
— Но нам говорили…
Она оборвала меня.
— Чего же пришли ко мне? Идите туда, где вам что-то говорили. А здесь — я начальник: как решу, так и будет; куда поселю, там и жить будете. Нет у меня свободных комнат, поэтому пойдете на подселение. Ясно?
Мы уже были согласны на все. Мы встали, чтобы пойти получать постельные принадлежности, однако все тот же мрачный голос комендантши остановил нас.
— И вообще, запомните простую истину: в этих стенах я для вас все. А свои фэзэушные штучки-дрючки забудьте.
Она зря старалась с последними напоминаниями: мы все уже поняли и так.
Оказался в комнате на четвертом этаже, где стояли по две кровати слева и справа, а моя — пятая, в торце комнаты, у единственного окна. Место, как понял, мало престижное, так как постоянно залетают сквозняки сквозь огромные щели в оконной раме. Впрочем, с наступлением осени щели тщательно законопатил, чего, по-моему, не делалось уже несколько лет.
О четверых членах моего нового сообщества мало чего можно сказать. Им было по 25—27 лет, работали также на стройке. И запомнились одним: пили по-черному. Так что винный перегар всегда висел в воздухе пятнадцатиметровой комнаты. Соседство, конечно, не самое приятное. Не думаю, что другим моим соученикам, расселенным по другим комнатам, в этом смысле повезло больше.
Единственная отрада: попытавшись однажды и меня приобщить к своим занятиям пьянством и получив решительный отказ, сожители больше ко мне с подобными предложениями не приставали, оставив в покое. Чему был несказанно рад. Так и жили: они — сами по себе, я — сам по себе.
На трезвую голову, а трезвыми были они в одном случае, когда кончались деньги, сожители обратили внимание, что все свое свободное время что-то пишу. Походив, походив вокруг меня, попытавшись порасспросить, чего это сочиняю, и, не получив от меня сколько-нибудь внятные разъяснения на сей счет, прозвали «писателем». Какой смысл они вкладывали в это слово — плохой или хороший — не знаю. Меня это не слишком волновало. Ну, а они так и обращались:
— Слышь-ка, писатель, голова трещит, подлечить бы надо. Помоги, одолжи на бутылку, а?
И одалживал. Ради справедливости замечу: в первую же получку долг возвращали. Через неделю беспробудной пьянки вновь оказывались «на мели» и вновь, ставшая коронной, просьба повторялась из слова в слово.
Иногда, что случалось крайне редко, на моих сожителей находило просветление: видя, что пишу, что их веселое застолье мне мешает, дружно вставали и добровольно перекочевывали в другую комнату. Кто-нибудь из них обязательно говорил:
— Пошли, мужики. Не будем писателю мешать.
И что же писал тогда? Кличка, конечно, кличкой, но и в самом деле возомнил себя писателем. А творил повесть из времен Великой Отечественной войны. Откуда фактура? Из рассказов отца. Сюжет таков: танковый полк оказывается в окружении, командование принимает решение: прорываться с боем. Завязывается сражение. Но силы слишком неравны. Один за другим горят танки, гибнут их экипажи. Но гвардейцы с прежним ожесточением противостоят проклятым фашистам. Командир танкового полка, истекая кровью, целует гвардейское знамя полка и просит командира одного из танков гвардии младшего лейтенанта Морозова сберечь символ боевой чести воинского соединения. Морозов торжественно принимает из рук комполка знамя и клянется доставить его в целости и сохранности к своим. Морозову действительно удается оторваться от фашистов, но потом все-таки и его машину подбивают. Морозов покидает горящую машину и лесами, болотами, из последних сил, теряя в стычках с немцами последних боевых товарищей, идет к своим. И выходит. И выносит боевое знамя полка. Свои его торжественно встречают. Радуются. Младшего лейтенанта Морозова вызывает сам маршал Конев, троекратно, по русскому обычаю, целует и прикрепляет к пропахшей гарью гимнастерке орден Красного Знамени, а потом подносит ему граненый стакан русской водки и произносит тост: «За мужество и героизм русского офицера-солдата!»
Если очень коротко, таков сюжет повести, названной мною «Преодоление».
Написал повесть быстро, перечитал, поправил, переписал начисто в общую тетрадь и бандеролью отправил… Знаете, куда? Ни за что не догадаетесь! Свое «гениальное» творение не мог доверить абы кому, первому встречному журналисту или заштатному, с провинциальным запашком, журналу.
Посчитал, что моя повесть явится украшением журнала «Огонек» — самого популярного тогда издания. Да, чего там мелочиться. Публиковать так уж публиковать. Не в многотиражке же!
Одна неделя сменяла другую. Приходя со стройки, у вахтерши общежития каждый день с душевным трепетом спрашивал:
— Тетя Шура, мне… ничего?..
— Ждешь? Письмо?
С придыханием, боясь вспугнуть маленькую надежду, отвечал:
— Да.
— Нет, голубок, ничего тебе нет.
Понурившись, отходил. Но по-прежнему не терял надежду.
В одну из ночей приснился сон. Будто прихожу с работы, а меня встречает сияющая тетя Шура. Она, размахивая в воздухе объемным конвертом с кучей разных штемпелей, радостно возвещает, пританцовывая: «Письмо, тебе письмо, голубок!»
Выхватываю конверт, тут же разрываю, достаю оттуда лист бумаги, начинаю читать. Точнее — гляжу в конец письма и вижу, что его подписал сам главный редактор «Огонька», сам великий писатель Софронов. Только потом возвращаюсь к началу письма и читаю:
«Дорогой собрат по перу!
Я с огромным вниманием лично прочитал твою повесть «Преодоление» и был просто-таки потрясен той правдой жизни, которая содержится в твоем, не побоюсь этого слова, по-настоящему талантливом произведении.
Поздравляю! Крепко жму твою мужественную руку, коллега!
Я счастлив, что нашему полку гениальных советских писателей прибыло.
Я рад сообщить, что в одном из ближайших номеров моего журнала твоя рукопись увидит свет, и миллионы читателей смогут познакомиться с твоим творением.
Я буду рад, если ты, дорогой коллега, удостоишь мой журнал следующими своими романами.
Кстати. Твою рукопись я взял на себя смелость показать товарищу Хрущеву Никите Сергеевичу. Он — в восторге и считает, что произведение следует выдвинуть на соискание Ленинской премии в области литературы.
Будешь в столице — заходи.
До встречи, собрат по перу!
С величайшим уважением к тебе и твоему таланту — Анат. СОФРОНОВ»
Тут дико кричу во всю мощь:
— Ура! Есть! Победа! Я победил!..
И просыпаюсь, открываю глаза и вижу лицо одного из сожителей, который трясет меня за плечо.
— Что с тобой, писатель? Чего орешь, оглашенный?
Молча (недоволен, что разбудили на самом интересном месте), поворачиваюсь на другой бок и вновь засыпаю в надежде досмотреть столь приятный сон до конца. Но, увы…
Прошло два месяца. В одно из воскресений с приятелями пошел в кино на девятичасовой сеанс. Вернулся в общежитие около одиннадцати вечера. Один из соседей по комнате, лежа на кровати и пьяно хихикая, сказал:
— Пляши, писатель! Тебе — письмо… Казенное…
Кинулся к нему.
— Где?!
— Тетю Шуру видел?
— Нет. Когда проходил, ее не было на месте.
— У нее письмо. Говорит, что сама отдаст. Говорит, что письмо-то из Москвы. Ну, писатель, с тебя «пузырь»!
Вылетев из комнаты, на одном дыхании преодолел межэтажные лестничные марши. Уф-ф-ф, тетя Шура на месте, улыбается, завидев меня, и протягивает весьма тощий (издали вижу) конверт. Распечатал. Прочитал тут же.
Тетя Шура участливо спросила, догадавшись, видимо, по моему лицу, что письмо не из радостных:
— Плохие вести, голубок?
— Да… — Отрешенно махнул конвертом и поплелся к себе.
Сразу-то не все написанное до конца понял, поэтому, вернувшись в комнату, дважды перечитал машинописный текст.
Прошло более сорока лет. Но то письмо храню. И сейчас вот оно, передо мной (содержание привожу дословно, ибо стоит того):
«Дорогой Геннадий Мурзин!
Вы пишете, что написали рассказ «руководствуясь фактами», которые сообщил Вам «один знакомый полковник в отставке». Неплохо, конечно, что Вы решили попробовать силы в литературе. Но ведь дело это очень сложное и ответственное. Чтобы написать рассказ, нужно наряду с определенными способностями обладать большими знаниями, жизненным опытом, хорошо разбираться в том материале, который кладется в основу произведения. Конечно, нельзя было рассчитывать, чтобы в 18 лет Вы могли бы уже располагать всеми этими данными. Вы просто, как смогли, записали историю, рассказанную Вам.
Подобные случаи, конечно, могли иметь место в годы войны. Но ведь не каждый случай, изложенный на бумаге, становится рассказом, произведением художественной литературы. В художественном рассказе должны быть созданы живые образы героев, зримо, ярко показана обстановка действия. В Вашей рукописи все это отсутствует. Пишете Вы неумело, не совсем грамотно. Например:
«Морозов получил знамя и после этого любым средствами хотел прорваться сквозь огненное кольцо. Но им (?) не удалось. Снаряд пробил броню и угадав в бак с бензином, танк загорелся… Выскакивая из танка Морозов вместе со знаменем был срезан пулеметной очередью и упал на землю. Другие члены тоже были срезаны».
Такие записи очень и очень далеки от художественной прозы. Чувствуется, что Вам не хватает знаний языка, уменья владеть словом. А это для работы над рассказами необходимо. Может ли человек писать художественно выразительно, если он не умеет еще точно, правильно построить предложение, безупречно грамотно изложить мысль? Вы, например, хотели сказать, что танк загорелся оттого, что в бак с бензином попал снаряд. А получилось у Вас, что в бак с бензином попал… танк.
Вы рано принялись за литературную работу. Вам надо учиться и учиться, овладевать знаниями, повышать свой общий культурный уровень. Вы ведь можете поступить в вечернюю школу, закончить десятилетку. Не закрыты для Вас пути и к высшему образованию. Помните, что в нашей стране писатель является творцом и носителем духовной культуры народа. Тот, кто хочет приобщиться к труду писателя, должен обязательно стать во всех отношениях грамотным, высокообразованным человеком.
На такой путь учебы, накопления знаний мы советуем Вам вступить.
С приветом!
Литконсультант журнала «Огонек» — Н. Ромова.
МОСКВА. 26 января 1960 года».
Письмо из Москвы стало для меня ушатом ледяной воды. Мне было стыдно и обидно — за себя, конечно.
Но юность берет свое. Душевная рана, нанесенная литконсультантом журнала «Огонек», быстро зарубцевалась. И вот через несколько месяцев написал новый рассказ. Но теперь не стал посылать в Москву, а направил свою драгоценную рукопись в Свердловское книжное издательство на предмет издания отдельной книгой. Только так! Чего мелочиться?
В мае 1960 года получаю объемный пакет. Раскрываю и оттуда вываливается моя рукопись с несколькими машинописными листами. Это было сопроводительное письмо и рецензия.
Приведу письмо полностью, так как оно весьма лаконичное:
«Уважаемый тов. Мурзин!
Представленный Вами рассказ «В наши дни» — элементарно неграмотен и к печати непригоден.
Возвращаем рукопись и посылаем рецензию.
С уважением
Главный редактор Б. Л. Крупаткин».
Грубо, но, по крайней мере ответили и еще подробную рецензию приложили. Нынче? От любого издательства не дождешься ответа. Про рецензию и не мечтай.
Если известие из журнала «Огонек» сравнил с ушатом ледяной воды, то чем может быть выше приведенное письмо? Обухом по голове?
Не смотря на удары судьбы, продолжал писать и продолжал посылать рукописи в разные издания. Ответы, по сути, были те же. Не отчаивался. Наоборот, из каждой рецензии извлекал рациональное зерно, а потом старался отмеченных однажды ошибок не допускать. И стал замечать, что отзывы стали поступать все более и более благожелательные. Налицо — некоторый прогресс, хотя и еле-еле уловимый.
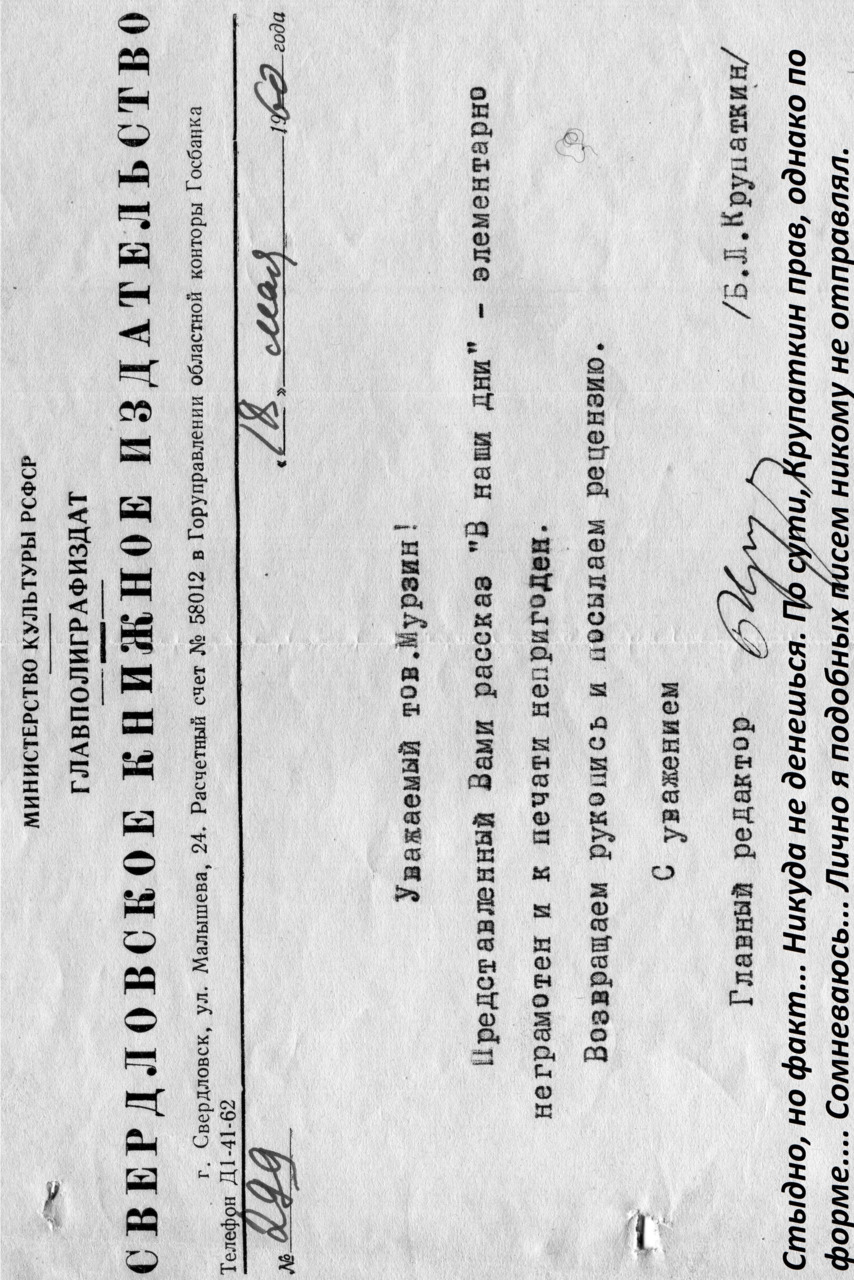
Мой самый главный человек
Круто поменял самооценку на более критичную после того, как поближе сошелся с Долматовым, редактором многотиражной газеты «Голос горняка». Какие же мы, оказывается, разные: он — эрудит, я — тупица, причем, тупица во всем. Раньше этого не замечал, так как круг общения был иной: был равный среди равных. И в том кругу, кругу интеллектуально недалеких, действительно неплохо выглядел. Но рядом с Долматовым почувствовал себя полным, извините за прямоту, ничтожеством. Хотя он и не выказывал этого. Он не отталкивал меня. Более того, он приблизил к себе, ввел даже в свою семью. Он исподволь, незаметно, не унижая меня, не покушаясь на самолюбие, которого хватало, подводил меня к мысли о самосовершенствовании, о самообразовании. Он мне то и дело напоминал две вещи: больше и внимательнее читать литературу, особенно классику — раз; жизненную необходимость учебы в школе — два. Нынче, говорил он, шесть классов — ничто. Минимум — нужна десятилетка. А лучше всего — институт или университет.
Признав собственную тупость за непреложный факт, стал меньше говорить, но больше слушать. Поменял круг общения. Стал больше крутиться среди тех, у кого мог чему-либо научиться. Конечно, многие отталкивали. Но были и те, которые готовы были поделиться собственными знаниями.
Самое главное — продолжал писать, писать, писать. И учиться на собственных ошибках.
О своих Учителях, позволивших мне быть рядом с ними (прежде всего, о Долматове) считаю необходимым рассказать в отдельной главе и подробно. Потому что они сыграли в моей судьбе гигантскую роль.
Искренне сожалею, что среди этих Учителей нет тех, кому учителем положено быть по долгу службы. Увы, мне некого вспомнить добрым словом.
…Хотя уже осенью 1960-го (заставила-таки жизнь!) вынужден был по собственной воле, без какого-либо принуждения извне сесть за парту школы рабочей молодежи. Это оказалось не просто, очень не просто. Тяжелая физическая работа на стройке, с одной стороны, и непомерная жажда общественной деятельности, к чему заметил рано свою склонность, и которая отнимала немало свободного времени, с другой стороны, никак не способствовали нормальной учебе.
Страшно стал уставать. К тому же на работе все складывалось не лучшим образом.
Впрочем, подробнее об этом в следующей главе.

Глава 8. Двуликий Янус
Герой труда воспитывает…
26 июля 1959-го наша четверка вчерашних фэзэушников, напоминаю, появилась на площадке огромного, как мне казалось тогда, строящегося жилого дома. Первой мы встретили крановщицу Машу, которая собиралась взбираться наверх, в кабину, высоко-высоко над землей.
Скептически осмотрев наши тщедушные фигуры, крановщица сказала, что бугор (бригадир Разумов, значит) где-то внизу, в котловане. По стремянке мы спустились вниз. От группы стоявших невдалеке мужчин отделился один из них, подошел к нам. Не здороваясь, не дожидаясь, когда мы поздороваемся, он буркнул:
— Разумов. Чего?
— К вам направили.
— Зачем?
— Работать.
— И кем?
— Каменщиками. Мы — из ФЗУ.
— На практику?
— Нет. Мы уже каменщики. И разряды присвоили.
— Вы? — Он обернулся назад. — Петрович, ну-ка, глянь, кого прислали.
Тот, кого Разумов назвал Петровичем, подошел, оглядел нас.
— Пацаны, вроде как, ничего, — сказал он, — а что?
— А то! Мать вашу… — Тут бригадир загнул крепенько. — У меня детсад или комплексная строительная бригада, а? На хрена, — вообще-то Разумов выразился куда крепче, — они мне? Кто их будет обрабатывать? Ты, что ли? И о чем только думают в управлении? Без-го-ло-вые!
Петрович стал успокаивать бригадира.
— Где им работать, набираться опыта, ума-разума, как не в твоей бригаде? К тебе — четверых. А у Егорова, вон, почти сто процентов этих самых фэзэушников.
— Ты чего, мастер, несешь? С кем меня сравниваешь? С Егоровым? Начхать мне на него и его команду. Тоже мне… Нашел, кого ставить в пример… Потому и одни фабзайцы, что путные рабочие с ним не хотят работать, поголовно уходят.
— Не кипятись, Николай. — Попробовал его успокоить вновь Петрович. — Бесполезно, сам знаешь. Раз начальство направило, значит, так тому и быть.
— Что начальство, что?! Где оно бывает, когда я наряды закрываю, а? В заднице! Нет, чтобы подбросить чуть-чуть, подрисовать…
— Ну, Николай, это ты зря. Тебе ли обижаться? В обиде тебя не оставляют. В прошлом месяце, помнишь, начальник участка сколько подрисовал?
Мужик-то крутой, думал про себя, ишь, как всех кроет почем зря; никого, видать, не боится. Тут Разумов заметил, что очень уж пристально на него гляжу.
— Чего уставился? Не видел? Еще насмотришься, — пообещал он мне, — а, ну, марш в траншею! Лопаты в руки и айда основание подчищать. И не лодырничать! Я вас научу работать!
Вот так состоялось мое знакомство с бугром, дядей Колей, Николаем Разумовым, знатным бригадиром, Героем Социалистического Труда, членом бюро горкома КПСС.
Инспектор отдела кадров была права: нам крупно «повезло» с бригадиром. Особенно мне. Не знаю, что уж такого прочитал в моих глазах, но только невзлюбил сильно меня Разумов. Слова не успел еще сказать, а он уже невзлюбил. Очевидно, что-то почувствовал. Интересно, подумал, что будет, когда заговорю?
День второй был по-своему знаменателен. Два таких дня в месяце было, когда аванс давали и когда получку. Это были «дни строителя», праздничные дни. Нет, не для всех в бригаде, а лишь для приближенных бугра. А таких было пятеро.
В два часа приехала кассирша и выдала бригаде зарплату. Мастер тотчас же исчез и больше не появился. Не стало и прораба. Тогда-то ко мне подошел Митяй, из ближайшего окружения бригадира.
— Есть комсомольское поручение, парень. — Сказал он и ухмыльнулся.
— Какое? — Совершенно серьезно спросил.
— Самое ответственное в твоей трудовой биографии, парень.
— Говорите, что надо делать, дядя Митяй.
— Вот тебе полтыщи, — он протянул мне денежные купюры, — и дуй до магазина. Приволоки пару пузырей. Давай: одна нога здесь, другая — там.
Набычился, услышав о таком своеобразном, по сути, издевательском «комсомольском поручении».
— Никуда не пойду, дядя Митяй. Вам надо — вы и идите… Не рассыльный.
— А кто же ты?
— Каменщик.
— Ты? Каменщик?! — он заржал во всю глотку. — Ну, ты, парень, насмешил: сопля ты зеленая, а не каменщик. И вряд ли им когда-либо станешь, это я тебе говорю! Ну, ладно, будет упрямиться: бери деньги и дуй. Это задание самого Разумова. Ну, пошел!
Окончательно уперся.
— Не пойду никуда. И отстаньте!
В это время подбежал такой же, как и я, вчерашний фэзэушник Колька Власенко. Ушлый такой парнишка, проныра.
— Дядя Митяй, давайте я. Я — мигом!
Тот обернулся к нему.
— Ты? Ну, давай. Тебе это зачтется. Бугор наш таких любит.
Дядя Митяй презрительно посмотрел в мою сторону, зло сплюнул и ушел в «каптёрку».
Это была первая и, возможно, самая большая с моей стороны ошибка.
Разумов и его «военный совет» больше в тот день на стройке не появились. Они пировали до позднего вечера. А Колька Власенко успевал только бегать за пузырями.
На другой день они опохмелялись до обеда, а после завалились на нарах и проспали до конца смены.
В конце третьего рабочего дня ко мне подошел Разумов. В это время выкладывал простенок. Как мне казалось, делал это неплохо.
— Умник, что ты тут кладешь, что кладешь! — Заорал бугор. — Как бык нассал. — Это означало, что кладка неровная по вертикали. — Ну, и работничка мне прислали. — И он с остервенением стал разбирать еще свежую кладку, раскидывая по сторонам шлакоблоки.
Попробовал оправдаться:
— Дядя Коля, только что проверял… по отвесу… было нормально…
Он не слышал меня. Он распрямился и закричал в сторону своих приближенных:
— Не ставить больше его на углы и простенки! Пусть стоит на внутренних глухих перегородках. А еще лучше — пусть у вас в подручных: шлакоблоки подносит, раствор на стену накладывает.
На это откликнулся только Митяй:
— На х…й он нам. Без такого говнюка обойдемся. Больно воняет.
Лучшая и самая знаменитая бригада в Кушве занялась моим воспитанием. Терпел. Не роптал. Прошло несколько дней. Перед обедом возле меня опять появился Разумов.
— Ты, умник… мне сказали, что ты статеечки в газетки кропаешь. — Это скорее всего, проныра-Власенко успел насвистеть. — Не вздумай что-нибудь против меня… Я тебя, сраный щелкопёр… Знаешь, что с тобой сделаю? Со свету сживу! Я тебя быстро отучу от бумагомарательства… Тоже мне, пи-са-тель! Не думай, что тебя эти, из газетёнок защитят. Срал я на всех вас, понял?
Ничего на это не сказал. Промолчал. Однако обиделся, так как не чувствовал за собой никакой вины. Значит, придирается. Но почему? Что такого сделал? Ответов на эти вопросы (да и на многие другие) не знал.
Прошел месяц. В прорабской, где мы обедали (холодный чай, принесенный с собой, ломоть черного хлеба с тонким слоем маргарина, чуть-чуть посыпанного сверху сахарным песком), на столе лежали какие-то бумаги. Как оказалось, табель и наряды. Глянув в табель, напротив своей фамилии увидел, что стоит цифра «2». Не знал, что это означает. Но, посмотрев на фамилии других, догадался: разряд! Допустим, подумал я, но почему «2», когда напротив других моих соучеников стоит «3»? Ведь в школе всем нам был присвоен третий разряд. Странно очень.
После обеда появился бугор. Подошел к нему.
— Скажите, почему вы мне в табеле ставите второй, а не третий разряд?
Он посмотрел на меня, ухмыльнулся.
— Что, мало?
Кивнул, не заметив в его голосе сарказма.
— А я считаю, что и этого лишку… По твоёму умишку.
— Вы не имеете права. — Сказал в ответ.
— Не имею? Я?! Кто тебе сказал? Я имею право на все, ясно?
Упрямо повторил:
— Не имеете права.
— Ты, что, думаешь, тебя другие будут обрабатывать?
— Не меньше других делаю.
— С чего ты взял? — Спросил бугор, скривив в презрительной ухмылке губы. — Зах-ре-бет-ник!
— Неправда! Неправда! Неправда! — Обидчиво воскликнул.
— А ты не верещи. Не ровня. Да и бесполезно. Не я один решаю. Совет бригады определяет, кто чего стоит.
Бугор отвернулся, сплюнул и пошел от меня.
Тут надо пояснить, в чем суть моих претензий.
В бригаде 32 человека. Оплата труда — не повременная, а сдельная. То есть, зарплата определяется в зависимости от объема произведенных бригадой работ. По итогам месяца на всю бригаду закрывается общий наряд.
Например. Согласно наряду бригада выполнила кирпичную кладку в объеме 1000 кубометров. Расценка за кубометр — 24 рубля. Следовательно, бригада заработала 24000 рублей. Далее вступает в дело разряд. Допустим, в бригаде пять человек имеют шестой разряд, десять — пятый, четыре — четвертый и тринадцать — третий. Все эти разряды складываются, и получается сумма 135. Общий объем работы (в рублях) делится на разряды (24000:135) и получается, что на каждый разряд приходится 177 рублей 78 копеек. Допустим, все члены бригады работали целый месяц, то есть 25 рабочих дней. Таким образом, и определяется зарплата каждого члена бригады: если у тебя шестой разряд, то от общей суммы тебе причитается 1066 рублей 68 копеек; если же третий, то, соответственно, — 533 рубля 34 копейки. Ну, а если второй, то на треть меньше.
Тогда впервые в жизни убедился, что не способен защитить себя и отстоять свои права.
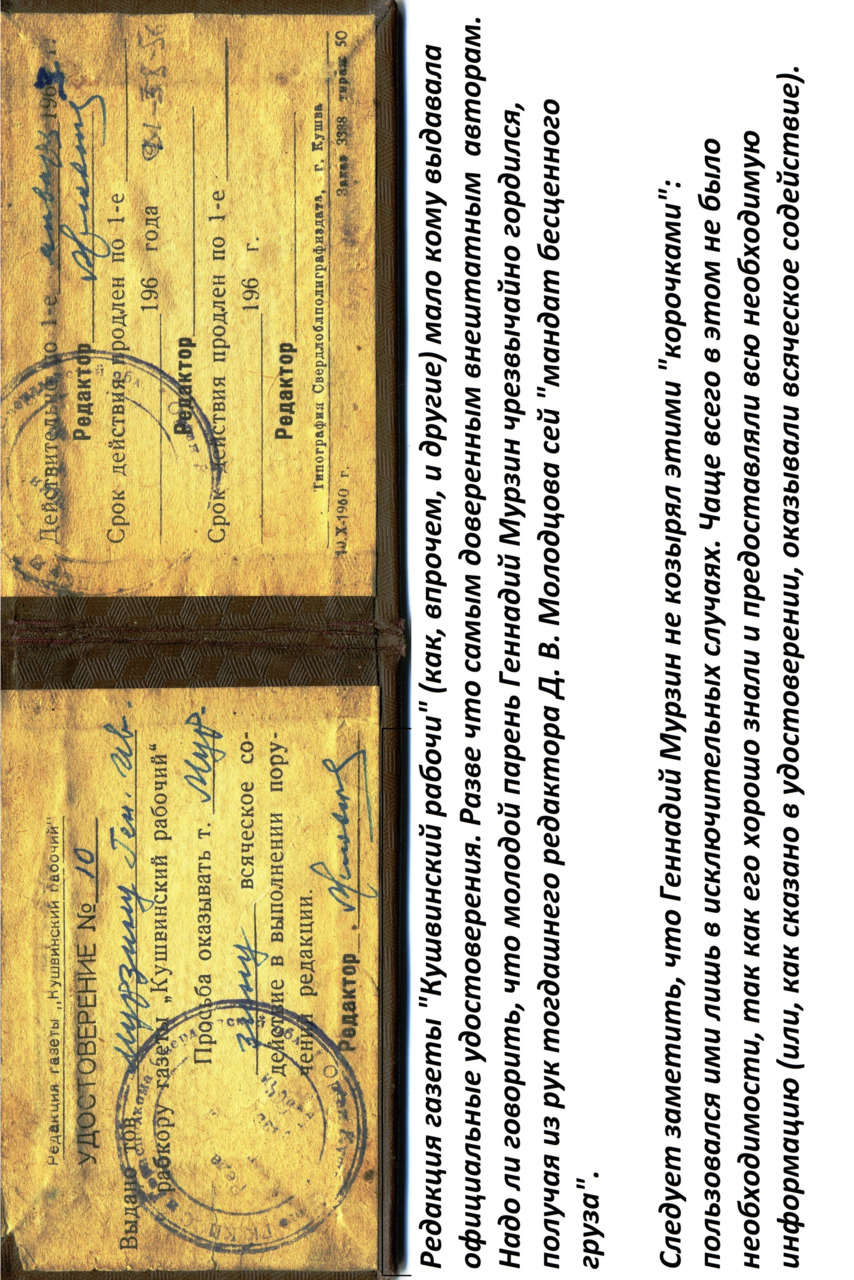
Критическая ночь
Наступил сентябрь. В понедельник, как обычно, пришел на работу к восьми утра. Мне сказали, что по распоряжению бугра должен выйти на работу в ночь; что мне надлежит «сварить» к следующему утру гудрон для гидроизоляции (к тому времени фундамент был подведен под «нуль»).
— Я? Один? Но всегда — вдвоем.
— Ничего, перебьешься. — Ответили мне.
Да, ситуация. Ночью, один на стройке… Мало приятного… Не трус, но все же жутковато. Однако (уже это начал усваивать) с бугром лучше не спорить.
В восемь вечера пришел на стройку. Уже стемнело. Беспрестанно моросит дождь, до костей пронизывает восточный ветер. Но мне — жарко. Потому что надо заготовить дрова, загрузить огромный чугунный чан глыбами гудрона. Наконец, развожу под чаном огонь. То и дело подкладываю дрова. Сверху — сыплет и сыплет. От пламени — жарко, но спина уже мокрая и холодит. Поворачиваюсь спиной к огню. Получше. Но ненадолго. Отойти бы в какое-нибудь укрытие, хоть бы на полчаса. Но понимаю: нельзя. Вон, начинает варево пузыриться-пениться, того и гляди, что польется через край.
Часам к четырем дождь прекратился. Одежда на мне стала подсыхать. Стало хорошо возле огня, покойно. Подбросив дров, присел возле. Скоро варево будет готово, а там и утро, рабочие придут.
Голова клонится вниз: дремота начинает одолевать. И чем дальше, тем труднее бороться с этой напастью. Сопротивляюсь, пытаюсь думать о чем-нибудь приятном. Совсем разомлел. Надо бы встать, ходьбой разогнать одолевающий сон, но очень не хочется: уж больно хорошо у полыхающего огня. Вдвоем — было бы веселее, за разговорами проще, но… Думаю о всяком разном. Закрываю глаза… Только так, на минутку. И все!
Просыпаюсь оттого, что лицу стало жутко жарко. Открываю глаза и в ужасе вскакиваю на ноги. Варево, шапкой поднявшись над чаном, переливается через края, достигнув огня, вспыхивает, по струям гудрона пламя поднимается вверх и огонь охватывает весь чан. Растерялся. Надо тушить. Но как? И чем? Вон, какое огромное и всеобщее пламя. Догадываюсь: выбрасываю из-под чана горящие поленья. Пена перестала течь по краям, однако внутри чана гудрон продолжает по-прежнему полыхать со страшной силой. Хватаюсь за лопату и начинаю забрасывать песком. Огонь усмирил, потушил. Но…
Варево начисто испорчено и непригодно к использованию в гидроизоляции. Мучительно думаю: что скажу бугру, что?!
Делать нечего: начинаю выгребать из чана остатки гудрона, перемешанные с песком. Вычистил емкость. Начинает светать. Догадываюсь: через час придет бригада.
Торопливо вновь загружаю чан глыбами гудрона, развожу огонь. Конечно, не успеваю к приходу рабочих. Бугор появляется, смотрит и все понимает. Он не ждет моих объяснений. Он начинает орать на всю стройку, посыпая меня трехэтажным матом. Молчу. Потому что понимаю: виноват.
К полудню гудрон сварен, и рабочие приступают к гидроизоляции. Мой рабочий день, длившийся почти восемнадцать часов, закончен. Впрочем, и работа в этой славной бригаде также закончилась. Бугор подошел ко мне и сказал, чтобы завтра не приходил на стройку, а шел в отдел кадров стройуправления: он, мол, больше не нуждается в услугах писателя; ему, мол, такие работнички не нужны.
В отделе кадров меня встретили явно с прохладцей. Молча направили в другую бригаду, так называемую комсомольско-молодежную. Здесь мы были все равны. Но бригадир… Он не просыхал, и мы фактически были предоставлены сами себе, поэтому какая могла быть зарплата — гроши. Да и заняты были в основном на земляных работах.
Так что окончательно убедился: из меня строителя не получится. Стал задумываться: что делать? Ошибся в выборе профессии, но был ли выбор? Надо как-то выходить из ситуации. Обычным способом, то есть подать заявление об увольнении, отработать положенные две недели — и прости-прощай, не получится. Почему? Потому что после ФЗУ обязан отработать два года там, куда направлен.
В лоб нельзя. Значит, в обход. Стал искать тропинки. И нашел. Услышал, что горком комсомола набирает отряд добровольцев на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку — на строительство первой очереди Братской гидроэлектростанции. Написал заявление. В горкоме мою просьбу удовлетворили, выдав комсомольскую путевку. С ней и заявился в отдел кадров стройуправления. Там не было формальных оснований для отказа в увольнении. Уволили меня. Причем без двухнедельной отработки.
Практически, освободился от оков и мог не ехать на Всесоюзную ударную: на руках трудовая книжка и могу устроиться, куда захочу. Однако этические соображения воспрепятствовали. Неудобно: горком комсомола поверил…
И поехал. Вместе со всеми. Там, на строительстве Братской ГЭС еще раз убедился, что хорошего строителя из меня не получится. Ну, никак не вписывался в эту структуру!
Впрочем, резонен вопрос: а существовала ли какая-либо советская структура вообще, в которую бы мог вписаться? Как ныне принято в таких случаях говорить, оставлю сей риторический вопрос без комментариев.
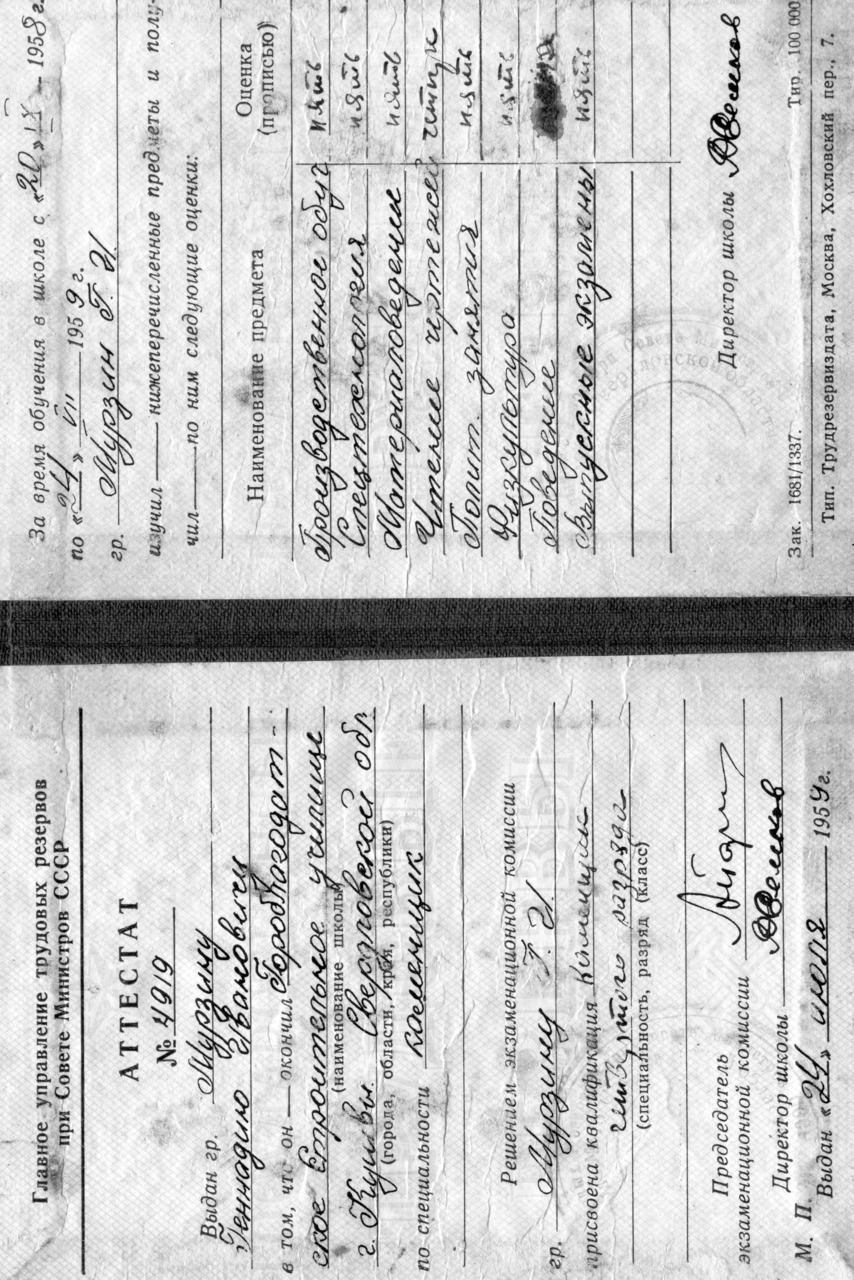
Глава 9. Здравствуй, Восточная Сибирь
А вот и Братск
Этот город меня сходу удивил. Начиная с железнодорожного вокзала: это деревянное зданьице еще дореволюционной постройки, вросшее с годами в землю чуть ли не по самые окна. Когда везли к месту постоянного обитания, то увидел, что Братск — весьма специфическая территориальная единица: оказалось, что вдоль левого, очень высокого берега Ангары, фактически, обособленно, отдаленные друг от друга на три-пять километров, находятся Братск-1, Братск-2, Братск-3, Братск-4, Братск –5.
Наш конечный пункт — Братск-5. Что он из себя представлял? Когда мы вышли из автобусов, то оказались в окружении вековых сосен, фактически, в тайге, где нет ни одного жилого дома, — ни старой, ни новой постройки.
Оглядевшись, невдалеке заметил нечто, очень смахивающее на степные юрты кочевников, которые видел лишь в кинофильмах.
Нас повели именно туда. Мы прошли через деревянную арку, на которой было написано: «Добро пожаловать, в город будущего!»
Когда приблизились, то оказалось: мною виденное — не что иное, как самые обычные палатки. Правда, с двумя стенками из брезента. Правда, с небольшими оконцами по периметру.
Комендант поселка, встретивший нас, сказал: некоторое время придется пожить в этих палатках; до тех пор, пока сами же не построим современные многоэтажные молодежные общежития со всеми современными удобствами. Он показал рукой в ту сторону, где будут те самые общежития: там стояли могучие сосны, в кронах которых шумел ветер.
Всего здесь находилось шестьдесят палаток, в каждой из них стояло по тридцать кроватей. Простой подсчет показывает: в нашем поселке (он потом станет центром крупного индустриального города с населением в двести пятьдесят тысяч) стало жить 1800 молодых парней. Конечно, ни кинотеатра, ни магазинов, ни каких-либо иных увеселительных заведений. Там не было даже колодца, поэтому воду привозили на автомашине.
Начисто отсутствовал и женский пол. Очевидно, комсомольские деятели, направлявшие сюда молодежь, полагали, что в Братск приедут либо кастраты, либо поклонники однополой любви. Нет, приехали самые настоящие парни, которым ничто человеческое не чуждо. И вскоре они заскучали. Было отчего: в этой экзотике, то есть в глухой тайге, интересно жить неделю, может, две, но не более того.
Мне, может быть, было несколько легче, так как все свободное время, а его было предостаточно, особенно по воскресеньям, читал книги, за что в палатке меня прозвали «профессором». Книги брал в поселке Постоянный, который от нас находился в пяти километрах.
Если кто-то подумает, что для прибывшей молодежи по комсомольским путевкам организовывался культурный досуг, то он здорово ошибется. Здесь не только насчет культурного досуга была проблема. Вначале комсомольцы несколько месяцев не знали, кому заплатить членские взносы.
Итак, меня постоянно можно было видеть за чтением. А другие? Чем они убивали свободное время? Пьянствовали. Пили по-черному, пропивали все, что зарабатывали. Где брали вино и водку? Там же, где я брал книги, — в поселке Постоянный. В воскресенье с утра от каждой палатки снаряжался гонец, который притаскивал огромное количество бутылок.
К вечеру в нашей палатке стоял такой густой запах спиртного, что дышать нечем было. Почему не проветривали? Попробуй открыть хоть на минуту дверь. Налетит такое количество гнуса, что потом вообще места себе не найдешь.
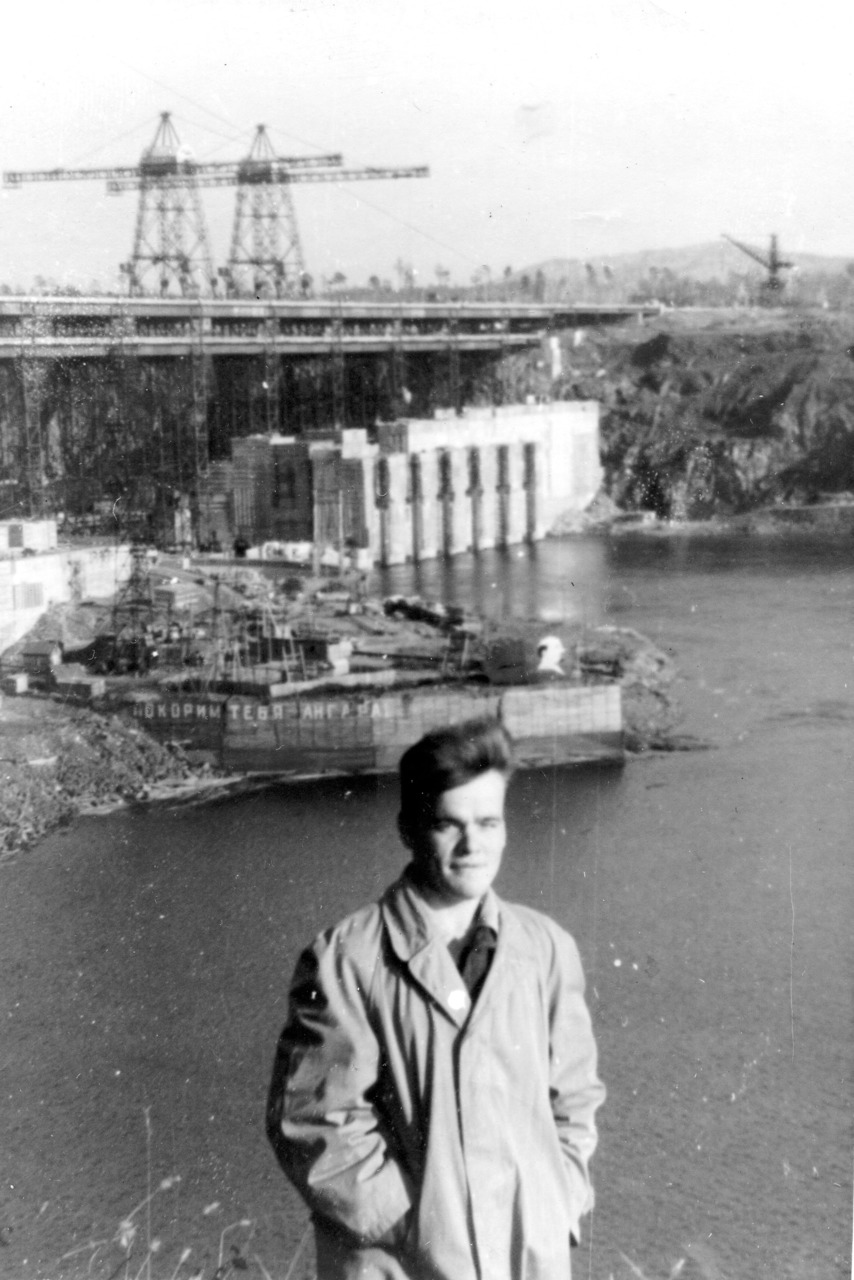

Неужто повезло?..
Чуть-чуть повеселел тогда, когда (вместо смывшихся со стройки) к нам подселили двоих парней из Харькова. Юра и Саша окончили строительный техникум, сюда их направили на отработку. Оказались из интеллигентных семей. Как и меня, к спиртному их не тянуло. Как и я, много читали. Особенно сблизился с Сашей, так как он, помимо всего прочего, увлекался фотографией. У меня также был фотоаппарат «ФЭД», с которым не расставался. Юра же, когда в палатке наступала относительная тишина, включал привезенный с собой транзисторный приемник и часами слушал музыку. Заодно с ним, и я стал потихоньку приобщаться к культуре.
После одиннадцати вечера обычно транслировался концерт. Кровати вновь прибывших были рядом с моей, так что слышал их разговоры. Многого не понимал, многое просто потрясало. Стыдно вспоминать, но надо.
В один из вечеров, лежа на кровати, читаю роман, кажется, Стендаля «Красное и черное». Юра, как обычно, прильнул к приемнику, Саша тоже, уткнувшись в книгу, читает. И вот слышу между ними такой диалог.
Саша:
— Гелена Великанова, кажется…
В это время идет эстрадный концерт, выступают певцы и певицы. Услышав реплику Саши, Юра аж подскакивает от возмущения на кровати.
— Ты что, в самом деле! — Восклицает он.
Саша отрывается от книги, прислушивается.
— Ах! Ну, да, ошибся…
— Ошибся? — Продолжает возмущаться его товарищ. — Как можно спутать Великанову с…
Тот не дает договорить.
— Ясно: это Майечка… Кристалинская.
Спустя пару часов. Приглушенный звук, но слышу, что в приемнике звучит музыка. Юра, по-прежнему прильнув ухом, слушает. Саша все также сосредоточенно уставился в сборник стихов Брюсова. В дальнем конце палатки, за столом обычное пиршество клонится к закату: многие клюют носами, но изо всех сил пытаются заплетающимися языками поддерживать компанию.
Читаю своего Стендаля, познакомиться с которым посоветовал все тот же Юра. Читаю, но в голове то и дело возникает одна и та же мысль: «Странные все же парни… Например, Юра. Как можно часами неотрывно слушать какое-то пиликанье? Или Саша: роман, как у меня, читать — куда ни шло, но стихи читать, как какой-нибудь роман, — извините».
Откладываю в сторону книгу, закидываю руки за голову, глядя в потолок, думаю о феномене (это новое для меня словечко, почерпнутое мною из их лексикона, мне страшно понравилось и поэтому стараюсь его запомнить и чаще употреблять). А феномен — это поразившая меня их способность по голосу определять, кто исполняет ту или иную песню. Для меня — никакой разницы: поют и поют — пусть поют. Великанова или Кристалинская — в чем различие? Голоса как голоса. Мне кажутся абсолютно одинаковыми. Плюс: как ту, так и другую я и по радио-то слышу в первый раз. Вот Русланова — другое дело. В деревенской избе-читальне, еще в детстве слышал, как она пела. До сих пор в ушах ее голос и слова ее песни: «Когда б имел златые горы и реки полные вина, все отдал бы за ласки взоры, чтоб ты владела мной одна…» Душевная, наша песня! Но и в этой песне (как раньше, так и сейчас) мне не все ясно. Возьмем, думаю про себя, (не решаюсь произнести вслух даже при приятелях) выражение «ласки взоры». Убей Бог, не знаю и не представляю. Или: что означает «чтоб ты владела мной одна». Владеть — это как? Я же не вещь какая-нибудь, я — человек. Это еще куда ни шло, но ведь получается из песни (какой кошмар!) мной могут владеть и несколько. Как так?! Конечно, порываюсь спросить своих новых знакомых, но что-то меня останавливает. Скорее всего, природная стыдливость. Уж больно не хочется стать посмешищем. Поэтому для себя решил раз и навсегда: мной никто не будет владеть, вообще никто!
Но это пустяки. Потому что песня душевная, душу бередит. Наверное, эта самая Русланова, как и я, все детство провела в какой-нибудь глухой деревне. То есть, настоящая бой-баба!
В эту минуту Саша, чья кровать прямо примыкает к моей, потягивается, зевает, откладывает в сторону книгу.
— Пожалуй, и баиньки пора.
— Само собой. — Откликаюсь в качестве поддержки его идеи.
Саша поворачивает голову в сторону Юрия.
— А ты, меломан, долго еще собираешься упиваться?
Ага, отмечаю про себя, опять новое слово — меломан. И что оно означает? Надо не забыть. Завтра, вечерком заскочу в библиотеку и гляну в энциклопедию. И тут же ловлю себя на мысли, что и другое слово «упиваться» уж шибко как-то… не совсем, как бы к месту. Вон, Вадим, который шарашится, ползком добираясь до своей кровати, действительно упился. Но Юра! Он-то как может упиться, слушая музыку по приемнику?..
Саша прислушивается к звучащей музыке и спрашивает:
— Бетховен?.. — Юра кивает. — Пятая симфония?
— Угадал, — оторвавшись на секунду от приемничка, ухмыляясь, отвечает Юра.
Саша ехидно спрашивает:
— Думаешь, ты один такой меломан?
Юра отрицательно мотает головой.
— Я ничего не думаю. Я — знаю.
— Ну-ну! С такой самооценкой далеко уйдешь.
— Не дальше твоего. — Парирует Юра.
Из дальнего угла палатки доносится хриплый полупьяный голос Сереги:
— Кончай базар! Спать пора.
Ребята затихают. Юра выключает приемник, поворачивается на бок и через минуту начинает легонько похрапывать.
Лежу и молча гляжу в потолок. У меня опять так много пищи для размышлений. Думаю…
Какие все-таки парни счастливые! Они всего лишь на два года старше меня, а уже мастерами на нашей стройке. И до чего умные! Им нет равных. Это ж надо! Узнать, лишь слегка прислушавшись, не только автора музыки (уже от них слышал, что Бетховен — это такой композитор), а и назвать безошибочно звучавшее в эфире произведение. Фантастика! Я, вот, только и знаю, что Пахмутову… И то лишь потому, что по десять раз на дню из всех динамиков слышу: «Главное, ребята, сердцем не стареть; песню, что придумали, до конца допеть!» Кстати: три дня назад Пахмутова гостила на нашей Всесоюзной ударной комсомольской стройке. В поселке Постоянный, на летней эстрадной площадке был концерт. Новые мои соседи по палатке, Юра и Саша чуть ли не силой стаскали и меня. Скажу честно: понравилось! Особенно композиторша. Крохотулечка! Такая веселая и настолько красивая! Просто жуть. И песни у нее хорошие. Только вот никак не могу взять в толк, как она эти самые песни «пишет»? Ну, письмо или роман — это да, можно написать, а музыку, которая так красиво звучит? Мне еще предстоит узнать, что есть премудрость, которой овладела Пахмутова, — нотная грамота. Еще раз буду потрясен, когда узнаю, что Юра и Саша, мои новые знакомые, оказывается, знают тоже эту самую загадочную грамоту — нотную. И даже покажут, как выглядит скрипичный ключ. Показать-то они мне показали, однако все равно ничего из их объяснений не понял. И в моей голове вопрос так и остался неразрешимым: зачем композитору скрипичный ключ? Он, что, им отпирает или запирает свою музыку?
Однако уже хорошо то, что знаю теперь: есть на свете люди, именуемые композиторами, которые «пишут» музыку, пишут точно так же, как писатели пишут свои романы, — сочиняют, придумывают из головы, а потом записывают специальными значками на специальных бумажных листах, которые называются нотами.
«Господи, какие же они умники! — Мысленно восклицаю я. — Как им здорово повезло… Они так много знают…»
И тотчас же спохватываюсь: никакого Господа нет и в помине, это выдумки церковных мракобесов, которые дурачат несознательный народ. И действительно: ну, как можно, чтобы кто-то существовал среди людей, а его никто из живущих никогда не видел?! Всемогущий призрак? Горд, что некрещеный, единственный из пятерых детей моих родителей. Мать как-то обмолвилась: забыли окрестить.
Бога нет и быть не может! Что-что, а это твердо знаю. Откуда знаю? Кто мне это внушил? Когда, в какой момент? Не помню.
Но мне становится немного грустно. Если так рано и столь ясно, твердо усвоил истину, что Бога нет, то почему, наряду с этим, не знаю так много других полезных истин; почему мне не дали так же много знаний в литературе, музыке, изобразительном искусстве, наконец, хотя бы просто хороших знаний русского языка?
Читал тогда в «Правде», что советское общество воспитывает гармонично развитых молодых людей. Запомнил, поскольку не знал, что такое «гармонично». Узнал в библиотеке. И все равно ничего не понял.
Итак, гармония — это (по энциклопедии) соразмерность частей, слияние различных компонентов в единое органичное целое. Значит, гармонично развитый человек — это тот, в котором органично соединено в единое целое все: и профессиональные знания, и культура, и образованность, и воспитание.
Например, Юра и Саша — гармонично развитые молодые люди. Они не только знают, как надо строить жилые дома, а и культурны, образованны, воспитаны. Они не только разбираются в том, из чего, к примеру, изготовлены стеновые панели, для чего им нужен теодолит и как с ним управляться, но и умеют на чистом русском языке грамотно изъясняться, знают нотную грамоту и играют на рояле, видят разницу между Бетховеном и Чайковским, Лемешевым и Козловским, Толстым (тогда еще не знал, что в России было несколько писателей с такой фамилией, а Алексея Толстого узнал в шестом классе, когда в школьной библиотеке взял книгу «Гиперболоид инженера Гарина» и на одном дыхании «проглотил» ее) и Стендалем, Пикассо и Ивановым, Станиславским и Вахтанговым, Марлен Дитрих и Любовью Орловой. А люди-то все великие, оказывается!

Тупее тупого? Но это невозможно!
Тупой такой? Да, тупой, однако ж, я не одинок, далеко не одинок! Из тридцати парней, живущих со мной в одной палатке, до недавнего времени считался самым гармонично развитым, а потому и дали прозвище «профессор». Теперь, правда, не стали так называть: общественное мнение решительно скинуло с пьедестала великого умника. Потому что люди воочию убедились: эти двое, Юра и Саша, наши сверстники, — куда как умнее и гармоничнее меня. Теперь — есть что сравнивать. Да, понял, что тупой. Но также понял, что другие все — тупее тупого. Меня сейчас, когда все спят, а за оконцем палатки дождь льет, как из ведра, и в вершинах вековых сосен вольно шумит ветрище, не это тревожит. Недоумеваю по другому поводу. Пытаюсь разобраться вот с чем. Говоря языком «Правды», всех нас советское общество воспитывает гармонично развитыми молодыми людьми. Пусть будет так. Однако почему же результат такой разный? Почему плоды просвещения и воспитания диаметрально противоположны, например, между мной и тем же Юрой из Харькова? Ведь даже я (такой тупой) знаю: единственное самое справедливое общество, общество равных прав и возможностей — это наше советское общество. Мысленно еще раз повторяю истину: равных прав и равных возможностей! Почему советское общество ничего не сделало для меня и еще для двадцати семи других моих сотоварищей по палатке? Почему двоих воспитало гармоничными, а всех других нет? Неужели в советском обществе лишь двое из тридцати в состоянии жить в гармонии, а остальные?.. Двое даровитых и способных гармонично развиваться, как этого хочет советское общество, а остальные бездари? Уж больно мало! С этим не согласен. Полагаю, что тут что-то не так: либо я не могу чего-то уразуметь, либо советское общество на самом деле совсем не стремится к гармонии.
Ведь факт же: мы все тридцать человек, живущих сейчас в этой палатке и приехавших на стройку по комсомольским путевкам, родились в одной стране — Советском Союзе, и примерно в одни и те же годы — предвоенные; мы все учились, кто-то побольше, кто-то поменьше, у советских педагогов и жили примерно все одинаково трудно; теперь, вот, все в Ленинском комсомоле, являющемся резервом Коммунистической партии. Иначе говоря, всё одинаково, а мы такие разные, такие разные! Как будто, люди с разных планет. Но это же не так! Нас не только объединяет планета Земля, а и одна страна — СССР, где общество живет по единым правилам — от Москвы до самых до окраин…
При таких вот мыслях и засыпаю, не найдя ни одного ответа, ни на один обуреваемый меня вопрос.
Вообще, насколько мне помнится, это был первый случай, когда всерьез задумался над тем, что потом будет беспокоить всю жизнь. Серьезная задумка и, как потом пойму, весьма опасная. Пройдет немногим больше двух лет. Никита Хрущев, тогдашний вождь СССР, герой забавных анекдотов, громогласно оповестит мир: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Услышав об этом, подумал: «Пьянь-рвань вряд ли способна на что-то подобное». Нет-нет, верил, искренне тогда верил в неизбежность коммунизма. Я всего-то сомневался лишь в сроках. Меня не устраивал 1980-й год — намеченный год победы коммунизма. Глядя снизу, тогда видел, что Хрущев сильно переоценивает потенциал тогдашнего советского человека. Потому что людей, способных жить и следовать принципам морального кодекса строителя коммунизма, на мой взгляд, было слишком мало. Хороших людей, способных на такой светлый подвиг, почти нет, а с пьянью-рванью коммунизма точно не построить — ни за двадцать, ни за сто лет.
Пройдут те самые двадцать лет. Наступит 1980-й. И с ужасом увижу, что прав был на все сто процентов. Советское общество не только не приблизилось к светлой и наивной мечте, но и еще дальше отдалилось. Увижу, будучи человеком зрелым и гораздо более образованным, что идет деградация личности, саморазрушение русского человека. Причем увижу, что рыба гниет с головы, а чистить ее по-прежнему пытаются с хвоста. Это придет ко мне с годами. А тогда, в 1960-м, еще искренне верил, что нашей партии, КПСС по плечу самые великие свершения. И я один из тех, кто на переднем крае борьбы за торжество идей коммунизма, потому что нахожусь на самой настоящей стройке будущего — стройке коммунизма, на строительстве величайшей в мире гидроэлектростанции на Ангаре.

Глава 10. И снова за школьной партой
С учебниками под мышкой
Шли дни, недели. По утрам уходил на строительство жилого дома, будущего молодежного общежития, а вечером возвращался. И был предоставлен самому себе. Вооружившись фотоаппаратом, шел на улицу, где фотографировал все, что попадало на глаза. Потом проявлял пленку, печатал понравившиеся негативы. Занятие это мне нравилось. Интерес к фотографии подогревал харьковчанин Саша. Прежде всего, советом. За оплошность — упрекал, за удачу — подхваливал. Но все-таки вскоре же убедился, что это дело делаю посредственно и все мои попытки вырваться, подняться на более высокую ступень в фотоделе не приносят желаемого результата. Постепенно стал терять интерес к фотографии. Хотя окончательно с этим не порвал до сих пор.
Решил: это — не мое. А что же мое? Знал ли тогда? Увы, нет! Однако не переставал пробовать себя во всем. Тыкаясь носом, как слепой котенок, все время был в поиске. Но — безрезультатно.
На стройке у меня дела шли лучше, чем в бригаде Героя Социалистического Труда Николая Разумова. Даже при перетарификации мне официально (с выдачей удостоверения) повысили разряд до четвертого. Деньги платили хорошие и вскоре смог купить шикарное габардиновое демисезонное пальто китайского производства, темно-серый бостоновый костюм, черные модельные туфли и… фетровую шляпу. Короче, прибарахлился по высшему разряду.
Выглядел вполне прилично. Казалось, чего еще надо? Но душа все-таки к работе на стройке не лежала. И при первом же удобном случае старался улизнуть. Например, когда потребовались добровольцы для оказания помощи подшефному совхозу в уборке урожая и заготовке кормов, то был в числе первых. Факт, который свидетельствует, что душа требовала чего-то иного. Короче говоря, жизнь текла слишком буднично. И это меня, может быть, больше всего тяготило.
Единственное утешение — общение по вечерам и в выходные с соседями моими новыми: Юрой и Сашей. Разговоры мне приносили настоящее блаженство. Правда, должен заметить, что при них старался больше молчать и слушать, слушать, слушать, впитывая, как губка, все, что слышал. В моем лице они имели самого благодарного слушателя.
В конце августа произошло то, что серьезно повлияло на мое будущее.
Это был обычный субботний вечер. В палатке многие, запасшись водкой, приступили к своему любимому и единственному занятию. Шумные разговоры и дым коромыслом. Замечу, кстати: ни я, ни мои новые приятели не курили. Юра даже попробовал было навести в этом деле порядок, чтобы в палатке запретить курение. Но куда там! Идея его не нашла поддержки в обществе и с треском провалилась. Поэтому все другие парни дымили по-черному.
Итак, они кутят, мы лежим на кроватях и читаем. В это время Юра зачем-то заговорил о похоронах. Нарушив обычное свое правило, встрял в разговор.
— Таким способом хоронять русских людей никак нельзя…
Меня остановил Александр.
— Ген, извини, но так нельзя говорить. — Сказал парень и укоризненно посмотрел в мою сторону.
Чувствую, как заполыхало мое лицо. Явно: что-то сморозил. Пытаюсь понять, но в голову ничего не приходит. Мне страшно стыдно перед харьковчанами. И обидно за себя. Хотя ведь и без замечаний знаю их превосходство, признаю полностью, но реакция всегда такая же самолюбиво болезненная, когда слышу от них замечание.
Унизительно. Однако должен знать, в чем моя ошибка. Обязан узнать, чтобы потом не повторять. Поэтому, подавляя, наступая на собственную гордость, спрашиваю:
— Что-то не то?..
Юра хохочет.
— Ты, Ген, прости Саньку… У него такой пунктик: страшно не любит, когда при нем русские люди говорят не по-русски. И поэтому всегда поправляет. Скажу по секрету: однажды он самого директора техникума на этом подловил. То-то была потеха! Минут пять директор слова произнести не мог. Но зато потом отыгрался… Помнишь, Сань?
Тот недовольно машет рукой: отстань, мол.
— Но я… что, не то… да?
Юра, продолжая улыбаться, объясняет:
— Ты сказал: хоронять. Это — не по-русски.
— А… как надо? — Смущаясь еще больше, тихо спрашиваю его.
— Хоронить, конечно!
— С-с-спа-с-сибо. — С трудом выдавливаю из себя. Трудно из-за того, что страшно стыдно.
— Кстати, — оторвавшись от чтения, говорит Александр, — я бы хотел, чтоб ты запомнил одну вещь… Вот, ты кого сейчас читаешь? — неожиданно спрашивает он.
— Стендаля, — отвечаю, не понимая, к чему он клонит.
— Запомни, Ген, что при произношении всех французских фамилий ударение надо делать всегда на последнем слоге, как, впрочем, и в именах… Особенность такая и ее всякий культурный человек должен знать. Писателю не слишком бы понравилось, услышав, как ты произносишь его фамилию.
— Это правда. — Соглашаюсь. — Мне, например, тоже… Слух режет, когда при произношении моей фамилии ударение делают на первом слоге.
— Ты, Ген, — продолжает Александр, — парень смышленый. Не чета им, — он кивает в сторону пьяной компании, — у тебя интересы другие.
— Ну, уж… — Пытаюсь возразить ему.
— Ладно, не скромничай: это же видно. Тебе надо учиться, Ген!
— Мне уже говорили…
— В чем же дело? — Удивился Александр. — Зачем время тянешь? Тебе уже девятнадцать, а у тебя по-прежнему… Сколько?
— Шесть классов.
— Какой ужас!
— Санька прав. — Поддержал Юрий. — Пропадешь, если не возьмешься за учебу.
— А с работой?.. Как? — Попытался найти оправдание.
— Чепуха! — Воскликнул Юрий. — Сколько людей работают и учатся.
— Что-то не видно…
— Ты на них, — Юра опять кивнул в сторону шумного застолья, — не гляди. Если, конечно, мечтаешь стать таким же, то…
— Ну, что ты?! Никогда! Ни за что! Мне даже совестно, что… Вот вы… А я? Такой тупой, такой тупой! — От отчаяния воскликнул в ответ.
— Это, Ген, другая крайность. — Возразил Александр. — Нет, ты не тупой. Просто: надо учиться и все! И, извини, дам тебе еще один совет. Хорошо, что много читаешь, хорошо! Но попробуй книги не глотать, а читать вдумчиво, обращая внимание на то, как автор выражает ту или иную мысль, почему использует то или иное слово. Заведи тетрадку: выписывай незнакомые тебе слова и выражения. Ну, своего рода справочник. Когда поймешь истинный смысл слова, пытайся чаще использовать. Вот так, мало-помалу и станешь образовываться.
— А школа…
— Ну, Ген, это само собой. Иди, обязательно иди в вечернюю школу.
— Санька дело говорит. — поддержал и Юрий. — Мы, вон, в институт собрались.
— Тяжело будет — работать и учиться.
— Но разве есть другой выход?
Вот эта нравоучительная вечерняя беседа со мной почти что моих сверстников стала именно той самой каплей, которая оказалась решающей. Если честно, то давно уже подумывал об этом, но все как-то откладывал решение проблемы. Все чего-то боялся.
Через несколько дней, точнее — первого сентября 1960 года, вновь оказался за партой, но теперь уже необычной школы, — школы рабочей молодежи. Этот день и вечер хорошо запомнил: в четыре часа пришел с работы, умылся, чуть-чуть перекусил и в половине пятого отправился из палаточного нашего городка в поселок Постоянный, через тайгу, пешком, прошел пять километров, неся под мышкой несколько учебников и пока еще чистых тетрадей.
И вот я в седьмом классе. Пять уроков первого учебного дня, точнее, вечера, прошли незаметно. В половине двенадцатого ночи, выйдя на крыльцо школы, был поражен: легкий морозец и везде лежал снег — такой чистый, отсвечивающий голубизной от лунного сияния.
Это была сибирская зима. И она пришла совсем неожиданно. Неожиданно для меня, но не для сибиряков. Потому что они-то хорошо знают: с началом сентября жди зимы в любую минуту. И совсем неважно, что еще днем тепло и можно ходить в рубашках.
Около часу ночи, придя к себе, в палаточный городок, уснул мертвецким сном. И на этот раз мне даже не мешал храп спящих парней.
Дни шли один за другим. Мой распорядок оставался неизменным: утром — на стройку, вечером — в школу. Стал сильно уставать. Видимо, с непривычки. Александр и Юрий, глядя на меня, по-видимому, тайно сочувствовали, поэтому всячески подбадривали.
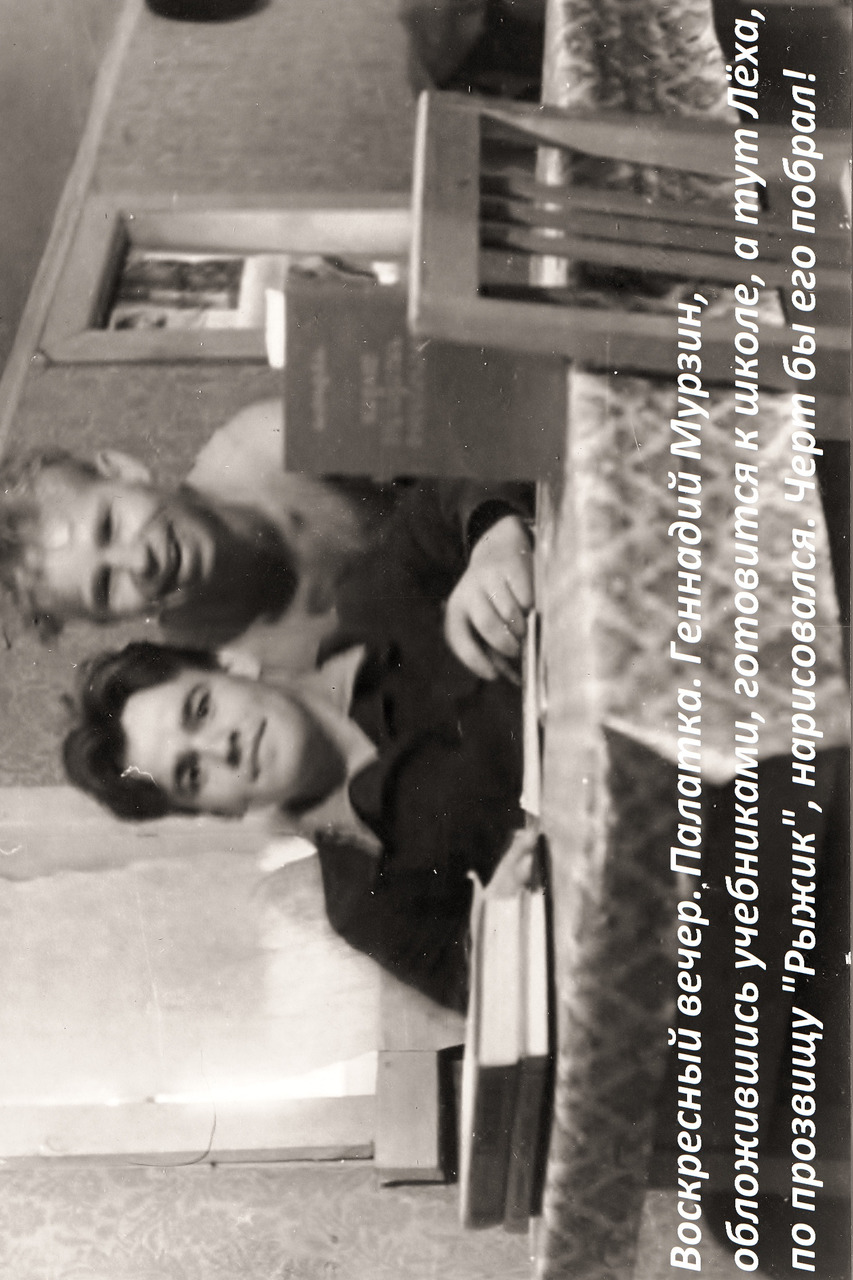
Призвали крепить оборону страны
Стал потихоньку втягиваться в новый жизненный ритм. Но тут опять незадача: вызвали в военкомат и сказали, что вот-вот призовут в армию. Мне заранее выписали повестку, поэтому сумел отвезти все свои ставшими не нужными вещи своим родителям, которые к тому времени перебрались в Верхнюю Туру, в небольшой город на севере Свердловской области..
Второго декабря 1960 года, вернувшись в Братск, прибыл на призывной пункт. Оттуда эшелоном призывников повезли под Иркутск, на сборный пункт. Ехали что-то довольно долго.
Когда мы прибыли, то меня ждала новость: Никита Хрущев объявил на весь мир, что в Советском Союзе начинается большое сокращение численности армии. И меня, как человека самого мало полезного для армейской службы (из-за близорукости) подвели под это самое сокращение. Так что, фактически не прослужив и дня, меня отправили назад, то есть в Братск. Но там мне было делать нечего, поскольку на дворе лютая сибирская зима в самом разгаре, а на мне какие-то старенькие сапоженции, фуфайка, драная шапка. Ну, все то, во что обычно был одет советский призывник. И ни денег, ни одежды. Билет, конечно, мне могли выписать, но до Братска. Но там меня никто не ждал. По крайней мере, прежде мне надо было съездить на Урал. Но туда должен был ехать на свои кровные, которых у меня не было. Оказавшись в безвыходном положении, решил: возвращаться на родину. По крайней мере, там было что обуть и надеть.
И вот из Иркутска еду на Урал, а это не ближнее место — несколько тысяч километров. Как еду? Зайцем. Ревизоры вытуривают с одного поезда, дожидаюсь другого попутного, пробираюсь тайком в вагон. И так продолжаю свой путь. Простые люди относились с пониманием. Когда могли, то прятали от всевидящего ока ревизорского. Немного подкармливали.
Некоторые, правда, шарахались. И я их понимал: в этаком-то виде да не возбудить опасения!

Глава 11. На родимой стороне
Кем угодно, но не каменщиком
Как бы то ни было, но добрался-таки до родных мест. И в тот же день был уже в приемной заместителя директора Верхнетуринского машиностроительного завода по кадрам и быту. Там, посмотрев трудовую книжку, естественно, в первую очередь предложили пойти в ОКС, то есть в отдел капитального строительства. Отказался. Тогда мне предложили работу в семнадцатом, литейном цехе, где, как мне сказали, нужны люди на ручную формовку чугунного литья. Не знал, что это такое, поэтому согласился. Куда угодно, думал, но только не каменщиком.
Как оказалось, ручная формовка ничем не лучше стройки. Возможно, даже и хуже. Особенно из-за загазованности и запыленности на рабочем месте. И через пару месяцев стал проситься в транспортно-экспедиционное отделение цеха. Иначе говоря, туда, где подвозят сырье и материалы, а также отвозят готовую продукцию (литье) в другие цехи завода. Моя специальность — грузчик на автомашине. Мой непосредственный начальник — диспетчер смены. В этой смене оказался самый грамотный, поэтому диспетчер именно мне поручал в конце смены заполнять табель и наряды. Он, диспетчер, мог только с большим трудом поставить подпись-закорючку. Он, диспетчер, зато не верил никому, даже самому себе. Например, диспетчер (Субботин — его фамилия) дает задание нам (мне и еще двум грузчикам на прикрепленной машине) привезти с центрального склада ферросплавы (такие добавки в литейном производстве). Мы едем. Но каково поначалу было мое удивление, когда видел, приехав на склад, находящийся на территории же завода, но примерно в трех километрах от цеха, что он, Субботин, уже там нас поджидает. Невероятно, но факт. Он передвигался по заводу с такой скоростью, что мы на машине за ним не могли угнаться.
Была у диспетчера и еще одна милая привычка. Когда впервые появился на работе, то он, глядя на меня поверх очков, представился так: «Муж судьи». Сначала подумал, что шутит. Но потом мне рассказали, что он всякому незнакомому человеку так именно и представляется: не фамилию или имя свои называет, а занимаемое общественное положение жены. За глаза рабочие его называли не иначе, как круглым дураком, подсмеивались, но в глаза — ни-ни. Мстительный, сказали, страшно он, злопамятный.
Диспетчер цеха — это все равно что мастер, то есть руководитель среднего звена. Несмотря на его полную безграмотность (заявление на отпуск он обычно писал целый рабочий день), его держали на этой должности. Почему? Возможно, и потому, что он муж судьи. Впрочем, у Субботина было и еще одно обстоятельство, удерживавшее его на руководящем посту: он был коммунистом.
Здесь я проработал два года. Как? Вполне нормально. Ни главный диспетчер цеха №17, ни сменные диспетчеры не имели ко мне претензий. На работе не пил, был скромен, видимо, трудолюбив, не прогуливал, не опаздывал на смену, а потому вскоре стал лучшим рабочим и в качестве такового на Доске почета цеха постоянно представлял коллектив транспортно-экспедиционного отделения.
С другими двумя грузчиками жил в ладу. Несмотря на то, что они, не в пример мне, были физически очень крепкими. Одни их руки чего стоили. Несмотря на то, что наряд закрывался один, и все трое получали зарплату одинаковую. Мужики, видя мое усердие и мои весьма хилые бицепсы, щадили. Но, по правде говоря, из-за самолюбия не слишком этим пользовался и работал наравне со всеми.
И все же… Это был литейный цех. Он выпускал не детские игрушки, а, допустим, корпуса для снарядов. И грузчик, как ни крути, должен был обладать достаточной физической силой и выносливостью. Ну, со вторым у меня никогда не было проблем. А вот с первым…
Такой момент. Наша машина подъезжает под погрузку рудничной стойки (это такие стальные изделия, вес одного его пятьдесят килограммов). Обычно рудстойку мы грузим, с одной стороны, внутри цеха на транспортер, а, с другой стороны, стоя на машине, снимаем с транспортерной ленты. Это еще ничего. Однако сегодня (возможно, в предыдущую смену что-то с машиной случилось, и продукцию на склад не вывозили, а внутри цеха свободного места для складирования нет) рудстойку попросту сложили на земле, возле цеха.
Что это означает? Тяжеленное изделие надо не просто оторвать от земли, но и поднять на уровень моих плеч и забросить на машину. Одно или два таких изделия смог бы закинуть, но не два или три десятка. Мужики поступают хитро. Щадя мое самолюбие, они говорят:
— Мы — грузим, ты — отдыхаешь; мы — отдыхаем, ты — разгружаешь. Идет?
Согласно киваю. Потому что сбросить с машины — это совсем не то, что на нее забросить. Выход найден. Впрочем, они обычно, быстро выкурив по папиросе, и тут помогали мне, оправдывая свое вмешательство тем, что, мол, цеху срочно понадобилось забросить песок.
Они, в общем, меня выручали. Я их — тоже. Как? Это случалось два раза в месяц, в дни выдачи зарплаты. Особенно, если работали во вторую смену. Получив деньги, мужики соображали «на двоих», поскольку я в этом никогда не участвовал. И через пару часов, насоображавшись, с трудом могли произнести членораздельно фразу, а не только физически работать. Но в цехе непрерывное производство и ему все равно требуется сырье. Диспетчер знает, поэтому старается закрывать глаза. Он в такие дни видит основную задачу: забросить в цех самое необходимое, чтобы не остановить производство.
Так что в такие дни работаю за троих. И внешне кажется всем, что у нас все в порядке. Более того, стараюсь сделать так, чтобы пьяные грузчики не попадались на глаза начальству. Выкручиваюсь, как могу. Например, с машиной привез песок. Разгружаю. Откуда ни возьмись главный диспетчер.
— Где остальные грузчики? — Спрашивает он и подозрительно, с прищуром смотрит.
— Они? — Переспрашиваю, будто не понял, о ком идет речь.
— Да, они.
— Так, мужики только-только отошли.
— Куда?
— К вагранкам… Чтобы газировки попить.
Главный диспетчер не верит или притворяется, что не верит.
— Что, трубы у них плавятся?.. Покрываешь?
— Да, что, вы, в самом деле! — Поняв намек, обиженно восклицаю в ответ. — Чтобы я и врал!? Была нужда. Не верите? Вон и воткнутые их лопаты. Если хотите, можете подождать.
Главный диспетчер хмыкает, но отходит. По-моему, мы оба друг перед другом ломали комедию.
Своих мужиков ни разу не подвел. Не было случая, чтобы в такие критические дни из-за грузчиков возникли проблемы.
На другой день мужики являлись на работу и, узнав, что все сошло с рук, были благодарны мне. И брались за работу с утроенной энергией.
Вот такая была взаимопомощь.
Самым для меня тогда было поразительным то, как рабочие ухитрялись напиваться; сколько проявляли сноровки и изобретательности.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
