
Бесплатный фрагмент - Несправедливость
От Автора
Первое издание этой книги вышло в 2021 году, однако события, описанные в ней, относятся к 2017-му. Социальный контекст, бытовые детали и атмосфера повествования отражают реалии именно того периода.
Эта книга — вымысел. Жестокий, циничный и беспросветный. Я осуждаю все, что происходит на ее страницах.
Поступки героев — не повод для гордости, не руководство к действию и не романтизация боли. Особенно это касается описания противоправных действий. Наркоторговля, насилие, самосуд — все это преступления, не имеющие оправдания. В реальности они калечат жизни, разрушают семьи и ведут к неминуемому наказанию.
Если вы узнали в ком-то из героев себя — остановитесь. Оглянитесь. Попросите помощи. Потому что единственное, что страшнее описанного здесь кошмара — это принять его за норму.
Вымысел должен оставаться вымыслом. А жизнь — всегда дороже.
Перерождение
Глава 1. Подозрительный тип

Дверь. Холодная, белая, железная. На уровне глаз — табличка с вырезанной золотистой надписью: «ГЕРМАН». Буквы слегка потускнели по краям, будто их часто трогали.
Дима дотронулся до поверхности. Шершавая краска, мелкие пузырьки и неровности подушечками пальцев. Напоминает дверь в мою квартиру. Только там еще есть вмятины от чьих-то пинков и ржавчина под самой ручкой. А здесь — просто стерильный, выхолощенный холод.
Он постучал костяшками, приглушенный звук утонул в толще металла. Дернул за ручку — тяжелая дверь с глухим скрежетом подалась внутрь, открываясь неохотно, будто не желая впускать.
Дима сморщился и зажмурился. Кабинет ударил по глазам слепящей, почти хирургической яркостью. Все было белым. Не просто белым, а нарочито, агрессивно белым. Гладкие стены без единой трещины, белые стеллажи, нагруженные аккуратными рядами одинаковых папок, глянцевый белый потолок, отполированный до блеска белый пол. В огромное панорамное окно, затянутое легким тюлем, будто в самом деле бил прожектор, выжигая тени. Нужно привыкнуть. Минут пять? Десять? Или просто сжечь себе сетчатку и уйти отсюда слепым калекой — тоже ведь вариант. Не самый худший.
Он и не понял, сколько прошло. Время в этой белой коробке текло иначе. Открыл глаза, слеза смазала картину, и сначала он увидел лишь размытые пятна. Потом проступили очертания: низкий стеклянный стол, начищенный до зеркального блеска, и два кресла — кроваво-красные, как свежая рана на стерильной повязке. На одном из них сидел какой-то старик. Его длинные, неестественно светлые волосы были видны еще с порога. Нарцисс. Седина со временем ушла в оттенки пепла. Долго подбирал краску, стоя перед зеркалом?
— Здравствуйте… — Дима сделал пару неуверенных шагов вперед, ботинки отдавались глухим стуком по идеальному полу. — Извините… Герман, верно?
— Да, все верно, — улыбнулся мужчина. Улыбка была отработанной, ровной, как линия горизонта. — Подходите, присаживайтесь.
Дима закрыл за собой дверь. С потолка, с легким шелестом, посыпалась мелкая штукатурка, оседая на его плечах белой пылью. Кабинет, что ли, старый? Или это само здание так реагирует на мое присутствие, содрогаясь до самого фундамента?
Вокруг действительно царила белизна, и только эти два адово-красных кресла резали глаз, будто кадр из черно-белого фильма, где кто-то выплеснул ведро краски. Белый столик посередине, холодный и бездушный, отражал в себе искаженные силуэты комнаты, хотя отражать-то, по сути, было нечего — лишь пустота и свет.
Кресло оказалось на удивление мягким. Чересчур мягким. Будто провалился в пустоту. Или в чье-то неестественное, натянутое гостеприимство. Сейчас проглотит с головой.
Напротив, в позе, отточенной годами практики, сидел Герман: закинул ногу на ногу, руки сложил в один большой кулак и уперся ими в твердый, выступающий подбородок. Наблюдал. Настоящий психолог. Картинка из дешевого учебника. Сейчас достанет блокнот и начнет выводить каракули, делая вид, что записывает мою бредятину. Наконец Дима мог его рассмотреть, как следует: волосы были не просто светлыми, а явно крашеными — тот самый модный пепельный блонд, который смотрится нелепо на мужчине его лет. Зачем старику с проступающей сединой перекрашиваться в пепельный? Пытается сбросить лет двадцать? Странный тип. Нос с легкой, но упрямой горбинкой, не уродовал лицо, но так и чесались руки вправить этот мелкий дефект. Борода — жидкая, росшая только около рта, — делала его вылитым Уолтером Уайтом. Глаза серые, словно куски промерзшего за зиму льда. А все лицо — старое, испещренное морщинами, каждая из которых казалась заслуженной.
— Что ж, молодой человек, меня вы знаете, а я вас — нет. Представитесь? — улыбка не сходила с его лица, застывшая маска.
— Я Дмитрий. Дмитрий Александрович.
— Хорошо, Дмитрий, — Герман перевел взгляд на стеклянную столешницу, будто читая что-то в ее отражении. — Забавно, я тоже Александрович…
Дима ухмыльнулся. Не много Александровичей я повстречал за свою недолгую жизнь. Хотя имя Александр — как грязь на подошвах после осеннего дождя. Саньки, Сашки, Шурики. Классно. Просто зашибись.
— Дмитрий, с какой целью вы ко мне пришли?
Задает вопросы. Ну конечно, психолог. Разминка перед боем. Сейчас достанет блокнот, потом очки на нос напялит, сделает умное лицо.
— Я просто хочу кому-нибудь рассказать свою историю. Мне надоело молчать. Хочу, чтобы хоть кто-то узнал обо мне. Я всегда грустил, и мне было скучно жить, но именно сейчас я понял, каково это — «жить по-настоящему», — наконец выдохнул Дима, сам удивляясь пафосу собственных слов. — Понимаете?
Герман внимательно слушал. Не шевелился. Даже не моргал. Глаза пересохнут же, старик. Моргай. Или ты робот?
— И как вам это удалось, Дмитрий?
— Все благодаря моему другу. Только благодаря ему.
— Расскажите о нем. Как он помог вам?
— Это очень долгий рассказ, — сделал паузу парень, впиваясь взглядом в морщины на лице психолога, пытаясь найти в них хоть каплю искренности. — Вы точно готовы его полностью услышать?
— Конечно, вы можете написать книгу, как Ник Кэррэуэй в «Великом Гэтсби», — Герман ухмыльнулся, и в уголках его глаз собрались лучики новых морщин, — но вы же понимаете, что это займет куда больше времени? Так что, можете прямо сейчас рассказать. Времени у нас достаточно, мы с вами никуда не торопимся. Но, в любом случае, решать только вам.
А заслуживает ли этот старик моего рассказа? Это не просто история, это моя жизнь, вывернутая наизнанку. Ему подобные исповеди уже представляли десятки раз, а то и сотни… Он слушал чужие крики души, а потом шел пить чай с печеньем. А может, просто послать его на хер и свалить? Сказать, что передумал.
— Знаю, вы можете стесняться, можете не доверять мне, я вас полностью понимаю, — медленно, будто в такт негромко тикающим где-то часам, кивал головой Герман. — Не беспокойтесь, любой психолог — это сейф. Он держит всю жизнь своего пациента у себя в голове и никому ничего не рассказывает. Представьте, будто вы разговариваете с самим собой. Тем более, разве не за этим вы пришли ко мне? Вы еще у порога двери были согласны рассказать мне о себе.
Мысли читает. Вот зараза. Или он просто настолько предсказуем? Или ему на самом деле нужна моя история, как коллекционеру — очередной редкий экземпляр?
— Хорошо, — сдался Дима, откидываясь на спинку кресла и чувствуя, как мягкий материал обволакивает его. — Как я уже и говорил… Это очень долгий рассказ.
Герман кивнул. Будто сказал «все правильно, продолжай, я весь внимание».
— Все началось еще в начале одиннадцатого класса. С моего нового знакомства…
***
1 сентября
Воздух в классе был густым и спертым, пах старыми книгами, пылью и дешевым дезинфектантом, которым пытались замаскировать запах безнадеги. Это был одиннадцатый класс. Последний аккорд. Еще год — и все, можно валить, бежать, оставляя позади это желтое кирпичное здание с вечно плачущими от конденсата окнами. Год за годом — ничего здесь по-настоящему не менялось. Только старели преподаватели, взрослели и уходили учащиеся, менялись директора, словно фигуры на шахматной доске. А вот само здание… Здание все помнило. Оно впитывало в свои стены крики на переменах, шепот списывающих на контрольных, гул скучающих голосов. Оно помнило все моменты своего прошлого, начиная с самого первого кирпича. Школу начали проектировать еще при Союзе, в эпоху космических надежд и бетонных панелек, но когда великий и могучий Союз превратился в непредсказуемую Россию — строительство заморозили на самом начальном этапе. Денег не было, или были другие, более важные проблемы. Спустя несколько лет, уже при новой, непонятной власти, школу все-таки достроили. Спешно, кое-как, не учтя, что через годы здание будет хлипким, как карточный домик. Один раз ударишь с приложением силы по стене в туалете — и вот уже торчит кусок штукатурки, а за ним — уродливая дыра. А если дело доходило до настоящей драки, то эти картонные стены пробивались так легко, будто их и не существовало вовсе. Больно, конечно, было — и костяшкам, и спине, прижатой к этой бутафории. Повсюду, если приглядеться, виднелись следы ремонта — стены с заделанными дырами, отличающиеся по цвету от основной поверхности. Пятна. Можно было сразу прочитать историю: вот здесь не поделили сигарету, а тут — девчонку. А пройдя чуть дальше по коридору, можно было наткнуться на одинокое, огромное, как кратер, пятно — это кто-то влетел с ноги прямо в стену, пытаясь доказать что-то миру или самому себе.
Дима перешел в эту школу еще в десятом классе. Сдал экзамены в другой, более благополучной, и захотел чего-то нового. Резкой смены декораций. Он никогда особо не разговаривал с кем-то из одноклассников. Не потому что не мог — просто не видел смысла. Никаких общих интересов. Никаких совместных, пьяных вечеров или походов в кино. Одни вечные, тупые вопросы к нему по типу: «почему ты такой странный?». А он не был странным, он просто видел всех этих людей насквозь, видел их мелкие страхи, пошлые мечты и оголенную глупость, и не хотел опускаться до их уровня. Они все — глупы, и своей стадной, агрессивной странностью не понимают меня. Когда он перешел в эту школу, он сразу «познакомился» с некоторыми ублюдками из своего нового коллектива. Так хорошо познакомился, что на следующий день после первой же учебы получил сотрясение мозга в туалете на третьем этаже. Родителям, глядя в их уставшие лица, сказал, что поскользнулся на лестнице и ударился виском об угол ступеньки. Повели в больницу, а врачи-то умные, видавшие виды — сразу отличили кулак от тупого угла. Родителям, к их счастью или к несчастью, об этом не сообщили. Унижали его подобным образом около полугода, потом, видимо, новизна ощущений иссякла, и они отстали. Но Дима так и остался тихоней. Серой, незаметной мышкой. Никогда никого не бил и не унижал в ответ. Только в мыслях. В своих фантазиях он творил с ними такое, что Ганнибал Лектер бы прослезился.
И вот, он сидит в этом классе, за партой, испещренной поколениями учеников. Древняя, темная древесина, покрытая слоями лака и автографов. Дряхлые стены, с которых облупилась краска, и качающаяся, как зуб после удара, доска, на которой мелом выведено коряво: «С первым сентября!». Дима даже не слушал писклявый голос классной руководительницы, Ольги Ивановны, он просто смотрел на свою новую сумку, стоящую у ног. Красивая ведь, черная, матовая кожа, пахнет новизной и дороговизной. Идеально влезает ноутбук и пара учебников, ничего лишнего. Влюбился в нее с первого взгляда в магазине, как в самую лучшую, недосягаемую девушку, которая не будет капризничать по пустякам, не станет выедать мозги упреками и не заставит скучать. Она просто будет молча делать свое дело — носить в себе знания. Цена, правда, за такое сокровище была кусачей — почти десять тысяч. Целую тысячу с чем-то он наскреб из своих запасов, остальное пришлось выпросить у родителей на день рождения. Любви ведь не прикажешь. В итоге, она стала его главным подарком на восемнадцатилетие. И он радовался. Искренне, по-детски. Прекрасная, верная сумка.
— А теперь, ребята, важная информация! — писклявый голос Ольги Ивановны, похожий на скрип несмазанной двери, повысил свой тон, стараясь перекрыть общий гул.
Дима оторвался от созерцания сумки и поднял глаза.
И что ты хочешь нам рассказать? Что опять будет общешкольная линейка с дурацкими танцами? Или что учиться будем до ночи, потому что так надо для галочки?
— В этом году учебный процесс будет начинаться не как раньше! Теперь вы будете начинать учиться в полдевятого. Запишите себе где-нибудь, чтобы не забыть!
Отлично, просто замечательно. Теперь еще и времени на сон меньше. Целых тридцать минут украли. Кто это придумал? Директор?! Ну конечно директор, кто же еще? Да этот придурок уже умереть должен был после того как рак легких получил. Излечился, сука? Ремиссия у тебя? Ввел какие-то тупые, никому не нужные правила в учебном заведении, а сам, наверное, в это время в своем кабинете какую-то молоденькую училку лапаешь? Весь персонал школы ведь помнит, для чего ты водил к себе учениц год назад! Откупился своими деньгами, мразь. И ведь ничего тебе за это не было. Дело даже не завели.
Всего за один год Дима смог узнать о своей новой школе все. Все ее грязные секреты. Коррупция здесь была такой же обыденной, как и везде. Никогда ничего нигде по-настоящему не менялось. Только власть переходила из одних рук в другие. И то — никогда не уходила совсем.
В кабинет, не постучав, зашел какой-то парень. Вид у него был не то чтобы не выспавшийся, а скорее отрешенный, будто он только что вернулся из долгого путешествия по параллельным мирам. Темные круги под глазами, веки наполовину прикрыты. А по одежде — вылитый скинхед, этакий молодой бонхэд: тяжелые, начищенные до блеска военные берцы, рваные по коленям черные джинсы, темно-серая, почти черная рубашка в крупную клетку. Для полного комплекта только бритвой по голове пройтись, да пару нецензурных татуировок на шее набить.
В их школе, впрочем, можно было ходить в чем угодно. Хоть в домашнем халате и тапочках приходи — тебе ничего не скажут. Всем плевать. Абсолютно. Плевать — главный, негласный принцип этого места. Сам Дима сидел в своем классическом костюме: узкие черные брюки, свежевыглаженная белая рубашка и строгий черный пиджак. Неудобно, конечно, но зато красиво. Выглядел солидно.
Парня этого никто не заметил: ни Ольга Ивановна, продолжавшая бубнить что-то про расписание, ни сидящие ученики, погруженные в свои телефоны или в разговоры с соседями. Настолько всем плевать. По-видимому, это был новый учащийся их уже сформировавшегося коллектива.
Он, ничего не сказав, не извинившись за опоздание, прошел вдоль ряда и плюхнулся на свободную парту где-то сзади. Дима не обратил на него особого внимания, снова углубившись в изучение своей парты. Годы шли, а синие и черные каракули от шариковых ручек и перманентных маркеров на столах никогда не стирались, и никто не брал на себя труд их отмыть. Кто-то когда-то, от скуки, взял циркуль и со всей подростковой яростью вжал его иглу прямо в безобидное дерево, оставив потомкам бестолковые послания: «химичка — тупая сука», «школа — говно», «когда домой?», «а на хуй так жить?». И, конечно же, вечные, как сама жизнь, рисунки мужских и женских половых органов. Без этого, видимо, никак. Базовые инстинкты.
— А теперь запишите себе расписание! — воскликнула Ольга Ивановна, и в ее голосе прозвучали нотки почти что торжества.
Ну, еще и расписание, конечно же. Сейчас она зачитает его, как манифест, а оно окажется таким же идиотским, сдобренным никому не нужными уроками, как и все прошлые. Сплошная профанация.
— Итак, понедельник: русский язык, астрономия, химия… успеваете? — она окинула класс влажным взглядом.
Класс молча, как стадо покорных овец, кивнул в унисон.
— Хорошо. Значит: русский язык, астрономия, химия. Дальше: биология, алгебра и опять русский язык. Шесть уроков. Так, теперь вторник…
Дима перестал записывать где-то на «астрономии». Он с наслаждением закинул дорогую ручку обратно в свою прекрасную сумку и откинулся на спинку стула. Впереди — целый год. Всего лишь год.
***
Наконец, это закончилось. Вся та бессмысленная трескотня о планах на учебный год, важности ЕГЭ и школьной дисциплине растворилась в гуле расходящихся по домам учеников. Дима, как и все, совершил ежегодный «ритуал жертвоприношения» — протянул Ольге Ивановне упаковку гладиолусов, купленных накануне. Он всегда дарил цветы, ни разу не пропускал. Не из-за уважения, конечно. Так, традиция. Хоть эта учительница и была старой тварью, но нельзя же было просто пройти мимо. Или это родители так въелись в мозг — «нужно дарить цветы в любом случае, это знак внимания»?
Ольга Ивановна — преподаватель химии. Уже учит, а точнее — мучает детей, лет тридцать, не меньше. Старая, расплывшаяся, седая. Ходила еле-еле, переваливаясь с ноги на ногу, иногда опираясь на палочку с шариком на конце. Почти слепа, в огромных, круглых, как два иллюминатора, очках, и даже они не помогали ей разглядеть хоть что-то, кроме собственного недовольства. Но больше ее ненавидели не за слепоту, а за ужасный, скрипучий характер и, конечно, голос — писклявый и пронзительный, как звук трения пенопласта об стекло. Она никогда не давала исправить оценки: получил «два» — живи с этим клеймом до конца четверти. «Химичка — тупая сука». Эта надпись на его парте казалась самой справедливой во всей школе.
Он вышел из кабинета в знакомый, вечно сумрачный коридор. Желтоватое, болезненное свечение от старых люминесцентных ламп падало на обшарпанные стены. Еще год потерпеть. Всего лишь год. Это же так мало, правда? Кабинет химии находился на втором этаже, в самой глуши, в крыле, куда даже уборщицы заглядывали с неохотой. Пока идешь по этому бесконечному коридору до лестницы, успеваешь передумать всю свою жизнь и захотеть с разбегу вышибить ногой одно из грязных окон. Наконец он дошел до лестницы. Деревянные ступени, когда-то крашенные коричневой краской, теперь были истерты до древесины и отчаянно скрипели под ногами, словно предупреждая, что в любой момент все это сооружение может сложиться, как карточный домик. А вот и место, где буквально полгода назад разломали одну дощечку. Тогда было столько шума! Какой-то мелкий паренек из седьмого класса, балдуя, прыгнул на хлюпкую, прогнившую доску и поплатился — нога ушла по колено в образовавшуюся дыру, а вытащить ее самостоятельно не смог. Пришлось вызывать МЧС, или кто там этими делами занимается? Приехали, полчаса возились, достали.
Единичный случай, конечно. Но в школьной летописи хватало и повеселее. Когда-то, прямо во время занятий, один идиот кинул петарду прямо посередине этого же коридора. С ним «поговорили» и отпустили. Зря. Через неделю он принес целый фейерверк. Так же, под видом похода в туалет, вышел из класса, уперся в стену и поджег фитиль. Грохот стоял на всю школу, будто бомба упала. Если петарду в гулкой толчее можно было и не услышать, то это не услышать было невозможно. Вызвали родителей. Отчислили. Говорили, у парня какое-то расстройство было. Шизофрения, или что-то в этом роде.
Диме всегда нравилось наблюдать за такими случаями. Может, мне просто смертельно скучно, но подобный треш веселил и давал заряд какого-то животного, искреннего счастья на весь оставшийся день.
Вот и первый этаж. Его украшала только одна вещь — огромная, многоярусная люстра, висящая посреди холла. Такого же, советского времени. Она, рассказывали, падала как-то, пока Дима лежал в больнице с тем самым сотрясением. Удивительно, но она уцелела, ни одна подвеска не разбилась. Невероятно красивая, массивная, золотистая. Она блестела в тусклом свете, как множество настоящих бриллиантов. Умели же в СССР делать красивые и невероятно прочные вещи. Не то, что сейчас.
Кто-то тронул его за плечо — легкое, но уверенное давление. Дима обернулся. Новенький, тот самый, в берцах и клетчатой рубахе. Стоял чуть выше, на пару сантиметров. И что ему, черт возьми, надо?
— Да? — усталым, намеренно безразличным голосом спросил Дима.
— Эм, слушай. Тут все какие-то агрессивные, не хотят разговаривать. А ты вроде не выглядишь, как они. Меня Вовой звать, можешь Владимиром, или Володей, как тебе угодно.
Голос у него был низким, с легкой хрипотцой, что странно контрастировало с моложавым, еще не испорченным лицом. Может, и вправду скинхед? Или просто голос ломается?
— И? — Дима поднял бровь.
— Я бы хотел просто спросить, что здесь из себя все представляет? — парень смотрел прямо в глаза, не отворачиваясь, будто пытался прочитать ответ на внутренней стороне черепа.
Дима ухмыльнулся. Домой бы, бля, поскорее. Почему он подошел именно ко мне? Вон там, классный руководитель плетется, к ней иди, задавай свои дурацкие вопросы. Почему ко мне?!
— Все просто, — сказал Дима, делая вид, что это его ни капли не волнует. — В этом учебном заведении учатся одни придурки. Если хочешь прожить здесь год, то советую просто не лезть в плохие компании. Хотя, по твоему внешнему виду сразу можно понять, что ты сам можешь эту компанию разогнать при желании.
Вова посмеялся, коротко и искренне.
— Не, мне просто нравится так ходить, это удобно.
— То есть, не скинхед?
— Не-а, — покачал головой парень. — Я такой же, как и все вы.
Ладно, теория со скинхедом опровергнута. Вещи удобные… Что ж, бывает.
— Учеба начинается в полдевятого. Смотри, не пропусти. А я пошел, — закончил Дима и молча двинулся к выходу, не дожидаясь ответа.
— Спасибо! — вслед ему крикнул Вова.
Ну неужели он отстал? Странный какой-то тип. Он мог подойти к кому угодно, но подошел именно ко мне. Почему я не выгляжу как они? Абсолютно все в этой школе — унылые придурки, которые улыбаться-то толком не умеют. Может, во мне есть что-то… другое? Или он это тактически рассчитал?
Он вышел из здания, и его обдало потоком свежего, прохладного воздуха. Зеленые деревья, еще не тронутые осенней желтизной. Нужно наслаждаться этим, пока не наступит осень, а там и зима. Зима вообще ужасное время года, один только пронизывающий холод. Особенно в Петербурге. Построили город на болотах, на Севере, и что теперь? Отопление включают только когда уже все синеют от холода. Деньги экономят? Знаем мы эту экономию. Все для людей. Он представил лицо отца, уставшее после смены. У отца — зарплата нулевая.
Дима жил в километре от школы, пешком спокойно можно было дойти. Хоть где-то мне повезло. Место жительства — рядом с метро. Станция «Звездная» находилась в пяти минутах ходьбы от его парадной. Вокруг проносились люди, которых он будто бы уже видел тысячу раз. В таких спальных районах Петербурга обычно только свои и жили. Каждый друг друга знал, если не в лицо, то в слух. Как одна большая, серая, недружелюбная деревня. Но была в этой деревне проблема, которая существовала во всех подобных «деревнях». Приезжие. Люди с настоящих, далеких деревень. Дима тихо ненавидел тех, кто приезжал с какой-то отдаленной точки вроде Ростовской области или Дагестана. Ну, если уж приехали учиться — учитесь и валите обратно после учебы. Зачем вы здесь остаетесь жить? Цивилизация? Не достойны вы этой цивилизации. Сидите у себя на родине, не лезьте сюда со своим укладом.
— Ой, привет!
Дима остановился, осмотрелся. Из-за угла парадной вышел Виктор Петрович, старый знакомый его отца. Хороший, в общем-то, мужик, восьмой десяток уже живет. Отрывался на всю катушку: пил каждый день, не скрывая этого, также выкуривал минимум пачку сигарет в день. Умереть хочет, да побыстрее. Нечего уже делать в этой жизни, все успел: и поработал на заводе, и поженился, и даже дети появились, которые теперь его избегают. Осталось только построить дом и вырастить дерево. Дом, ясное дело, не построил, а дерево, глядя на него, скоро само вырастит — на могиле.
— Здрасьте, дядь Вить. Как жизнь? — Дима сделал вежливое лицо.
— Да вот, блин, продал кольцо своей жены, оно ей точно уже не понадобится. Представляешь, всего шестнадцать тысяч стоит! А когда покупал за границей — отдал восемьдесят, — Виктор Петрович развел руками, и от него пахнуло перегаром и дешевым табаком. — Ну, на тот момент это очень солидные деньги были.
— А вы уверены, что вас не обманули? — из вежливости поинтересовался Дима.
— Мне аргументы привели, что золото уже не то, да и каким-то прибором проверили бриллиант, а он оказался ненастоящий. Короче, хреново все.
А золото ведь не портится. Обманули тебя, дядя. Развели как лоха. Золото хоть и не портится, зато однозначно портит людей. И всегда находились те, кто пользуется этим.
— Ну, а у тебя как дела? Как отец?
— Да у меня все нормально, вот учиться опять начал. А отец, как всегда, работает, попивает, — Дима начал медленно разворачиваться, давая понять, что разговор пора закруглять.
— Ты там передавай привет обязательно. И удачи тебе, — старик достал из кармана помятую пачку сигарет «Беломорканал» с зажигалкой.
— Передам, дядь Вить. И вам удачи.
Дима продолжил двигаться к своему дому, чувствуя на себе взгляд старика.
Район не менялся. Вот одинокое дерево, облокотившись на которое, стояло разбитое стекло — пустое, без рамки, с дырой посередине, будто в него кинули камень. Осколки лежали на утоптанной, холодной земле, и на одном маленьком, как осколок надежды, была бурая, подсохшая жидкость: кровь. Сразу понятно. Недавно разбили. Дима жил в неблагополучном районе, и это было видно невооруженным глазом: шприцы, как в лихие девяностые, могли валяться прямо во дворе дома, на детской площадке. Иногда использованные шприцы воткнуты прямо в кору деревьев, травили и их. Дерево-то выдержит, а люди — сдохнут. Пустые, стеклянные бутылки от дешевого пива стояли в ряд на скамейках, будто на параде — когда-то пустые, когда-то полные и недопитые впопыхах. Было бы весело покидать эти бутылки в стену и посмотреть, как красиво разлетаются мелкие, острые стеклышки, переливаясь на солнце. Молодость, а я не пользуюсь своим возрастом. Другие в это время гуляют, пьют, трахаются… прекрасные года, чтобы «увидеть жизнь». А что, если поймает полиция? Да никого не ловят. А вот за мной, конечно, приедут специально и скажут: «пройдемте, молодой человек», и на пятнадцать суток в обезьянник. Не жизнь, а сказка.
Он дошел до своего дома. Панельная девятиэтажка, некогда серая, теперь грязно-серая. Доставать ключи даже не требовалось — массивная железная дверь в парадную давно сломана, и ее нужно было просто с силой дернуть на себя. Дима так и сделал.
Дверь с громким, утробным скрежетом открылась, выпуская наружу знакомый запах сырости, старых газет и чего-то кислого.
Квартиры в их доме были, в основном, двухкомнатные. Трехкомнатных не было, планировка не позволяла. Обычно тут ютились семьи, которые когда-то хотели жить поближе к метро, а также алкаши с наркоманами, которым когда-то правительство бесплатно подарило это жилье, и теперь они медленно убивали его и себя. Если кто-то курил в квартире, едкий запах табака просачивался через щели в проводке и вентиляцию. Ужасный, въедливый запах, под который невозможно было уснуть. Крики по ночам в других квартирах и глухие стуки по стенам были настолько частым явлением, что все уже давно свыклись с этим, как с шумом трамвая за окном. Как-то раз Диме удалось услышать особенно жуткую ссору в соседней квартире: женщина орала убийственно, будто ее резали ножом. Как потом выяснилось, так оно и было — они с мужем употребляли наркотики и дошли до стадии белой горячки и передозировки. Муж умер от остановки сердца, а эта женщина, вся в крови, орала одну и ту же фразу всю ночь, пока не приехала полиция и скорая.
Дима начал подниматься по лестнице. На лестничной площадке между вторым и третьим этажом устойчиво пахло мочой. Ничего нового. Все как всегда. Ноги уже начинали ныть, а ведь подниматься всего-то на третий этаж. Есть хотелось зверски, организм требовал энергии, потраченной на бессмысленное сидение за партой. На подоконниках, заляпанных мухами, стояли самодельные пепельницы, скрученные из алюминиевых банок из-под энергетиков, а рядом с дверью мусоропровода — чья-то недавняя, еще не просохшая рвота. Пусть кошки доедают, им все равно.
Дошел до своей квартиры, нащупал в кармане холодные ключи и вставил их в замок. Дима всегда закрывал дверь на все три замка и проворачивал их до упора, до характерного щелчка. Привычка, с детства внушенная матерью. Даже когда он находился дома один — так же щелкал всеми засовами. Этот раз не стал исключением.
Скинул вещи прямо в прихожей, на старую вешалку, которая грозилась развалиться. Все равно завтра на учебу идти. Тащить все в комнату — лишние телодвижения. Нужно было поесть. Он пошел на кухню, заглянул в холодильник. Три бутылки отцовского пива, полкоробки какого-то торта, открытая бутылка дешевого вина, кастрюля с остывшими макаронами и пластиковый контейнер с котлетами. Ничего не приготовлено. Устали, наверное, после работы. Может, сегодня вечером что-то соорудят? Мать у него была настоящим шеф-поваром в прошлой жизни. На один из его дней рождения она приготовила огромный, многоярусный торт, причем сама, от коржей до крема, без малейшей помощи. Училась на кондитера, не зря несколько лет своей молодости потратила, матушка. Он выложил макароны на тарелку, сверху водрузил две холодные котлеты и сунул в микроволновку. Прекрасная, сытная еда. Пища богов. Пока тарелка крутилась за стеклом, он пошел в свою комнату переодеться. По пути захватил из прихожей свою драгоценную сумку.
Вот и его комната. Маленькая, но очень уютная, его крепость. Дима с любовью посмотрел на заставленную книгами полку и почувствовал знакомый прилив гордости. Это была его библиотека. Он помнил каждую прочитанную книгу, обложку, сюжет, героев. Пятьдесят семь штук и одна, восьмой том Пруста, в процессе. Настоящий повод для гордости. Никто в его семье — ни отец, ни мать, ни дальние родственники — не прочитали и десятой части за всю свою жизнь, а он осилил за три с лишним года. Любимые жанры, конечно, были детективы, где всегда находился виноватый, и книги по психологии. Диме просто нравилось изучать человека, а именно его голову — этот сложный, запутанный механизм. Я знаю всех своих окружающих лучше, чем они себя, даже не общаясь с человеком, могу увидеть его сущность, просто по внешнему виду, по походке, по тому, как он держит вилку. Психология и психотерапия — мое призвание. Ирония в том, что самому себе я помочь не могу.
Он положил сумку на письменный стол, заваленный бумагами и ручками, быстро переоделся в растянутые спортивные штаны и старую футболку, а свой парадный костюм аккуратно, почти с нежностью, сложил и убрал в шкаф. Завтра я в нем точно не пойду. Раз уж можно приходить в свободной форме — надену что-нибудь попроще. Зачем создавать себе трудности и одеваться по три часа утром, как на показ мод? Можно ведь надеть легкую, удобную одежду и наконец-то расслабиться.
Где-то вдали послышался настойчивый писк микроволновки. Готово.
Он вернулся на кухню, распахнул дверцу. От тарелки повалил пар. Горячее. Как мама в детстве говорила? «Есть нужно горячим, Дим, холодное невкусное и живот потом заболит». Интересно, что большинство продуктов и вправду отвратительны в холодном виде. Только и трать на них энергию на переваривание. А мясо-то… Мясо еще пещерные люди ели сырым, а потом как додумались поднести его к огню — так и глаза себе открыли: вкусно им стало. Не так, конечно, сочно, но это было куда лучше — глисты-то теперь не жрали изнутри твою еду и самого тебя. А сейчас, с появлением термообработки и умением прожаривать стейки до нужной степени — вкус стал куда лучше, и никаких паразитических червей ты себе в кишечник, как правило, не пускаешь.
Справился с едой минут за десять, почти не прожевывая. Хоть мама и не успела приготовить что-то экстраординарное, но и это было превосходно. Пусть мама приготовит даже дерьмо, но оно будет вкусным дерьмом. У нее такой талант.
На часах было без десяти четыре. Спать рубило так, что веки наливались свинцом. Даже на самом скучном уроке так не хотелось в сон, как сейчас. Он был готов рухнуть прямо посреди кухни, на линолеум, и провалиться в глубокий, беспробудный сон. Видимо, это еда так подействовала. Углеводы. Иногда, приходя после учебы, он съедал малую порцию супа и так же готов был заснуть на ходу, едва добравшись до комнаты.
Вот она, его комнатка. Который раз я с тобой уже вижусь за сегодня? Неужели я сейчас смогу наконец отдохнуть от всего этого дерьма, что происходило сегодня? Его взгляд упал на кровать. Вот и ты, манишь меня, чертовка. Мягкая, удобная, легкая, хоть и скрипишь на каждый мой поворот, но люблю я тебя, сука. Сколько мы с тобой знакомы? Лет пять? А ты ни разу не подвела меня, всегда была готова принять. Спасибо.
Дима закрыл дверь в комнату, отсекая себя от всего мира. Положил телефон рядом с подушкой, лег в кровать, уткнувшись лицом в прохладную наволочку, и попытался уснуть.
Он снова выходит из дома. Опять учеба. Он механически проверяет сумку — все на месте: учебники, тетради, ключи, телефон. Тот же путь, отшаганный тысячу раз: километр от дома до школы. Как и всегда, еще один год потерпеть в этом зоопарке. Все то же: те же деревья, те же облупленные дома, те же вечно спешащие куда-то лица, те же разбитые стекла на асфальте — все идентично, все застыло в этом городе. Но сзади, краем глаза, он заметил незнакомого мужчину, одетого во все черное: длинная черная накидка, похожая на пальто или плащ, скрывала его фигуру. Черная шляпа с широкими полями закрывала половину лица, черные перчатки на руках. Красиво выглядит. Я всегда любил все черное. Стильно. Неизвестный начал ускорять шаг и легонько коснулся его плеча.
— Да? — Дима смутился, остановившись.
Мужчина молчал. Его лица не было видно в тени полей шляпы, будто его и не существовало вовсе. Настолько все в нем было черным и безликим.
— Извините, — Дима резко развернулся и зашагал быстрее, чувствуя, как по спине пробежали мурашки.
Оставалась половина дороги до школы. Вокруг ни души. Естественно, кто еще будет гулять в восемь утра, кроме таких несчастных, как я? Дима украдкой обернулся. Заметил, что незнакомый все так же неотступно шагает за ним, сохраняя дистанцию. Его охватила мелкая дрожь. Что же ему нужно-то? Деньги? Телефон? Или что-то другое? Он резко свернул в грязный переулок между гаражами и начал бежать, прижимаясь к стенам. Обернулся — никого. Вот и хорошо. Просто показалось. Хорошо.
Не успел он развернуться обратно, как чья-то сильная рука схватила его сзади за шею и с размаху бросила на землю. Дима попытался встать, оттолкнуться, но нападавший оказался сильнее, он прижал его лицом к асфальту со всей силы. Дима даже не мог вымолвить слова, только хриплый шепот вырывался из его пережатого горла. Незнакомый что-то достал из кармана. Блеснул металл. Нож. Длинный, с тонким лезвием, белый, будто только что вылитый из чистой, отполированной стали…
Резкий, вибрирующий звонок разорвал тишину.
Дима проснулся весь в липком, холодному поту, сердце колотилось где-то в горле. Он резко вскочил, смахнул со лба мокрые волосы и посмотрел на экран телефона — «Неизвестный номер». Он молча, дрожащими пальцами, выключил звук и просто смотрел, как экран горит и гаснет. Никогда не отвечаю на неизвестные. Никогда. Звонок с этого же номера начался снова — он сбросил, почти выронив аппарат. Сердце стучало так бешено и громко, будто хотело выпрыгнуть из груди и остаться там, на последнем издыхании.
Больше в этот день он не смог уснуть.
Глава 2. Преследователь

Семь утра. Именно на это адское время Дима поставил будильник, чтобы не проспать учебу. Резкий, дребезжащий звук ворвался в сон, вырывая из объятий забытья, где не было ни школы, ни вчерашнего кошмара.
И зачем, блядь, на тридцать минут раньше начинать учебный процесс? В чем смысл этого идиотского нововведения? Чтобы мы еще больше ненавидели свою жизнь? Он лежал, уставившись в потолок, представляя директора. У этого придурка свои, извращенные мысли, он ведь тот еще ублюдок, и не такое может выкинуть. Его могущество в этих стенах превосходит все разумное, каждый учащийся ему поклоняется и чуть ли не отсасывает, лишь бы не получить выговор. А может, и преподаватели тоже отсасывают? Кто знает, вдруг его тянет на старых и немощных? Тогда зачем он ту молоденькую, шестнадцатилетнюю девочку завел к себе в кабинет в прошлом году и лишил ее невинности? Может, у него после этого момента наконец встали правильно мозги, и он одумался, что нужно вести свои половые отношения только с совершеннолетними? Хотя… вряд ли. Знает только он сам, старый извращенец.
В квартире стояла гробовая тишина, нарушаемая лишь гулом холодильника. Только один Дима находился в ней. Родители всегда уходили на работу еще в шесть, поэтому он мог бы давно забросить учебу, выключить будильник и продолжать спать до обеда. Но он не мог так поступить. Учеба для меня — это какой-никакой, но важный процесс. Маршрут. Ритуал. Хоть что-то, что связывает меня с этим миром, не дает окончательно оторваться и уплыть в небытие.
С трудом, будто поднимая гирю, он встал с кровати и с тем же усилием, кое-как, заправил постель, чтобы мама вечером не ворчала. С кухни потянуло горьковатым, знакомым запахом гари. Дима, как зомби, побрел на источник вони: на столе на тарелке лежали два подгоревших бутерброда. Кто-то — вероятно, отец перед уходом — чуть больше часа назад засунул хлеб в тостер и забыл о нем, пока тот не покрылся черной, угольной коркой. На этой корке, как на погребальном костре, красовались бледные кружочки вареной колбасы и сморщенный ломтик помидора.
— Охуеть, спасибо! — вслух, с искренним сарказмом, высказался Дима.
Он аккуратно, вилкой, сковырнул подгоревший хлеб и отправил его в мусорное ведро, а потом съел оставшуюся колбасу с помидором, стоя у раковины и запивая все остывшим чаем из кружки, оставшейся с вечера.
— Так-то лучше, — пробормотал он, чувствуя, как безвкусная еда на время заглушает пустоту в желудке.
Зашел в ванную, плеснул себе в лицо пригоршней ледяной воды. Дескать, умылся. Чистота — залог здоровья, а здоровье — залог… долгой и несчастливой жизни.
Придя в комнату, он вспомнил, что так и не записал вчерашнее расписание. Да и хер с ним. В сумку он положил только одну общую тетрадь и ручку. Большего, по его мнению, не требовалось. Надел ту же самую спортивную одежду — серые штаны и темную футболку. Пока на улице еще тепло, нужно пользоваться случаем. Сколько этих теплых дней осталось? На часах было уже без пятнадцати восемь. Нужно было выходить.
Вроде все собрал. Осталось только переступить порог и пойти. И он пошел, захлопнув за собой дверь и щелкнув всеми замками.
Вышел на улицу — и сразу, полной грудью, вдохнул прохладный, свежий воздух. Пахло мокрым асфальтом после ночного дождя, деревьями, их листьями, которые уже вот-вот должны были пожелтеть и опасть. Такова жизнь растений — буйствовать несколько месяцев, а потом впадать в спячку, как медведи. Только медведи просыпаются отдохнувшими, а деревья — все теми же.
Дима шел все по тому же пути, никуда не сворачивая, автоматически переставляя ноги. Но сегодня все было иначе. Из-за любого шороха позади — упавшей ветки, пролетевшей машины — у него сводило мышцы шеи, и он с трудом, преодолевая внутренний страх, поворачивал голову назад. Паранойя. Но она так реальна. Пока люди шли ему навстречу, он, в свою очередь, инстинктивно резко отходил в сторону и провожал каждого пристальным, подозрительным взглядом, выслеживая в их чертах того самого неизвестного из своего сна, который чуть ли не перерезал ему горло.
Где же ты? Прячешься, затаился где-нибудь в кустах, за углом гаража? Ждешь меня, а я буду бежать от тебя, бежать и не оглядываться, как в тех дурацких фильмах. Выбегу на дорогу, брошусь под колеса машинам. Почему я во сне этого не сделал? Почему просто побежал в тупик? Идиот. Ну так, где ты? Я тебя жду! Появись, попробуй меня поймать. Я готов. На этот раз я готов.
Спустя минут двадцать, наполненных нервным напряжением, он наконец дошел до школы — до самого ненавистного для него здания, которое в утренних лучах солнца выглядело почти безобидным.
И тут он услышал за спиной громкие, быстрые шаги. Не один человек, а будто несколько, шагающих в унисон, в одном темпе. Адреналин ударил в голову. Он моментально, резко развернулся, готовый к бою или к бегству.
— Привет, Дим, — сказал улыбчивый Вова, останавливаясь перед ним и слегка запыхавшись.
Ну что же тебе от меня нужно-то? И откуда ты мое имя знаешь?
— Что? — холодно, отрезая, спросил Дима, стараясь скрыть дрожь в голосе.
— Я вот тебе вчера звонил вечерком, знаешь, пообщаться, поразговаривать. Ну, как люди, а ты вот не ответил. Обидненько просто. Ладно, хрен с ним. Как дела-то, сокамерник?
Кроме имени он еще знает и номер телефона. Каким чертом он вообще влезает в мое личное пространство? Да и кто ему, сука, сказал номер и имя?! Классная?
— Откуда ты имя с номером знаешь? — спросил Дима, и в голове пронеслось: Осталось добавить только «мразь», а может «ублюдок», или «тварь». Хотя нет, надо с большой буквы — «Тварь». Пусть хоть какое-то уважение будет.
— А, так я это… — Вова рассмеялся, и его глаза сощурились. — У классухи нашей спросил. Такая стремная тетка, как ты с ней учишься уже год? Ладно, это неважно. В общем, я спросил у нее твой номерок, ну и имя соответственно. Не бойся, по твоему лицу я вижу, что я тот еще засранец, так что могу тебя порадовать: адрес твой не спрашивал.
Нашел чем успокоить. Радуйся, что адрес не выудил, придурок.
— Ладно, пошли на учебу, — сказал Дима со сдержанной злостью и развернулся, направляясь ко входу.
Оставалось несколько минут до начала первого урока. Дима, к своему стыду, даже не знал, в какой кабинет идти. Вова шел позади, улыбчивый и довольный, будто наблюдал за забавным спектаклем. Может, он в курсе?
— Че у нас первым, ты не в курсе, случайно ли? — Дима чуть повернул голову назад, чтобы услышать ответ, не замедляя шаг.
— Утром смотрел, в расписании был русский, — бодро отрапортовал Вова.
Кабинет 117, на первом этаже. Это помещение никогда не предназначалось для русского языка и литературы. Раньше здесь обитал учитель математики, сумасшедший старик, который пах мелом и коньяком, а потом он куда-то переместился, на второй этаж. Но кабинет до сих пор был пропитан духом бессмысленных чисел, теорем и логарифмов, а сейчас его пытались пропитать словами, правилами и синтаксисом — такими же бессмысленными в глобальном масштабе.
Везде, как призраки прошлого, висели портреты математиков и физиков — Эйлера, Лобачевского, Ньютона — их еще не успели снять; на зеленой, цвета тошноты, доске было выведено мелом: «С днем знаний!». Рядом по коридору проходили учащиеся, лениво заглядывая внутрь, будто мысленно сочувствуя тем, кому выпала участь провести здесь ближайшие сорок пять минут.
— Слушай, а может, я к тебе пересяду, а? — внезапно прервал тягостную тишину Вова. — Может, повеселее будет? Мы же отдельно сидим, так скучно все-же. Тебе ли не знать? Хоть какой-то фигней может позанимаемся. В этой школе скучно, — последнюю фразу он произнес шепотом, с наигранной конспирацией, будто не хотел, чтобы все услышали этот всем известный и очевидный факт.
Дима молча, почти незаметно, покачал головой в знак согласия. Они оба подошли к свободной парте у окна и сели за нее. Новый учебный год начинался не просто с нового расписания, а с нового, странного и навязчивого соседа.
***
— То есть, Владимир узнал ваш номер телефона у классного руководителя? — Герман произнес это с легким, почти незаметным удивлением, будто проверял, не ослышался ли.
— Именно так, — Дима коротко кивнул, чувствуя, как по телу пробегает знакомая судорога раздражения при воспоминании о той наглости.
Герман медленно поднялся с кресла. Его взгляд скользнул в сторону небольшой полки, где стоял невзрачный электрический чайник — единственный предмет, нарушавший стерильную белизну кабинета.
— Дмитрий, предлагаю сделать небольшую паузу. Перерыв на чай. Вы будете? — его голос прозвучал мягко, но в нем слышалась не просьба, а констатация факта.
— Буду, — Дима мотнул головой. — Но только без сахара.
— Сахар — дело такое, — Герман слегка склонил голову набок. — А чем он вам, если не секрет, так не угодил?
Чем, чем… Дима поджал губы, глядя куда-то в пространство за спиной психолога.
— Люблю горькость. Тащусь от этого, вот.
А ведь Вова бы то же самое сказал. Слово в слово. И еще бы ухмыльнулся во всю свою дурацкую рожу, насколько это физически возможно, пока скулы не свело бы.
— Горький, без проблем, — Герман развел руками, принимая правила игры.
Он поставил на стеклянный столик две абсолютно одинаковые белые керамические кружки, налил в них темного, почти черного чая. Одну подвинул к Диме, другую оставил перед собой. Такая же белая, как и все здесь. Интересно, есть ли в этой комнате хоть что-то цветное, хоть один проклятый темный предмет?
— Осторожней, горячий, — предупредил Герман, усаживаясь обратно в кресло и с наслаждением делая первый глоток своего пойла.
— Хорошо, — пробормотал Дима, не глядя на него.
От кружки поднимался красивый, густой пар. Запах был насыщенным, цветочно-травяным. Ароматный. Наверное, невтерпеж уже попробовать, ощутить этот вкус, согреться.
Он поднес свою порцию к лицу, почти уткнувшись носом в пар. Но ничего. Никакого запаха. Ничего, кроме легкого ощущения влажности у ноздрей. Пустота.
Неловкое, резкое движение руки — и часть темно-коричневой жидкости выплеснулась через край, пролившись ему прямо на колено, на ткань спортивных штанов.
Герман аж подскочил на месте, будто его самого ошпарили.
— Дмитрий, горячий же! — он тут же отставил свою кружку и засуетился, порывисто открывая ящик стола в поисках пачки бумажных салфеток.
Дима спокойно смотрел на мокрое, потемневшее пятно на своей одежде. Он провел ладонью по ткани. Не моргнул.
— Да вроде не такой уж и горячий, — равнодушно произнес он.
Он не ощущал ни тепла, ни тем более жжения. Для него этот обжигающий, по всем признакам, чай был будто ледяным. Пустышкой. Еще одним предметом в этом мире, лишенным для него всякой сути и ощущений.
***
Друг ли ты мне, Владимир? — мысль пробилась сквозь нарастающий гул в голове, ясная и острая, как осколок стекла. Появляешься ни с того ни с сего, врываешься в мою жизнь, как ураган в запертую комнату. Ты что-то хочешь поменять, сместить правила, которые я годами выстраивал, чтобы выжить. Не даешь даже шанса осмотреться, привыкнуть. И ведь все тебе сходит с рук. Все.
А теперь ты еще и идешь со мной после учебы. Навязываешься. Я человек терпеливый, а ты? Доведешь до ручки — заведу в темный угол, достану из-под полы нож и вырежу тебя, как тыкву. Этого добиваешься? Хочешь, устрою?
Решил познакомиться — так знакомься, получай. Если ты так этого хочешь.
Шли они все по тому же пути, вытоптанному за год дорогой от школы до дома и обратно. Асфальт под ногами был неровным, в трещинах, из которых пробивалась упрямая, серая трава. Мимо них с ревом проносились автомобили, выдыхая в и без того спертый воздух клубы выхлопных газов. Едкая вонь бензина и раскаленного металла просачивалась даже сквозь глухие стены панельных домов, въедаясь в одежду и волосы. У обочины, как обычно, стоял развальчик с арбузами. Пыльные, полосатые шары лежали прямо на голой земле, на старом, промасленном брезенте. Хрен его знает, что на них за дерьмо попало за день, а люди берут, не боятся. Или уже просто похерили все, как и я?
Молчали. И это молчание было к лучшему. Оно висело между ними тяжелым, осязаемым полотном. Зачем лишний треп? Слова только все усложняют. Словами можно сорваться, наговорить лишнего, открыть душу, а потом жалеть об этом до конца своих дней.
Поравнялись с кварталом новостроек — относительно чистеньких, с пластиковыми окнами, за которыми виднелись чьи-то одинокие огоньки, и пустыми детскими площадками с ярким, но уже потускневшим пластиком. Вот и конец цивилизации. А за ними начиналась та самая, знакомая до боли реальность — с переполненными помойками у каждой парадной, от которых исходил сладковато-кислый запах гниения, и стихийными свалками старой мебели и хлама через каждые сто метров.
— Кстати, а это мой дом, — Вова внезапно прервал тягостную тишину, протянул руку в правую сторону и указал на одну из трех одинаковых, как близнецы, девятиэтажек двумя пальцами, сложенными в подобие пистолета.
Манеры. Настоящий джентльмен. Сейчас, наверное, щелкнет.
— Я там живу, прикинь? — Он непринужденно, будто так и надо, положил свою тяжелую, в грубой ткани рубахи, руку Диме на плечо, и тот внутренне весь сжался, ощутив незваное тепло. — А ты-то где живешь, молчаливый?
Дима скользнул взглядом по указанному дому, потом на два соседних, таких же обшарпанных, с темными парадными. Всего три многоэтажки. И они оказались в двух шагах от моего дома. Через дорогу, не больше. Всего три. Три. Какого хера ты живешь так близко? Что ты ко мне прикопался, словно репейник? Нарочно, что ли? Следил за мной?
— Неподалеку, — скрипуче выдавил Дима, решив не стряхивать с себя эту обжигающую тяжесть, а просто подождать, пока тому самому не надоест. Сколько он сможет продержаться? Минуту? Две?
Через несколько десятков шагов рука сама собой спала, будто Вова потерял к ней интерес или удовлетворил свое любопытство.
Они уже миновали дом, на который он указывал.
— Мы же вроде прошли твой дом? — уточнил Дима, чувствуя, как по спине бегут мурашки раздражения.
— Так мне на твой хочется посмотреть. Мне с тобой учиться год вообще-то, — Вова ухмыльнулся, и в его глазах заплясали знакомые чертики, смесь наглости и какого-то дикого веселья.
А почему бы тебе не узнать мой адрес у классной руководительницы? Ты же так ловко, так беспардонно выудил номер телефона. Что мешало прописку разузнать? Совесть заела? Или забыл? А может, ты сам хочешь, чтобы я тебе все рассказал, выдал ответы на твои гребаные вопросы добровольно, как нечто ценное?
— Ладно, — Дима посмотрел на него искоса, сквозь полуприкрытые веки, с подозрением, которое копилось с самой их встречи.
Но с каждым шагом к родной парадной волнение начало нарастать, превращаясь из смутной тревоги в физическую, давящую боль. В висках застучало, заныло, будто кто-то маленький и злой долбил изнутри по костям. Лицо стало само собой кривиться от спазмов, губы подрагивали. Только бы кровь не пошла. Не сейчас. Сейчас бы только добраться до кровати, рухнуть на нее лицом в подушку и отключиться, вырубиться, как вырубается перегретый компьютер.
Он чувствовал, как лицо покрывается мертвенной, восковой бледностью. Ноги стали ватными, непослушными, их начало заносить на мелких кочках асфальта. Слабость накатывала волной, с каждой секундой все сильнее, смывая остатки сил. Он судорожно приоткрыл рот, пытаясь глубже дышать, глотая прохладный, пахнущий выхлопами воздух. Стало чуть легче, дышать просторнее, но тут же тело бросило в жар, по спине и груди пробежали противные, липкие капли пота.
Таблетку бы. Всего одну. Как в детстве — мама давала большую, белую, шипучую. Кинешь в стакан с водой — она шипит, пузырится, растворяется, как волшебный эликсир в сказке. Выпьешь эту гадость — и через несколько минут боль отступает, отползает, как побежденный зверь. Магия. Чудо. Иллюзия, что все можно исправить.
Покажите мне это чудо. Я всю жизнь его жду, высматриваю в серых буднях, в случайных улыбках прохожих, в первых лучах солнца. Но нет никаких чудес. Есть только бесконечная рутина, замкнутый круг, мысли о том, как протянуть еще один день, не сломавшись. И то, некоторые и с этим не справляются — просто хотят сдохнуть поскорее, потому что жить, вставать с утра и делать вид, что все нормально, просто надоело. Невыносимо надоело.
Боль, как ни странно, начала отступать. Сжатые виски понемногу отпускало, тупая пульсация стихала. Спасибо. Наверное, нужно было просто поразмышлять о своем, о вечном, отвлечься. Лучшее лекарство — самокопание до тошноты.
Они наконец дошли до Диминого дома. Тот же серый, покрытая граффити парадная, та же облупленная, с вмятинами дверь.
Дима развернулся к парадной. Рука сама потянулась в карман за ключами. Сегодня не было сил даже дернуть дверь с привычным усилием, как он обычно делал. Все тело было разбитым, выжатым. Сегодня проще было открыть ее по-человечески, вставить ключ в замочную скважину, провернуть.
Он посмотрел на Вову: тот стоял в паре шагов и ухмылялся своим мыслям, с деланным интересом оглядывая новую для него, ничем не примечательную локацию. Пускай смотрит. Внутрь он все равно не попадет. Незачем ему видеть наши хоромы с советским ремонтом, вечным запахом тления и старых обоев.
— Ну вот видишь, — Вова прохихикал, коротко и отрывисто, — совсем не сложно было меня сюда провести. — Он протянул руку для прощания, ладонь была широкой, с твердыми, шершавыми пальцами.
— С моей-то паранойей, — Дима с некоторым усилием, почти механически, пожал ее. На прощание. Рукопожатие было крепким, быстрым.
— Ничего, вылечим. Бывай! — Вова легко развернулся на каблуках своих берцев и зашагал прочь, не оглядываясь, его силуэт быстро растворился.
Дима с трудом вставил ключ в замочную скважину, долго ловил момент, чтобы провернуть. Руки дрожали. Слабость давала о себе знать все сильнее, пол уходил из-под ног, затягивая в какую-то зыбкую трясину. Еще секунда — и он рухнет тут же, на холодном бетоне площадки.
Ему удалось устоять, прислонившись спиной к холодной, шершавой и грязной стене парадной. Несколько секунд он просто стоял, закрыв глаза, пытаясь перевести дух.
Он дошел до своего коридора, сбросил сумку на пол с глухим стуком. И тут все началось с новой, удвоенной силой. Все закружилось, поплыло перед глазами, краски спутались в мутное месиво. Голова перестала соображать, мысли расползлись, как испуганные тараканы, не оставляя ничего, кроме паники и физического недомогания.
Он отчаянно, со всей дури, ударил себя раскрытой ладонью по щеке, пытаясь привести чувства в порядок, вернуть ясность. Не помогло. Только щека загорелась огнем. Лучше не стало. Голова продолжала кружиться.
Тошнота подкатила к горлу внезапно и неумолимо, горячей, горькой волной. Он подскочил и в одном слепом прыжке, почти не видя ничего перед собой, нащупал и нажал на выключатель в туалете. Яркий свет резанул по глазам.
Руки сами потянулись к холодному, фарфоровому ободку унитаза. Он поднял тяжелую, дребезжащую крышку. Рот тут же наполнился горькой, противной субстанцией, слюной смешанной с желчью. Сознание поплыло, потемнело в глазах. Ноги подкосились, перестав слушаться.
Он упал.
***
— Вы позволили совсем неизвестному человеку узнать ваш адрес? — Герман отставил свою белую кружку, и его брови поползли вверх, образуя на лбу глубокие складки. — Вы просто привели его к себе? То есть, фактически, указали путь к своему дому? — он попытался уточнить, и в его ровном, профессиональном голосе впервые прозвучали нотки неподдельного изумления.
Дима посмотрел на него, и вдруг на его лице, искаженном усталостью и болью, появилась слабая, кривая улыбка.
— Герман, а вы не задумывались, — начал он медленно, растягивая слова, будто пробуя их на вкус, — что каждая, абсолютно каждая дружба, если она, конечно, настоящая, начинается именно с такого риска? Со шага в пустоту. С доверия, выданного авансом, в долг, под честное слово. Это как поставить всю свою ставку на одну карту, не видя руки противника.
Он сделал паузу, глядя, как за окном медленно садится солнце, окрашивая белые стены кабинета в багровые тона.
— Этот риск… он должен потом оправдать себя. Окупиться будущим доверием, которое уже не будет слепым. Если не оправдает — что ж, значит, дружбы и не было, была лишь иллюзия, и ты остаешься у разбитого корыта, зализывая раны. Но если оправдает… — Дима снова ухмыльнулся, и в его глазах вспыхнул какой-то странный, лихорадочный блеск, — тогда, Герман, тогда перед тобой открывается белая, чистая дорога. И ты идешь по ней уже не один.
Глупый психолог попался, — пронеслось в голове у Димы с внезапной ясностью. Спрашивает очевидные вещи. Деваться некуда — раз уж начал эту исповедь, придется вести ее до конца, до самого дна. До той точки, где уже ничего не будет жалко.
***
Веселый паренек он, но не верит мне, — промелькнуло в голове у Вовы, пока он смотрел вслед Диме. Смотрит сквозь меня, будто я прозрачный. Ай, ладно. Потом как-нибудь, когда братом станет, тогда и поверит. Вроде добрый, в глазах ничего плохого не читается. Правда, чмырят его тут, как последнего петуха на зоне. Ну ничего. Ничего. Выдюжим.
В кармане завибрировал телефон, прерывая поток мыслей. Он достал его, и лицо его моментально преобразилось. На экране — «Аня». Анька… В груди что-то екнуло, стало тепло и неуютно одновременно.
— Привет, Ань. Что-то случилось? — он произнес это с натянутой, но искренней улыбкой, заставляя голос звучать мягче.
Влюбленность — странная, поганая штука. Кто-то ей молится, кто-то бежит от нее, как от чумы. Иногда смотришь на парочку где-нибудь в парке — держатся за ручки, смеются, и вроде бы мило. А копнешь глубже — видна не необходимость, а зависимость. Один без другого — никуда. Вся эта показная забота, вечные совместные походы в магазин, никакого личного пространства… А попробуй отойти чуть в сторону — сразу подозрения, скандалы. Доверие, вот чего не хватает. Где доверие — там и сомнениям нет места. Любовь… она может быть адски сложной, а может — до смешного простой. Но людей, которые доверяют друг другу полностью, — единицы. Остальные только и делают, что ищут поводы докопаться, уличить, не понимая, что роют могилу своим же чувствам.
— Ой, Вов, все хорошо, — ее голос, сладкий и немного сонный, словно обволакивал сознание, пытаясь усыпить бдительность. — Я хотела просто прогуляться с тобой. Когда будешь свободен?
— Да я прямо сейчас могу хоть, но только вещи домой занести надо.
— Может… — она задумалась, и в трубке повисла короткая пауза. — Через час?
— Давай, без проблем. Как всегда, в том же месте?
— Конечно. Давай, мне торопиться нужно. Люблю.
— И я тебя.
Он сбросил вызов. Медленно, почти с наслаждением, облизал пересохшие губы, словно пробуя на вкус последние произнесенные слова. Но эйфория длилась недолго. Больше никакой голос в ухе не заставлял сердце стучаться сильнее. Пустота.
Зашел в квартиру. Воздух был густой, едкий — пахло табаком и чем-то кислым. Значит, отец дома. Всегда дома, когда не надо.
Повесил куртку на вешалку, сгреб в охапку сумку и побрел на кухню. Отец сидел за столом, сгорбившись, как будто его вдавили в стул. В одной руке — сигарета, в другой — стакан с золотистой жидкостью. Виски. Вова прищурился, разглядывая пачку на столе — «Mackintosh». Дорогие, красивые, с золотым кантом. Самому курить захотелось. Хотя бы чтобы забить этот запах дешевого перегара.
Отец начал разговор, не поднимая глаз:
— Как день прошел?
— Нормально. Ничего интересного, — Вова выдавил улыбку, отвечая на простой, как гвоздь, вопрос.
Отец тяжело вздохнул, выпустил струйку дыма и наконец поднял на него взгляд, красный и мутный.
— У тебя всегда все «нормально», а на деле — через жопу! — в конце фразы его голос сорвался на крик, сиплый и рвущий глотку.
— Да как у меня за один день может быть все «через жопу»? — Вова попытался сохранить спокойствие, но внутри все сжалось в комок. — Подумай.
Отец у него в полиции работает. Служит системе. И характер себе закалил соответствующий — тюремный. Неудачный день, стресс на работе — и сразу ищет, на ком сорваться. Сейчас хочет докопаться до первого учебного дня, а повода никакого. Просто так. От нечего делать и от бессилия.
— Совсем охренел, что ли? — отец встал, и его тень накрыла Вову. — Ты кем себя возомнил, ссыкло?!
— Человеком… — прошептал сын, опуская глаза, ненавидя себя за эту слабость.
Отец прохрипел что-то невнятное, матерное, себе под нос и с раздражением махнул рукой, будто отгоняя назойливую муху.
Вова покачал головой, развернулся и пошел в свою комнату, мысленно посылая вслед своему опекуну все, что накипело. Иди ты, иди…
Пока он на ходу скидывал с себя школьную одежду и разбрасывал ее по комнате, в голове крутился один и тот же вихрь.
Что же ты меня так недолюбливаешь, батя? Мама от тебя сама ушла, ты сам виноват, довел ее! А я-то тут при чем? Я в ваши взрослые игры не лез, так и ты не лезь в мои, мудила! Отучился на мента, так теперь и меня хочешь под свое крылышко запихнуть? Сделать таким же озлобленным дерьмом?
А если бы у тебя дочь родилась? Отдал бы ее какому-нибудь зажравшемуся капитану-пидорасу из своего управления? Чтобы деньжата капали, проценты от дел грязных? Бабла хочешь? Так заработал бы сам, за свою жизнь! Пятьдесят, сука, лет тебе! А ведешь себя как последнее отребье. Взяточник гребаный.
Картинки поплыли перед глазами. Когда мама ушла, моя настоящая мама, что ты сделал?! Не смог справиться. Начал пить. И меня, пацаненка, подсадил на эту херь. Помнится, усаживал рядом: «Вован, давай присаживайся, покажу тебе, в чем смысл счастья в нашем мире». Тьфу, блядь! Отравил ты сына своего и травишь до сих пор одним своим присутствием. Этого ты добиваешься? Чтобы я помер с тобой в один день? Так лучше бы ты выстрелил себе в голову еще тогда, когда тебе этот ствол вручили. И меня бы не было, и с мамой ты, может, не познакомился бы. Сука ты. Обыкновенная сука.
Глаза предательски наполнились влагой. Лицо покраснело и стало гореть. Он всхлипнул носом, с силой вытирая лицо рукавом.
Я хотя бы чувствовать что-то могу, а ты? Агрессивная ты мразота! Ты вообще можешь чувствовать любовь?! Можешь?! А?! Твои гены как-то криво передались, ты точно мой отец? Или ты меня еще в роддоме украл, после того как мама умерла? Может, настоящий Вова бегает сейчас где-то в счастливой семье, где на него не орут каждый день и не доебываются по любому поводу! А ты у нас весь из себя спасатель. Взял меня в раннем возрасте на свои грязные, в крови, руки. Да лучше бы ты меня в детский дом отдал! Но нет, гордый до хера, думал, справишься? Справишься с какой-то глистой, которая может только обделать свои штаны?
А вот сейчас эта глиста выросла. Стала сильнее. И ты уже ничего не сможешь с этим поделать.
Он быстро переоделся в чистую, темную одежду. Готов. Готов выйти обратно на улицу, где нет этого спертого воздуха, пропахшего спиртным и сигаретами, где не слышно его тяжелого дыхания.
Вышел в коридор, на секунду застыв у двери. Бросил взгляд на кухню: отец все так же сидел, неподвижный, будто выжидал чего-то. Ждал, когда сын появится снова, чтобы обрушить на него новую порцию своей «житейской правды». Унизительной и лживой.
Он достал ключи, провернул их в замке. Скрипнула половица. Отец очнулся от своего ступора и хрипло, будя все эхо в квартире, крикнул ему вслед:
— Ты куда, щенок?!
— К хуям, бать, — бросил через плечо Вова, не оборачиваясь.
— Ты…
Он с силой захлопнул дверь, чтобы не слышать продолжения. Чтобы этот визгливый, пьяный крик не просочился в его сознание. Полностью закрыл дверь на все замки, один за другим. Не выйдет теперь просто так, не потоптавшись у двери.
Тварь же ты, пап. Жаль, что я не могу вернуться во времени. Убить бы тебя при рождении — и столько бед не случилось бы. Мама жила бы спокойно. Пусть я и не родился бы, зато хоть она была бы жива и счастлива. А ты сгорел бы. И в этой жизни, и в Аду, если он есть.
Он вышел на улицу и глубоко вдохнул. Воздух был прохладным и чистым. Никакой вони. Никакого отца. Никакой мрази, которая только и ждет, чтобы ударить, унизить.
Нужно в Пулковский парк. Там они с Аней всегда встречаются. Он посмотрел на время: до встречи еще минут тридцать. Успеет дойти не спеша.
Он подошел к светофору и замер в ожидании зеленого. Рядом с ним встала молодая женщина с маленьким сыном, лет четырех. Мальчик неуклюже держал ее за руку.
Вова уткнулся взглядом в малыша. Повезло мальцу. У него есть мама, которая водит его за руку. А у меня такой не было. Хотя… Может, и у тебя мама ненастоящая? Как и у меня была?
Ребенок поднял на него свои большие, бездонные глаза. Смотрел пристально, не отрываясь.
Слышишь меня там, в своей детской вселенной? Тогда запомни раз и навсегда: будь с ней счастлив. И никогда, слышишь, никогда не делай ей плохого. Вот у меня ее не было, а я бы отдал все, чтобы пожить с мамой. С настоящей. Мой папа приводил домой разных «мам», но только с одной я по-настоящему общался, пока она не сбежала. А у тебя папа есть? Он классный? Если да — я за тебя рад. А если плохой… не переживай. У меня тоже плохой. Ужасный. Бритоголовый, злой, любит голос на других срывать. Он никогда не изменится. Ему уже ничего не поможет. Но ты, малыш, ты живи. С тобой все обязательно будет хорошо. Смотри, она держит тебя за руку, любит — люби и ты ее. Заботься о ней. Мама — она одна, и ты у нее один. Никто и никогда не заменит тебе маму, я проверял. Тебе говорили, что ты — любимый? Конечно, говорили. Мама? Папа? Или оба? Счастливый ты, парень. Чертовски счастливый. Люби их, пока они есть. Так же сильно, как и они тебя.
Загорелся зеленый. Пешеходы тронулись с места.
— Нам пора, малыш, — мысленно прошептал Вова. — Удачи тебе в этой жизни. Вряд ли мы еще встретимся.
Женщина нежно погладила сына по голове, пытаясь привлечь его внимание, чтобы он посмотрел на дорогу. Но мальчик не поворачивался, он через плечо продолжал смотреть на Вову.
Любит. Точка.
Женщина заметила этот немой диалог и сама посмотрела на Вову. Их взгляды встретились на секунду.
— Милый у вас сын, — он выдавил самую добрую улыбку, на какую был способен.
— Спасибо, — она смущенно улыбнулась в ответ. — В гляделки играете?
— Еще как. И он победил.
Прощай, малыш. Будь умнее меня.
Он пришел в парк и нашел ту самую, чуть покосившуюся скамейку, на которой они всегда ждали друг друга. Аня слегка опаздывала. Ну ничего, девушка. Имеет право. Подождет.
Пока он ждал, его взгляд блуждал по прохожим. У всех свои жизни, свои маршруты. Кто-то, как и я, идет на встречу с любимым человеком, сердце ноет от предвкушения. Кто-то просто гуляет, убивая время. А кто-то бежит, стуча кроссовками по асфальту, пытаясь поддерживать форму в этом хаосе. Такие разные, а собрались в одном месте. В этом парке. В одной точке вселенной.
Сквозь листву пробивались лучи заходящего солнца, легкими пятнами ложась на землю, обжигая теплом руки и лицо. Скоро не будет этой листвы. Облетит, превратится в коричневую труху. Скоро не будет и этого солнца — его сменят бесконечные тучи, промозглая зима, холод, сковывающий дыхание.
Послышались знакомые, легкие шаги. Он обернулся.
— Привет, — мило прошептала Аня и, не дав ему встать, обняла его, сидящего на скамейке, сзади, прижавшись щекой к его виску.
— Привет, — он рассмеялся, прикрывая глаза от нахлынувших чувств. — А как джентльмену на ноги встать позволишь?
— Не позволю, — она звонко поцеловала его в щеку, оставив влажный след.
— Ну ты и…
— Да, я. А ты как думал? — она лукаво подмигнула.
Аня обошла скамейку и устроилась рядом, прижавшись плечом. От нее пахло духами, сладкими и цветочными.
— Как день прошел? Как школа?
— Прекрасно, Ань. Пока все нравится, — он сказал это чуть слишком бодро. — А у тебя?
Она вдруг ткнула указательным пальцем в кончик его носа.
— Эй, — проворчал он сквозь зубы, слегка отстраняясь.
— А что? — она с наигранным непониманием повертела головой, и в этот момент свет упал на ее шею под определенным углом. — Не отдашься?
Пока она крутила головой, Вова успел рассмотреть то, чего не должно было быть. На ее шее, чуть ниже линии волос, красовался небольшой, но отчетливый кровоподтек. Багровый, свежий.
Я не трогал твою шею. Ни вчера, ни позавчера. Так кто тогда? У тебя появился другой? И если да, то зачем ты вообще пришла сюда? Нет. Нет, нужно удостовериться. Проверить.
— Закрой глаза, — сказал Вова, и голос его прозвучал непривычно ровно.
— А? — она удивленно подняла брови.
— Доверься. Закрой.
Она пожала плечами и послушно закрыла глаза. На всякий случай он прикрыл их еще и своими ладонями, создавая полную темноту. Она доверчиво улыбнулась в его ладонях.
Он пригляделся. При дневном свете все было очевидно. Да, это был именно засос. След от чужих губ. Недавний.
Он убрал руки с ее лица. По телу прокатилась волна отвращения, холодная и липкая.
— Открывай.
А меня, выходит, тебе уже мало, Ань? Я стал лишним в твоей жизни? Кто он?! С кем ты там, сука, сосалась и трахалась, пока я думал о тебе?!
— Так что ты хотел сделать, Вов? — она открыла глаза и смотрела на него с наивным любопытством.
Проверить тебя. На верность. На которую я, дурак, все еще надеялся.
— Вова?
Проверить, насколько же ты тупая, что даже не удосужилась скрыть следы.
— Эй, что молчишь?
И я доказал это. Самым простым, примитивным методом. И теперь мне от этого еще хуже.
— Хватит молчать, Вова, блин!
Сука. Обыкновенная, глупая сука.
Глава 3. Друг-товарищ

— Дмитрий, а когда вы встретились с ним лично? — Герман откинулся в кресле, сложив пальцы домиком. — То есть, намеренно, спланированно. Не случайно в школьном коридоре.
Знаешь какие вопросы задавать, старик. В самую суть копай. Ну хорошо, уж раз начал — отвечу.
— Сразу после того, как мы отучились первую неделю, — Дима выдавил улыбку, в уголках его рта заплясали нервные зайчики. — Он позвал меня на маленькую, невинную прогулку. В Кунсткамеру. Ну, а что? Я согласился.
***
Прозвенел телефон, разрывая утреннюю тишину. Дима лежал, уставившись в потолок, и слушал, как за окном где-то безнадежно каркает ворона. Он не мог уснуть с семи, и вот уже два часа провалился в это оцепенение, в серую пустоту между сном и явью.
Сообщение светилось на экране:
«Салю-ю-ют. Короче, Димон, в музей пойдешь? В Кунсткамеру. Билеты за мой счет. Хочу посмотреть на баночки с детьми. Думаю, тебе тоже на пользу пойдет».
Вова. Сразу он понял. Незнакомый номер, но стиль, этот идиотский, нарочито-бодрый тон — это мог быть только он.
Посмотрел на время — девять утра.
Дима никогда в своей жизни не был в Кунсткамере, хоть и родился в Петербурге и прожил в нем все свои восемнадцать лет. Никто его никогда не звал в музеи. Ни одноклассники, ни редкие знакомые. А уж тем более — за чужой счет. Это было из разряда несбыточного, как поездка на море.
И теперь он очень хотел туда попасть. До дрожи в коленках. Хоть и с этим странным, навязчивым типом, от которого пахло опасностью и берцами. Плевать на него. Пусть ставит любые условия, ведет в темный переулок — но в музей я попаду. Я должен.
«Во сколько идем?» — отправил он, пальцы скользнули по стеклу быстрее, чем он успел это обдумать.
Ответ пришел почти мгновенно, будто Вова только этого и ждал:
«В 12 часов сможешь? Я, если что, буду стоять уже там, билетики заказывать».
«Смогу. Встретимся около Кунсткамеры прям?» — уточнил Дима, чувствуя, как в груди что-то екает.
«Да, там местечко есть, где билеты заказывают. Короче, я тебя увижу, если что. Да и ты меня наверняка заметишь».
«Хорошо. 12 часов. Кунсткамера».
Он откинул телефон на одеяло. Кунсткамера. Двенадцать часов. Слова повисли в спертом воздухе комнаты. Через три часа нужно было быть там. Выйти из этой комнаты, из этой квартиры, встроиться в город и добраться до него.
А может, он не такой уж и плохой? — попытался он успокоить себя. Если зовет в музей, да еще и платить готов. Спасибо, конечно. Но черт, как это странно. Мы же едва знаем друг друга. Несколько дней — смешно. Зачем? Денег куры не клюют? Или это предлог — выманить из дома, завести в какой-нибудь сырой подвал и разобрать на органы? Странный ты тип, Вова. Подозрительный до жути. Неужто я тебе так приглянулся, что ты решил обзавестись дружочком? Или ты хочешь быть кем-то другим? Знакомым? Странный ты знакомый. Что тобой движет — для меня темный лес. Раскроешь когда-нибудь эту тайну? Хотя ты вроде не из скрытных, всегда говоришь что думаешь, прямолинейный, как удар топором. Думал, только ты меня изучаешь, как под микроскопом? А вот и нет, ни хуя. Я тебя тоже изучаю. Внимательнее, чем ты думаешь. Я вижу тебя четче, чем все эти снующие мимо лица. Может, ты сегодня покажешь какую-то новую грань? Станешь интереснее? А может, и нет. Все решится сегодня. В двенадцать часов.
Он поднялся с кровати. В квартире стояла гробовая тишина. Матери и отца, как всегда, не было. Отдых обеспечен. Никто не будет кричать, никто не вломится в комнату через каждые двадцать минут с дурацкими вопросами: «Как дела? Что делаешь? Уроки сделал?»
Не, мам. Не делал я ни хрена. И не собираюсь. Мне восемнадцать, хватит уже относиться ко мне, как к несмышленышу. Ты всегда ловила момент, чтобы поумиляться мной при всех, и мне это осточертело. Дай мне передохнуть, а? Просто побыть одному в тишине. И, пожалуйста, без этих вечных: «хватит бездельничать!». Я умнее тебя, ты это хоть понимаешь? Я знаю больше, чем вы с отцом за всю свою жизнь. Ваше поколение безнадежно устарело, вы ни в чем не разбираетесь. Когда-нибудь, может, ты научишься писать мне в «ВКонтакте», но тебе, как всегда, лень. Цивилизация прошла мимо тебя, перепрыгнула через твое сознание, твой мозг, все твои принципы. Ты осталась той же бабой из совка, с ее заскоками и понятиями. А папа? Что папа? Он тоже в этом варится. Да, ему некогда, вечная работа. Может, на пенсии очнется, но будет уже поздно. Сейчас — только работа, только добывание денег, которые тут же уходят на кредиты. Я не хочу быть таким. Я хочу развиваться, не лезьте ко мне, не вламывайтесь в мое пространство. Как вам это объяснить? Вы все равно не поймете. Я что, еще не дорос? А по-моему, и по меркам этого общества, я дорос уже давно. Отпустите. Не надо вести меня за ручку, как младенца. Я не обоссусь от страха при виде этого мира. Мне он нравится. Я умею им наслаждаться, смотреть на город изнутри. У вас на это не было времени, а у меня — есть. Я распоряжаюсь своей жизнью как хочу, а вы не смогли. Так чего вы добились? Вы старше — и что? Только и успели, что законсервировать свое древнее, отмершее мышление. И теперь пытаетесь впихнуть эту хрень и мне. Нет, не выйдет. Спасибо, обойдусь.
Собираться было пора. Движения стали резкими, почти механическими. Накинул темную кофту, взяв ту самую, выгоревшую на солнце сумку. Проглотил на кухне вчерашний бутерброд, не разбирая вкуса. Готово. Как на эшафот.
Вышел из дома. Воздух был прохладным, с примесью выхлопов. Где метро? «Звездная». Родная «Звездочка». Он посмотрел на время — оставался ровно час. Успеет, если не будет давки.
Он заглянул в карты на телефоне, изучая маршрут. На «Адмиралтейку» надо. А где там Кунсткамера? Карта показывала запутанную вязь улиц. Вот ты, Васька… красотка. Сойти на «Василеостровской»? Или пойти пешком по мосту? По мосту. Так быстрее, да и вид лучше. Маршрут выстроился в голове: до «Сенной», потом пересадка на «Садовую», одна станция — и вот она, «Адмиралтейская». Легко. Быстро. Минут тридцать в метро, еще минут двадцать пешком через полгорода.
Спускаясь в подземку, он мысленно похвалил синюю ветку. Прекрасная линия. Особенно эти первые станции — «Купчино», «Звездная», «Московская». В вагоне было просторно, народца — кот наплакал. Можно было сесть у окна и кайфовать всю дорогу, наблюдая за мельканием темного туннеля. Если, конечно, тебя не попросят уступить место. Обычно они молчат, эти старики. Сидят и молча выедают твой мозг взглядом, а окружающие, видя это, сами начинают тебя упрашивать: «Молодой человек, уступите, пожалуйста, место». А сами — встать не могут? И вообще, почему тот, кому нужно сесть, всегда молчит, как партизан?
Доехал до «Сенной» без происшествий, без чьих-либо упреков. Пересаживаться нужно. Он вышел из вагона и огляделся. Где тут переход? Вот он — длинный, бесконечный туннель, уходящий куда-то вглубь. Светлый, но с моргающими лампами, грязным полом и идиотскими полосками от маркера на стенах. Один из самых людных переходов в городе. Хоть и грязный, но в своем роде — изящный. Как все в этом городе — грязь и величие в одном флаконе.
Войдя в вагон фиолетовой ветки, он понял, что здесь все иначе. Мест не было. Вагон был забит под завязку, приходилось толкаться, вжиматься в чужие спины. Даже не удивился.
До «Адмиралтейской» доехал быстро, за какие-то три минуты. Выплеснулся из вагона вместе с бурлящим людским потоком.
Люди вокруг что-то говорили, смеялись, спорили. Шум толпы был оглушительным и притягательным одновременно. Хочется здесь остаться, замереть и просто смотреть. На проходящих мимо мужчин в деловых костюмах, женщин с яркими сумками, детей, тащащих за руку уставших родителей.
И тут он увидел их. Издалека. Девушка бежала по платформе к парню, разбежалась и прыгнула на него, обвив ногами. Тот едва устоял, отшатнувшись, но успел подставить ногу и удержал равновесие. Они обнялись, слились в долгом поцелуе, потом, не разнимая рук, пошли ждать свой поезд. Любовь. Настоящая, глупая, бесстыдная. И от этого немного тошнит.
Петербург. Его иногда называют городом любви. Северный Париж. Город, вобравший в себя немецкую расслабленность, итальянскую архитектуру и эту самую французскую, всепрощающую любовь. Иногда не верится, что такое возможно здесь, на этом болоте. Он представил Москву — вечно спешащую, нервную, четкую. А здесь… здесь все делают в свое удовольствие, никуда не торопятся. И дело не в веществах, как многие думают. Просто здесь другой ритм. Другое состояние. Состояние вечного покоя, граничащего с оцепенением.
Он вышел на поверхность, и его ослепило дневное солнце. Теперь нужно было идти к мосту. Сейчас — на Невский, потом — вдоль Дворцовой, дальше — мост. Он снова достал телефон. Навигатор, блядь. Вечно он путает. Налево — направо — вперед, опять налево.
В итоге, все вышло так, как он и рассчитывал: тридцать минут на метро, двадцать пешком. Все по плану. Идеально.
На Дворцовой площади его взгляд выхватил из толпы десятки азиатских лиц. Любят они наш город. Зачем — загадка. Что им нужно в этом северном, промозглом городе? Он знал, что азиаты, особенно китайцы, давно и прочно обосновались здесь. Слухи ходили, что на Васильевском острове есть рестораны, куда русских уже не пускают. Своей земли им мало, вот и осваивают чужие пространства. Чайна-таун на Ваське растет как на дрожжах. С одной стороны, это даже красиво — еще один план в и без того пестрой культуре города. Ну и что, что целый остров? Пусть живут. Еда у них, кстати, — охуевшая. В хорошем смысле.
Вот и он — Дворцовый мост. Узнаваемый силуэт, соединяющий два сердца города. Мост, который видел все: его начинали строить еще при царе, потом бросали, переносили, он тонул, горел, его реконструировали бессчетное количество раз. Говорят, когда-то даже договор был — строить только русскими руками, из русского материала, с русской душой. Тогда узбеков тут еще не было.
Откуда я это знаю? — Дима удивился сам себе. Может, в школе проходили, а может, вычитал где-то в интернете. Город впитываешь вместе с его мифами.
Он развернулся на полпути, и его взору открылся Исаакиевский собор. Огромный, темный, подавляющий своим масштабом. Золотой купол слепил глаза. Священное место. А может, просто памятник чьему-то гигантскому эго.
Все здесь древнее, как говно мамонта, — с внутренним, знакомым цинизмом подумал он. — Но, сука, какое красивое. Огромное. Пиздатое! Он оглядел панораму. Какой еще город в этой стране может таким похвастаться? Только Москва. Да пошла она на хуй, Москва! Вспомнились поездки в столицу — суета, вечные пробки, люди-роботы. Цивилизация там, да. Все новое появляется сначала там. Но красоты — нет. Один сплошной лабиринт из стекла и бетона. Он взглянул на Неву, на ее спокойное, величавое течение. А здесь заблудиться сложно. Вышел к реке — и пойдешь вдоль, всегда найдешь, куда нужно. Все здесь расслабленные, никуда не торопятся. Идут ровно, с достоинством. А в Москве — толкаются, бегут, сметают все на своем пути. Он представил себя на их месте. Люди, конечно, не выбирают, где родиться. Но если бы был выбор — Питер всегда был бы моим братом. Москва — как сложная, капризная женщина, с которой вечно натыкаешься на подвохи. А Петербург — брат-близнец. Все понимает без слов. С ним какая-то необъяснимая связь с самого рождения. Уедешь — и тоскуешь. Все в жизни может предать, но этот город — никогда.
Вот и она. Кунсткамера. Величественное здание, а перед ним — огромная, предсказуемая очередь. Туристы, школьники, любопытствующие.
Дима прошел вдоль живой цепи, и его взгляд упал на знакомые берцы и клетчатую рубаху. Это был он. Стоял спиной, безмятежно наблюдая за голубями.
— Как тебя угораздило в Кунсткамеру-то пойти? — Дима похлопал его по плечу, стараясь, чтобы в голосе звучала невынужденная легкость.
Вова развернулся. На его лице не было и тени удивления. Молча, с серьезным видом, он протянул руку для рукопожатия. Дима пожал ее.
— Да вот, скучно мне что-то, а тебя для веселой компа-а-ании взял, — Вова растянул слово, и его глаза сощурились в знакомой ухмылке. Он похлопал в ладоши, как ребенок. — Повеселимся слегка, а? Я вообще думал, что ты кинешь меня и забьешь, а на деле ты очень солидный человек, не подвел. Благодарю.
— Никогда не был тут, а желание — очень большое. Хочу, — признался Дима, и это была чистая правда.
— Тогда отлично! — Вова оживился. — Щас мы будем разглядывать са-амые старые маринованные огурчики. Ну и еще какие-нибудь там макеты питекантропов. Ар ю рэди?
***
— Надеюсь, вы передали ему свое доверие не из-за денег? — Герман произнес это мягко, но в его глазах читалась настороженность. Он следил за малейшим изменением в лице пациента.
И тут Дима рассмеялся. Это был не просто смех — это был нервный, надрывный хохот, вырывающийся из самого нутра. Из уголка его глаза, против воли, потекла единственная слеза, оставившая влажный след на бледной щеке. Он даже не заметил этого.
Герман смотрел на него в полном недоумении, его профессиональное спокойствие на мгновение дало трещину. Он не понимал источника этой странной, почти истерической реакции.
— Не-а, док, — выдохнул Дима, наконец справляясь с приступом смеха и смахивая ладонью предательскую влагу. — При чем тут деньги? Он просто… — Дима снова фыркнул, качая головой, — он просто охренительный шутник. Понимаете? Охренительный.
***
— Кунсткамеру построили еще в восемнадцатом веке, — Вова говорил с важным видом экскурсовода-дилетанта, размахивая руками. — Точный год не помню, но в первой половине уж точно. Петр Первый ее основал. Петр Первый ее освятил. И, между прочим, Петр Первый тут частенько бывал! — Он подмигнул. — Купил он себе, понимаешь, коллекцию всякой диковинной всячины. Ну, реально — безделушки, курьезы. А потом этих «безделушек» становилось все больше, хранить их стало негде, вот и построили специальное здание. Тут еще Ломоносов работал, ну, этот… универсальный гений, этакий умник, который везде успел — и в химии, и в физике, и в естествознании. Сейчас его в школах проходят, как образец ученого. Физическая химия, обычная химия, обычная физика… А! Он еще и писателем был! Точно! Везде хотел себя проявить, неуемная натура. Уважаю, честно.
— Ты что, историк? — удивился Дима.
— Не, просто читать люблю. Знания бесполезные, но блеснуть иногда хочется. Ну, так вот, продолжу. Построили они здание — большое, красивое, превосходное. И как-то раз тут пожар случился. Жаль, не могу сказать, что это Петр виноват — мол, так увлекся своими экспериментами, что искру случайно устроил. Нет, Петя к тому времени уже давно в земле лежал. Но! Ломоносов-то был жив! — Вова значительно поднял палец. — Так что, возможно, это он, увлеченный изучением всяких явлений, что-то там переборщил. Башню Кунсткамеры видел? Так вот, в ней как раз музей Ломоносова и находится: его приборы, инструменты, книги. А ирония в чем? В том, что башня как раз в том пожаре и пострадала. Вот такие пироги.
Дима расхохотался. Его смех, громкий и неожиданный, разнесся по залам, заставляя других посетителей оборачиваться и смотреть на них с неодобрением.
Они дошли до анатомического раздела.
— А сейчас, друг мой, будет самое интересное! — Вова понизил голос до конспиративного шепота. — Видел когда-нибудь настоящие банки с… людьми?
— Нет, но наслышан, — признался Дима. — Даже фотографий специально не смотрел.
— Тогда готовься к новому опыту! О! — Вова остановился перед одной из колб. — Глянь-ка! Голова-то какая исполинская! Наверное, очень умный был. Жаль, что это не помешало ему оказаться здесь.
— А у этого, — Дима показал на другой экспонат, — брат-близнец, похоже, так и не отделился.
— Интересно, как они с этим… жили? — пошутил Вова.
— «Девочка с врожденной водянкой мозга и нарушением костных покровов», — прочитал Дима табличку. — Жуть…
— Согласен! — Вова присвистнул. — Видишь отверстие? Прям как в тех старых анатомических атласах рисовали. Почти идентично.
— Это ты по каким атласам изучал? — ухмыльнулся Дима.
— По самым что ни на есть познавательным! — пропел Вова. — Девушка с гидроцефалией… Боже, кто эти термины такие придумывает?
— А на этого посмотри, — кивнул Дима.
— Опа. Карлик. Маленький, необычный. Вообще, они тут все… особенные. И, если вдуматься, хорошо сохранившиеся. Я же говорил, что будут похожи на маринованные огурчики? Вот, пожалуйста. Прям целая коллекция.
— Ну, водянка, может, и на деликатес смахивает, — пошутил Дима. — Делить будем?
— А то! — рассмеялся Вова. — Кстати, продолжаю исторический ликбез. Петр хотел себе большую коллекцию таких вот редкостей, ну и получил, как видишь. Он даже указ специальный издал, где велел со всей страны свозить сюда все найденные уродцы, а еще косточки разные — мол, будем собирать этакого Франкенштейна по частям. Как видишь, не только человека — вон там, — он свистнул в сторону витрины, — и зверушки разные есть. Так и жил Петр: собирал всякие диковины со всей Европы и таскал сюда. Целую гору натаскал. Опа, смотри, циклоп!
***
— Я эти шутки запомню надолго, — улыбка медленно расползалась по лицу Димы, становилась все шире и искреннее. — Я даже пытался ему подражать, понимаете? Перенимал его манеру, этот… абсурдный стиль. Настолько мне это понравилось. — Он замолкает, словно прислушиваясь к эху того смеха. — У меня было странное, почти детское наслаждение от того, что я могу нести такую… такую абсолютно бесполезную, бредовую чушь. И это вызывало смех. Настоящий.
Он смотрит куда-то в пространство за спиной психолога, видя не белую стену, а залы Кунсткамеры и ухмыляющееся лицо Вовы.
— Да, это был черный юмор. Мрачный, циничный. Но он был… живым. И мне это нравилось. Я к этому привык. Я понял, что именно этого — этой возможности смотреть в лицо абсурду и смеяться ему в ответ — мне и не хватало всю мою предыдущую, такую правильную и такую мертвенную жизнь.
Герман не шевелился. Он просто слушал, погрузившись в это воспоминание вместе с ним, его внимание было абсолютным, почти осязаемым в тишине кабинета.
***
Они шли обратно, в сторону «Адмиралтейской», по тому самому мосту, что всего пару часов назад казался воротами в другую реальность. Теперь он был просто куском железа и бетона, ведущим домой. Вечерний ветер с Невы трепал волосы и забирался под куртки, но Дима почти не чувствовал холода. Внутри него все еще горело — горело тем странным, непривычным теплом, которое рождается от безудержного, почти истерического смеха.
Я в нем ошибался, видимо? — вопрос повис в сознании, беззвучный и настойчивый. Я давно не ржал так сильно. Да что уж там — я никогда в жизни так не смеялся. С самого рождения. Он украдкой посмотрел на Вову, который шел рядом, насвистывая какой-то бессмысленный мотив. Он… нормальный. По-своему нормальный. Со своим, пусть и уродливым, но цельным взглядом на вещи. И с этими его уморительными, абсурдными шутками, которые режут правдой, как стекло. Но тут же, как холодная струя, пробежала привычная мысль: Но почему? Почему ты решил начать со мной общаться? Почему ты заплатил за меня? Почему, Вов? Как я, серая, ничем не примечательная масса, могу вписаться в твои планы? Я же ничего не стою. Абсолютно. Так на кой черт я тебе сдался?
— Слушай, а зачем ты меня пригласил в Кунсткамеру? — осторожно, почти робко, спросил он, нарушая тишину.
— Захотел сходить, давно планировал сюда прогуляться, — Вова пожал плечами, не глядя на него. — Изначально, честно говоря, не тебе предлагал. Но так вышло, что лучшая замена — это тот, кто рядом.
— Так значит, мы товарищи? — Дима произнес это с легкой усмешкой, проверяя почву.
— А ты как думал? — Вова наконец повернулся к нему, и в его глазах мелькнула знакомая искорка. — Расслабься, ничего от тебя не хочу. Ты не в моем вкусе, если о чем-то таком.
— С девушкой хотел сходить? — уточнил Дима.
— Ага. Не сложилось, как видишь, — Вова сморщился, и все его веселье мгновенно испарилось, сменившись на мгновенную, глубокую усталость.
— А что случилось?
— Долгая история. Не стоит.
— А я вообще-то психологом мечтаю стать, — не отступал Дима, пытаясь звучать как можно легче. — Можешь спокойно рассказать. Считай, я уже почти твой брат.
Вова хмыкнул, и тень улыбки вернулась на его лицо.
— Люблю я психологов. Я одного даже посещал, года полтора назад. Потом забил. Могу тебя к нему записать, для практики. Чтобы ты понял, как все это на самом деле работает, а не как в дешевых сериалах показывают.
— Сходим как-нибудь, — согласился Дима.
— Клевый мужик, между прочим. С розовыми волосами. И нет, он не гей.
— Розовыми? — Дима не сдержал смешка.
— А что? Говорю же — клевый. Кабинет, правда, у него староват, штукатурка сыпется. Но это ерунда. Главное — он талантливый. Очень помогает. Я ему вообще всех благ желаю. И личного счастья.
— Так что там с девушкой-то? — Дима не отпускал тему, чувствуя, что напал на что-то важное.
Вова вздохнул, и его взгляд стал отрешенным, уставшим.
— Да что рассказывать… Пришел на встречу, дурак дураком, счастливый. Она пришла, обнялись, все как обычно. А потом я вижу — на шее у нее след. Засос. И явно не мой. А я… я не знал, что сказать. Онемел. Просто стоял и молчал. Она взяла меня за руку, а у меня аж передернуло. Не мог смотреть ей в глаза. А она еще ближе прижалась, хотела, наверное, обнять, а я… я просто развернулся и ушел. Сказал, что забыл кое-что дома, извинился непонятно за что и свалил. А ведь я как раз хотел пригласить ее в ту же Кунсткамеру. Не срослось. — Он помолчал, глядя на мокрый асфальт. — Тварь она. Яблоко от яблони недалеко падает, вся ее семейка такая. В общем, пошла она вон. У меня теперь друг есть. А это, поверь, куда круче, чем какая-нибудь ненадежная подружка. Друзья не предают. И посмеяться есть с кем. С девушкой ты не станешь ржать над заспиртованными уродцами. А с другом — запросто.
— Понимаю, — тихо сказал Дима. — У меня тоже была одна… Вроде умная, красивая. Книги любила, как и я. А потом раз — и сообщение: «Нам надо перестать общаться». Я ничего не понял, начал спрашивать — а она меня везде заблокировала. Потом выяснилось, что у нее другой парень был, а я так, запасной аэродром. Глупый, наивный. Прошло три года, а осадок до сих пор. Как будто что-то во мне сломалось тогда.
Он солгал. Настоящая история была другой, более жалкой и болезненной. Но эта версия звучала достаточно правдоподобно, чтобы не вызывать лишних вопросов.
— Извините, что перебиваю этот душераздирающий сериал, сэр, — внезапно оживился Вова, и его лицо снова озарила широкая, безумная улыбка. — Предлагаю свернуть к достопримечательностям. Вон, глянь, Медный всадник.
— Без проблем, — Дима с облегчением перевел дух.
— Короче, запомни: красивая оболочка — еще не показатель. Урод может скрываться под самой шикарной упаковкой. И наоборот. Правда, люди, у которых и внутри, и снаружи все в порядке, — это нынче редкий вымирающий вид. Так что забей на свою барышню. Если напишет — посылай куда подальше. Стихами, как Есенин.
— Поздравляю! — вдруг выкрикнул Вова так громко, что несколько прохожих обернулись.
— С чем? — опешил Дима.
— А с тем, что я — симпатичный, сексуальный и просто великолепный! И внутри, и снаружи! Я — ходячая редкость! Я — самый прекрасный мужчина на этой планете, и спорить бесполезно! А все те, кто мне изменял — просто слепые дуры! Я — Владимир, блядь, запомните это имя! — он кричал уже во всю глотку, раскинув руки, и его глаза горели настоящим, неподдельным безумием.
И Дима увидел это — его обезумевшие, сияющие глаза и ту самую ухмылку маньяка, которая не пугала, а, наоборот, завораживала.
Вот чего мне не хватало. Вот оно. Отбитости. Настоящей, искренней, до мозга костей. Чтобы быть счастливым, надо быть немного ебанутым. Совсем чуть-чуть. Капля этого безумия — и готово. Это как горючая смесь, которую уже не остановить. Та самая капля, что прожигает мозг насквозь, перекраивает сознание, стирает старого тебя и создает нового. Она воплощает все, что казалось невозможным. Она может уничтожить всю накопившуюся годами грусть. Эта самая… ебанутость.
— А это мой друг! — не унимался Вова, хватая Диму за плечо. — Зовут Димон! Дмитрий! И он, черт возьми, тоже великолепен! И МЫ СДЕЛАЕМ С ЭТИМ МИРОМ ЧТО-НИБУДЬ ЭПОХАЛЬНОЕ!
— Заткнись уже! — крикнул в ответ Дима, и его собственный голос прозвучал для него чужим, полным какой-то дикой, освобождающей силы.
— Мы — конченные! Мы — великолепные!
Мимо них проходили люди. Кто-то смотрел с недоумением, кто-то — с улыбкой. Какая-то пара даже подняла вверх большие пальцы, словно поддерживая их необъяснимый порыв. И Дима почувствовал это — щемящее, острое наслаждение. Чувство освобождения, отпущения всех грехов. То, чего ему не хватало всю его сознательную жизнь.
— А вот и Медный всадник, — подошел он ближе к ограде, запыхавшийся и счастливый.
— А вот и он, — Вова встал рядом, и его дыхание тоже сбилось.
— Хочешь сказать, мы теперь друзья?
— А мы только что вместе отправили всех бывших в космос, как ты думаешь? Конечно, друзья! Правда, чтобы дружба считалась настоящей, нужно совершить ритуал. Переплыть Неву. Туда и обратно.
— Погнали, — Дима с вызовом хрустнул костяшками пальцев.
— Э-э-э, нет, я, конечно, все понимаю… Но это, пожалуй, перебор. Ладно, ограничимся устным договором. Друзья так друзья. Не хочется мне знакомиться с водолазной командой МЧС и купаться в этой жиже.
— Обломал энтузиазм, — фыркнул Дима.
— Не отчаивайся. Может, как-нибудь, в особо жаркий день… Мне просто лень потом мокрые штаны сушить. А так — я бы хоть сейчас.
— Запомню, — Дима сделал преувеличенно злобную гримасу. — При случае напомню.
— Напоминай. А пока — давай полюбуемся на бронзового дедушку, — Вова уперся руками в боки, рассматривая монумент.
— Что, будет продолжение исторического ликбеза?
— А почему бы и нет? Легенду про этого гиганта знаешь?
— Нет.
— Тогда слушай, будет интересно. Легенд много, но самая дурацкая и потому — лучшая — про Павла Первого. Шел он как-то по городу со своим приятелем. И видит — идет за ними какой-то тип, с лицом, скрытым плащом. Павел говорит другу: «Смотри, какой-то странный человек за нами следует». А тот в ответ: «Что ты? Никого нет». Павел в недоумении, но идет дальше. А незнакомец подходит и говорит ему: «Бедный, бедный Павел…» Ну, или что-то в этом роде, точную цитату не помню. Пришли они на это место, и призрак говорит: «Прощай, Павел. Увидимся здесь снова». И исчез. А перед этим на миг приоткрыл лицо — и Павел узнал в нем Петра Первого. Здорово, да? Но это не все! Позже Павел получает известие — на этом самом месте открывают новый памятник. И угадай, что?
— Обалдел? — предположил Дима.
— Еще как! Петру, бля, Первому! Именно там, где призрак обещал снова встретиться. Легенды… они же прекрасны своей абсурдностью, правда? — Вова замолчал, глядя на медного всадника, застывшего в вечном порыве. — Кстати, как думаешь, много ли у Петра было… ну, фавориток?
— Ну, он же император, — Дима задумался. — Наверное, как у нынешних олигархов. Только, наверное, меньше. Сейчас, я слышал, у некоторых состояния такие, что Петру и не снилось.
— Я вообще-то не про деньги, — Вова покачал головой с укором. — Я про женщин. А ты снова о материальном.
— А вилять ушами ты мастер, — усмехнулся Дима.
— О, это я еще с пеленок освоил!
Они простояли у Медного всадника еще с полчаса, пока небо не потемнело окончательно и не хлынул осенний ливень, смывая с города остатки дня и заставляя их искать укрытие под раскидистыми ветвями ближайших деревьев.
Глава 4. Не узнают. Не услышат. Не поймут!
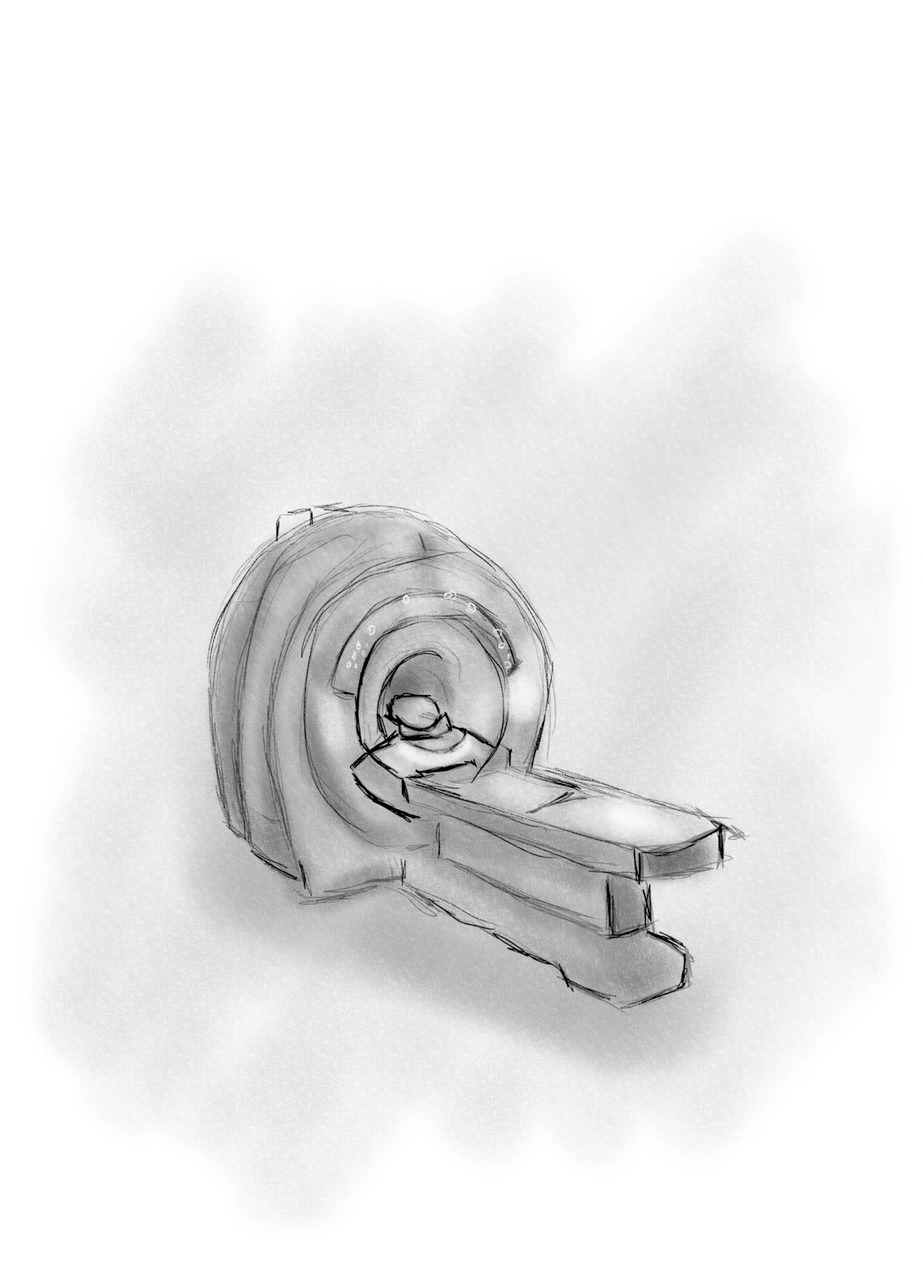
17 сентября.
Петербургские дворы-колодцы, повторяющиеся, как кошмар наяву. Замыкаются в себе, прячут свои грязные секреты за фасадами облупленных парадных. Идеальное место для убийства. Никто не увидит, не услышит. Особенно ночью, когда темнота становится густой, как деготь, и только силуэты чахлых деревьев, подсвеченные желтым светом из чужих окон, шевелятся во тьме, будто призраки. Можно подойти тихо-тихо, уткнуть нож под ребра, прижать ладонью рот. Пусть барахтается, хрипит — все равно его крик поглотит эта каменная ловушка. Единственная проблема — глухой звук падения тела на мокрый асфальт. Он может выдать.
Моросил мелкий, назойливый дождь. Его почти не было видно, лишь ощущалась на лице противная, липкая влажность, пропитывающая все вокруг. Воздух стал тяжелым, им было трудно дышать.
— Как дела? — спросила Аня. Голос ее прозвучал неестественно, будто она сама не верила в необходимость этого вопроса.
— Nicht schlecht, — ответил он, и его тон был холодным, как лед в невской воде.
Одна мысль сверлила мозг: как спросить ее про измену? А может, я все выдумал? Сгустил краски? Но тогда почему все сошлось так идеально, как в плохом детективе? Почему каждый кусочек пазла встает на свое место, рисуя картину самого банального предательства?
— А что это значит? Нихт, чего? — она нахмурила брови, делая вид, что не понимает.
— Немецкий: «неплохо» или «не так уж и плохо».
Аня коротко, беззвучно хмыкнула.
Разговаривать не о чем. Вообще не о чем. Все свелось к этому идиотскому ритуалу: «Как дела?» — «Нормально». Вот и вся любовь. Вот и вся наша годовая эпопея. Рутина, которая засасывает, как болото. Желание бросить все, послать ее к чертям, возросло после той прогулки. Оно пробило не просто потолок, а все девять этажей этого дерьмового города.
Как ее спросить? «Слушай, а что это у тебя на шее был засос?» — звучит как-то убого, по-детски. Злость куда-то ушла, ее сменила какая-то грязная, тягучая усталость. Но если она начнет врать — она же начнет врать, я это знаю — злость вернется, и тогда ей не поздоровится. «Ань, поговорить надо. Ты мне изменяла?» — тоже дерьмово, но так я хотя бы увижу ее реакцию. Или вот: «Чего тебе во мне не хватает?» — и что она ответит? Денег. Конечно, денег. Ей, как и ее мамаше, нужна роскошь, красивая жизнь, чтобы было чем хвастаться перед такими же курицами. А у меня что? Гроши. Живу как придется. А ты, Ань? Ты чего хотела?
Дождь усилился, капли стали крупнее, больнее бить по лицу. Легкая осенняя куртка промокла насквозь, влага просачивалась внутрь, леденила кожу. Волосы Ани, обычно блестящие, теперь слиплись и походили на грязную паклю.
Вова сжимал в руке зонт-трость. Тяжелый, целиком из черного металла, сделанный на заказ. Рукоятка была выточена в виде крюка, увенчанного крестом. Нижний конец — тупой и монолитный, как у телескопической дубинки. Холодное оружие, замаскированное под бытовой предмет.
Он щелкнул кнопкой, и черный купол с шипением раскрылся, словно крылья хищной птицы. Аня тут же юркнула под него, прижалась к нему всем телом.
Теплое тело. Мягкое, податливое. Так и хочет, чтобы его приласкали, обняли, простили все грехи. А заслуживает ли? Она прижимается ко мне, а в голове, наверное, прокручивает вчерашнюю ночь с тем ублюдком. Она лжет. Она уже давно лжет. Я это чувствую кожей. Но как доказать? Где взять эти чертовы доказательства?
Не бояться. Просто спросить. Задать прямой вопрос и смотреть в глаза. Смотреть пристально. Увижу страх — и все станет ясно. Обычный человек удивится, возмутится. А она? Она замешкается. Посмотрит в землю, потом на меня, и только потом выдавит из себя оправдание. Она простая, ее как открытую книгу читать. Так как же ее спросить?
«Чернышевская». Аня жила где-то тут, в этих лабиринтах дореволюционных доходных домов. Вова никогда не знал точного адреса — она всегда просила его оставаться у метро, а дальше шла одна. Ее мать, та еще сука, запрещала ей рассказывать, где они живут. В паспорте у Ани была прописка где-то у «Старой Деревни», но это была пустышка, фикция для галочки.
Прогулка только началась, она не уйдет сейчас, не посмеет.
Они свернули в один из дворов-колодцев. Здесь было чуть суше, навес над входом в парадную хоть как-то защищал от дождя.
Прислонились к холодной, шершавой стене. Кирпич был сухим, вода до него не добралась.
— У меня вопрос, — наконец выдавил он. Голос прозвучал хрипло.
— Какой? — она посмотрела на него, и в ее глазах мелькнула быстрая, как молния, тревога.
— Ты когда-нибудь изменяла мне? — Вова прищурился, впился в нее взглядом, не моргая.
Все как по учебнику. Замешкалась. Отвела глаза, уставилась в грязный асфальт под ногами. Потом снова посмотрела на меня, и на ее губах появилась какая-то дурацкая, виноватая ухмылка. Предательница. Все и так понятно.
— Нет, — она неестественно подпрыгнула на месте, сделала глубокий вдох, будто готовилась к прыжку в воду.
— Молодец, — Вова медленно покрутил зонт в руках, наблюдая, как капли воды разлетаются с его черной ткани.
Действительно, молодец. Актриса хренова. Хорошая ты, Ань. Очень. А я-то верил. Поддерживал. Ты всем своим подружкам рассказывала, какой я замечательный, веселый. Мы могли часами болтать ни о чем, гулять по городу, открывать новые места. А сейчас? Сейчас мы — два чужих человека, которые не могут связать и двух слов. Это ты начала отдаляться. Ты начала пропадать. Перестала рассказывать, где была, с кем. Стала сама назначать встречи, а потом и вовсе забила. Что это было? Просто привязанность? А сейчас она кончилась, и ты нашла себе кого-то нового? Может, бросить тебя прямо здесь, в этом вонючем дворе? Посмотреть, как ты заплачешь, как будешь умолять простить? Это было бы забавно. Я бы посмотрел на это с удовольствием.
Из темноты парадной, с грохотом распахнув дверь, вышел парень. Он шел, пошатываясь, пьяной, разбитной походкой. Лицо его расплывалось в улыбке — наглой и мерзкой. Худой, жилистый. Темные кудри падали на лоб.
Он подошел вплотную к Ане. Теперь было видно: зрачки расширены до предела, в них плавал не только алкогольный угар.
— А-а-ань, — просипел он высоким, противным голосом, — какими судьба-а-ми?
— Отвали, — голос Ани дрогнул, в нем послышались слезы.
— Как это, «отвали»? — парень ухмыльнулся еще шире. — Ты вчера со мной, а сегодня с э-этим? — он ткнул грязным пальцем в грудь Вовы.
Вова медленно улыбнулся. Оскалился, как волк, провел языком по зубам. Перевел взгляд на Аню, полный немого вопроса.
— Ты не так все понял! — затараторила она, и в глазах ее заплясал настоящий, животный страх. — Он друг мой! Мы с Лешей с детства дружим!
— Пи-и-издит, — с наслаждением протянул Леша и приподнял глаза к небу, выпуская струйку пара изо рта. — Мы вчера у меня на хате на кровати, того…
— А на это ответ будет? — тихо спросил Вова, не отрывая взгляда от девушки.
— Это н-неправда, — ее голос предательски задрожал.
Врешь. Врешь, сука. Он хоть и в говно, но факты излагает четко. Хреново оправдываешься, Анька. Очень хреново. Ну давай, попробуй еще. Интересно, получится ли у тебя лучше? А ведь это ты сама привела меня сюда. Сама. Ты знала, куда мы идем. Привела прямо в логово к своему ублюдку. Ну что ж… Сейчас я ему устрою экскурсию в реанимацию.
— Чем он тебя зацепил? — голос Вовы стал тихим и опасным. — Чем я хуже? — Он аккуратно поставил зонт-трость на землю и похрустел костяшками пальцев.
— Да я же говорю, он друг! — взвизгнула Аня.
— Не друзья! — перебил ее Леша. — Мы ебе…
Вова взмахнул рукой, и его кулак со всей силы врезался в подбородок парня. Тот только мотанул головой, но на ногах устоял. Стойкий оказался.
Аня вскрикнула, но Вова резко прикрыл ей рот ладонью, заглушив звук.
Леша, пошатываясь, начал отступать. Вова пошел за ним, не спеша.
— Я расскажу тебе сказку, — начал он нараспев и резко ударил ногой по колену соперника. Тот, наконец, с грохотом рухнул на мокрый асфальт. — Жил-был парень. Очень любил одну девушку. До безумия, до смерти. Встречались они год, души друг в друге не чаяли, ни на кого не смотрели. По крайней мере, так думал парень. А однажды, гуляя в парке, парень заметил у девушки на шее кровоподтек.
Вова присел рядом с лежащим на корточках, уперся пятками в землю.
— И начал думать: а не изменяет ли она? Сбежал тогда с прогулки, не мог на нее смотреть, тошнило. Потом нашел себе друга, с ним стало веселее, можно было посмеяться над всей этой хуйней. И вроде бы все наладилось. Но парень снова пошел гулять с этой девушкой. И встретил большо-о-ого и страшного дракона-наркомана. А тот сказал, что она его любовница. И знаешь, что сделал парень с этим драконом?
Леша попытался подняться, сделать выпад, но Вова ловко отскочил в сторону.
— Хватит! — закричала Аня, и в ее голосе уже слышались рыдания.
Вова начал приближаться к Леше. Медленно, не спеша, делая театрально большие шаги. На его лице играла спокойная, почти блаженная улыбка. Он повернулся к Ане и подмигнул.
Резким, отработанным движением он схватил Лешу за шею, с силой ударил его лицом об свой поднятый локоть. Раздался глухой хруст. Тот замычал, захлебываясь кровью. Вова вцепился ему в волосы, оттянул голову назад и снова ударил — в челюсть. Раз. Два. Три. Пока не послышался тот самый, костяной хруст. Четыре. Он с силой вдавил его голову в землю.
Тот лежал. Дышал, хрипло, с присвистом. Живой. Алая кровь ручьем текла из носа, растекаясь по луже, смешиваясь с дождевой водой. Челюсть была перекошена набок, придавая лицу идиотское, нечеловеческое выражение.
Аня разрыдалась.
Не так она, наверное, представляла наше расставание.
— Лешка… — тихо произнес Вова. — Парень сломал дракону челюсть. Вот, что он сделал с ним. Конец.
Он спокойно подошел к своему зонту, поднял его, отряхнул. Улыбка не сходила с его лица.
Аня бросилась к своему любовнику, упала на колени рядом, зарылась лицом в его куртку. Ее плечи судорожно вздрагивали.
— Живой он, — сказал Вова, и в его голосе звучала почти нежность. — Я всего-то ему хирургическую операцию провел на рот. Зато базарить теперь не будет. Тебе ведь это нужно было, Ань? Чтобы он заткнулся? Ну вот, я выполнил твое желание. Люблю тебя, Ань. Зови на такие операции, если что. Буду ждать звонка, ну или сообщения. Как тебе проще, так и связывайся со мной. Твой единственный и неповторимый ангел, блядь, хранитель, Владимир. Ты пока займись им, помоги, он ведь важнее, чем я. Пока.
Он щелкнул кнопкой, и черный купол зонта снова раскрылся над его головой. Не оглядываясь, он вышел из двора, оставив за спиной плачущую девушку и окровавленное тело в грязной луже. Дождь усиливался, смывая с асфальта алые подтеки.
***
Кровь. Алая, живая, яркая. В ней можно купаться, в этой алости, утонуть. «Алые паруса» — дешевый фейерверк по сравнению с этим насыщенным, металлическим цветом. Нос, распухший и красный от кровотечения. Нос — индикатор, лакмусовая бумажка моего разложения. «Потри нос, все пройдет», — говорила мама в детстве. Но ничего не проходило. Ни черта не проходило. Кровь сочилась, упрямая, как дурная мысль. В детстве говорили — слабые сосуды. Херня. В армию, по крайней мере, не возьмут с такими сосудами, вот и плюс. Конечно, когда резко вставал, она тут же пускала свою красную струю, но не в таких же количествах. За последние два месяца эти кровотечения достали его, выели душу. Но сначала был звон в ушах, и мир плыл, как в дурмане. Потом приходила боль — тупая, раскалывающая череп изнутри. И только потом, как финальный аккорд, — кровь. О тошноте и говорить нечего — все и так ясно. Головокружение, тошнота, боль, кровь. Весь этот джентльменский набор за пару месяцев. Пустяк, а какие последствия.
От боли он корчился, гримасничал, как клоун в немом кино. Кричал в голос, но только внутри себя, чтобы никто не услышал. Лежал на холодном кафеле в туалете, дверь на замке, никто не войдет, не увидит. «Пусть мама услышит…» Но мама не услышит. Он никому не говорил о своей боли. Ни единой душе. Ни о головокружении, ни о тошноте, ни о кровавых ручьях из носа. Так лучше. Скажешь — начнутся волнения, сбор денег, жалостливые взгляды. А ему этого не надо. Молчать. Только молчать. Мать с отцом не должны знать. Ни в коем случае. Но узнать нужно одно: в какой именно области мозга засела эта тварь, эта опухоль?
Случайно пискнул от внезапного удара боли в виске. Не услышали. Слава богу. Услышат — начнутся вопросы. Нельзя, чтобы кто-то из родни знал. Нельзя.
Надо идти на обследование, — прошептало что-то внутри. Но как? Одному — страшно. Нужен кто-то. Кто-то, кто заслуживает правды. Кто не осудит, не станет жалеть, а просто поймет и услышит. «Пусть мама услышит…» — блевать тянет. Мама, зачем ты меня такого родила? Я не хотел болеть. Не хотел страдать. Не хотел жить в этом дерьме. Хочу уйти с достоинством, по-своему. Не так, как вы хотите — «надо до старости дожить». Я это понимаю. Я и сам хочу до старости, но жизнь мне этого не дает. Как сделать себе легче? Как жить, когда внутри тебя сидит бомба? Я всегда считал, что мелкие проблемы — для идиотов. Я и сам себе это внушал, и другим готов был рассказывать. Но у меня проблема не мелкая. Я могу умереть. И мне ничего не остается, кроме как ждать своей смерти. И она будет простой: я усну и не проснусь. Просто умру во сне от боли. И никто даже знать не будет.
Взял телефон. Пальцы скользнули по экрану, оставляя красные размазанные следы. Разблокировал, нашел контакт, написал:
«Помощь нужна, Вов».
Ответа не последовало сразу. Занят. Ну и ладно. Подождет.
Перевернулся с бока на спину. Взгляд упал на лужу крови на кафеле. Все было в ней. Туалетной бумагой можно убрать, она впитает эту алость, и потом — в унитаз, смыть. Может, девушки так же делают? Подтираются и смывают. Не моя проблема.
Намотал на руку груду бумаги. Протер сначала нос, потом пол, стену, которую заляпал, наконец, экран телефона. Выбросил кровавый ком в унитаз, спустил воду. Чисто.
Открыл на телефоне карты, нашел расположение клиники: около «Обводного», четыреста метров от станции. Близко. Хорошо.
Записался на МРТ головного мозга.
Экран телефона вспыхнул:
«Я к вашим услугам!» — печатал Вова.
Дима почувствовал, как что-то сжатое в груди на мгновение ослабло.
«Сходим в частную клинику, рядом с „Обводным“? Сегодня».
«О, я сегодня уже одну хирургическую операцию провел, а тебе зачем?» — его смех, казалось, просачивался сквозь пиксели экрана и разливался по стенам комнаты.
«По дороге расскажу. Пойдешь?»
«Конечно! Как мне другу не помочь-то? Где встретимся, больной?»
«Прямо у метро. Я буду через час где-то».
«Давай, буду ждать».
Собираться нужно. Через боль.
Сил не было, но он заставил себя подняться. Открыл дверь, прошел по коридору, почти бегом в свою комнату. Набросал в сумку самое необходимое. Ноги подкосились, и он приземлился на одно колено, больно ударившись. Застонал, но поднялся.
— Ты чего там? — донесся из соседней комнаты голос матери. Услышала.
— Поскользнулся просто, нормально все! — хрипло крикнул в ответ Дима.
— Осторожней! — присоединился отец из той же комнаты.
Не узнают. Не услышат. Не поймут. А если и поймут, то только в самом конце, когда я уже буду собирать вещи в путь. А умру я красиво. С честью, блин.
Переоделся, взял зонт, захватил сумку. Вышел из комнаты, мельком заглянул к родителям — сидят, вино пьют, что-то смотрят по телеку.
Приятного, блядь, просмотра.
— А ты куда? Там же дождь, — бросила мать, не отрывая взгляда от экрана.
— Погулять, с другом. Осень, гулять надо, мам.
— Ну ты там недолго!
Не узнаешь. Не услышишь. Не поймешь, мам. Никогда… Не хочу, чтобы вы знали.
Быстро накинул пальто, вышел из квартиры, щелкнул одним замком. Родители и так дома.
А если это не опухоль? Тогда что? Зря обследовался? Зря деньги потратил, и немалые? А если все-таки опухоль? Может, рассказать остальным? Нет, нельзя. Никто не должен знать. Разве что Вова. Только ему можно доверить эту тайну. Он не разболтает.
Открыл дверь на улицу, и ветер с грохотом захлопнул ее за его спиной. В лицо ударил сплошной стеной ливень. Отстегнул зонт, нажал на кнопку. Взмахнул рукой, и чуть не вырвало зонт из пальцев. Пришлось идти против ветра. Люди с зонтами шли, сгорбившись, — совершенно бессмысленное занятие. Трудно было сделать шаг, ветер сдувал назад. Зонт выскальзывал из рук и оказывался на расстоянии вытянутой руки. Ноги через несколько минут промокли насквозь, а пальто только начинало пропитываться влагой, тяжелея с каждой секундой.
Вот она, петербургская погода во всей своей красе. И ведь это здесь — обычное дело. Зачем вы сюда переезжаете? Чтобы вас потом обдувало нежным ветерком? Непривыкший сломается, развалится на части, рухнет на асфальт. А настоящий петербуржец — ни хуя. Настоящий петербуржец будет стоять на своем, идти до конца. До финала этой чертовой комедии! Пока ноги не отвалятся, пока руки не одеревенеют от холода. Мы же ебанутые, ходим по льду Невы зимой, кто-то проваливается, и их тела находят весной, когда лед растает. А вы, может, никогда не видели утопленников? А наши — не простые, они золотые. Замерзшие утопленники, как вам такое? В Москве тоже река есть, тоже замерзает, тоже тонут. Но она не такая. В Ростове — теплая речушка. Хер знает, как там вообще тонут.
Ветер крепчал, становилось все холоднее. Осень вступала в свои права.
Решил идти дворами. Вспомнил свой недавний сон, и по коже пробежали мурашки.
Вов, ты только не подведи, будь на станции. Один я не пойду в эту клинику, на хуй она мне сдалась. Хорошо, что ты свободен. Отнимаю у тебя время. Надеюсь, простишь как-нибудь. Хотя сегодня ты узнаешь, что это не просто так.
Вышел из дворов. Станция была уже близко. Осталось совсем немного.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
