
Бесплатный фрагмент - Ненормальные
20 житейских историй
ПРОЗА — НЕ ЖАНР
Житейские истории, да. Но не каждый увидит, услышит, не каждый осмелится написать. Острым глазом увиденное, неравнодушным сердцем пережитое. Пе-ре-жи-то-е.
Такая проза привлекает и держит чуткого, неравнодушного читателя — он слышит глухие стоны сердца, плач израненной души, смех сквозь слезы. В этой прозе бьется живая жизнь, в которой боль, тоска, радость заполняют межбуквенное пространство.
Светлана Куликова говорит о себе, что она начинающий писатель, переучивается из журналиста в прозаика. По факту так. Но на писателя не учатся — ни в студии, ни в Литинституте; ни в молодости, ни в зрелом возрасте.
Писателем становятся. Или рождаются. Только бывает, до поры это зернышко таится в глубине, не подавая никаких сигналов. И вдруг прорывается, бурно, неудержимо. Так было у меня. Я прозу свою не ждала, она пришла ко мне спасением от небытия — после смерти моей мамы.
Так и у Светланы Куликовой: вдруг пришло время «переучиваться в прозаика». Зрелый человек, состоявшийся профессионал, а вдруг потянуло в прозу. Не удержалась — затянуло.
Проза — не жанр. Деление на жанры вообще скучно. Проза — пространство души, без границ, без запретов; ныряй, наслаждайся, томись — не надоест, потому что это возможность открыть себя, открыться без оглядки.
Рассказы Светланы Куликовой сразу привлекли мое внимание. Интересные сюжеты о разных людях, обстоятельствах, неожиданные повороты и тонкое чутье на внутренние, глубинные переживания, состояния. Четкий взгляд журналиста и зоркий глаз художника, примечающий мельчайшие детали, создающие объем, живую картину.
Есть безусловные вершины: «Лавровый веник», «Козявка»… «Не уезжай, дочка» — это был первый, прочитанный мной, рассказ Светланы Куликовой. Я плакала от жалости и сострадания, от бессилия, от невозможности развести горе и одиночество главного персонажа. Плакала. Дорогого стоит.
Рада ПОЛИЩУК, писатель,
член Союза Российских писателей,
Союза писателей Москвы,
Союза журналистов России.
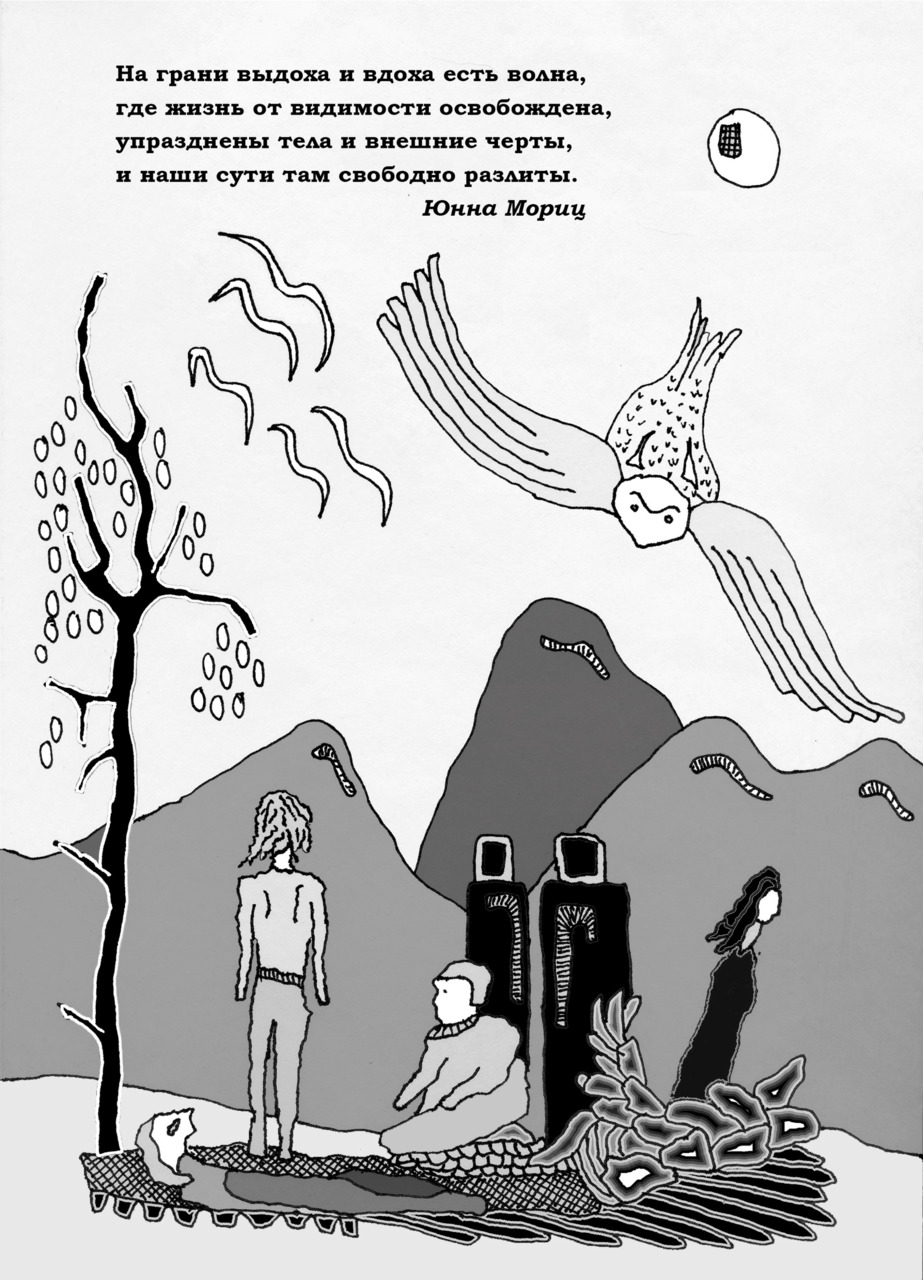
ЛАВРОВЫЙ ВЕНИК
Мотылёк рвался в небо. То отчаянно бил крыльями, оставляя на стекле пятна светлой пыльцы, то замирал обессиленно, а после снова вступал в бой с невидимой преградой…
Виктор смотрел в окно, но мотылька не видел. Лежал, закинув руки за голову, вытянув во всю длину кровати худое смуглое тело, и вглядывался в далёкие очертания гор, покрытых зелёной пеной лесов.
Продолжая не до конца развеявшийся сон, из закоулков памяти чёртиками из коробочки выскакивали разрозненные картины…
…С отрядом ополченцев он идёт по лесной тропе. Здесь, в зарослях у подножья Мамзышхи для них оставлены боеприпасы и продовольствие. Наклоняется, уравновешивая тяжесть поклажи за плечами, но смотрит не под ноги, шарит взглядом по сторонам — не сверкнёт ли в кустах вражеская оптика, не шелохнутся ли ветки от неловкого движения неприятеля в засаде.
За растяжками на маршруте следит Каба. Чёрный, сухой как обгорелая коряга, всегда по-звериному настороженный, он во главе отряда скользит по траве бесшумным шагом.
Его острый взгляд проникает, кажется, даже под землю. За Кабой, след в след, ступают Халиф, Беркут, Моргун…
У всех наёмников прозвища, настоящие имена-фамилии известны только командованию. Виктор своё ещё на краснодарском рынке получил: обрезали грузчики длинную фамилию Котляревский, и стал Витя Котом…
Где находится и как помечен тайник, знает лишь замыкающий цепочку командир Сандро. Имя родное — абхазские ополченцы в отряде не шифруются, все они из одного села, знают друг друга.
Тихий свист — знак: Сандро видит метку. Бойцы скидывают рюкзаки, оружие, устраиваются на привал. Краем глаза Кот замечает: Каба небрежно свалил свой груз под куст, забросил автомат на плечо и, не таясь, направился к лесу. Отходить от лагеря без напарника запрещается, только Каба всегда ведёт себя так, словно имеет право на особое положение. Его не окликают, не останавливают — никто не хочет связываться с наглым, взрывным, но вместе с тем опытным и осторожным наёмником, даже командир. Только сейчас и Сандро не видит Кабу — обнаружив схрон, он оставил за старшего своего зятя Лазаря и в сопровождении двух ополченцев ушёл в сторону трассы на Сухум. В отряде все знают: командир отправился на очередной инструктаж — и над ним есть власть. Абхазы верят: свои спецслужбы опекают, наёмники спорят: настоящие хозяева — российские гэбэшники. Коту те разговоры не интересны, никакой разницы ему нет, из чьей казны деньги капают.
Кот оглядывается — все бойцы заняты: разбирают содержимое тайника, оборудуют стоянку. Он медленно поднимает оружие и, не спеша, идёт в ту сторону, где за деревьями скрылся Каба…
— Эй! Ты сегодня вставать думаешь? — в комнату вошла Люда, остановилась в дверях.
Виктор потянулся, не стыдясь наготы. Чего стесняться? Не первый день живут как муж и жена. С Людой хорошо — заботливая и без претензий. Правда, старше на двадцать пять лет, только Витя разницы в возрасте совершенно не ощущает. Фигурка у Люды тонкая, лёгкая; лицо, конечно, усталое, с морщинками, но он привык, не замечает ни усталости её, ни морщинок.
— Вставай, Витюша, уже восемь. Закан к тебе приходил, сказал: дело есть.
Виктор не ответил. Натянул простыню, отвернулся: наплевать ему на Закана. Дело у него! Знаем мы это дело: вчера лавровые вязки на границу увезли, надо новые делать. Обойдётся.
Женщина немного постояла в дверях и вышла.
Когда этот сероглазый, смуглый, длинный и жилистый как цыганский кнут, парень появился в её доме, Люда не собиралась с ним связываться — мужа ждала. Павел ушёл в лес за лавром и пропал. В селе лавром многие промышляют: режут в лесу ветки, вяжут в пучки и за копейки сдают на границе перекупщикам. В Ставрополе, Краснодаре, Москве абхазскую лаврушку продадут в разы дороже, но попробуй, провези её через кордон — замаешься взятки раздавать. В ополчение Павел не прошёл из-за увечья — в детстве конь лягнул, с тех пор левая лодыжка не гнулась; ходил медленно, словно крался, бегать вообще не мог…
Хлопнула за Людой дверь. Виктор закрыл глаза. Отсекая настоящее от прошлого, вернулся сон.
…Бойцы разбирают содержимое тайника, ставят палатки, никто на Кота не смотрит. Он медленно поднимает автомат и, не спеша, идёт в ту сторону, где за деревьями скрылся Каба.
Шаг у Кота спокойный, ровный, а внутри напряжённо дрожит невидимая струна: так бывало перед дракой, когда после сельской дискотеки сшибались местные парни с городскими. И на охоте, когда захлёстывал азарт, предощущение меткого выстрела — победы над чуткой и быстрой жертвой. Но здесь… Здесь не только охотник добычу, добыча охотника тоже выслеживает, и неясно, кто кого первым врасплох застанет.
Каба ходит бесшумно да быстро, мог далеко уйти. Мог, но вряд ли ушёл, скорее, притаился где-нибудь и травку курит. Сандро под угрозой расстрела запретил спиртное и наркоту, так Каба — это все знают — втихаря анашу смолит. А может, просто кемарит в тени, от общих дел, как обычно, отлынивает.
Кот идёт медленно, постоянно осматривается, вглядывается в заросли, прислушивается. Он впервые в лесу без напарника, не прикрыт — словно голый на площади. Шуршит жёсткими листьями лавр, бурлит за деревьями быстротечная Бзыбь. Разбегаются тропинки. Не видно следов. Отряд уже далеко позади, а Кот так и не настиг Кабу.
Может, возвратиться? Но когда ещё такой удобный случай представится, чтобы Каба впереди, а Кот за ним? Если сейчас отступить, повернуть назад — они поменяются местами. Нет, надо идти дальше…
Вдруг лёгкий шорох справа. Кот быстро ныряет за дерево. Впереди мелькает мужская фигура. Худой человек в чёрной куртке с капюшоном медленно идёт к реке… Остановился. Кот прерывисто дышит приоткрытым ртом. Главное, не торопиться, не выдать себя.
Трепещут листья, между ними сверкает вода, солнечные блики слепят, мешают рассмотреть цель. Кот щурится, смаргивает, хочет подойти ближе, но опасается: Каба если и не увидит его, то обязательно почувствует. Страх и ненависть душат Кота, сжимают сердце, руки начинают дрожать, ладони потеют. Отбросив сомнения, Кот прицеливается в тёмный силуэт и нажимает на спусковой крючок.
Звук выстрела растворяется в шуме реки…
О войне на Кавказе Витя Котляревский узнал в Краснодаре, на рынке. Быстроглазый, энергичный торговец мандаринами Заур, не жалея времени и слов, рассказывал грузчикам, как грузины веками притесняли абхазов, а подлый Гамсахурдия окончательно набросил удавку на шею свободолюбивого народа. Набросил, но не задушил, не поставил на колени! Мужчины уходят в леса, гонят неприятеля, но тяжело им биться за свободу и независимость Родины — силы неравные! Горячие свои речи Заур неизменно заканчивал призывом помочь абхазским братьям и при этом обещал такое вознаграждение, о каком ни один грузчик даже и мечтать не смел.
— Чё, прямо вот так: любой может пойти воевать? — удивлялся Витя-Кот. — Даже если в армии не служил?
— В армии тебя чему научат? Портянки наматывать и морды салагам бить, — смеялся в ответ Заур. — Но вначале сам от «дедов» не раз получишь. А главное, кто твоим родным поможет, пока ты два года будешь по плацу кирзой стучать?
Виктора, ожидавшего осенней повестки, не пугали слухи о жестокой армейской «дедовщине». Драться он умел, без этого пацану в станице кисло жить — ни мужики, ни девки уважать не будут. И оружие в руках держал — с детства с отцом ходил на зайцев, мог даже в меткости с ним посоперничать. Только раньше и думать не думал, что этими умениями можно зарабатывать.
Раньше всё было ясно-понятно: детство, учёба, работа. Хорошо работаешь — хорошо получаешь, есть деньги — можно жениться. Анжелка… Она училась в параллельном классе, жила по соседству. Когда, вслед за Советским Союзом, в одночасье развалился колхоз «Ленинский путь», многие сельчане метнулись, кто куда. Анжелика подалась в Москву. Виктор хотел с ней уехать, да не вышло. Отец не вынес краха недостроенного социализма, парализовало его.
В то же время мать — колхозный ветврач, старшая сестра — табельщица и сам Витя, только-только окончивший сельхозтехникум, все разом оказались безработными. Семейные сбережения быстро ушли на врачей и знахарей, лекарства и снадобья. Только ничего не помогло, так и остался Котляревский-старший лежать в беспамятстве с перекошенным ртом.
Сестра первой себе другое дело нашла: начала возить шмотки из Турции и торговать из-под полы. Но когда на границе её свои же таможенники обобрали, бросила всё и уехала в Сочи: в курортном городе даже в трудные времена туристов много, потому всегда есть работа. Устроилась официанткой, хахаля завела. Домой приезжала редко, ненадолго, но успевала брату всю душу вымотать упрёками: здоровый лоб, а с мамкой в огороде грядки пропалывает да корову пасёт — не стыдно?
Виктор злился, ругался с сестрой, с матерью, даже на младенчески беспомощного отца срывался, но выхода не видел. И взрослые-то мужики работы не могли найти, а с парнем без опыта да без пяти минут призывником ни один кадровик даже разговаривать не хотел.
В активе у Вити Котляревского имелись лишь профессия механизатора, пара крепких рук и упёртый характер — с этим и отправился в Краснодар.
Поначалу сунулся в автопарк, хотел водителем наняться. Только тут тоже всё в деньги упёрлось: директор за трудоустройство большую мзду затребовал. Просить помощи у родителей, едва сводивших концы с концами на инвалидную пенсию отца, Виктор постыдился, у сестры не захотел — помнил её устало-возмущённое лицо да обидные слова. Скрипнул зубами и бесплатно устроился на рынке грузчиком. Там же дёшево снял койку у торговки семечками, там и с Зауром познакомился.
— Мужчина не имеет права смотреть, как его родные голодают, — разливая кислое домашнее вино, отечески внушал Заур. — Нужна работа? Вот, война — самая что ни на есть мужская работа. Ты же Виктор — победитель, значит! Тебе нельзя сдаваться!..
Война в рассказах вербовщика больше походила на турпоход: всех наёмников обеспечат необходимым снаряжением, научат пользоваться оружием, правильно вести себя в лесу, останется лишь разумно действовать — и не попадёшь ни в плен, ни под пулю. Но окончательно решила дело обещанная крупная сумма.
О том, что вступил в ряды освободителей Абхазии, Витя никому не сказал. Домой, правда, съездил, с родителями попрощался. Отцу, не узнавшему сына, пожал вялую руку, матери соврал, что нашёл работу в Адлере, даже билет показал. Но не в поезд сел, а в «газель» друга Заура — хмурого чернобородого Александра Даудовича.
По дороге машина несколько раз останавливалась, к Виктору присоединились ещё пятеро мужчин. Ехали молча, не глядя друг на друга. Границу миновали без задержки, никто фургон не остановил, документы не спросил.
Поздно ночью Александр Даудович, он же командир отряда Сандро, привёз их в прибрежное село, поселил на окраине, в бывшем пансионате, приспособленном под военный учебный центр. Здесь инструкторы учили новичков стрельбе и приёмам рукопашного боя; рассказывали о правилах поведения в лесу и благородной миссии защитников братского народа.
Вскоре Виктор понял: хоть и связаны завербованные бойцы одним делом, но друг другу чужие. От каждого нужно держаться подальше, иначе обязательно найдётся подлая сила, будет давить тебя на потеху другим, и никто её не остановит.
Отчего Каба решил, что с Виктором такой номер пройдёт, непонятно, только сразу начал к нему цепляться. Поначалу мелочно доставал: то толкнёт, то обзовёт. Виктор молча кипел, понимал: Каба старше и сильнее. Однако вскоре мелочи закончились: Каба подкинул Виктору в рюкзак блок дорогих импортных сигарет и сам же его там «нашёл». После крыл «вора» матом, смотрел с вызовом злыми глазами, поигрывая ножом, — ждал ответной реакции. Другие наёмники собрались вокруг них и с весёлым азартом наблюдали стычку, улюлюкали, подталкивая к драке, разве что на победителя не ставили. Витя тогда копчиком ощутил: от того, позволит он сейчас взять над собой верх или нет, зависит его дальнейшая судьба. В единственный удар он вложил всю силу, какую смог собрать внутри своего вибрирующего негодованием и страхом тела, и всадил кулак точно в горбатую переносицу.
Каба рухнул и несколько секунд лежал под сочувственно-насмешливые комментарии мужиков. Потом встал, сверкнул из прищуренных угольно-чёрных глаз лютой злобой — будто выстрелил, усмехнулся и отошёл, утирая рукавом кровь. С того дня он прекратил доставать Виктора, вроде как вообще перестал замечать, но скрытая ненависть искрила между ними предгрозовым напряжением, не позволяя Виктору даже во сне забыть тот взгляд, обещающий смерть.
Через пару недель отряд Сандро — два десятка ополченцев и наёмников — ушёл в лес. Всем выдали оружие и показали, в какой стороне враги.
Сандро жёстко держал дисциплину в отряде, а его заместителю Лазарю на это авторитета не хватало. Как только командир отбывал на инструктаж, Каба, если не смывался в одиночку невесть куда, начинал мутить воду: постоянно кого-то задирал, с кем-то ссорился. Однако до открытых драк, как это случалось в учебном центре, не доходило — Сандро сразу предупредил: кто в лесу междоусобную войну развяжет, того он сам лично без суда расстреляет.
Виктор не приближался к Кабе, старался даже не смотреть в его сторону, но если и не видел, всегда знал, где тот находится и чем занят.
Командир возвращался, привозил разведданные о грузинских группировках и приказ: найти, уничтожить. Отряд снимался с места, перемещался ближе к предполагаемому расположению врага.
Ожидание боя будоражило, заставляло мышцы напрягаться, сердце стучать быстрее. Отражение своего возбуждения Виктор видел в глазах сослуживцев. Никто не думал, что идёт умирать, все шли убивать. Виктор заходил на позицию чуть впереди своего постоянного напарника — опытного и осторожного Лазаря.
— Кот, куда прёшь? — возмущался Лазарь. — Не лезь, успеешь на тот свет!
Виктор не мог объяснить, что опасается врага с тыла больше, чем пуль с фронта, пусть уж Лазарь принимает его страх за безрассудство и мальчишеский боевой азарт.
Однако обнаружить лагерь неприятеля и вступить в открытый бой им ни разу не удалось — грузины успевали уйти. Досадуя, что опять «пар ушёл в гудок», ополченцы шли прочёсывать местность.
— Стреляйте в того, кто навстречу идёт, — наставлял Сандро. — Навстречу, значит с той стороны, значит, враг. Всё. Думать не надо. Мы защищаем свою свободу, а потому правы, даже если ошибаемся.
Вечерами бойцы собирались в лагере, выставляли дозор и укладывались на ночлег, ощущая себя настоящими воинами, защитниками. Рассказывали друг другу об удачно подстреленных бандитах-одиночках. О двух своих товарищах, погибших от пуль грузинских снайперов и погребённых в лесной чаще, старались не вспоминать. Оба погибшие были наёмниками, никто их близко не знал, но после похорон все резко посерьёзнели, стали собраннее и осторожнее.
В лес, даже по нужде, Кот ходил строго по инструкции — с напарником. Разменявший шестой десяток Лазарь казался Коту стариком, и Кот относился к нему почтительно. Оба молчаливые, неторопливые, они отлично ладили, однако близко не сходились. Лазаря удивляла не свойственная молодости постоянная настороженность Кота. Когда прочёсывали лес, Лазарь видел: Кот не трус. Тем непонятнее был затаённый страх в глубине его глаз.
Разгадывать чужую тайну Лазарь не рвался, потому не придал большого значения рассказу Виктора о конфликте в учебном центре. Да и говорил тот про подкинутые сигареты и разбитый нос Кабы со смешком.
— Он когда встал, я думал, меня с говном смешает… Он ведь чечен, да? Чечены обиды не прощают, — небрежно покусывая травинку, рассказывал Кот, сидя рядом с Лазарем на привале.
— Кто чечен? — удивился Лазарь. — Каба? Ты почему так решил? Да он вообще не с Кавказа! Из Казахстана он. В тюрьме там сидел. Потом, как началось это… ну, разделение Союза, выпустили всех уголовников, пошёл воевать. После Казахстана, Сандро говорил, Каба в Карабахе воевал. На чьей стороне — не знаю, врать не буду. Потом как-то в Турции оказался. А потом к Малхазу прибился, тот его к Сандро привёл.
Малхаза, тоже ополченца из отряда, Кот знал. В самом начале перестройки Малхаз удачно заполучил в собственность причал близ села и занялся браконьерской вырубкой бука. По ночам отправлял баржи с ценной древесиной в Турцию. Оттуда деньги ему привозил специальный курьер, которого узнавали в лицо и пропускали все подкупленные охранные службы.
— Вот раньше Каба и был таким курьером, — подтвердил Лазарь. — А потом он и с турками разругался, и с Малхазом. Знаешь, как с турецкого «каба» переводится? Грубый, наглец. Он же такой, этот Каба, всегда хочет скандалить.
— И никто ему в морду не дал?
— Почему? Получал, и не раз. И ничего. Каба с виду страшный. На самом деле трус, как все урки, и кроме денег ему ничего не надо. Ты не думай, он, даже если и не забыл, как ты ему нос расквасил, до конца войны ничего тебе не сделает. Ему Сандро пригрозил: если в отряде драться будет, денег не увидит как своих ушей. Вах, Кот, я знаю: для Кабы эта угроза страшнее смерти.
Лазарь добродушно рассмеялся, но ничуть Виктора не успокоил. Наоборот, чем больше хороших новостей об удачных операциях абхазов привозил Сандро, тем тревожнее становилось на душе у Виктора: со всей очевидностью приближался день окончания войны, а значит и день, когда Каба получит свои деньги.
Между набегами на предполагаемые стоянки неприятеля местные ополченцы втихаря навещали родственников, а наёмники доставали карты. Играли без «интереса»: Сандро строго-настрого запретил ставки. Кабе такая игра претила, но спорить с командиром он не смел и, вслед за абхазами, тоже стал куда-то исчезать. Возвращался с сумкой, полной сыра, мяса, фруктов. Говорил, оскаливая в усмешке крепкие зубы: «У меня в каждой деревне девочка. Любят они меня. Угощают». Мужики ему не верили. Ходили слухи, что Каба мародёрством промышляет. Однако консервы всем надоели, еду брали. Виктор ни разу не взял, чем ещё больше раздражал Кабу, а после одного случая окончательно уяснил: на войне в живых остаётся тот, кто стреляет первым.
В тот день они с Лазарем патрулировали окрестности поляны, где, ожидая командира, в очередной раз отбывшего к своим кураторам, отряд стоял лагерем.
Странные звуки со стороны густых зарослей первым услышал Виктор и обратил на них внимание Лазаря. Взяв оружие наизготовку, они двинулись туда, откуда доносились хруст, шелест и то ли хрип, то ли стон. Лазарь осторожно раздвинул ветви и отшатнулся. Прижав палец к губам, жестом позвал: взгляни.
Виктор вначале ничего не понял, показалось: в куче тряпья борются два голых человека, — но тут же сообразил: нет, не драка. Это мужик в чёрной куртке с капюшоном и спущенных штанах пытается насильно овладеть женщиной. Лицо её закрывал задранный подол, голые ноги метались, бились о траву, она не кричала, мычала сдавленно.
Лазарь махнул рукой, дескать, давай, пошли, не наше дело. Но Виктор этого жеста не увидел. Беззащитные женские ноги вдруг вызвали в памяти образы матери, сестры, школьной подруги Анжелки… В глазах потемнело, стало нечем дышать. Не помня себя, он ломанулся через кусты и с силой ударил прикладом по чёрному капюшону. Мужик обмяк, а женщина всё билась и билась под ним, теряя силы и затихая. Лазарь одним рывком сбросил с неё неподвижное мужское тело с голым задом и почему-то одной голой ступнёй.
Стараясь не замечать обнажённой плоти, Виктор опустил женщине подол платья и понял, зачем мужик снял ботинок — грязный носок торчал изо рта жертвы, в вытаращенных карих глазах застыл дикий ужас. Она была немолода, возможно, вдова — во всём чёрном. Насильник стянул ей руки за спиной рукавами спущенной с плеч блузки, вялые груди с большими тёмными сосками выпали из разорванного лифа.
Что-то успокаивающе приговаривая по-абхазски, Лазарь помог женщине освободиться, привести одежду в порядок, и она, пошатываясь, слёзно причитая, заспешила прочь.
Виктор не смотрел в её сторону. Отвращение, стыд, гнев горячо пульсировали в висках. Он с размаха пнул насильника по смуглой заднице, прицелился ему в голову, готовый выстрелить, но тот застонал, сел, и Витя узнал Кабу.
Неизвестно, как дальше развернулись бы события, если бы не Лазарь. Старый абхаз мгновенно сориентировался и представил дело так, будто патрульные только что нашли Кабу лежащим без сознания и без штанов.
Предостерегающе поглядывая на Виктора, Лазарь сочувственно успокаивал Кабу:
— Наверное, этих негодяев было много, раз они сумели победить такого сильного парня, как ты, Каба. Смотри-ка, голову тебе разбили… Но, слава богу, ничего не успели с тобой сделать, удрали, как нас услышали. А снятые штаны — это пустяк, это не позор. И вообще, Каба, ты ведь знаешь: все грузины пидарасы, поэтому надо их убивать. Сначала их самих, а потом и память о них. Мы ведь этим здесь и занимаемся, да? Слышь, парень, ты не беспокойся, никто не узнает, клянусь здоровьем своих детей, я никому ничего не скажу! И Кот не скажет.
— Так ведь, Кот? — обернулся Лазарь к Виктору, впавшему в ступор: в ушах гудело, в глазах метались зелёные блики, из живота поднимался к горлу тошнотворный комок. — Будешь молчать? А?
— Да, — сипло выдавил Виктор. У него так кружилась голова, словно не он, а ему врезали прикладом по черепу.
Глядя, как искренне возмущается Лазарь, как уважительно помогает Кабе встать и одеться, как бережно ведёт под руку, Виктор понимал: мудрый напарник спас ему жизнь… Хотя… может, и не спас. Ненависть, с какой смотрел Каба, означала: он не верит ни единому слову.
Не умом даже, нет, всем своим дрожащим нутром, всей молодой, живой, полнокровной плотью Виктор понял: злая память Кабы обязательно потребует жертвы, и отныне главная задача — этой жертвой не стать…
До конца сентября и взятия абхазами Сухума они кружили по лесам в окрестностях горы Мамзышхи, выбивали противника по одному, по двое-трое, выслеживая и подстреливая из засады. Трупы оставляли на месте, даже не подходили к ним.
Виктор тоже стрелял и тоже, вероятно, попадал в грузинских захватчиков, но в лицо убитому им человеку глянул только раз. Теперь часто видит. Во сне.
…Звук выстрела растворяется в шуме реки.
Кот сразу понимает: попал. Вначале стоит, оцепенев, затем медленно приближается к неподвижному телу. Надо убедиться: смертельно опасного врага больше нет, можно ходить, не оглядываясь, крепко спать, не вздрагивая от близких шагов, смеяться открыто, не скрываясь от злых чёрных глаз, уставленных на Кота с прищуром, словно в прицел… Можно дальше жить спокойно.
Спокойно. Жить. Можно.
Каба лежит лицом вниз, голова закрыта чёрным капюшоном, слева на спине в куртке рваная дыра. Надо перевернуть… Кот толкает труп ногой — не получается, слишком тяжёлый. Тянет одной рукой за плечо, в другой — автомат наготове. Тело мягко перекатывается на спину, и Кот покрывается холодным потом: перед ним не Каба, а совершенно незнакомый мужик лет сорока. У него бледное лицо, светлые волосы и мёртвые голубые глаза. Они смотрят на Кота спокойно, без гнева, без ужаса, смотрят и не видят — чужие голубые глаза. Этого человека Кот не знает. Не знает, но убил. За что? За то, что у него худощавая фигура, чёрная куртка и крадущаяся походка. Рядом с ним под деревом — вязанка лавровых веток. Он местный, резал в лесу лавр, а Кот его убил. Он не грузин и не Каба, он случайный человек. Кот случайно убил случайного человека, похожего на врага. Ошибся.
Убийство на войне — не преступление… «Мы правы, даже если ошибаемся», — так учил командир Сандро. Идёт война, неизвестный мужчина погиб на войне, как те двое наёмников, которых похоронил отряд — своих положено хоронить. И этого случайного человека нельзя оставить гнить в лесу, словно врага. Нельзя.
Кот руками начинает рыть мягкую рыхлую почву. Пот ест глаза, из-под ногтей выступает кровь. Он сталкивает ещё податливое тело в выкопанную яму и торопливо закидывает землёй, ветками, листьями, спиной остро ощущая направленное на него оружие живого и невредимого Кабы. Хочет остановиться, обернуться, но не может и бросает, бросает всё, что попадает под руки.
Бросает, покрываясь едким потом, умирая от тошнотворного страха, скрутившего нутро. Куча быстро растёт и вырастает в огромную тяжёлую гору. Эта гора накрывает Кота, он задыхается, пытается выбраться, кричит, машет руками, ногами…
И просыпается.
С усилием Виктор расслабил судорожно скрюченные пальцы, разжал челюсти, перевернулся на спину. Сердце больно колотило о рёбра. Простыни сбились в мокрый ком.
С первого этажа, из кухни послышались громкие голоса. Спорили Люда и какой-то мужчина. Похоже, Закан, это его голос рычит и булькает так, словно спустили воду в унитазе. Хитрая лиса этот Закан, сейчас припрётся и будет уговаривать присоединиться к компании в сарае. Дескать, это не он со своими вениками, это боевые братья зовут Витю поговорить о той поре, когда каждый из них ощущал себя больше, чем просто мужчиной.
Виктор в тех разговорах не участвует. Лишь в самом начале, когда Закан впервые собрал сослуживцев за лавровыми посиделками, на расспросы мужиков, отчего на родину не едет, объяснил: «Я там кроме военкомата никому не нужен. Только дома появлюсь, сразу в армию призовут. Не хочу. Хватит, отвоевался».
Когда Сандро привёз в отряд новость: Сухум освобождён от захватчиков, местные ополченцы встретили известие восторженными воплями, а наёмники растерянно — большинству предстояло возвращение в безработицу и безденежье.
Односельчан командир распустил по домам, остальных повёл обратно в учебный центр, где каждому обещал приют до полного расчета и отъезда на родину. Или до заключения нового контракта, если политическая ситуация изменится и возникнет такая необходимость. Виктору Сандро предложил поработать помощником «у одной доброй женщины» и привёл к Людмиле.
Виктор тогда сразу предупредил: дождётся расчёта за войну и уедет домой. После прошёлся по дому, на ходу выслушивая от хозяйки, где что нужно поправить-починить. В спальне бегло оглядел стену над комодом, увешанную фотографиями в разнообразных рамках, и вдруг замер, упёрся взглядом в большой портрет светловолосого мужчины.
— Ты чего? — удивилась Люда. — Знаешь его? Да? Может, встречал где?
Виктор пожал плечами, буркнул:
— Нет. Показалось. А кто это?
— Муж мой, Павел. Смотри сюда: здесь надо ставень прибить…
— Где он?
— Тут, вот ставень…
— Муж твой где?
— Кто ж его знает? Пропал. Может, другую нашёл, а может… Не знаю. Гляди сюда: в люстре патрон сгорел, надо заменить…
— Русский?
— А? Кто?
— Муж твой. На абхаза не похож.
— Да нет, мать у него была с Украины, как и я, мы по соседству жили. Отец местный грузин, срочную служил у нас, на Черниговщине. Пока служил, сделал ребёнка, а после…
— В каком смысле «местный грузин»?
— В обычном. Думаешь, тут одни абхазы? Как бы не так!
— Сандро говорил: чисто абхазское село.
— Слухай его больше. Тут чёрт мешал — всяких кровей намешал. Тут и адыги, и абхазы, и грузины — эти, чтоб ты знал, тоже между собой разнятся: мегрелы есть, имеретинцы, сваны… Вот мой Паша как раз от свана родился, они все рыжеватистые и глаза светлые. Русские чуть не в каждом доме: если не дед или бабка, то невестка — местные своих девок на сторону плохо отдают, а себе берут хоть с Африки, любую возьмут, в Абхазии женщин мало… Еврей жил, сам на русской женатый, а зятья у них — один абхаз, другой армянин. Они первыми уехали, как буча поднялась. Верно тебе говорю: у нас тут на кого ни глянь, все полукровки…
— А как же… Чего тогда… воюют?
Люда всплеснула руками, округлила чёрные глаза:
— Ты чё такой наивный? Политика, б…! Жили себе и жили, нет, кому-то куска не хватило! Та шоб им, подлюкам, хорло разорвало!..
Возмущённая Люда раскраснелась, помолодела, в речи явственно проступил украинский говор. Виктор того не заметил. Ему вдруг сделалось жарко в прохладной комнате, даже пот прошиб, взгляд непроизвольно тянулся к лицу светловолосого мужчины. Виктор с усилием отвёл глаза, принялся разглядывать другие снимки, но и на них видел Павла — где с Людой, где с какими-то мужчинами… женщинами… ребятишками… Тряхнул головой, сунул в карманы непроизвольно сжатые до побелевших костяшек кулаки, спросил:
— Ваши дети?
— Не, то его родня и мои племянники с Черниговщины, давно уж не виделись… У нас одна дочка. Вот, Тамарочка…
Люда сникла, погладила фото смеющейся девушки в цветочном венке на тёмных волосах, ладонью отёрла пыль. Вздохнула.
— Далеко она, в Канаде. Мы с Пашей для неё одной жили. В Москве на врача выучили. Думали, вернётся, а она в восемьдесят восьмом уехала. Там замуж вышла… Мы вначале получали письма, потом перестали, вот уже… второй… не, третий год ничего. Ладно, то всё не твоё дело, твоё — дом мне поправить. И вот ещё что: могу тебя кормить, комнату выбирай любую, хоть внизу, хоть наверху, а денег у меня нет.
На том и сошлись: платой за работу Виктору будут стол и кров. А потом… Что же делать, если он молод и здоров, да и она ещё не старуха. А на сплетни наплевать, люди всегда найдут, за что осудить одинокую женщину.
Люда и верила, что муж вернётся, и не верила. Порой была убеждена: Павел сбежал от войны. И тому был повод. Как стали доходить до них известия о погромах в Сухуме, он забеспокоился. Хотя вырос на Украине и жил под материнской фамилией, в селе все знали, что отец его — грузин, что своего единственного сына, пусть внебрачного, признавал, любил, дом свой ему подарил и был им же на сельском кладбище похоронен. Павел уговаривал жену перебраться в Россию, грозил без неё уехать, если не согласится. Она не спорила, но и собираться не спешила. Тянула время, надеялась: авось, до их насквозь интернационального села не докатятся столичные раздоры, дурная заваруха скоро закончится. Вот и дотянула — осталась одна, а Павел спокойно живёт где-то с другой бабой.
А то вдруг одолевали её сомнения, что после двадцати лет мирной совместной жизни муж мог уехать, не прощаясь. Может, убили его? Вон, сколько по лесам мутного народа шастает, — думала Люда, но тут же пугалась таких мыслей. Нет-нет! Если бандиты застрелили Павла, ополченцы давно нашли бы его тело. Все знают: убитых враги не уносят и не хоронят в лесу… Конечно, он где-то устроился, поживает себе спокойно и в ус не дует. Значит, и ей можно простить новую жизнь.
После войны она сама попросила старосту найти ей помощника по хозяйству. Дом двухэтажный, четырнадцать комнат — в добрые времена они с Павлом толпы отдыхающих принимали, плюс сад, огород… В две женские руки не справиться. Да и страшно стало жить, — мародёры продолжают в село наведываться.
Кто эти люди в чёрных масках, откуда приходят — неизвестно. Пробегутся по домам и скроются. Только что в тех домах найдёшь, если курортники второе лето сюда не заглядывают? Мужикам работы нет. Семьи кормят женщины: возят в Гагру на рынок сыр, фрукты, мёд… Вот еду бандиты и выгребают да вещички, что поценнее. Небогатая нажива, но хозяевам и того жаль. Пробовали в милицию жаловаться — без толку. Говорят, один жалобщик свою бензопилу у самого начальника автоинспекции видел. Так что лучше давать отпор грабителям своими силами прямо с порога. Виктор для этого вполне подходил: хоть и молод, и худ, но характер у него крепкий и кулак быстрый. Делает всё, что скажешь, да ещё и подрабатывает немного — как ни крути, а копейки за лавровеники складываются в совсем не лишние рубли. Ему, наверное, бывает скучно, только он никогда этого не показывает и уезжать не собирается. Так и сказал однажды: «Мне и здесь хорошо».
— А вдруг да Павло возвратится, тогда что? — однажды спросила Люда.
Виктор помрачнел, буркнул раздражённо:
— Там видно будет.
Людмила чувствовала: есть у парня за душой какая-то тоска. Обычно спокойный, даже флегматичный, временами Витя становился озлобленно-раздражительным. Начинал бессвязно кричать во сне, метаться. Тогда Люда обнимала его, словно ребёнка, напевала тихонько бабушкину колыбельную: «Ой, у гаю, при Дунаю…», и он затихал, уткнувшись в худенькое женское плечо.
Они никогда не говорили о чувствах, о планах на будущее. Просто жили, каждый в своих мыслях и ожиданиях, словно врозь.
Вместе, но врозь.
Чествовать победителей в село приезжали какие-то военные. Они говорили пламенные речи о национальной гордости, свободе, победе и вручали награды.
Кабе тоже дали орден — посмертно. В последние дни войны он снова в одиночку ушёл из отряда и пропал. О дезертирстве никто не подумал — без денег Каба никогда не сбежал бы. Сандро отдал приказ прочесать лес, найти живым или мёртвым. Искали долго, обнаружили в полутора километрах от лагеря с простреленной головой: попал-таки Каба под пулю грузинского снайпера. Похоронили с почестями. Вот тогда, на траурном митинге, Виктор узнал настоящие имя-фамилию Кабы — простые русские фамилию, имя и отчество.
Виктора Котляревского ничем не наградили, но обещанные большие деньги выплатили сполна. Всё до копейки он отослал матери, сообщил, что жив-здоров, живёт в Абхазии, занимается лавровым промыслом. Пока мало зарабатывает, однако скоро сюда, к морю, солнцу, мандаринам вернутся курортники, деньги будут, и тогда он ещё пришлёт. Про Люду написал коротко: «Живу у женщины».
Заскрипела лестница под тяжёлыми шагами грузного абхаза. Наконец, Закан, пыхтя, добрался до спальни:
— Эй, слушай, сколько можно лежать, а? Бока будут заболеть! Посмотрите на него, а, валяется как тюлень на берегу и мечтает! Пойдём, а, расскажешь всем, о чём может мечтать такой молодой и сильный мужчина!
Виктор окончательно проснулся и лежал с закрытыми глазами. Знал: если откроет, увидит тёмный прямоугольник на выцветших обоях. Раньше там висел портрет голубоглазого светловолосого мужчины по имени Павел. Люда его сняла, когда Виктор стал спать в этой комнате, в этой постели…
Закан стоял в дверях, ничуть не смущаясь отсутствием реакции на своё появление, и расписывал, как замечательно однополчане проведут день за выпивкой и воспоминаниями:
— Слышь, Кот, такое вино Эсма приготовила, а! Только тебя все ждут.
Вспоминать месяцы непрерывного страха, смешанного с удушающей ненавистью Виктору не хотелось. Однако другой возможности провести время с мужиками в прохладном сарае, а не с Людой в огороде на жаре у него не было. Конечно, он пойдет, но не сразу, не по первому зову, а когда сам захочет. Будет вязать лавровеники, пить молодое вино и молча слушать разговоры победителей.
Мотылёк на стекле выбился, наконец, из сил и замер, обречённо сложив оббитые крылышки.
__________________
Благодарю за помощь консультата —
майора ФСБ в отставке М. М. Павлова.
Имена героев событий 1992 г. изменены.
ГОЛОС
История эта случилась в одном уральском областном городе в начале 90-х годов прошлого века, в так называемом «обкомовском» доме.
Дом тот отличался от обычных домов особо комфортной планировкой и изысканной отделкой, а в подъезде, — что важно для нашего повествования — круглосуточно дежурил вахтёр. И жили в том особенном доме не простые люди, а только партийные работники высшего ранга со своими семьями. Как в такую идеологически выверенную среду затесалась малоизвестная оперная Певица, никто точно не знал. Поначалу слухи ходили разные, включая пикантные — о любовной связи красавицы-артистки с одним о-о-очень высокопоставленным коммунистом. Однако со временем тема скандального адюльтера забылась, и жильцы непростого дома перестали обращать внимание на скромную одинокую женщину.
Певица со своей стороны тоже не стремилась к сближению с высокомерными соседями. На момент происшествия она была уже не молода, и не было у неё никого и ничего ближе родного театра. На работу в тот театр Певица поступила ещё на заре своей юности, будучи равно страстно влюблённой и в свою профессию, и в мужчину солидного, но, увы, прочно женатого. Разрушать свою карьеру разводом влиятельный любовник не пожелал, но и связи с Певицей не разрывал: много лет оказывал ей поддержку во всех сферах жизнеустройства, кроме семейной…
Голос Певицы не отличался изысканным тембром или широким диапазоном, хотя звучал чисто и вдохновенно. На каждом выступлении свои партии она пела и играла с полной самоотдачей. И всё же, по мнению специалистов, свой природный потенциал до конца не раскрывала. Критики писали: стать оперной примой Певице мешает едва уловимая зажатость, словно она боится собственной чувственности и подавляет темперамент. Впрочем, этот недостаток, заметный, пожалуй, лишь взыскательным специалистам, не мешал Певице иметь преданных поклонников среди театральных завсегдатаев. Пусть их было не слишком много, но они искренне любили Певицу. И спектакли с её участием неизменно оканчивались продолжительными благодарными аплодисментами.
Известные перестроечные события 90-х годов катком прошлись по творческой интеллигенции и раздавили немало судеб. Театр накрыл суровый кризис. Представления шли в полупустом зале, премьеры не ставились. В дни простоев дирекция сдавала помещения в аренду под различные светские мероприятия. Кресла в зале убирали, расставляли столы, а на сцене шло действо, более похожее на кафешантанное, чем на оперное. Однако артисты — из тех, кому годы и внешность позволяли петь и одновременно плясать в неглиже — и такой работе радовались.
Наша героиня тоже могла бы стать звездой ресторанно-банкетного шансона, поскольку в возрасте «ягодка опять» выглядела великолепно, да только трепетное отношение к любимому делу не позволяло ей предать профессию и зрителей. Певица голодала, но продолжала вдохновенно выкладываться перед немногочисленными любителями высокого искусства.
Надо сказать, режим питания артистов оперы имеет свои особенности: петь с переполненным желудком невозможно, но и с пустым чисто не запоёшь — не хватит сил на глубокий, полнокровный звук и длинное дыхание. В опере артист должен быть сытым, что с нашей героиней случалось всё реже.
Певица никогда никому не жаловалась, не просила помощи. Близких друзей у неё не было, а коллеги и сами находились не в лучшем положении. Правда, у всех имелись если не семьи, то родня или, на худой конец, спонсоры из числа почитателей таланта. А её единственного любимого человека и покровителя инфаркт давным-давно отправил на кладбище.
Сколько времени гордая актриса прожила впроголодь неизвестно, но в начале лета, когда труппа собралась уезжать на гастроли, случилась беда: у Певицы пропал голос. То есть, совершенно исчез — не только петь, но и говорить она не могла, из горла доносился даже не шёпот, а невнятное свистящее шипение. В панике Певица помчалась к своему фониатору.
Врач осмотрел горло, связки и успокоил: да, случается такое у певцов на почве стресса и недоедания, но при правильном лечении со временем проходит. Лечение же, по мнению доктора, заключалось в хорошем питании, отдыхе и длительном режиме абсолютного молчания. С открытым больничным листом актриса отправилась домой, а театр отбыл на заработки. Впереди замаячила не просто бедность, голодная смерть. И тогда Певица решилась на отчаянный поступок: сдать в аренду одну из двух комнат в своей просторной квартире.
Искать квартиранта она начала среди коллег, постепенно расширяя круг поисков. Безрезультатно: все нуждающиеся в жилье её знакомые, знакомые знакомых и знакомые знакомых знакомых были теми самыми интеллигентами, которых центростремительной силой перемен вышвырнуло на обочину жизни; они имели минимальные финансовые возможности, и не было никакого смысла стеснять себя из-за грошового дохода.
В поисках выхода Певица обратилась к посреднику — пожилой вахтёрше, дежурившей в подъезде дома. Разговор выглядел как беседа двух заговорщиц, одна из которых шипела в ухо другой. В итоге несказанно обрадованная вахтёрша заявила, что Певицу ей сам Бог послал, поскольку она как раз ищет жильё для своего взрослого сына. Дескать, вырос мальчик, желает жить отдельно. Певица возразила: хотелось бы поселить рядом особу женского пола, присутствие в непосредственной близости молодого мужчины будет смущать их обоих. Вахтёрша успокоила: парень тихий, работящий — автомобили богатым людям ремонтирует, зарабатывает хорошо, за ценой не постоит. Невеста у него есть, осенью поженятся, и он переедет к супруге — вот как славно всё складывается. А в случае чего, мать здесь, под рукой — жалуйтесь, приструним. На том и сошлись.
Можно ли упрекнуть заботливую родительницу за то, что скрыла: сынок только-только условно-досрочно освободился из мест заключения, где отбывал срок за сбыт наркотиков, а невесте его предстояло ещё полгода сидеть. Она ведь не со зла это сделала, она искренне верила: в тюрьме мальчик исправился, а близкое соседство с культурной женщиной завершит дело перевоспитания. О том, что авторемонтный труд сына заключается в разборке на запчасти краденых машин, ей самой не было известно.
Жилец действительно оказался спокойным, даже можно сказать, незаметным. Заплатил вперёд, приезжал только ночевать, да и то не каждый день, зато всегда с огромной тяжёлой сумкой, словно только что вернулся из долгого путешествия. Правда, в двери снятой им комнаты без спроса поменял замок, а на протестующий шёпот хозяйки лишь глянул хмуро и пробурчал что-то невнятное. Певица вздохнула и смирилась.
Время шло. Голос не возвращался. Врачи говорили о последствиях стресса, советовали съездить в санаторий, полечить нервы. Деньги жильца артистку, конечно, поддержали, она уже не делила один плавленый сырок на завтрак, обед и ужин, но курортные расходы не покрывали. Приходилось отдыхать и лечиться в родных стенах.
Певица старалась не думать плохо о будущем, верила, что непременно выздоровеет и голос вернётся. Ещё раньше она запретила себе сожалеть о прошлом: о юности, отданной безнадёжной любви, о нерождённых детях. Артист не бывает одиноким и несчастным, если у него есть роли и зрители, а у неё, слава Богу, в избытке было и то, и другое. Раньше было…
Следуя совету врача побольше гулять, Певица днём бродила по городу, который на глазах превращался из столицы региона в огромный базар. Все вокруг только покупали и продавали, и говорили о деньгах.
Вечерами, полулёжа в огромном кожаном кресле, она продолжала работать: слушала записи оперных произведений в исполнении великих мастеров, вспоминала свои партии, осмысляла и запоминала новые.
В конце августа труппа вернулась в город, театр начал подготовку к новому сезону, и Певицу вызвали на работу. Она прошипела в трубку: «Я всё ещё на больничном». А после плакала в кресле перед проигрывателем, голосом Владимира Атлантова вопрошающим: «Что-о-о наша жи-и-изнь?..»
…С неба медленно опустились холодные осенние сумерки. Посидев ещё немного в полумраке, Певица взяла зонтик и вышла из дома. Долго бродила она по безлюдным улицам, а когда вернулась, с удивлением обнаружила, что каморка вахтёрши пуста. На стекле, из-за которого обычно выглядывал бдительный страж, висел тетрадный листок с объявлением: в целях экономии ночные смены дежурных отменяются, а лифт после 23-х часов будет отключён.
К себе на девятый этаж уставшая Певица поднималась медленно, по пути останавливалась, отдыхала, вглядываясь в пропасть под лестничными пролётами и, казалось, слышала оттуда ехидный вопрос: «Ну, и что дальше?» Она отводила взгляд, отгоняла дурные мысли и шла дальше, с трудом переставляя онемевшие ноги.
Дверь в квартиру оказалась приоткрытой, однако тревоги это не вызвало, подумала: жилец не захлопнул, надо записку оставить, чтобы внимательнее был… И тут начался кошмар.
Едва Певица переступила порог, взгляд её наткнулся на тело жильца посреди прихожей — как-то сразу она отчётливо поняла, что перед ней покойник. Он лежал лицом вниз, головой на красном коврике с неровными краями. «Чужая вещь», — мелькнуло в голове у Певицы, и в ту же долю секунды она осознала, что никакой это не коврик, а лужа крови.
Ум ещё сопротивлялся тому, что показывало зрение, как открылась дверь комнаты и в прихожую вышел незнакомый пожилой мужчина. В каждой руке он держал по большой, доверху набитой сумке. Из одной выглядывали какие-то свёртки, из другой торчал угол любимого проигрывателя актрисы… На секунду мужчина замер в растерянности и вдруг, бросив ношу на пол, пошёл на женщину, протягивая руки к её горлу.
Оцепеневшая было Певица попятилась и… Что-то внезапно случилось с её телом: оно стало раздуваться, наполняясь воздухом как воздушный шар, словно хотело улететь, спасаясь от этих скрюченных пальцев и белёсых глаз, не злых, а скорее равнодушных и потому особенно страшных. Но улететь Певица не успела, спина её упёрлась в стену, а накопленный в теле воздух ворвался в больное горло, снёс препятствия, мешавшие вибрировать связкам, и вырвался наружу. Это был не крик, не визг, не сирена тревоги, сверлящая мозг однообразным воем… Нет… Медленно сжимавшиеся лёгкие Певицы посылали воздух через трахею в гортань, где он превращался в голос невероятной мощи.
Голос тот, словно внезапно обретший свободу узник, жил отдельно от своей хозяйки. Он вольно нёсся во всех направлениях сразу и длился, длился непрерывно, наполняя пространство дома яростной жаждой жизни. Звуки, ударяясь о стены, множились эхом, носились заполошно в замкнутом пространстве подъезда, словно стая испуганных птиц, и голосили, голосили на все лады. А Певица стояла с широко открытым ртом и, казалось, не прикладывала никаких усилий, чтобы дать тем птицам волю.
Но вот воздух в теле закончился, и актриса в беспамятстве осела на пол. Она не видела, как ошеломлённый преступник бросил сумки, схватился обеими руками за уши и понёсся вниз по лестнице, как выбежали из своих квартир соседи; не слышала, как кто-то громко кричал в телефон, вызывая милицию и «скорую»…
Из больницы её отпустили утром, не обнаружив никаких повреждений — ни физических, ни психических.
Весь день Певица мыла и прибирала осквернённое жилище, отвечала на вопросы следователя, извинялась перед возмущёнными соседями, объясняла им, что не от хорошей жизни сдала комнату, что о криминальных занятиях жильца ничего не знала, а грабителя и убийцу видела впервые в жизни. Говорила она сочным, ясным голосом, совершенно не узнавая его. Это был не её голос, но он ей нравился.
Понравилось звучание нового голоса Певицы и художественному руководителю театра, и дирижёру, и врачу-фониатору.
Доктор ничуть не удивился преображению. Он заглянул в горло Певицы, не увидел там ничего сверхъестественного и снисходительно заявил: «Бывает, знаете ли. Все эти модуляции, обертона и диапазон всегда жили в вас, просто раньше вы по каким-то причинам не извлекали их из себя. А сейчас под влиянием сильных эмоций скрытые способности сами собой вырвались наружу. Так сказать, стресс взял, стресс дал».
На спектакле зрители тоже высоко оценили новый голос Певицы. Хотя в зале их по-прежнему было немного, выступление любимой актрисы они отметили криками «браво!», «бис!» и особенно бурными продолжительными овациями.
Через год Певицу пригласили в зарубежное турне, откуда она не вернулась — подписала контракт с одним из европейских театров и вскоре широко прославилась как выдающаяся оперная дива.
С родиной и всем своим прошлым Певица окончательно порвала, продав квартиру в элитном доме, но… До конца своих дней после каждой успешной премьеры она ходила в церковь и ставила свечу за спасение грешной души страшного убийцы, невольно подарившего новую жизнь её голосу.
КОЗА, ДАЙ РУБЛЬ!
Воспоминания бывшей советской студентки, пенсионерки тёти Дуси.
Было время, когда рубль в границах советской империи являлся твердой валютой и студент мог на него пару дней прожить, и даже в ресторан сходить. Не верите? Да элементарно!
В те приснопамятные времена хлеб в ресторанах открыто стоял на столах и прилагался к заказанным блюдам бесплатно. Чай стоил 6 копеек. Вот теперь считайте: на рубль можно было заказать 16 стаканов чаю, хлеба слопать, сколько влезет и весь день ходить сытым. Официантки хмурились, но нас, студентов, не прогоняли и хлебушка не жалели. Мы для них были не клиентами неплатёжеспособными, а просто голодными детьми.
Есть же почему-то хотелось постоянно. Стипендия в сорок рублей улетучивалась быстро и не совсем ясно, куда именно. Поэтому уже дней за десять до очередной государственной милости студиозы начинали «стрелять» друг у друга трёшки и рубли. Первыми в этот процесс включались двоечники — им стипендию вообще не платили.
В нашей группе таких нищих «лишенцев» было двое: Славик и Рафик. Оба приехали издалека, помощь от родных получали скудную и постоянно нуждались. Источником кредитов для них служили, как правило, местные ребята: у них родители рядом, не профинансируют, так хоть накормят. Иногда друзья даже составляли график ужинов: к кому сегодня идут, к кому завтра. И везде их охотно принимали, потому что парни были хоть и безбашенные, но добродушные и весёлые. Там, где появлялась эта парочка, всегда звучал смех.
Жаль, не было в те годы какого-нибудь «Камеди-клаба», а то Славик и Рафик, безусловно, нашли бы в нём своё место. А в нашем техническом вузе они висели на волоске, и ходили слухи, что уже готовится приказ об их отчислении. Потому-то друзья совсем «забили» на учебу, а ходили в институт потусоваться да финансами разжиться. Занятые «до перевода из дома» деньги, разумеется, не возвращались.
Я тоже несколько раз становилась жертвой их обаяния и отдавала отнюдь не лишние рубли в долг навсегда. Наконец, эта «дойка» стала меня напрягать, потому что и мне от мамы с папой не шибко большая добавка приходила. Мои родители считали, что советский человек должен уметь жить скромно. Потому-то, когда парни подвалили ко мне с традиционным «Коза, дай рубль!», я резко послала их куда подальше с использованием не вполне литературной лексики. Не было тогда во мне интеллигентности, позже наработанной в различных культурных учреждениях.
И на Козу я ещё очень обижалась. Да, наградили родители фамилией Козлова и что? Теперь можно дразниться? Имя мне тоже досталось проблемное — Евдокия. От дедушки, кстати. Маминого папу звали Евдоким, и был он настолько заслуженным-перезаслуженным, что мама решила его имя во мне увековечить.
Но с именем было проще. При знакомстве я представлялась Дианой. В документы мои однокашники не заглядывали и звали просто Динкой. Избавиться от Козы было труднее… В общем, я обиделась.
Голодные, а потому непривычно грустные Славик и Рафик тоже обиделись. Их задели и моя жадность, и нелитературные выражения, и адрес, куда я их послала, им не понравился.
Когда я, отмахнувшись от своих хронических должников, направилась в общагу, друзья пошли следом, размышляя на ходу, как бы позатейливей мне отомстить. Нет, они не были злыми или подлыми. Просто любили приколы и отлично умели их устраивать.
По дороге я остановилась у ларька с пирожками и, протянув продавщице рубль, попросила один, с ливером. Пирожок стоил 15 копеек. Продавщица ухватила его бумажкой и протянула мне, а сдачу высыпала на тарелочку.
Тут из-за моей спины высунулась длинная мужская лапа и мигом сгребла мелочь. Я обернулась. Позади стояли Славка с Рафиком и радостно ржали: получили-таки своё, пусть и не в полном объёме!
Я завопила и стала рвать Славика за рукав, пытаясь вытащить из кармана его кулак с деньгами. Славка уворачивался, а Рафик сдерживал меня, крепко обхватив сзади.
Наша потасовка привлекла внимание прохожих, и я уже совсем было решила плюнуть на свои копейки, как вдруг Славка завопил:
— Ну, вот, опять началось!
— Началось! — поддержал его Рафик.
Я опешила, но продолжала бороться. Пожилая женщина обратилась к Славику:
— Что случилось?
— Сестра это моя, — озабоченно и печально сообщил Славик. — Больная она, припадочная.
— Да, сестра, — так же серьёзно подтвердил Рафик. — Ненормальная. Обострение.
Друзья играли настолько убедительно, что если бы это происходило не со мной, я бы им поверила. Не удивительно, что тётенька сразу предложила вызвать «скорую». Не особо задумываясь над тем, что творят, Славик и Рафик стали прямо-таки умолять женщину сделать это.
— Врача надо, врача… — дружно закивали они своими глупыми головами.
Я, размахивая пирожком, продолжала трепыхаться в руках у Рафика:
— Сами вы ненормальные! Пусти, урод недоделанный!
Славик поймал мои запястья, приговаривая:
— Сестрёнка, дорогая, успокойся!
«Скорая» примчалась необычайно быстро. Два квадратных санитара ловко скрутили меня какими-то длинными белыми «полотенцами» и загрузили в фургон, не обращая на мои мольбы никакого внимания. Один из «квадратов» повернулся к парням:
— Кто родственник? — угрюмо спросил он.
— Я, — бездумно продолжал «валять Ваньку» Славик.
— В машину! — скомандовал санитар и, отстранив Рафика, пытавшегося забраться следом, захлопнул дверь.
В приемном покое психбольницы у нас со Славиком отобрали документы. Ему приказали ждать на лавочке в холле, предварительно заперев на ключ входную дверь, а меня завели в кабинет, где сидел молодой, симпатичный и очень серьёзный врач. Один из санитаров остался стоять рядом, второй вышел.
Шутка стала не просто несмешной — жутковатой. Я продолжала по инерции возбуждённо возмущаться, ещё не потеряв веры в то, что вот-вот правда восторжествует, меня развяжут и отпустят домой. Я так и сказала врачу:
— Пожалуйста, поверьте, я совершенно нормальная! Это Славка с Рафиком пошутили! Они меня обокрали…
— Понятно, — отозвался доктор. — И много взяли?
— Восемьдесят пять копеек! — Мне почему-то стало стыдно, а доктор хмыкнул и стал изучать наши студенческие билеты. Санитар доложил обстановку:
— Кричала, нападала на мужчину, замахивалась на него камнем.
Я возмутилась:
— Никаким не камнем, а пирожком с ливером… Только они сами первые начали!
— Угу, — эскулап откинулся на стуле. — Замахивалась пирожком… А они — это кто?
— Славка с Рафиком! То есть, Славка первый начал!
— Понятно, — сказал врач и посмотрел на санитара.
— В коридоре сидит, — пояснил догадливый «квадрат».
— Так. Значит, Славка напал, а вы ему сдачи дали.
— Не давала! Он сам сдачу утащил!
Врач с прищуром уставился на меня. Мне было плохо. Текло из глаз и носа, а я не могла достать платок, потому что сидела спелёнатая. Попробовала утереться о плечо, стало только хуже.
— Развяжите меня, пожалуйста, я ни в чем не виновата!
— Успокойтесь, разберёмся. Как вас зовут?
— Диана, — сообщила я, от волнения начисто забыв, что в документе значусь Евдокией.
— Так, — сказал врач и пристально глянул мне в глаза. — А фамилия?
— Козлова.
— Значит, Диана Козлова?
Тут я опомнилась и зачастила:
— Это я так называюсь, потому что мне имя Евдокия не нравится… Меня мама в честь дедушки назвала… — я запнулась, ощутив в своих словах что-то не то.
Доктор взял из стопки листок с надписью «История болезни» и начал на нём писать. Я похолодела и замолчала.
— Ну, что же вы? Продолжайте. Вас назвали в честь дедушки Евдокией…
Я всхлипнула и пояснила:
— Да, он был заслуженный мелиоратор, как Брежнев…
Психиатр напрягся и отложил авторучку. Санитар вытянулся по стойке «смирно».
Психиатрия в те годы стояла на страже государственных интересов круче, чем сейчас ФСБ. Я поняла, что зря упомянула имя главного государственного лидера всуе. Закрыла глаза, несколько раз глубоко вздохнула и сказала:
— Давайте, мы сейчас успокоимся и…
— Вы хотите, чтобы я успокоился? — ласково поинтересовался доктор.
— Нет, я хочу, чтобы вы… чтобы мне…
— Вы хотите, чтобы я помог вам успокоиться? И часто вы не в состоянии самостоятельно справится с эмоциями? — доктор ещё что-то черкнул и вдруг напористо спросил:
— Какое сегодня число? Быстро отвечайте, не думая!
Ха! Вы много знаете людей, способных быстро ответить на этот вопрос? Лично я никогда за числами не следила и время отсчитывала по оставшимся до стипендии дням. В голове закрутился арифмометр: стипуха пятого, до неё восемь дней, сейчас февраль… двадцать восемь дней… плюс пять, минус восемь… или нет?.. Да шут его знает, какое сегодня число!
В кабинете повисла нехорошая пауза.
— Ваш брат… — доктор перестал писать и посмотрел на дверь.
— Это не мой брат! — завопила я. — Он вас разыграл!
Доктор опять прищурился:
— Меня?
Ощутив, что встала на верный путь, я перестала всхлипывать и серьёзным, даже траурным тоном сообщила:
— Вас. И меня. Я покупала пирожок. Мне дали сдачу. Славка её стянул.
И, ловко обходя тему даты, добавила:
— Сегодня февраль, 1973 года, город Новосибирск, меня зовут Евдокия Николаевна Козлова…
Доктор задумался и кивнул санитару. Тот вышел и привёл Славку, который сел на стул и без предисловия покаялся:
— Извините.
— Так, — доктор постучал пальцами по столу. — Это ваша сестра?
— Нет, — я впервые видела Славика таким серьёзным и даже испуганным. — Мы пошутили, а прохожие не поняли и вызвали… Мы не хотели…
Доктор опять кивнул санитару, и тот развязал на мне «полотенца».
— Мы сообщим в институт, — грустно сказал врач, протягивая моему «братцу» студенческий. — Не думаю, что вас там похвалят.
Славка согласно мотнул головой и быстро выскочил вон.
— А вы, — доктор смотрел на меня сочувственно, но всё-таки как-то подозрительно.
— Вы уж определитесь, кто вы: Диана или Евдокия. Имя своё надо уважать. И фамилию, и отчество. И постарайтесь больше так не шутить.
— Да я сама жертва! Вы же видите! А-а-а… это? — я кивнула на «Историю болезни». — Это куда?
— Я подумаю, — сказал доктор и впервые улыбнулся. И улыбка у него была очень хорошая, добрая. — До свидания.
К счастью, никаких свиданий с психиатрами у меня больше никогда не было.
А имя своё я теперь очень люблю. И фамилию люблю. На Козу не обижаюсь, хотя сейчас меня, пенсионерку, уже никто так не называет…
НЕ УЕЗЖАЙ, ДОЧКА
Вялый как прошлогодняя картофелина, дядя Ваня сидел у гроба и силился осознать своё горе. Осознания не получалось. Лицо жены казалось чужим: сошли с него привычные строгость и недовольство, морщины разгладились, губы тронула безмятежная улыбка, словно покойница уже видела то Царствие Небесное, которого ей сейчас все желали, и радовалась ему.
В полумраке нудно бормотал поп, выли бабы — оплакивали Варвару. Мужики покашливали в кулаки, глухо переговаривались, сочувственно посматривая на вдовца.
«Ку-ку!» — выскочила из старых ходиков облупленная кукушка, отмечая очередные полчаса. Дядя Ваня вскинулся осовело, горестно вздохнул и снова поник на лавке, ссутулившись, зажав коленями клешнястые кисти рук. От выпитой с утра за упокой души самогонки, от сладкой ладанной духоты и монотонного гула голосов явь и сон смешались в нём…
Нет, не его это баба померла… Его-то лихая была — ух! Ураганом носилась, шумела, ругалась: «Шоб ты сдох с той водки, барбос!»… А сама вот… сама первая… И всё-таки это его Варька. Она точно такой, помнится, была — спокойной, ласковой, когда замуж выходила. Черт знает, как давно это было. Годов, поди-ка… сорок прошло… Аль поболе? Дядя Ваня прикидывает в уме, сколько они с женой вместе прожили, но сознание его уплывает, голова клонится, он задрёмывает и видит во сне юную Вареньку в красном платье, с розовым бантом в косе.
Отрез алого ситца и ленту шёлковую он Варе подарил, когда свататься пришёл. Перед первым боем так не волновался, как в тот день. Ей только-только восемнадцать набежало, а Ивану уже двадцать четыре. Он с войны готовым мужиком вернулся. Боялся — не пойдет за него девочка нецелованная. Но Варвара не то, что пошла — побежала, вприпрыжку поскакала! Такого жениха, как Иван Иванов, в ту пору не сыскать было. Ни у них, в деревне, ни в селе, ни даже и в городе не нашлось бы! Он ещё до войны на всю округу сапожным мастерством прославился — с раннего детства дед учил его обувь чинить. А как возвратился Ваня с фронта, от заказчиков отбоя не стало. Ну, и от невест, ясно дело, тоже. Он выбрал самую красивую — Вареньку Лапину. Летом сорок пятого во дворе вот этого самого дома свадьбу отгуляли.
В первую брачную ночь, как увидела молодая мужнин живот — в рёв ударилась. Иван ей тогда доходчиво объяснил: не плакать надо, а Бога благодарить, что осколок на излёте кишки разворотил, потому изувечил, но не убил. А шрамы снаружи — пузо рубцами так перекручено, что пупок на бок сполз — рубахой прикрыл, и порядок… Сорок восемь лет с той поры минуло. Вот же, как времечко летит!..
Соседки собирали поминки под руководством бабки Анны, такой же хлопотливой и громкоголосой, как её задушевная подружка Варвара. Закуску сообразили из хозяйских запасов, бражку и самогон свои принесли — уж чего-чего, а этого добра в любой избе, вне зависимости от времени года и политической обстановки, полный достаток.
Женщины жалостливо поглядывали на задремавшего дядю Ваню, хотя ещё три дня назад, наоборот, костерили его, как могли. Мол, живёт мужик, словно под водой сидит, ничего до него не доходит. Пенсию, не только свою, но и жёнину, как та ни спрячет, найдёт и на выпивку спустит. Но главное — бездельник, ремесло своё, руки золотые давно пропил. Вон как пальцы дрожат — только в бубен играть… Нинка не просто так из родительского дома сбежала. А ведь единственная дочка, поздний ребёнок…
Варвара долго не могла дитя выносить. Дояркой на колхозной ферме она от зари до зари и навоз убирала, и бидоны с молоком таскала. Не удивительно, что раз за разом скидывала. Уже хорошо за тридцатник ей перевалило, когда родила девочку, недоношенную, но здоровенькую.
Чтобы доченьку долгожданную без присмотра не оставлять, Варя с фермы ушла, устроилась в сельскую школу уборщицей. Каждое утро с ребёнком на автобус и — в село, вечером обратно в деревню. А дома их распьяным-пьянущий папаша встречает. Скандал, конечно, ругань, а то и драка. Нет-нет, Иван на жену не то, что руки, даже голоса не поднимал. Это Варвара его то ухватом, то сковородником от алкоголизма лечила. Материла, выгоняла, а потом обратно принимала, говорила: когда муж трезвый, он золото, а не муж. Вот только трезвым дядя Ваня год от году бывал всё реже и реже…
Насмотрелась девчонка на такую семейную жизнь и сразу после школьного выпускного перелётной птицей беспечально из деревни выпорхнула. Месяца через три от Нины из города письмо пришло. Дескать, устроилась хорошо, работа нравится, денег хватает.
Дядя Ваня на то письмо никак не отозвался. Буркнул что-то про нынешнюю молодёжь, у которой совести недостаёт помочь старикам, и словно забыл о дочери. Он уже тогда жил, будто в воду опущенный. Медленно ходил, медленно говорил и всё норовил «на дно лечь» — выпить, уснуть и не видеть ничего, не слышать. Ни жалоб жены, ни упрёков соседей, ни последних новостей о какой-то там перестройке, из-за которой в деревне вначале колхоз ликвидировали, а после закрыли медпункт, почту и магазин.
Зато тётка Варя Нинкиной весточке сильно обрадовалась, нахвастала соседкам, какая у неё разумная дочка выросла, да вот только на ответ так и не сподобилась. Каждый божий день крутилась она как заводная: дом, огород, корова, работа — до последнего дня Варвара в село ездила школьные полы шоркать.
Дядя Ваня с молодых лет ни до скотины, ни до земли не касался. Ему, знаменитому мастеру, зазорно было в хлеву да на грядках горбатиться. И жена его в том поддерживала. «У тебя, — говорила, — есть своё дело, вот его и делай, нечего сорванный пупок напрягать». Он и не напрягал. Сидел сутками на «липке» — специальном чурбачке башмачников, дедовом наследстве, и с ювелирным тщанием туфли подбивал, валенки подшивал, даже сапоги, случалось, на заказ шил. Было такое время, было: обновки купить негде и не на что, а тут свой мастер, да какой! Почитай, вся деревня не раз и не два через его избу прошла со своей обувкой — Иван её к жизни возрождал так, что от родителей к детям переходила.
Только верно народ подметил: «От трудов праведных не наживёшь палат каменных». Трудодни, что деревенские в колхозе зарабатывали, в оплату не понесёшь, вот и норовили заказчики натурой рассчитаться. Чужие яйца-молоко-картошка Ивановым были ни к чему — своих хватало, а вот «жидкий рубль-самогон — это, на худой конец, экономия сахара. Так и потонул в том самогоне мастер Ванечка-Золотые Руки, остался Ванька — ирод, изверг и барбос…
Самое большее, что дядя Ваня в последние годы по хозяйству делал — отрывал очередной листок календаря да заводил старые ходики, подтягивая гирьку на цепочке. Часы эти — домик с кукушкой — Варваре мать в приданое дала, вместе с пуховой периной, коровой и образом Богородицы Утоли Моя Печали. За той иконой хранила тётка Варя ценные «бамаги»: документы на дом, фронтовые треугольники пропавшего без вести брата Фёдора и единственное письмо от дочки. Изредка по вечерам доставала Варвара заветный конверт, на картинке — птичка серенькая в крапинку, очень похожая на ту, что из фамильных ходиков выскакивает, перечитывала скупые строчки, плакала и не находила слов для ответа. О чём писать? Всё вокруг то же самое, от чего Нина убежала. Нечем похвалиться, нечем доченьку порадовать…
Так и пролетели незаметно годы.
То письмо, всё тёткой Варей зарёванное, соседки нашли. Буквы расплылись от Вариных слёз, но обратный адрес на конверте хорошо читался, на него и отправили скорбную телеграмму. Только через день она назад вернулась: выбыл адресат.
Дяде Ване ничего не сказали, да он и не вспоминал о дочери. Напивался, засыпал, просыпался, снова напивался… И так все три дня, что новопреставленную по русскому обычаю готовили в последний путь.
Его растолкали перед выносом: подойди, попрощайся с женой. Дядя Ваня похлопал сонными глазами, вздохнул и погладил покойницу по плечу. Целовать в лоб, как бабы настаивали, не захотел. Не оставляла его какая-то смутная надежда, что умерла чужая женщина, а Варька сейчас влетит в избу, грохнет подойник в угол и привычно заорёт: «Обрадовался, ирод! Повод ему объявился! Теперь год за упокой души водку трескать будет!»
При мысли о выпивке дядя Ваня забеспокоился, ещё раз вздохнул, пробормотал: «Вот ведь как… Что ж теперь-то…» и двинулся в кухню, где мужики втихаря уже прикладывались к поминальному угощению.
На кладбище, бросая первую горсть земли на гроб, основательно захмелевший вдовец сам едва не скатился в могилу.
За столом дядя Ваня угрюмо молчал и почти ничего не ел. Неясная тоска грызла ему душу, мозг вяло перебирал недоутопленные в самогоне мысли. Всплыл вдруг образ дочери — худенькой, длинноногой девочки, очень похожей на молодую Варю. «Надо бы написать Нинке, что мать нас оставила, — подумал он. — Где-то был адрес…». Попытался подняться, качнулся, упал обратно на лавку и забыл, зачем хотел встать…
На другой день дядя Ваня проснулся с привычным чувством тяжкого похмелья и не сразу сообразил, почему в избе тишина. Никто не звенит посудой, не хлопает дверью, не кричит: «Изверг, чтоб тебе провалиться!»
«Всё, нет Варьки. Оставила меня, — с обидой вспомнил дядя Ваня о внезапной смерти жены. — Чего это ей вздумалось помереть? И не болела никогда. На ноги только жаловалась, но ведь бегала же…»
Умерла Варвара, и правда, почти что на бегу: вернулась с работы, корову подоила, домашние дела переделала, попутно браня привычно хмельного дядю Ваню, в баньке сполоснулась, легла спать и больше не проснулась. Нехорошо получилось, неожиданно, а потому особенно обидно.
Один дядя Ваня остался. Некому теперь его ругать, но и стопарик на опохмелку подать, картошечек на закусь сварить тоже некому. Безмолвие угнетало хуже скандала. Замерла жизнь в доме, словно и дом умер вместе с хозяйкой. Тишина. Лишь часы в кухне: «тик-так, тик-так…»
«Всё не так, всё не так…», — чудится дяде Ване в этом звуке. Нарочно громко звякнув ковшиком, он зачерпнул воды из кадушки, выпил, обливаясь и хлюпая.
Смертельно хотелось опохмелиться, но прибранный соседками стол, вчера уставленный выпивкой и закуской, сегодня угнетал пустотой.
«Что же дальше-то?» — старик растерянно огляделся. В деревне каждый к своей семье как пуговка к одёжке пришит, а он вот один остался — никто не обругает, никто и не пожалеет. Варька, хоть и была безмерно скандальна, но сама любила иной раз к бутылочке приложиться. Всегда у неё имелась секретная заначка…
Дядя Ваня прошёлся по избе, заглядывая в шкафчики и тайники, пошарил по полкам. Нашёл давным-давно убранную в дальний угол чулана «липку». В том сапожном чурбачке, в серёдке отверстие выдолблено, чтобы инструменты складывать, а дядя Ваня в нём «неприкосновенный запас» держал. Только и «липка» оказалась пуста. Всё выпито.
Всё сказано, всё сделано.
«Куда я теперь? Зачем я теперь?» — сел дядя Ваня на лавку и заплакал, тоненько подвывая и раскачиваясь из стороны в сторону.
Опять со скрежетом высунулась из своего окошка кукушка, кукукнула один раз — половина, значит. Какого? Проморгался, глянул на циферблат — шестого. Утра? Нет, пожалуй, всё-таки вечера.
Дядя Ваня отёр ладонью мокрое лицо, ещё чуток посидел бездумно и вышел во двор. Медленно добрёл до огорода, обошёл гряды, засеянные неутомимой Варварой. Свекла, репа, редька… Потянул какой-то зелёный хвост, выдернул большую крепкую морковину и зачем-то положил её в карман. Снял с плетня пёстрый половик, понёс домой…
В избе уже бодро хозяйничала бабка Анна: растопила печь, сунула туда чугунок с картошкой.
Привычный образ суетящейся по дому женщины немного утешил вдовца. А бабка воспользовалась трезвым состоянием соседа и завела деловой разговор. Через неотвязную мысль о выпивке до дяди Вани дошло, что Варварину корову продали удачно — тот поп, что покойницу отпевал, он и забрал Зорьку. Вырученные деньги, чтобы дядя Ваня их не растряс, бабка Анна у себя придержала до приезда Нины. А пока та не нашлась, она, Анна, будет за домом присматривать: прибирать и готовить два раза в неделю.
«А ты, Иван, ежели не желаешь в долгу оставаться, вспомнил бы своё ремесло, да и починил мне кой-чего из обувки», — уравняла бабка соседские отношения. Но дядя Ваня на это деловое предложение никак не отозвался.
«Вот привязалась, чесотка», — думал он, прикидывая, как бы вытряхнуть из зловредной старухи своё законное:
— Ты… эт… деньги отдай. Сам сохраню.
— Шиш тебе, — помахала бабка дряблым кукишем. — Я тебя знаю, пропьёшь и не поморщишься!
От острого желания опохмелиться и полной невозможности это сделать дядя Ваня внезапно озверел:
— Дура старая! Воспиталка, тоже мне! Иди, свово мужика понужай, а я и сам с усам! Без тебя всё сделаю, не безрукой! А ты чтобы тута мне не шаркалась!
— Да пропади ты пропадом, изверг! Не для тебя, для Варьки-великомученицы старалась!
Плюнула под ноги, вылетела вон, дверью — бах! — аж покатилось в сенях. Деньги отдать и не подумала. Дядя Ваня постоял угрюмо посреди кухни и влез на печь.
Эх, Варька, Варька! Что ж ты наделала? Оно, конечно, непросто тебе жилось. Муж — инвалид, в боях за Родину изувеченный. Воды принести, дров нарубить, землю вскопать — всё вполсилы, другая половина — твоя. Только ведь он тоже старался, как мог. Бывало, сутками с «липки» не вставал. Клеем да ваксой так надышится — в голове туман, на ходу качает. Для очищения организма, бывало, примет чуток, а ты сразу в ругань, а то и в драку! Разве он когда-нибудь тем же ответил? Да он за всю жизнь тебе ни разу даже пальцем не погрозил! А ты вот взяла, да и ушла, не попрощавшись… Теперь чужие бабы должны твою печку топить и твоего мужика утешать. Это как же так? А? Это где же справедливость?
Чёрная тоска злобно корчилась внутри, грызла душу голодной псиной. Требовалось немедля задушить её беспамятством. Только где бутылку взять? Купить в селе? Денег нет. Какие были копеечные сбережения, и те на похороны ушли, а до пенсии ещё дней десять. По соседям самогонкой побираться? Он и так задолжал добрым людям за поминки…
Куда ни кинь — кругом клин. Варька умерла, корову продали, даже кошка убежала, в дом не заходит… Дочка, однако, ещё есть… В городе живёт… Написала, что хорошо живёт, богато. Молодые, они все такие: когда жизнь ладится, то и мамка с папкой не нужны.
Маленькая была, хвостиком за отцом ходила, с рук не слезала. А уж Ваня как свою любимицу баловал! В город за материалом поедет, обратно непременно подарки везёт. Жене — тряпочку какую-нибудь, платочек там или передничек, Нинке — игрушку. Раз цыплёнка заводного купил. Она, глупенькая, как завод закончился, испугалась, заплакала. Думала: умер цыплёнок… Подросла — любила за отцовскими руками наблюдать. Смотрела, вытаращив восторженные глазёнки, как он ловко работает. В сочинении написала: «Хочу стать сапожником, как папа». Не застыдилась, насмешек не побоялась… А когда повзрослела, чего-то вдруг загордилась, махнула в город, «глаза б мои на тебя не смотрели» — попрощалась.
И вот уж сколько лет молчит. Даже мать хоронить не приехала. Так ведь, может, не знает… Откуда ей знать? Чужим людям дела нет, а родной отец и не вспомнил. Но его можно понять: жена умерла — такое горе, всякий голову потеряет. С горя и не вспомнил. А теперь отошёл малёхонько, теперь напишет. Девятый день ещё впереди. Вот на поминки и приедет дочка. Родная, единственная…
Нет, дядя Ваня не пуговица, от одёжки оторванная! Это ещё как посмотреть, кто кому больше нужен окажется — Нинка ему или он ей… Тут всякие соображения могут возникнуть… Деревенские судачат: богатеи в деревнях дома под дачи скупают. Какие-то «котежи» из них ладят. А Нинке и тратиться не надо — у неё дом есть, собственный, и родной отец при нём. Чем плохо вместе жить, друг другу подсоблять?..
Так думал дядя Ваня, начисто забыв о минувших годах; о том, что Нина уже взрослая женщина, и у неё, возможно, есть семья. Чудилось ему, будто бы гордая дочка уехала всего-то с неделю назад и ждёт лишь отцовского зова, чтобы вернуться…
В избе по-прежнему пугающе тихо. Лишь охрипшая кукушка каждые полчаса, старчески скрипя, высовывается из домика и сообщает, что время идёт.
Идёт время-то…
Дядя Ваня задом сполз со своей лежанки, зажёг свет. Отыскал за Богородичным образом конверт с адресом дочери; из вазы с пыльным ковылём достал ручку, тетрадь в клеточку, куда Варвара записывала, кому сколько молока продала, и сел писать.
«Здравствуй, дорогая моя дочь Нина! С приветом к тебе твой родный отец Иван…»
Пальцы дрожат, буквы в разные стороны кривыми корягами клонятся; мысли разлетаются вспугнутым вороньём, никак дяде Ване не удаётся собрать их в кучу. А думает он, что больше «эту отраву» в рот не возьмёт, завтра же займётся хозяйством и сделает всё так, что приедет Нина и уезжать не захочет!
«…и кто хочешь тебе скажет, что я не пью, а чиню обувь опять лучше всех… Приезжай, дочка!» — заканчивает дядя Ваня, искренне веря, что к тому времени, как письмо придёт к дочери, всё написанное уже будет правдой.
Чистый конверт нашёлся в том же тайнике за иконой — серый, без марки, в них почтальонка приносила старикам пенсию. Дядя Ваня повозил по клапану сухим шершавым языком, сплюнул, заклеил письмо, старательно переписал адрес и по тёмной пустой улице побрёл в конец деревни, где на первом от дороги доме висел тёмно-синий почтовый ящик.
Нина приехала через неделю по телеграмме своей одноклассницы Надежды, отыскавшей её с помощью мужа-милиционера. На станции Надя с трудом узнала школьную подругу в ярко одетой, модно причёсанной женщине. Пока автобус ждали, пока до села ехали, было время поговорить.
После бегства из деревни Нина удачно устроилась официанткой в вагон-ресторан. Всю страну объездила, но времени зря не теряла: заочно окончила торговый техникум и поднялась до директора. Работа на колёсах доходная — кооперативную квартиру отстроила, на море побывала. Вот только личная жизнь не сложилась. Второй раз замужем, а ребёночка выносить так и не смогла. Наверное, наследственное это, от матери…
Родителям Нина писала, ответа не получила и решила, что не очень-то им нужна. Как и они — ей, с их бесконечными пьяными скандалами. Нет, она о стариках своих помнила. В школу несколько раз звонила, справлялась о матери. Ей отвечали, что Варвара Никитична Иванова по-прежнему трудится уборщицей, и Нина успокаивалась: это нормально, когда у родителей своя жизнь, а у детей — своя. Это нормально.
Возвращаться в деревню Нина не собиралась ни за какие коврижки. Так что дом придётся продать — как раз на машину хватит. А вот с отцом что делать? К себе забрать? Вряд ли муж обрадуется такому её «приданому»…
Надежда поохала, посочувствовала, но мало что смогла рассказать Нине о её родных, поскольку жила в селе, за двадцать километров от деревни. По слухам, не от болезни тётка Варя умерла, просто устала от жизни, вот и ушла в одночасье на тот свет.
А дядя Ваня, овдовев, вроде как заблажил. То ли за ум взялся, то ли, наоборот, умом тронулся, но с похорон не пьёт и с собутыльниками не общается. Стучит чего-то во дворе, забор починил и сапоги бабке Анне — ту едва родимчик не хватил. А вечерами трезвый дядя Ваня подолгу сидит на завалинке и задумчиво смотрит вдоль улицы, словно ждёт кого-то.
Погостить у подруги денёк-другой Нина отказалась, наняла в селе легковушку и заспешила в родную деревню.
…Дядя Ваня с восхищением смотрел на дородную, богато одетую красавицу. Вот это женщина! Жар-птица сказочная, а не женщина! И не чужая, залётная, а своя, дочка родная. Только отец её позвал — она сразу же и приехала. Уважа-а-а-ет!
Сколько всяких невиданных закусок привезла: колбаса какая-то особо запашистая, рыбка — и солёная, и консервой в банке! Бутылочки тоже — тут и коньяк, и вино, и беленькая, самая что ни на есть превосходная, с винтовой пробкой… Вот ведь искушение! Но дядя Ваня ни-ни! Держится. И будет держаться как воин в обороне, потому что очень важно ему перед такой дочкой лицом в грязь не ударить.
А Нина ходит по избе в туфельках, каблучками постукивает. Старые материны чуни надеть отказалась. «Некрасиво, — говорит, — неудобно перед гостями». Дядя Ваня только фыркнул на это: «Гости, тоже мне, лапти деревенские! Обрадовались богатому застолью!» Один за другим заходят: «Здрасьте, Нина Ивановна, надолго ли к нам?» Вот так вот: Ивановна! Это вам не хрен собачий! Кровинка единственная — Нина! Ивановна!
Бабка Анна тут как тут: «Нашлась, пропажа? Жалко, не застала мать-то. Надолго приехала? Может, останешься? Отцу ведь никак нельзя одному жить, насмерть сопьётся».
«Зачем же одному? — думает дядя Ваня. — Будем жить вдвоём. Отец и дочь — одна кровь, одна семья…»
На скрежет дверцы в старых часах и хриплый выкрик кукушки Нина едва не расплакалась:
— Ой, мамино приданое цело! Папа, помнишь, я в детстве верила, что кукушка живая и хотела её на волю выпустить?
— Как же, доча, как же! Ты эту птицу тогда сломала. Мать тебя выпороть хотела, только я не дал. Починил, по сию пору кукует.
— Да, папа. Ты у нас раньше молодцом был, любое дело в твоих руках горело, а сейчас еле ходишь, трясёшься весь. Что ж ты так себя довёл?!
— Это ничего, ничего… я ещё могу, ещё могу… если надо…
— Да что ты можешь?! Не знаю, что и делать с тобой! И оставить нельзя, и к себе забрать — муж навряд ли согласится. Горе ты моё!
Дядя Ваня слушал голос Нины, удивительно похожий на материнский, и чудилось ему, будто ничего не изменилось. Вот сейчас он приляжет отдохнуть, а дочь будет жалеть его и ругать, как жалела и ругала жена. Будет прибирать в избе, копаться в огороде, греметь чугунками и подойником… Словом, покатится дальше жизнь прежняя, привычная, какая при живой Варваре была…
Лишь одна мысль-заноза не давала дяде Ване ощутить во всей полноте грядущее счастье: а вдруг дочка уедет? Время, проведённое в тишине пустого дома, казалось ему несправедливым и очень обидным наказанием. Он мучительно размышлял, как удержать Нину в деревне. Какой бы такой хитрый ход придумать, чтобы она поверила: у неё хороший, заботливый отец, и осталась с ним?
Непривычный к напряжению мозг быстро утомился. Не дожидаясь, пока разойдутся гости, разомлевший дядя Ваня забрался на печь и заснул под ровный гул голосов.
Разбудил его громкий, такой родной Варин голос. Спросонок он не сразу сообразил, что кричит не жена, дочь: «Па-а-ап, ты там спишь, что-ли? Надо бы поговорить насчёт наследства. Слышишь? В город со мной поедешь?»
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
