
Бесплатный фрагмент - Нелегальное лицо
Россия — не проходной двор!
В своём сатирическом произведении «Нелегальное лицо. Россия — не проходной двор» Анатолий Семёнов рассказывает о последнем десятилетиии существования СССР, отце-фронтовике, своей матери — воспитавшей десять детей, Матери-героине, старшем брате — строителе БАМа, о репатриации братьев и сестёр на Историческую Родину, и о том, как спустя десять лет работы в России он оказался на нелегальном положении. Эта книга о столкновении обычного человека с государственной системой и важными чиновниками. Тонкий юмор придаёт его рассказам особый колорит и увлекает с первых страниц. Дядя — капитан дальнего плавания, отсидел срок за незаконное хранение валюты. Муж сестры — цеховик и подпольный советский миллионер, нелегально перевёз в Израиль фамильные драгоценности и бриллианты. Подполковник ФМС, не выпускающий из страны нарушителя визового режима, полон решимости отдать его под суд. Также книга раскрывает взгляд автора на любовь и предательство, потерю и обретение веры, на пропагандистскую кухню западной и российской телевизионной журналистики.
© Анатолий Семёнов, текст, дизайн обложки. 2020
***
Лене Семёновой, моей бывшей жене и спутнице в сложные годы испытаний в эмиграции
Жизнь изо всех сил старается походить на хорошо придуманную историю.
Исаак Бабель. «Мой первый гонорар»
Предисловие
Предупреждаю сразу: моя книга — это автобиографический вымысел. Так что убедительно прошу особо впечатлительных читателей не принимать данное сочинение близко к сердцу, даже несмотря на схожесть героев с реальными людьми. В жизни каждого нередко происходят непредсказуемые события и перемены. Судьба нагло вторгается туда, куда её не просят, нарушая наши планы. Не являясь исключением, я взял на себя смелость — осознавая всю ответственность, — изложить некоторые подобные события моего героического прошлого.
Воспоминания порой не поддаются точной хронологии, а мои — особенно. Осмысляя собственные действия и поступки в прошлом, я погружался в рефлексию.
Книгу я хотел назвать «Повесть о настоящем человеке», но в какой-то момент усомнился. А вдруг это роман? Тогда возникло другое название: «Герой нашего времени». Но меня осудили. Сказали: такое произведение уже есть, причём гениальное. Да и какой ты герой? «Какое время, такие и герои», — напомнил я моим судьям народную мудрость. Короче, и от «Героя» пришлось отказаться. Настоящее заглавие мне подсказал подполковник Федеральной миграционной службы. Сделал он это непреднамеренно — не думаю, что офицер ФМС хотел подсказать название для сатирического произведения. Но он это сделал, и я ему благодарен. Благодарен за его верную службу Родине и за всё, что меня с ним связывало.
Должен чистосердечно признаться: я не хотел писать эту книгу. Говорю без лукавства. Я не был способен на такой подвиг. Написать книгу — это тяжкий труд. А написать хорошую книгу — значит провести за письменным столом долгие бессонные ночи, месяцы и даже годы своей жизни. Потому что если браться, то нужно творить, как Лермонтов или хотя бы как Семёнов (я про Юлиана Семёновича говорю, не подумайте обо мне чего). Только в большом писателе загорается божественный огонь вдохновения, который после его смерти продолжает гореть в гениальном произведении. Меня этот огонь миновал. А за письменный стол принудил сесть неведомый мистический голос. Я долго боролся с искушением — до той поры, когда зыбкое честолюбие доросло до пошлого тщеславия. Это был переломный момент. Вот тогда я и решился. Помогал мне тот самый мистический голос, который щедро одаривал меня идеями, предложениями и даже, когда он был в ударе, наговаривал целые абзацы будущей книги. Я делал какие-то наброски в блокноте, записывал навязчивые фразы на разрозненных листочках и всём, что попадалось под руку, но продолжал противостоять соблазну сесть за письменный стол и послужить древнегреческой музе. Немаловажным фактором в принятии мной решения стало письмо президенту Российской Федерации, которое, каюсь, я написал под диктовку того же могущественного таинственного голоса. Мне и в страшном сне не могло присниться, что это письмо послужит основанием для сатирического произведения. Но реальность современной России оказалась настолько неприглядной, что я был вынужден пойти на это, и, видно, с того момента тяжкой участи писателя мне было не избежать. В каждом из нас где-то таится этот неведомый внутренний голос. И я даже догадываюсь, в каком именно месте.
Эту книгу я писал в разных странах, даже в разных полушариях (почти как Хемингуэй). Я не расставался с мыслью о ней, куда бы ни заносила меня нелёгкая судьба. Работу начал в 2007 году в Москве при президенте Путине. Вторую часть писал в Финляндии, когда президентом России избрали Медведева, — я в это время не по доброй воле отсиживался в гостинице «Sokos» в Хельсинки. Проработкой характеров и деталей занимался снова в Москве при вновь избранном президентом Путине. Завершал книгу на берегах Онтарио в городе Торонто при премьер-министре Канады Стивене Харпере. Окончательная редактура была сделана при молодом и перспективном Джастине Трюдо, сменившем в должности Стивена Харпера. Я писал в кровати, в самолёте, в поезде, в библиотеке, за рулем автомобиля, в телефонной будке и даже под душем. Я довёл себя до морального истощения, не досыпал, не доедал, похудел — но книгу я написал! Для кого? И почему я вообще взялся за перо? Вразумительный ответ на этот вопрос у меня один: чтобы переложить ответственность за свои ошибки и поступки на ваши плечи. (Ведь обвиняя других в своих неудачах, — легче жить.) Мне понадобилось для этого десять лет жизни, и насчёт шедевра этого произведения судить тоже вам, дорогие читатели.
Мой друг Павел, видеооператор иностранных корпунктов, прочитав рукопись первой части, позвонил мне из Москвы в Торонто и задал обескураживающий вопрос: «Ты ещё собираешься возвращаться в Россию?» — «Разумеется, собираюсь!» — оскорбился я. И добавил: «Я же не Салман Рушди, приговоренный на родине к смертной казни за роман». — «Тогда измени фамилии героев своей книги! — настоятельно посоветовал друг. — Иначе тебя ждет судьба Салмана Рушди». Но я, несмотря на это предупреждение, отказался. Отказался по нескольким причинам. Во-первых, страна должна знать своих героев, скрывать это — недостойно автора. Во-вторых, не хочу нарушать художественность формы. В-третьих, это уже не люди, не физические личности, а литературные персонажи. И в конце концов, каждый настоящий автор стремится обессмертить своих героев. Надеюсь, прототипы героев моего произведения будут необычайно благодарны за мой бескорыстный титанический труд. А если нет, то я напомню им слова Антона Павловича Чехова, который сказал: «Вся наша жизнь — сюжет для небольшого рассказа». А за то, что вместо короткого рассказа я навязываю вам, читатели, автобиографический роман, прошу меня простить великодушно и не судить. Для вас только лишние хлопоты, для меня — скандальная популярность. Вам это надо? Поверьте на слово, я не стремился нанести вреда вашему душевному здоровью и психике. Живите с миром и берегите себя. Жизнь коротка, так что не занимайтесь пустым неблагодарным делом. Лучший судья своим поступкам — я сам.
И последнее. В тексте встречаются нецензурные выражения. Я в этом не виноват, даже пытался бороться с ненормативной лексикой, сокращал и заменял эвфемизмами. Но бороться с великим, могучим, правдивым и свободным русским языком — безрассудство. Имейте это в виду.
***
— Что, по-вашему, самое большое счастье?
— Жить в нашей стране.
— А самое больше несчастье?
— Самое большое несчастье — это иметь такое счастье.
Старый еврейский анекдот
Пролог
В Администрацию Президента Российской Федерации, Президенту РФ Путину В. В.
от Семёнова Анатолия Юрьевича, гражданина Канады, паспорт № ВА 700124, выдан 16.11.2006 посольством Канады в г. Москве.
Уважаемый господин Президент, Путин В. В.,
я, Анатолий Семёнов, бывший гражданин СССР, а ныне гражданин Канады, нахожусь в России с 2000 года по приглашению МИД, работая видеооператором в иностранных корпунктах в г. Москве. По причине болезни я просрочил свою визу М-VI №0389543, которая истекла в апреле 2005 года. Имея просроченную визу, я не могу выехать за пределы РФ для того, чтобы получить новую российскую визу.
Я неоднократно обращался в соответствующие органы (УВИР, МИД, ФМС) с просьбой о выдаче выездной визы, но вопрос до настоящего времени остается не решённым. Начальник УВИР г. Москвы (ул. Покровка, д. 42) утверждает, что мой вопрос может быть решён только в судебном порядке, путем выдворения (депортации) меня из России.
За время моего нахождения в г. Москве с 2000 года по настоящее время у меня появилась семья. В январе 2003 года у меня родилась дочь, что подтверждает Свидетельство о рождении. Но официальный брак с гражданкой России я не могу зарегистрировать в ЗАГСе, поскольку для этого мне требуется действительная российская виза.
Уважаемый господин Президент, я полностью осознаю, что, просрочив свою визу, совершил административное правонарушение. Убедительно прошу Вас, принимая во внимание наличие у меня семьи в Москве, не депортировать меня из России и дать разрешение на выдачу выездной визы.
С уважением, Анатолий Семёнов.
15 января 2007 года

Железный занавес
Эту историю невозможно представить без подполковника Шпаковского Владимира Владимировича, заместителя начальника Отдела регистрации и учёта иностранных граждан Управления Федеральной миграционной службы по городу Москве, подтянутого, симпатичного мужчины средних лет. Уже при нашей первой встрече я догадался, что имею дело с незаурядной личностью. Небрежно вертя в руках мою просроченную визу, господин Шпаковский с напором в голосе поинтересовался:
— А где вы были всё это время и чем вообще занимались?
Этот странный вопрос был задан на лестничной площадке, у двери кабинета заместителя начальника ФМС. Похоже, чувство такта у него отсутствовало. Господин Шпаковский даже не догадывался, что спрашивает об интимном, нарушая мое privacy — право на неприкосновенность частной жизни. Что оставалось делать в такой ситуации? Как было реагировать? Пришлось сознаться: был в России. Но так как наш разговор происходил при посторонних, я не решился добавить, что занимался повышением рождаемости в стране. Во всяком случае, мне удалось внести свою лепту: у меня родилась умная и красивая дочь. Сам Президент России это отметил, официально сообщив по телевидению: «Заметен рост рождаемости в России», — и пообещал согражданам за второго ребёнка двести пятьдесят тысяч рублей. Слов нет, сумма ощутимая, и мы с женой поначалу даже соблазнились, но, хорошо подумав, решили не торопить события. Я — лицо нелегальное, а в России рожать от нелегала — безрассудство, потому как власти не признают законным браком гражданские отношения. И начнутся долгие хождения по мукам, в процессе чего всплывут нежелательные факты и подробности. Хотите доказательств? Я их вам предъявлю. Оформляя российское гражданство нашей дочери, в паспортном столе ответственное лицо в служебной форме заявило: «Отцу необходимо представить справку из посольства, что ребёнок не имеет канадского гражданства». Это, конечно, абсурд: нет такой необходимости, как нет и постановления на этот счёт. Но если дело касается российского гражданства — тут на всё можно решиться. За российское гражданство не то что последние деньги, жизнь отдают. Я был тому свидетелем — и даже сам был готов принести себя в жертву! Но жена посоветовала не совершать провокаций в канадском посольстве — неизвестно, чем всё закончится. Вкладыш, удостоверяющий российское гражданство дочки, мы всё-таки получили. Это оказалось поразительно просто. Я потом долго недоумевал, как это произошло. Простая удача или игра случая? Случайное торжество справедливости или триумфальная победа российского федерального конституционного закона? Но всё оказалось прозаичнее: ответственное лицо продвинули по карьерной лестнице, и наши документы попали на рассмотрение к молодому, ещё не обремененному опытом сотруднику, и тот, ещё не ведая про служебные тонкости и удобство своего положения, выдал нам документ, удостоверяющий личность и гражданство нашей дочери, без извлечения личной выгоды.
Итак, после посещения жёлтого здания на Покровке и увлекательного общения с подполковником Шпаковским я сидел дома и, опасаясь погрузиться в затяжную депрессию, обдумывал план дальнейших действий. Что мы имеем? Первое: все мои действия бесполезны. Всюду отказ. Тупик. Второе: угнетение сознания и духа. Короче, полный набор неудачника. Я когда-то занимался в шахматной секции при городском Доме офицеров. Так вот, в шахматах есть положение, когда любой ход только ухудшает ситуацию. Называется цугцванг. Примерно в таком положении я и находился.
В это время и позвонил неожиданно Павел — как с неба свалился. Тот самый, который советовал изменить фамилии героев этой книги и выяснял, собираюсь ли я возвращаться в Россию. Павел раньше работал оператором в московском корпункте государственного норвежского телеканала NRK. Мы с ним познакомились в Чечне ещё в 2000 году, когда вместе работали в общей группе аккредитованных иностранных журналистов, которые освещали действия российских военных в Грозном. Аккредитацию на эту поездку выдавал лично Ястржембский, тогдашний руководитель Информационного управления Администрации президента, контролировавшей поступление информации из Чечни. Пластиковая карточка хранится у меня до сих пор. Павел успешно работал под руководством Ханса-Вильгельма Стейнфельда, шефа-корреспондента норвежского корпункта, «очерняя российскую действительность», как и другие иностранные СМИ в России, пока неожиданно для всех Ханс его не уволил. Что касается Ханса, он заслуживает особого внимания.
Известный как в России, так и в Европе неординарный норвежский телекорреспондент, автор многих популярных книг, статей и радиопрограмм о России, Ханс-Вильгельм Стейнфельд был близко знаком с Михаилом Горбачёвым. Именно он первый из иностранных журналистов взял знаменитое телеинтервью у президента СССР сразу после того, как Горбачёв в 1991 году сложил с себя полномочия; это интервью транслировали все мировые телекомпании.
В общем, после возвращения Павла из Чечни Ханс его уволил. Мой друг оказался в подвешенном состоянии. Павел всё чаще стал задумываться о возвращении к родным пенатам в Мурманск. Но в родном городе ловить ему было нечего. Я предполагаю, что Ханс-Вильгельм остался недоволен работой своего оператора, который без должного рвения очернял российскую действительность в Чечне, не настолько усердно, как сам Стейнфельд, настоящий талант в этом деле. Но угнаться за истинным профессионалом невозможно: российские реалии Ханс представлял в неблаговидном свете с особенным воодушевлением и мастерством — в этом ему не было равных.
Когда в декабре 2000 года мне предложили должность в корпункте голландского телеканала NOS, — я у них уже прошёл собеседование и отрабатывал последний месяц у финнов — я вспомнил про безработного Павла и порекомендовал своему финскому шефу-корреспонденту Мартти Хосиа рассмотреть его кандидатуру мне на замену. Мартти уже был знаком с Павлом по работе иностранных тележурналистов в Чечне. Так что его приняли в финский корпункт, причём с повышенной зарплатой. (Мне почему-то Мартти повышать зарплату отказался.)
И вот Павел позвонил и спросил:
— Чем занимаешься?
— Цветы поливаю, — ответил я. — Что ещё остаётся делать?
— Ты серьёзно? — усомнился Павел.
— Конечно. Они же засохнут.
— Записывай телефон…
— Какой телефон? — переспросил я. И поинтересовался: — Ты куда пропал? — В последнее время я радовался всему, что отвлекало от мрачных мыслей.
— В норвежском корпункте освобождается место, — сообщил Павел хорошую новость.
— А Ханс? — Со Стейнфельдом, непредсказуемым, импульсивным журналистом, я не горел желанием связываться.
— Ханс в Норвегии. Контракт закончился. Приехал новый шеф бюро — Арне.
— Такой же мудило? — усмехнулся я.
— Не думаю… — проговорил Павел. — Ханс один на всю Норвегию.
— Ханс скоро вернётся, — заметил я с уверенностью.
— С чего ты взял?
— Он там долго не выдержит. Его только негатив привлекает. Особенно российский.
— Ну да, — согласился Павел. — Подобных ему типов сюда тянет, как мух — на навозную кучу, — философски прибавил он и сказал: — Чего им у себя не хватает?
— Духовности, о которой ты мне постоянно рассказывал. Крис даже женился на балерине из Пскова и купил квартиру на Академика Королёва…
— Потом расскажешь! — перебил меня Павел и настойчиво произнёс: — Звони норвежцам, пока они другого не взяли. Ты же не один в Москве оператор с английским.
Здесь я с ним был согласен: хороших операторов в Москве со знанием английского найти можно. Может, не с таким хорошим английским как у меня, но для оператора это не принципиально. Я записал номер и в тот же день созвонился с новым шефом бюро. Разговор получился коротким и деловым, и это меня сразу порадовало. Арне предложил встретиться. Нравится мне работать с иностранными корреспондентами. Не в пример российским они не задают лишних вопросов, чётко знают чего хотят, без долгих предисловий назначают встречу и талантливо очерняют российскую действительность. Хотя были редкие случаи, когда и приукрашивали. Изюминка состояла в том, что работа в иностранном корпункте была для меня единственным шансом легализоваться в России без долгого, мучительного и унизительного процесса депортации. Я всё ещё надеялся уладить проблему со своей просроченной визой наименее болезненным для себя способом. Иностранный корпункт обладает правом обратиться в Министерство иностранных дел с просьбой о выдаче визы и аккредитации для своего сотрудника. Это был для меня реальный выход из цугцвангового положения, надежда, подаренная мне Павлом. Я мог бы снова официально работать, свободно передвигаться по столице и за её пределами, вести обычную, привычную жизнь — и даже мог зарегистрировать в ЗАГСе отношения с гражданской женой, хотя с этим как раз не спешил.
На следующий день, окрылённый и счастливый, я отправился на собеседование. В метро, как уже неоднократно случалось, меня остановил сержант милиции и потребовал предъявить документы. Я к этому почти привык:
«интерфейс» у меня не славянский. Но проблема заключалась не во мне, а в моей просроченной визе. Предстояло откупиться. Так поступают все приезжие, у кого с документами непорядок. И на такой случай я всегда держал в кармане пятьсот рублей.
Я протянул милиционеру паспорт с оттиснутым золотом канадским гербом на синей обложке.
— Вы из Канады? — заинтересованно произнёс страж общественного порядка, увидев обложку моего паспорта.
— Из Канады, — подтвердил я.
— Как там жизнь? — полюбопытствовал он с оживлением.
— Как в сказке.
— А здесь вы чего?..
— Работаю.
— В Канаде тоскливо? — улыбнулся сержант.
— Ага. Зато в России весело.
— Так всегда. Загадочная русская душа. Иностранцам здесь нравится… А берёзы в Канаде есть?
Вопрос застал меня врасплох — настолько он не вязался с ситуацией. Сержант милиции в метро спрашивает нарушителя визового режима, есть ли берёзы в Канаде. Помнил я одно четверостишие в тему:
Над Канадой небо синее,
Меж берёз дожди косые.
Хоть похоже на Россию,
Только всё же не Россия.
Но я его воспроизвёл мысленно, а сержант тем временем продолжил меня удивлять:
— Мой друг уволился из милиции и в Канаду эмигрировал.
— Как ему удалось? — искренне удивился я.
— Женился на еврейке, и… мама не печалься, папа не горюй… Здесь ловить нечего, — с грустью заключил он.
— Может, и вам тоже того… в Канаду? — предложил я симпатичному милиционеру.
— Какая Канада? Я на русской женат. И Родину свою люблю, — без улыбки ответил он, возвращая мне паспорт.
Я взял документ и спрятал в карман. Пятьсот рублей не доставал. Негоже было оскорблять патриотические чувства сержанта своими непотребными деньгами, он такого не заслужил.
У перрона встал поезд, раскрылись двери. Из вагонов высыпали пассажиры. Мы с сержантом тепло попрощались. В наше время нечасто встретишь стража порядка, бескорыстно служащего высоким идеалам. Душевного — тем более. Мне в тот день впервые попался душевный милиционер. Выпал редкий случай. А в советское время положительные люди были нашими маяками, про них писали в газетах и сочиняли песни. Милиционер дядя Стёпа вызывал уважение всех — от мала до велика. Наши герои были честными, с добрыми идеалами, о таких сегодня лишь изредка публикуют скупые заметки, да и те вызывают скорее недоумение. Другое время, другие ценности…
Ехал около часа; норвежский корпункт находился в самом конце Ленинского проспекта, в новом высотном здании, которым заведовало УпДК — Управление
по обслуживанию дипломатического корпуса. Вагоны, по обыкновению, были заполнены нервными пассажирами. Под землёй, куда не проникают солнечные лучи, острее проявляется авитаминоз. Я обратил внимание на молодую беременную женщину, стоявшую рядом. Её округлый живот говорил о большом сроке. Вряд ли я придал бы этому значение, если бы напротив беременной женщины не сидели три молодца, красавцы как на подбор. Контраст оказался вызывающим. Один, в поисках умных мыслей, читал газету. Двое других глядели в пространство.
Первое в жизни серьёзное потрясение я испытал в пятом классе. Михаил Павлович Мадатов, требовательный преподаватель музыки, поставил весь класс перед неприятным фактом, сообщив: «Человек — социальное животное. Это ещё Аристотель сказал. В нас много животных инстинктов. Так что помните об этом, когда на мой урок приходите». Мы, конечно, уже были знакомы с теорией эволюции Дарвина, но лишь в общих чертах — не до такой степени! И почему учитель пения на уроке музыки сообщил нам о животной природе человека? Может, ему не нравилось, как мы поём?.. Это откровение оказалось настолько огорчительным для советских пионеров, что многие поделились новостью с родителями, и те наконец узнали, чему нас обучали на уроках музыки. Скандала не было, но преподаватель ботаники и биологии, полная с усиками женщина, имела с Михаилом Палычем продолжительную беседу.
И вот в метро я воочию видел социальное зверьё, не скрывающее свои животные инстинкты.
Мой бывший шеф с телеканала «Russia Today», Алексей Дементьев, у которого на дверях кабинета висела красноречивая табличка «Вазелин надо ещё заслужить», укоризненно однажды заметил: «Толя, у тебя обострённое чувство справедливости». На подобные заявления люди реагируют по-разному. Лично я, услышав такое от своего шефа, смутился и растерялся. О некоторых собственных недостатках мне известно — об этом при каждом удобном случае мне напоминает жена. (У кого нет недостатков, пусть первый бросит в меня камень!) Но чтобы непосредственный начальник завёл об этом разговор, — с таким я столкнулся впервые. Спасибо, уважаемый Алексей Викторович, что избавили от искаженного восприятия окружающей действительности и помогли прозреть. Моя тонкая впечатлительная натура стремится помочь всем униженным и оскорблённым. Меня возмущает вселенская несправедливость и несовершенство мироустройства.
Как-то на очередном общем собрании нашего отдела я имел наглость высказаться о неподобающем поведении корреспондентки, с которой работал в командировке, — рассказал о злодействах и интригах мадмуазели с южной внешностью. В результате моя популярность среди коллег по цеху резко выросла. Но моя выходка пришлась не по нраву Дементьеву, отвечавшему за распределение вазелина для подчинённых сотрудников. Надеюсь, читатель понимает, для чего я об этом упоминаю: чтобы не возникло сомнений по поводу моей гипертрофированной восприимчивости. Я чистосердечно признаюсь: моё обострённое чувство справедливости — как высоковольтные провода, такого же высокого напряжения. Не влезай! Убьёт!
И вот я со своим оголённым, как провода, восприятием в переполненном вагоне напротив молодых красавцев. Всё тогда закончилось хорошо и для меня, и для беременной женщины. Добры молодцы уступили ей место. Причём встали все трое. Обострённое чувство было удовлетворено и высоким напряжением никого не убило. Дементьев, несомненно, прав, но меня удивляет другое: почему я сам об этом никогда раньше не задумывался? Задачка, как говорится, с двумя неизвестными. Хотя почему с двумя? С одним хорошо известным дивергенциальным членом, который, как известно, не отбрасывается. У меня же на лице написано: дивергенциальный член. И всем это видно. Ладно. Это сложная теория…
Новый шеф-корреспондент московского корпункта норвежского телеканала встретил меня приветливо. Арне оказался мужчина подтянутый, среднего роста и возраста, с открытым добрым лицом и высоким лбом. Одним словом, приятной наружности интеллигентный человек. Как и многие иностранные корреспонденты, работающие в России, он говорил по-русски с незначительным акцентом. Зато речь его была чистой и грамотной, без примеси инородных слов, — видимо, Арне был в университете отличником.
Собеседование длилось не более десяти минут. Тот же финский корпункт, например, неделю вынудил меня томиться в ожидании ответа.
— А как насчёт командировок? — заканчивая интервью, поинтересовался Арне.
Это был ожидаемый вопрос, но к тому времени я уже терялся, не знал, честно на него отвечать или лгать. Я не люблю командировки! Там приходится много работать, преодолевая стресс и напряжение. А я от этого устал. В командировках, как и в горах, проявляются настоящие личностные качества и подлинный характер напарника. И мне приходилось уже не раз попадать в неприятные ситуации. Нередко в командировках происходят любопытные случаи. Вот где источник забавных историй и компромиссов. Всё зависит от степени алкогольного опьянения съёмочной группы. Лично я не пью и потому интересного рассказать о себе могу немного. Зато о коллегах поведаю с большим удовольствием. И пусть они на меня зла не держат. Как гласит русская пословица, мало ли что было, да быльем поросло.
С одним молодым оператором с RT, где я некоторое время добросовестно пятнал свою и без того запятнанную репутацию, приключилось загадочное происшествие. Нет, его не похитили пришельцы, хотя и такое не исключено. Всё было гораздо прозаичнее. Бывший мой сослуживец спустил в воду двадцать тысяч долларов. Вы спросите как? Да легко. Но сделал он это неумышленно. За это можно ручаться. Из рук оператора непроизвольно выскользнула дорогостоящая телевизионная камера в чистое с прозрачной водой озеро. Съёмочная группа к тому времени уже неделю трудилась над сложным сюжетом о природе богатого цветными металлами Красноярского края. Сказывались усталость, недосыпание, недоедание — все прелести тяжёлой бесполезной телевизионной работы. Оператор, сидя в лодке, сосредоточился на лазурной глади и на потерю камеры отреагировал с запозданием. Хотя корреспондент, продюсер и даже ассистент в один голос впоследствии утверждали, что коллега был трезв. И так и могло быть в действительности. Но телевизионная видеокамера, извините, не мешок картошки. Стоит такая вещица — как новый автомобиль, и если каждый оператор с «Russia Today» (а их там не двадцать и даже не сорок энергичных молодцов, а намного больше) хоть раз позволит себе упустить в воду кремлёвское имущество, вы представляете что будет? Нет, канал от этого не обеднеет, и его не закроют. RT финансируется из федерального бюджета, и президент не допустит прекращения его работы. Разве что руководству единственного в России канала, вещающего на Европу, Азию, Северную и Латинскую Америки на английском, арабском и испанском языках, придётся отказаться от служебных «Мерседесов» и «Ауди» и пересесть на более скромные автомобили. Но на «Киа Рио» и «Хонда Сивик» их к Кремлю и близко не подпустят. Дешёвого юмора там не поймут. Возникнет вопрос: «Где деньги?» Ведь тут дело касается международного престижа страны и канала, который команда западных специалистов поднимала не один год.
В далеком счастливом детстве меня учили, что горькая правда лучше сладкой лжи. Уверяли, что честным надо быть до конца. Такому могут учить только в детстве. Повзрослев, мы не можем позволить себе эту роскошь. Правда идёт во вред. Люди не всегда хотят её слышать и не всегда к ней готовы. Но сейчас, ненадолго вернувшись в детство, я постараюсь быть честным. Это будет не смешно, уж не обессудьте. Я не в восторге от своей работы. Телевидение XXI века — это сливной бачок, извергающий на телезрителей поток зловонной лжи. Нескончаемый поток грязи, как вредный микроб, безжалостно проникающий в незащищённое от вируса сознание, калечит психику доверчивых людей. Телевидение — это поработитель и зло современного общества, наносящее непоправимый вред душевному здоровью и спокойствию людей. От плазменных телеэкранов сегодня невозможно скрыться. Они находятся в каждой квартире, в офисах, машинах, самолётах. Эти ловушки поджидают нас повсюду. Мы сами для себя их расставили. Пошлость, ложь, гламур, лицемерие, агрессия, насилие двадцать четыре часа в сутки извергаются на нас. Понятия о добре и зле искажены. Цель владельцев телеканалов, магнатов, олигархов и политиков — унижение человеческого достоинства. И справляются они со своей задачей великолепно, воплощая в жизнь хорошо известный принцип: «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней». Чтобы освободиться от этого рабства, телевидение надо запретить. А кто не в состоянии без него прожить, того направить на принудительное лечение, как курильщиков и наркоманов. Я, например, не смотрю телевизор уже несколько лет и семье своей не разрешаю. Эту сермяжную правду рассказать Арне? Вряд ли она придётся ему по вкусу. И вряд ли после этого откровения он возьмёт меня на работу. Я даже знаю, что он мне ответит. Что западное телевидение отличается от российского. Что в европейских странах государство не вмешивается в работу журналистов. Что западные программы качественнее. Возможно, так. Не спорю. Мне неоднократно приходилось это слышать. Но Арне не скажет, что телевидение — инструмент управления сознанием, орудие распространения заказной и лживой информации. Допускаю, может, он об этом не догадывается. Я сам не сразу прозрел и открыл для себя эту правду. Потребовались годы работы в этой сфере, чтобы понять, а потом ещё работа над собой. Встречаются, конечно, честные журналисты, но, к большому сожалению, срок их жизни недолгий. В России честных устраняют, и неважно, где они трудятся: на телевидении, в газете или на радио. Дмитрий Холодов, Анна Политковская, Михаил Бекетов… Скорбный список можно продолжить. Это у них, там, в заманчивых европейских странах честных журналистов просто увольняют, а в России о них остаётся светлая память, иногда непродолжительная. Вот чем отличается российское телевидение от западного. «Пора не пора — открываю глаза. Кто не спрятался — я не виноват», — так охарактеризовал Ханс-Вильгельм Стейнфельд работу честных журналистов.
Кстати, видеокамеру из озера вытащили, руководству RT не пришлось пересаживаться на дешёвые автомобили. Вернёмся в корпункт норвежского телеканала на Ленинском проспекте.
— Так как насчёт командировок? — деликатно повторил Арне.
— Полный порядок, — нагло соврал я. — Я в командировках лучше работаю.
Арне подозрительно взглянул мне в глаза. Кажется, я перегнул. Не всегда, конечно, но я действительно в командировках лучше работаю. При больших нагрузках и нехватке времени мой организм мобилизуется и начинает функционировать в усиленном режиме. Правда, недолгое время. Как-то снимали с Лией Фергюссон в Праге сюжет в публичном доме… Стоп! Сейчас не возбуждаться!
— Командировки у нас нечасто. Примерно раз в месяц, — охладил меня Арне.
Я удовлетворенно кивнул. Значит, не придётся топить в озере камеру или танцевать стриптиз перед корреспонденткой.
Выдержав короткую паузу, Арне наконец заключил:
— О’кей, ты принят. Поговорим о зарплате.
«Железная птичка снесла яичко! — обрадовался я. — И чего было кота за хвост тянуть».
— Обычно мы платим две тысячи долларов, но, учитывая твой большой experience, мы будем платить тебе две с половиной. Через год — повышение. Идёт? — Арне выжидающе посмотрел на меня.
Две вещи способны возбуждать мою примитивную мужскую фантазию, а именно: внушительный гордый женский бюст и большая зарплата. Моя, конечно, зарплата, не чужая.
— Идёт, — воодушевляясь, ответил я. Арне на секунду задумался.
— О’кей, я поговорю с руководством.
— То есть это ещё неточно? — забеспокоился я.
— Думаю, они согласятся… — успокоительно проговорил он.
А вдруг мой experience останется недооценённым его руководством? Знали бы они, как я с финнами в Афганистане неделю под стрессом находился… Бегали в горах по пыльным окопам, искали Усаму бен Ладена, надеясь взять у него эксклюзивное интервью. Уже один этот факт заслуживает восхищения. Разве нет? Наш водитель, молодой афганец, пел нам афганские народные песни и всё порывался подарить мне антикварный одеколон «Красная Москва», очевидно, приняв меня за своего. Разве за эти моральные страдания я не достоин уважения и лучшей жизни?..
— К работе приступаешь с завтрашнего дня, — прибавил Арне, отвлекая меня от воспоминаний. — Принеси с собой ксерокопию паспорта, визу и четыре фотографии на матовой бумаге. Мы отправим ходатайство в МИД, через две недели получишь аккредитацию и визу.
— Всё ясно. Будет сделано, — кивнул я, ликуя в душе.
— Да, кстати, как твой английский? — встрепенулся вдруг Арне.
— Хорошо! — с готовностью ответил я. — Не сомневайся.
Но Арне всё-таки усомнился. И неожиданно переключился на английский:
— For how long have you lived in Canada and do you have plans to go back? Please keep in mind that we need a person, who will stay with us for at least two-three years. — Говорил норвежец легко и непринуждённо. Слова струились, как прозрачная родниковая вода.
— I understand, — коротко ответил я. Краткость — сестра таланта. Чехов так сказал. И неважно, к чему это относилось. Краткость — во всём сестра таланта.
— Хорошо, — удовлетворенно кивнул Арне. — Вопросы?
— NRK — это государственный или частный канал?
Мне было хорошо известно, что NRK — государственный телеканал, об этом сказал Павел. Но требовалось спросить что-то для приличия. В зарубежных компаниях так принято. Если не проявляешь интереса к компании — значит, ты человек случайный и кроме зарплаты тебя ничего не волнует. Хотя в действительности так и было. Меня, кроме зарплаты, уже ничего не интересовало, даже скажу точнее: виза заботила меня намного больше, чем зарплата.
— Государственный, — односложно ответил Арне. Замечательно! Итак, я буду работать на государственный норвежский телеканал. На финский и шведский работал. И на голландский NOS. И даже отметился на немецком ARD и французском TF1. «BBC News» вообще отличились — заплатили мне двести пятьдесят долларов за десятиминутную съёмку ЮКОСа. Сотрудничал я и с другими иностранными корпунктами, но не стоит обо всём вспоминать. Память — непредсказуемая вещь. Всякое было в жизни, и незачем глубоко влезать в тёмные дебри прошлого. Главное, что я смогу решить свои личные проблемы. Аллилуйя! Или нет, в моём случае так: «Мазль тов!» Сбылось. Как всё-таки приятно иметь дело с иностранцами. Всё кратко, чётко и предельно ясно. Важно, что теперь я получу визу, и меня не депортируют из России. День Страшного суда отменяется! Выдворения не будет! Благодаря Павлу я избежал суровой кары российского закона.
На следующее утро, основательнее ощущая под ногами землю, я в приподнятом настроении вошёл в офис норвежского корпункта. Деловито прошёлся по всем комнатам, осмотрел видеокамеру, монтажный компьютер, на котором мне предстоит монтировать негативные видеосюжеты о России. К этому мне не привыкать. Я таких сюжетов не одну сотню смонтировал для западных телеканалов.
Арне тоже был в благостном расположении духа. Он в моем лице, не потеряв кучу драгоценного времени на поиски, заполучил профессионала, который к тому же хорошо владеет английским. По крайней мере, так он считал. Арне любезно предложил мне чаю. Я отказался — от счастья всё внутри вибрировало настолько, что чашку я бы вряд ли удержал. Но наша общая радость продлилась недолго. Просмотрев копию моей визы, Арне медленно приподнял голову. На его худом и умном лице одновременно отражались недоумение и замешательство.
— Ты что?.. — Он осекся, потом продолжил: — Ты два года живёшь в Москве без визы?! — На меня смотрели ошалелые глаза Арне.
— Как же без визы? Вот виза, — ответил я, не представляя масштаба неотвратимой трагедии.
— Эта виза истекла два с половиной года назад… — ещё более поражаясь, выговорил Арне.
— Я собираюсь новую получать…
— Вера, зайди сюда! — крикнул Арне в открытую дверь, проигнорировав мой ответ.
Тревожное чувство охватило меня до последнего органа. Я ощутил дискомфорт, покалывания в нижней части тела.
В комнату вошла немолодая женщина в строгом чёрном костюме — секретарь или, может, офис-менеджер. Вера вопросительно и деловито взглянула на меня. Она была уверенная и спокойная.
— У тебя были проблемы с милицией? — Норвежский акцент Арне стал более заметным.
— Нет, не было, — сказал я, пытаясь сохранить спокойствие.
Арне с Верой удивленно переглянулись, и он печально вздохнул.
— Значит, у тебя большое будущее, — грустно предрёк он мне.
Вера посмотрела мне в глаза, утвердительно кивнула и добавила:
— И не очень светлое…
Я хотел было возразить, но Арне меня опередил:
— Ты до сих пор не понял, что это за страна?
— Смотря что ты имеешь в виду. — Я не мог сообразить, к чему он ведет. Видимо, от волнения и беспокойства мозги уподоблялись силикону, что слабый пол имплантирует себе в грудь.
— Россия — это не матрёшки, водка и чёрная икра.
«Ничего себе, сказанул! — поразился я. — Вроде банальность, штамп, а как хлёстко звучит!» Меня всегда интересовало суждение иностранцев о России. Я их мнения коллекционирую, записываю в блокнот. Был не самый подходящий момент, но я не удержался.
— Объясни.
— Это феодальное государство с кремлёвскими опричниками и рублёвскими князьками. Здесь всё находятся в вассальной зависимости от чиновников и силовиков.
От такой меткой оценки текущей исторической ситуации у меня отпала челюсть. За долгое время работы с иностранцами я разное слышал, но подобное высказывание — впервые. Помню, шеф-корреспондент голландского корпункта сказал мне: «Услужливость и страх перед чиновником у русских в крови». Согласен. Тяжёлое наследие крепостного права царского режима. Шеф-корреспондент финского канала сказал: «Западная Сибирь, где живут финно-угорские народы, должна принадлежать Финляндии». И это допускаю. Границ скоро не будет. Мир станет единым — глобализация! Корреспондент германского канала сказал: «Байкал — всемирное достояние, которое должно принадлежать всем. Не только России». И это я допускаю — об этом уже давно ведутся разговоры, но всё это по сравнению со словами Арне было тускло и бледно. Феодальный строй, князья, опричники… Как же он не боится? Мне понятно, что он человек с западным менталитетом. Непонятно другое. А если я платный осведомитель? Подосланный. Или пусть даже бесплатный, неважно. Похоже, я не представляю для него опасности. Арне просёк это по моему потухшему взгляду. Повисла гнетущая пауза. Что касается феодального строя, то я об этом знал из истории средних веков. У меня в школе была хорошая учительница истории — Нина Михеевна. Ветеран Великой Отечественной войны. На фронте была санинструктором. Получила боевое ранение. Её любила и уважала вся школа. Нина Михеевна подробно рассказывала о феодальном строе, о крепостном праве. Она излагала материал интересно, увлекательно. Я помню её рассказ о хеттах, индоевропейском народе, обитавшем в центральной части Малой Азии, о царях хеттского царства Шуппилулиума III и Хаттусили. Оказывается, народы Кавказа являются потомками хеттов. Ладно. Это сейчас неважно. Но Арне! Откуда в голове норвежского корреспондента взялись вассалы?
— К чему ты всё это? — Я надеялся избежать страшного удара, цеплялся за соломинку.
— Любой чиновник в России — князь. У них свои земельные владения, личная охрана, дороги, поселки, суды. Они выше закона. Здесь феодальный строй! Ты этого ещё не понял?
— Я думал, здесь демократия.
— Не думал не гадал, да в суп попал, — усмехнулся Арне.
Встречаются уникальные журналисты. Арне один из них. Как ему так быстро удалось разобраться в государственном устройстве России? И проникнуть в анналы? Безусловно, он был лучший студент в университете. Анализирует не хуже опального журналиста и депутата Государственной Думы Юрия Щекочихина, у которого незадолго до его скоропостижной смерти я брал интервью для голландского телеканала и которого, по утверждениям западной прессы, отравили опричники. Ведь приехал Арне в Россию всего месяц назад, и уже такой прогресс. Впрочем, другого бы сюда не отправили. Расходы на содержание московского корпункта немалые, потому требуют от него интересных сюжетов. Надо бы предостеречь Арне: за подобное откровение, чего доброго, лишат аккредитации или, ещё хуже, отправят вслед за Щекочихиным или Литвиненко. Кто знает, что у опричников на уме. Способы у них разнообразные. В 2006 году для канадского телевидения CTV я брал интервью у полковника КГБ в отставке Станислава Лекарева. Этот персональный пенсионер союзного значения с первого раза с расстояния двух метров легко забросил кусочек сахара в чашку, продемонстрировав свой профессиональный навык; у западных журналистов есть предположение, что с помощью такого приёма убийца мог полонием отравить в Лондоне Александра Литвиненко. Дома потом я пытался освоить это мастерство, раз за разом метая сахар в чашку, но полезным навыком так и не овладел. Лекареву на момент интервью было семьдесят два года, а мне — только сорок лет. В КГБ если научат — на всю жизнь останется. Вот потому и говорят: бывших кагэбэшников не бывает.
— Визу я получу, — неубедительно сказал я.
— Сколько лет ты в России? — спросил Арне.
— Скоро уже шесть…
— Более двух из них — нелегально! — заметила немногословная Вера.
Неужели это конец? Крушение всех надежд? Неужели снова на Покровку, к господину Шпаковскому на поклон, демонстрировать ему свою вассальную зависимость? До этого я знал только о наркотической и алкогольной зависимости. В подростковые годы мне приходилось видеть, как в нашем бандитском дворе старшеклассники курили анашу, а взрослые кололись в подъездах; я видел, как в металлических столовых ложках доводили до кипения белую жидкость и потом вкалывали её себе в вену. Слова «шприц», «морфий», «план» и «анаша» я узнал намного раньше, чем слова «вассалы» и «феодалы». И вот теперь узнал о вассальной зависимости от чиновника.
— Тебя депортируют, — прервал мои воспоминания о счастливом детстве Арне.
Вера снова утвердительно кивнула. Я отметил: говорила она мало, но её короткие редкие фразы больно вонзались в сердце.
— Не депортируют, — возразил я. — У меня есть план. Я еду в Финляндию…
— Так… — иронично произнёс Арне.
— Сижу в гостинице, жду там приглашения — об этом я уже договорился. Потом иду в российское посольство, получаю новую визу и въезжаю в Россию… На всё не больше двух недель, — подытожил я с выразительным жестом.
— Ты читал «Зима тревоги нашей» Джона Стейнбека? Странный вопрос Арне поставил меня в тупик. При чём тут тревоги Джона Стейнбека? Начитанный гусь попался. Хотя иностранные журналисты все такие.
— Не читал, — сознался я. — Но я читал «Над пропастью во ржи» Сэлинджера.
— Рекомендую, — посоветовал Арне.
Что за наставления по зарубежной литературе? Мне русская ближе. Да и зачем мне чужие тревоги, когда у меня своих достаточно? Нет. Джон Стейнбек не поможет. И Сэлинджер не поможет. Шпаковский! Вот кто повелитель моей судьбы! Обладатель таинственной власти надо мной. Хозяин моей биографии. Вот в чьих руках находится моя дальнейшая жизнь и судьба. Вот у чьих ног находится мое достоинство и гордость.
— Это ваши фантазии, — сказала Вера.
— Как это — фантазии? — опешил я.
— Так. Вас даже отсюда не выпустят.
— Почему не выпустят? Такого не может быть.
— В России ещё и не такое может быть.
Ну да, секретарю иностранного корпункта известны правила регистрации иностранных граждан. Она ежедневно с чиновниками имеет дело, не первый день в этой мутной жиже. Спорить бессмысленно: опытная, деловая информированная вумен (это я свой уровень английского демонстрирую). Её строгий чёрный костюм, проникновенный взгляд подтверждают мои догадки: этой даме хорошо известны правила постановки на учёт иностранных граждан.
Арне с Верой снова переглянулись. Испытывая ко мне отеческую жалость, Арне рассказал:
— В прошлом году здесь работал корреспондент из Осло. Заработался. Обо всём забыл. Просрочил свою визу всего на два дня. На два! Я его предупреждал: «Олав, давай паспорт, могут быть проблемы». Когда он опомнился — МИД отказал! Выездную визу не выдал. Олава отсюда не выпускали. Тут такой цирк был…
— Только без клоунов, — добавила Вера. — Мы руководству в Осло звонили…
«Чирлики-мирлики! Шаранды-баранды! Что от вас ушло, то к нам пришло!» Прямо «Сказка о потерянном времени». В тот период я её часто вспоминал. Время было безнадёжно упущено. Мозг, перегруженный информацией, перегрелся. Требовалось ненадолго отвлечься. Мысли стали куда-то уноситься против моей воли. Психика умеет защитить себя от подобных коллизий. Значит, не видать мне этой должности в норвежском корпункте. Не видать зелёной бумажки с фотографией, благодаря которой я надеялся уладить все свои проблемы. А я уже размечтался с Мортеном Харкетом познакомиться, вокалистом любимой группы «a-ha». Норвегия — страна маленькая, Арне наверняка лично знаком с ним. У Мортена есть песня «Ready to Go Home». Всякий раз, когда её слушаю, она доводит меня до горьких слёз. В тот момент я был готов пролить горькие слёзы. Из-за обиды, сожаления, неудачи. За что мне эти танталовы муки? Чем же я прогневил древнегреческих богов? Точнее, древнееврейских.
На планете имеются аномальные зоны, например Курская магнитная аномалия. Для меня в тот момент норвежский корпункт на Ленинском проспекте стал магнитной аномалией, где силы притяжения также работали в обратном порядке. Я перестал чувствовать притяжение, меня оторвало от земли и понесло. Вспомнилось школьное стихотворение, которое учил сорок лет назад:
Если скажут слово «Родина»,
Сразу в памяти встает
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот…
Это стихотворение я торжественно читал у доски в школе. Нина Михайловна, моя учительница в начальных классах, поставила мне в дневник большую красную пятёрку, которой я долго гордился. Почему я вспомнил эти строчки? Произошёл отрыв сознания от тела. Расслоение. Мозг пребывал в невесомости, а на тело воздействовало земное притяжение. Утверждают, что у человека задействовано около трёх процентов мозга. Другие говорят о четырёх. Какое-то время даже велись споры на эту тему. Мне кажется, мой мозг вообще не работает. Иногда думаю, его в черепной коробке просто нет. Не удивляйтесь, живут же люди без мозгов. Об одном любопытном случае писали. Прохожему упал на голову кирпич. Когда он пришёл в себя, родного языка вспомнить не мог, на хинди заговорил. Вот если бы и мне на голову упал кирпич, размечтался я, все проблемы враз бы решились. А лучше даже два кирпича. Я мог бы вспомнить, как мечтал стать диаконом. Тогда бы меня отправили в «жёлтый дом», бесплатно лечиться.
Россия — не проходной двор!
Как раз я и нахожусь в жёлтом доме, трёхэтажном здании на Покровке, в кабинете замначальника ФМС. И это, к сожалению, не сумасшедший дом. Хотя моя крыша давно готова поехать.
— Господин Семёнов! — укоризненно обращается подполковник Шпаковский. — Россия вам не проходной двор! — В голосе отчетливо звенят угрожающе железные нотки.
С этих пугающих слов начинается наш с ним очередной волнующий разговор, словесный поединок. Я заискивающе вздыхаю, виновато поддакиваю и оправдываюсь, но мои душевные терзания Шпаковского совершенно не беспокоят. Он увлечен перевоспитанием и наказанием провинившегося типа. Догадываетесь кого? Конечно же, меня.
В кабинете подполковника Федеральной миграционной службы тесновато: он заставлен служебной мебелью, офисной техникой, повсюду толстые папки, на столе документы. Кабинет подполковника находится в трёхэтажном жёлтом здании, хорошо известном иностранным гражданам в Москве. В будние дни, кроме среды (среда — неприёмный день), это здание кишит разношёрстным народом. Кого здесь только не увидишь: финны, немцы, французы, поляки, голландцы, кубинцы, арабы… Были даже замечены корреспонденты японского, корейского и китайского телеканалов. Здесь как на международном вокзале: покупаешь в окошке зелёный билет (за визу с наклеенной фотографией надо заплатить пошлину), расписываешься и выходишь. Если иностранцу необходимо получить визу, разрешение на временное проживание или вид на жительство — ему сюда, всё это производится в стенах жёлтого здания могущественными чиновниками ФМС. Здесь так же, как в моем случае, могут оказать и содействие в депортации. Но, похоже, я тут один такой неудачник. Других страдальцев здесь нет.
Шпаковский сидит за столом в сером штатском костюме, однако мне хорошо известно, что Владимир Владимирович состоит в чине подполковника Министерства внутренних дел. Я пытаюсь разгадать значение слов, произнесённых подполковником, стою перед Шпаковским по струнке — не издавая вибраций, как туго зачехлённый инструмент. В моей голове беспорядок, мысли блуждают и не стыкуются. Зачем я тут нахожусь? Может, мне в соседнее здание? В соседнем здании драмтеатр. Туда я потом какнибудь зайду. А сейчас именно здесь разыгрывается настоящая драма, и подполковник Шпаковский справляется со своей ролью блестяще. Главное — не мешать. Моя задача — поддержать мизансцену, и я виновато бормочу:
— Я знаю, Россия — не проходной двор. Я Россию люблю всем сердцем…
(И я говорил тогда правду! Только моя правда никому не была нужна.)
— Обращайтесь в суд. Там вам помогут, — цинично рекомендует Шпаковский.
— А может, как-нибудь по-другому решим? — намекаю я.
Но мой намёк растворяется в воздухе. Шпаковский не реагирует.
Я прожил в Москве около десяти лет, но взятки давать так и не научился. Отстал от жизни в мегаполисе. Наверное, достойных кандидатов не находилось. Не попадались достойные моей взятки. А ещё мой животный страх: ворвутся в кабинет блюстители закона, защелкнут на запястьях наручники и бросят в тёмные сырые помещения. И пропадёшь там. Я такие сюжеты по ящику видел. А я в него не то что смотрю, я этому ящику преданно служу — пособник дьявола.
И всё-таки на последние деньги я купил бутылку дорогого французского шампанского в изящной золотистой коробке. И вот выбираю, как мне кажется, удобный момент и, потупив взгляд, точно нерешительный школьник, ставлю бутылку на край заваленного бумагами стола.
— Что это? — встревоженно говорит Шпаковский.
— Французское шампанское. Очень хорошее, — спешу заверить подполковника.
— Уберите. — Шпаковский недоволен подношением. — Это для тех, у кого печень здоровая.
— А у вас, что, больная? Подполковник молча морщится.
Значит, больная. А ведь не скажешь. Я колеблюсь, потом решаюсь и ставлю импортную бутылку на пол, к шкафу. Не уносить же с собой — неприлично! Хотя в моём положении не до приличий. Я бы унёс, но Новый год на носу.
— Отметите праздник с сотрудниками, — нерешительно рекомендую я, но тут же вспоминаю: шампанское для печени вредно.
— У вас всё? — реагирует Шпаковский.
Зря я всё-таки на бутылку последние деньги потратил. Надо было в конверте ему всучить. Похоже, шампанским здесь не обойтись.
— Меня депортируют?
Почему я об этом спросил? Ему всё ясно. Всё давно решено. Но ничего лучшего мне в голову не пришло.
— Представьте — да! — хмурится подполковник.
Шпаковский немногословен. Говорит строго по делу. Это издержки кадровой службы. Спрашивай что угодно, а выход из этого кабинета один — в суд!
— Но это же на пять лет, — всем своим видом и соответствующей интонацией пытаюсь я разжалобить строгого чиновника.
— А вы бы на месяц хотели? Внесите предложение, — острит Шпаковский.
Я оцениваю шутку, даже несмотря на то, что мне не до смеха. Юмор Шпаковского искромётен, как бенгальские огни в холодную новогоднюю ночь.
Все заранее подготовленные вопросы куда-то мигом проваливаются. Память отшибает начисто. Все слова забыты, молчу как рыба. Мама часто повторяла: молчание — золото. Она, несомненно, права. Надо молчать. Помолчу. Особенно сейчас. Пауза. Тайм-аут.
— Вы — гражданин Канады, — вдруг прерывает мои грустные мысли подполковник, — более двух лет находитесь в России незаконно, без визы! Это, вообще, как объяснить?
Нет, надо немедленно что-то ответить, иначе это может далеко зайти.
Наконец на меня снисходит озарение, и я спрашиваю:
— А где ваше милосердие? У меня здесь ребёнок родился… и жена… скоро в первый класс пойдет…
— Тем хуже для неё, — замечает Шпаковский.
— Будьте снисходительны.
Что же я несу?! Прости меня, Господи. Откуда во мне эта христианская покорность, это смирение? Шпаковский такого слова, может, никогда даже и не слышал. Оказалось, ещё как слышал.
— В суд обращайтесь! Наши судьи милосердны и снисходительны, — продолжает глумиться он.
— Я в России жить хочу. Я не хочу в Канаду…
— О Канаде забудьте! — вдруг сердится Шпаковский. — Кленового сиропа здесь нет!
Что это было с кленовым сиропом? Откуда он это взял? К чему упомянул? Не думай об этом! Лучше не думать, иначе можно совсем запутаться и потеряться. С кленовым сиропом едят блины и оладьи. А берёзовый сок вкуснее и полезнее. Я когда-то давно пил настоящий берёзовый сок. Я в весеннем лесу пил берёзовый сок…
— Я пытаюсь забыть, вы сами напоминаете.
— Бросьте! В девяносто первом вы бежали, только пятки сверкали. Возвращаться и не думали, — с осуждением упрекает меня Шпаковский. — Главное было — туда! За джинсами и райской жизнью…
— В девяносто первом все уезжали. Никто не думал возвращаться, — оправдываюсь я, но мои аргументы не убедительны.
— Вы настолько наивны, полагаете, нам ничего неизвестно? — постепенно расширяет тему подполковник.
Я вздрагиваю. Меня пробирает до шнурков, которых нет. Туфли со шнурками я не ношу — неудобно, но взгляд опускаю вниз, проверяю. Всё как обычно: туфли чистые и без шнурков.
— Не понимаю, о чём вы?
— Всё вы понимаете… — лукавит Шпаковский.
— Меня без визы на работу не берут, в ЗАГСе не регистрируют… Даже таджики в лучшем положении. Их в ЗАГСе расписывают…
— Семёнов, оставьте таджиков в покое. Нам известно больше, чем вы думаете, — многозначительно ухмыляется Шпаковский.
— Всё это лирика… — Я начинаю нервничать.
— И как вы канадское гражданство получили — это тоже лирика? Или детективная проза?
Меня передергивает, как затвор автомата Калашникова (впервые услышанный в армии звук, раздающийся при передергивании затвора, мне запомнился на всю жизнь). Я чувствую болезненный спазм внизу живота. Тенезмы. Снова опускаю взгляд на туфли. Снова убеждаюсь: нет шнурков. Меня не раз спрашивали друзья и знакомые о моей эмиграции, но подполковник Федеральной миграционной службы — впервые, и от его вопросов я ощущаю большой дискомфорт. У Шпаковского на мой счёт совсем другой интерес, а именно суд и депортация. Цели у нас, надо признать, диаметрально противоположные.
— Обыкновенно получил, как все, — отвечаю.
— В том-то и дело, что не как все. В январе тысяча девятьсот девяносто первого года вы вылетели в Канаду по гостевому приглашению и попросили политическое убежище. — Шпаковский замолкает. — На каком основании? — чуть повышая тон, прибавляет он. — Вы что, академик Сахаров?
Ничего себе момент истины. Ну я в долгу тоже не остаюсь.
— Академик Сахаров политического убежища не получал. Он находился в ссылке в Горьком.
Шпаковский брезгливо кривится. Понятно, как всегда, я сболтнул лишнего. Молчи, дурак! У тебя длинный язык.
— А в апреле тысяча девятьсот девяносто седьмого года вы принесли клятву английской королеве и получили канадское гражданство, — продолжает он излагать тёмную сторону моей биографии.
— Какой ещё королеве? — неосторожно усмехаюсь я.
— Английской! Елизавете Второй, — спокойно отвечает Шпаковский.
— Причём тут английская королева? — тушуюсь я.
Что происходит? Почему я слышу об английской королеве от подполковника МВД в здании ФМС?!
— В Канаде, господин Семёнов, конституционная монархия с парламентарной системой, — назидательно ликвидирует мою неосведомлённость Шпаковский.
Ну для чего мне эта информация? Что мне с ней делать? Мне сейчас виза нужна. Выездная. Визу мне дай! Но я смиренно молчу. Слушаю дальше. А что ещё мне остается?
— Канада входит в Ассоциацию независимых государств, признающую британского монарха в качестве символа свободного единения, — заканчивает Шпаковский лекцию.
Шпаковскому всё-таки удалось ввести меня в ступор. Видимо, подполковник обладал особым для этого даром. Похожее состояние я пережил в горах Афганистана в 2001 году. Американские агрессоры вторглись в эту страну под предлогом уничтожения «террориста номер один» Усамы бен Ладена. Вся эта затея с самого начала напоминала провальное бродвейское шоу, которое с размахом освещали все ведущие мировые средства массовой информации, в числе которых оказался и скромный финский государственный телеканал, где я в ту пору трудился. В горах быстро выяснилось, что в Афганистане Усамы бен Ладена уже давно нет — а видели его в Америке — и никаких военных действий не ведется. Хотя бородатый афганский офицер армии Северного альянса, давший нам в окопе убедительное интервью, утверждал, что бен Ладен скрывается за холмом напротив. И даже указал пальцем место и дал приказ танкистам выпустить туда снаряд. Но при всём его желании, журналистов, готовых проглотить уловку и поверить в ложь, не нашлось. Театр военных действий сиротливо пустовал — военных операций не велось, зато театральность действа была очевидна. Многих теле-, радиокорреспондентов и пишущих журналистов в горах ждало разочарование. Как же им следовало поступить? Командировочные деньги потрачены, а бен Ладена в горах так и не нашли. Никто его не видел. Как сделать сюжет об американской освободительной войне? Как вернуться из горячей точки героем? Радиожурналистам и пишущим корреспондентам легче: рассказать и написать можно всё что угодно, а вот как быть телевизионщикам? Ведь от них требуется показать подходящую «картинку». Корреспондент «BBC News» сообразил быстро, найдя оригинальный выход из сложного положения. Он предложил афганским танкистам двести долларов за выстрел. Танкисты дважды пальнули из советского танка Т-62 и положили четыреста долларов в карман чёрного советского комбинезона. Деньги я, конечно, не видел, но лица танкистов светились от улыбок. Я заметил, что и шлемофоны на них были советские. Так был оживлён сюжет корреспондента «BBC News» из Афганистана. Вот какой дорогой ценой (в прямом смысле слова) достаётся информация. Вот под каким стрессом приходится работать журналистам и операторам. Так как финский канал — не «BBC News» и свободными средствами не располагал, я ухитрился отснять эти залпы конспиративно, хотя и не без риска для здоровья: мои барабанные перепонки едва не лопнули. Бездумно близко я находился к Т-62, потерял слух на короткое время. Шеф давал указания, а я его не слышал. Точно контуженный солдат из советского военного фильма. Вот такой же и я стою перед подполковником Шпаковским — жалкий и беспомощный. Видно, историю канадской монархии и процедуру получения канадского гражданства он хорошо знал. Получается, что клятву английской королеве я действительно приносил. Катастрофа! Я со своей визой никак не разберусь, а мне связь с самой английской королевой приписывают. Это они умеют. Но у меня есть смягчающее обстоятельство: клятву английской королеве я давал не один. Клятва была произнесена под диктовку главного заседателя в зале суда вместе с другими счастливчиками. Была также одна незначительная погрешность в датах: гражданство я получил не в апреле, как заметил Шпаковский, а в сентябре 1997 года. Но здесь мне удалось промолчать — зачем свидетельствовать против себя, уточняя лишние подробности? Всё это можно использовать против меня в суде. Постепенно я выхожу из ступора, ко мне возвращается слух.
— Семёнов, вы плохо учились в школе? — Ирония Шпаковского острая и обидная. Не зря говорят, что в России лучшая сатира.
Неужели они мой аттестат зрелости изучали? Люди в погонах ничем не побрезгуют. Для компромата любые методы хороши. А компромата на меня хоть отбавляй. Достаточно вспомнить моё письмо. «Может, всё-таки о письме им неизвестно?» — с надеждой подумал я.
— Я учился. Остальное к делу не относится, — вызывающе отвечаю я.
С возвращением слуха я на некоторое время ощутил себя смелее. Почему мне приходится обсуждать историю своего невозвращения с подполковником Федеральной миграционной службы в его кабинете? Здесь же не передача «Жди меня»! Мне совсем не до шуток. Насмешки и остроты тут отпускаются исключительно в одностороннем порядке, и это для меня может плохо закончиться. Возьмут и отправят, как академика Сахарова, в ссылку. Хорошо если в Горький — в отличие от Сахарова, я об этом мог только мечтать. Меня депортируют в Канаду, и тогда я не смогу вернуться к своей семье. Покажут по ящику, как доблестные сотрудники ФМС выдворяют в наручниках злостного нарушителя миграционного законодательства: борьба с нелегальной иммиграцией. И сиди себе там пять лет с кленовым сиропом. Мне ли не знать, как делаются новости.
Хорошо, я добровольно сам всё расскажу. Чистосердечное признание смягчает вину. Итак, в январе 1991 года, прибыв в Канаду, я действительно подал документы на статус беженца — это был единственный путь к получению гражданства, истинной цели моей поездки. Возвращаться назад я не думал. Как заметил осведомлённый Шпаковский, поехал за райской жизнью и джинсами. С нехитрой схемой подачи документов и получения статуса беженца я вкратце был знаком. Кстати, об этой тайне знали многие пассажиры авиарейса Москва — Монреаль.
Первое потрясение в Канаде я испытал, когда узнал, что моим делом будет заниматься бесплатный адвокат. Не такой, от которого добровольно отказываются («Бесплатный адвокат нам не нужен!»), а настоящий канадский адвокат, серьёзный господин — мистер Файн. Симпатичный, высокий, в сером костюме, аккуратно выбритый, с голосом диктора радио — я таких видел только в кино. Даже фамилия адвоката — Файн в переводе на русский означает «прекрасный», «отличный», «превосходный» — говорила о его профессионализме и личных качествах. Работу мистера Файна оплачивало государство. Он сидел напротив, ставя меня в тупик своими затруднительными вопросами. Мы общались через переводчика. Его помощница, молодая канадка, изучала русский язык в институте и объяснялась приемлемо. Во всяком случае, её я понимал лучше, чем мистера Файна.
— Для получения статуса беженца вам надо приложить письменное объяснение. Вы должны убедить канадский суд в притеснении, — сказала она.
— В чём? — растерялся я.
— Что вас притесняли. Разве евреев в Советском Союзе не притесняют?
Что я мог на это ответить? Что мог убедительного написать? Диссидентом я не был, политикой не занимался, за гражданские права не боролся. Более того, предпочитал русскую народную песню «Во поле берёза стояла» еврейской песне «Хава нагила».
— В армии притесняли.
— Это не актуально. Я напряг память.
— В комсомол вступил по принуждению.
— Вы состояли в молодежной военной организации? — перевела вопрос адвоката его помощница.
Меня от испуга перекосило. Никогда не думал, что комсомол — это молодежная военная организация. Получается, что я не только в ней состоял, но ещё и финансировал. Кто мог знать, на что шли мои членские взносы? А я ещё, идиот, взял с собой в Канаду комсомольский билет. Надо немедленно его сжечь!
— Может, про начальника ЖЭКа написать? Он отказывался меня прописывать на жилплощади родителей.
— Что такое прописка?
— Ущемление гражданских прав! — наконец озарила мою голову светлая мысль.
— В СССР существует расовая дискриминация. Ваша жизнь подвергалась опасности? — пытал меня обескураживающими вопросами мистер Файн.
Я задумался. Вспомнил папу, который после работы слушал «Радио „Свобода“».
— Сахаров, Щаранский, Солженицын, — вместо ответа перечислил я фамилии, которые неоднократно слышал по радио.
— Хорошо. Вот в таком духе, — рекомендовал адвокат. — Думайте.
Где бы я в СССР ни жил или учился, или останавливался на короткое время, никаких притеснений или расовой дискриминации на себе не ощущал. После распада страны, уже в новой России — было. Особенно на канале «Russia Today». А в советское время не припомню никакой дискриминации. Но если я в этом сознаюсь — гуд бай, Канада!
— Соседи меня притесняли, — сказал я после паузы.
— Very good, — обрадовался мистер Файн. — Go ahead.
И я написал: «Соседи через балкон обзывались неприличными словами и притесняли. В общественном транспорте оскорбили по национальному признаку».
Мистер Файн выслушал перевод написанного и задумался. Потом резонно поинтересовался:
— А почему ты на такси не ездил?
— Тогда бы меня оскорблял таксист за мои же деньги. Это очень дорого.
И мистер Файн наконец отстал со своими озадачивающими вопросами.
Свой пасквиль я сочинил для канадского суда под корректировку иммиграционного адвоката. Мои обвинения были безосновательными. Если Шпаковскому известно об этом письме, — копия его у меня до сих пор хранится, — то в суд я пойду уже совсем по другой статье…
Шпаковский, как и подобает большому актеру, держит внушительную паузу, перелистывая бумаги на рабочем столе. Окидывает меня холодными, пронзительными глазами офицера. Я молчу, о письме ни слова. Страх заполняет и сковывает меня. Шпаковский смотрит в окно. О чём-то сосредоточенно думает. Берёт карандаш, вставляет его в механическую точилку и крутит ручку, потом поднимает на меня тяжёлый задумчивый взгляд. Сейчас, похоже, о письме заговорит.
— Господин Семёнов. Россия — не проходной двор! — повторяет он. Видно, словарный запас иссяк.
— Я это запомню, — говорю.
— Можете идти, — распоряжается он.
— Я не могу. Мне виза нужна, — упрямлюсь я как баран.
— Идите в суд!
Хорошо, что не в другое место послал. А ведь мог бы. Ему такие полномочия даны. Мне бы надо спросить, в какой именно суд обращаться, но после ответа придётся сразу покинуть кабинет Шпаковского, уйти, раствориться, исчезнуть. А попасть в этот кабинет непросто — нужно отстоять многочасовую вялотекущую очередь. Просителей много. Простому смертному оказаться на приёме у государственного чиновника сегодня сложнее — времена наступили другие, тяжёлые. Матери декабристов до самого государя Николая I доходили. В ноги ему кидались. Помню по советским фильмам. И ведь добивались! Сыновей миловали. Выпускали. А я стою перед подполковником Шпаковским в полный рост и двух фраз грамотно связать не могу. Не говоря уже о том, чтобы опуститься перед ним на колени. Да я бы и опустился — не до гордости теперь, но ведь не так поймет. Времена сегодня другие. Поэтому я пытаюсь задержаться в кабинете. Вспоминаю, что в кармане лежит справка из Института имени Бурденко. Неделю назад я получил её от профессора-нейрохирурга Владимира Львовича Найдина, талантливого специалиста, у которого лечил поясницу. На эту форменную со штампом бумагу я надежд не возлагал, хотя знал, что серьёзная болезнь может послужить иностранцу основанием для выдачи ему визы.
— Я болел. Нельзя мне заболеть? — Вынимаю из кармана справку. Протягиваю. — Проблемы с позвоночником были.
Шпаковский не притрагивается, только пренебрежительно оглядывает листок.
— У вас проблемы с российским законом! Шпаковский напирает, как Т-62, из какого афганские танкисты пальнули за четыреста долларов. Ничем не отклонить его от цели. А цель его ясная и бескорыстная — служить во благо Российского государства. Подполковник Шпаковский желает устроить надо мной показательный суд. В стране назрела острая необходимость продемонстрировать всем несознательным иностранным элементам: Россия — не проходной двор! В Москве масса таджиков, в метро стало невозможно ездить. Документы не в порядке. С законом проблемы у каждого третьего. Мой пример послужит распоясавшимся гастарбайтерам хорошим уроком. Я, конечно, сомневаюсь, что Шпаковский ездит на метро, но не в этом дело.
— Я же не гастарбайтер, — беспомощно оправдываюсь я.
— Вы нарушитель визового режима. Точка. Не лучше таджиков, — резюмирует господин Шпаковский.
— Как раз я в худшем положении, чем они. Их на работу принимают и в ЗАГСе регистрируют. А мне даже денежный перевод не выдают в банке. Так что, кто из нас таджик, ещё большой вопрос.
— Не разводите демагогию. Имидж России падает… — с досадой в голосе произносит Шпаковский.
— Неужели из-за меня? — пугаюсь я.
— Из-за таких как вы Россия теряет международное влияние! — назидательно объясняет Шпаковский.
— Давайте по-другому решим, тогда Россия не потеряет международного влияния, — пытаюсь убедить я подполковника.
— Гражданин Семёнов! — Шпаковский грозно привстаёт.
Я вздрагиваю: так обращался ко мне военком двадцать лет назад.
— Без визы вам даже в сортир нельзя! — ставит точку подполковник, ставя все точки на «и».
Понятно. В сортир без визы тоже нельзя. Это армейский юмор такой. А всё равно смешно. С армейским юмором я на «ты». Сам служил и даже месяц сидел в армейской тюрьме, а ещё с прапорщиком дружил. Так что армейский юмор мне хорошо понятен. А если это не шутка? Я испытываю неприятные ощущения.
— Вы предлагаете мне добровольно сдаться? — предполагаю я.
— Разве мы говорим с вами на разных языках?
Шпаковский безмятежен, он устал. Его олимпийскому спокойствию можно крепко позавидовать. Я и завидую.
— Я же тогда не увижу семью пять лет! — восклицаю я со слезами на глазах.
— Я сейчас сам расплачусь, — иронизирует он. — Вы о чем раньше думали?
Ни о чём я не думал. Жизнь свою молодую прожигал. Спросил в подзорный окуляр, как говорили в армии. О чём я тогда думал? Лучше не рассказывать. Если бы я тогда думал — не стоял бы сейчас перед Шпаковским и не клянчил у него господской милости. Я готов перед ним вывернуть наизнанку всю свою жизнь, но это вряд ли что-то изменит. Ему не интересно. Шпаковский высоко сидит, далеко глядит. Мне до него не достучаться. Цели, как я уже сказал, у нас диаметрально противоположные. Шпаковский — исследователь человеческих пороков. Он взвалил на себя тяжёлый крест и теперь с честью исполняет свою святую миссию.
— Давайте штраф заплачу, не надо в суд… — выпрашиваю я.
— Пока будет длиться суд, вы будете в России, — успокаивает меня Шпаковский. — И у вас нет другого выхода.
Лаконичная непререкаемость подполковника загоняет меня в глухой угол. Похоже, игра проиграна. Насчёт другого выхода, конечно, можно было с ним поспорить, но мои аргументы испарились, и я после некоторого колебания с плебейской покорностью спрашиваю:
— В какой суд обращаться?
— По месту проживания, — не поднимая головы, отвечает Шпаковский.
— У меня же прописки нет.
— Неважно. Где вы нелегально проживаете, туда и обращайтесь.
— Ясно, — говорю я, хотя ясно ничего не было.
Разговор окончен. Пора удаляться. Я открываю металлическую дверь.
— Семёнов, — окликает меня на пороге Шпаковский.
«Наконец-то совесть у человека проснулась», — думаю я и с надеждой разворачиваюсь.
— Объясните, зачем вы вернулись? В Канаде вам мало было проблем?
— Счастья приехал искать, — говорю.
— Сколько ни ищи, ничего, кроме себя, не найдёшь, — изрекает блестящий афоризм Шпаковский.
Я застываю в дверях, вытаращив глаза. Даже шевельнуться не в силах. Беспомощно смотрю на Шпаковского — жду, когда он ещё чего-нибудь скажет.
— Это Сартр, — добавляет подполковник.
А мне «сортир» послышалось. Действительно, в туалет пора. Спазмы внизу живота дают о себе знать. Вот же урод! Моя судьба решается, а он мне своего блядского Сартра цитирует. Эрудированные чиновники сегодня пошли, с высоким уровнем культуры. Надо бы измерить интеллект Шпаковского. Я выхожу из кабинета и закрываю за собой тяжёлую, из листового металла дверь, обтянутую чёрным дерматином. Слышен щелчок металлического замка за спиной. Железная дверь и узкий коридор возвращают меня к воспоминаниям об армейской тюремной камере, где я отсидел месяц за нарушение воинской дисциплины незадолго до увольнения в запас. Наша армейская гауптвахта по всем параметрам походила на настоящую тюрьму. Те тридцать дней я часто вспоминаю, когда мне тяжело. А тяжело мне в последнее время почти всегда. Эти воспоминания помогают держаться, сохранять силу духа. Я не жалею, что отсидел на гауптвахте. Я там многое понял и многому научился. Всего месяц — но какой бесценный жизненный опыт я там приобрёл! Спасибо моим армейским учителям. Трудности закаляют характер.
Я быстро пересекаю коридор и спускаюсь вниз. Итак, в третий раз ухожу от Шпаковского без визы. А виза — это не зелёненькая бумажка с фотографией, как может показаться. Виза — это продолжение моей жизни — второй части «Марлезонского балета». Настолько суматошно и непредсказуемо она развивается! А подполковник ФМС Шпаковский — без преувеличения — балетмейстер, постановщик, режиссер, драматург, композитор, дирижёр. Он — всё в одном лице. Он хозяин моей жизни. И эта его миссия. Это его театр и его сцена. А я — эпизодический исполнитель, участник массовых сцен, а может, даже пассивный зритель. Свет погашен. Пора покидать зрительный зал. Только выйдя из жёлтого здания и глотнув тяжёлого, пыльного московского воздуха, я смог по достоинству оценить краткое и мудрое изречение Сартра — похоже хорошего писателя, раз Шпаковский его цитирует. Но, стремясь к сегодняшней реальности, я бы перефразировал Сартра: сколько ни ищи, сортира в Москве не найдёшь! Это гораздо ближе к истине. Шпаковский — талант, и его талант не должен остаться незамеченным. «Браво! — неистово аплодирую и кричу я с последнего ряда. — О вашем превосходном исполнении, Владимир Владимирович, должна узнать вся театральная Россия, поклонники водевилей, оперетт, фарсов и сатирических комедий. Такой талант не должен пропадать в тусклом государственном кабинете».
Должен сказать, что мои документы регулярно проверяли городские блюстители порядка. Казалось, только ленивый милиционер не требовал предъявить паспорт, остановив меня на улице или в метро. Интерфейс нерусский подводил. Я на таджика похож. За кого меня только ни принимали: за индуса, афганца, кубинца и даже вьетнамца. За русского — ни разу. Вдобавок ко всему, у меня постоянно испуганный взгляд, напряжённое выражение лица. Изредка попадались мне и ленивые стражи закона, проходившие мимо. К ленивым можно было отнести также неопрятных тёток, собирающих плату возле общественных туалетов. Им я благодарен, что в моменты острой физиологической необходимости они не требовали предъявить паспорт и визу. Требовали только деньги. Но если бы и на границе была такая же система, как в общественных туалетах: заплатил — проходи, то вы никогда не узнали бы о доблестном подполковнике Федеральной миграционной службы; и тогда я даже не взялся бы представить себе масштабы потерь для русской современной литературы. Но, видно, ему от судьбы не уйти. Слава найдёт своего героя, а Шпаковский действительно герой; здесь даже французское шампанское не выставляй. К сожалению, государственная граница — не сортир, и двадцатью рублями там не откупишься.
Владимир Владимирович Шпаковский — безумно одаренная личность. Все одаренные, талантливые люди немного безумны. Но, признаюсь, я счастлив, что судьба свела меня с ним. Поскольку встреча с такими людьми идёт на пользу. После общения со Шпаковским я всегда ощущал сильный духовный подъем. Обладатель тонкого чувства юмора, ясно и чётко мыслящий, талантливый подполковник ФМС, которого впереди ожидал карьерный рост, — Владимир Владимирович Шпаковский появился в моей жизни так же, как появляется в изнурительный от жары летний день грозовая туча, готовая пролиться на землю благодатной влагой. Одно решение этого столичного чиновника с петушиной дутой гордостью было способно кардинально изменить мою тусклую, презренную жизнь.
Дорогой читатель, напоминаю, что историю, которую я рассказываю, невозможно представить без этого, надёленного блестящим умом и высокими устремлениями мэтра, которому я многим — без иронии — обязан. «Безумству храбрых поем мы песню», — сказал Максим Горький. О безумстве Шпаковского судить не берусь, но посвятить оду, ораторию, хвалебную песнь или даже величальный акафист чиновнику Федеральной миграционной службы — мой авторский долг. И я со всей добросовестностью и ответственностью попытаюсь внести свою скромную лепту в отечественную словесность. Да простят меня классики русской литературы за утопический максимализм и безрассудство.
Подполковника Шпаковского одно время мне приходилось видеть часто, но, несмотря на это, возраст его точно определить не удалось. Говорят, красивый мужчина всегда молод. Это относится к моему герою. Постараюсь описать хотя бы его внешность. Выше среднего роста, правильные черты лица, всегда подтянутый, в отглаженном строгом костюме и тщательно выбритый. Такому нужно в кино сниматься, играть роли героев-любовников, спасителей мира, а не прятаться от людей за серыми стенами казённого кабинета. Здесь его, кроме неудачников вроде меня, больше никто не видит. А молодость — не самолёт, пролетит, не успеешь помахать ручкой. Неужели Шпаковскому это не ясно? В кино, господин подполковник! Пока не поздно. На съёмочную площадку бегом марш! У меня хороший приятель кастинг-директором на «Мосфильме» работает. Могу посодействовать. Вы, без сомнения, с первого дубля сделаете как надо. «Вор должен сидеть в тюрьме!» — скажете в камеру. Или: «Россия — не проходной двор!» Но съёмочная площадка — тоже не проходной двор. В кино необходимо идти по зову сердца. Однако достаточно, все шутки в сторону. Итак, подполковник Шпаковский, несостоявшийся актёр, звезда Федеральной миграционной службы и гроза нарушителей паспортно-визового режима, пообещал мне серьёзные неприятности ещё при моём первом посещении, и, надо отдать ему должное, слово он своё сдержал.
Пора было заканчивать мои мучения. Тянуть больше не имело смысла. Сколько можно, подобно страусу, прятать голову в песок, отгораживаясь от проблем? Я видел только один выход из тупика, в который сам же себя и загнал, и выход этот указал мне Шпаковский. Это даже был не тупик, а безнадёжно глубокая канализация. Не думал я, что всё настолько серьёзно, что так далеко зайдёт. Надеялся, что простят, никуда не денутся, выпустят. Не оправдались мои ожидания. Не случилось. От заслуженного наказания гуманного российского правосудия не удавалось скрыться ещё ни одному нарушителю визового режима. Справедливое возмездие настигнет повсюду. Пришло время и мне подвергнуться прессингу государственного аппарата. Хватит откладывать, — сказал я себе. Мне даже два кирпича на голову не помогут. Только явка с повинной сможет облегчить мою участь. Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире! Но это легко сказать. А вы попробуйте добровольно депортировать себя из России, где в первом классе у доски читали стихотворение о Родине. На такое решиться непросто. Страх парализовал разум. Я тянул время, чего-то ждал. И вот однажды, вдохнув полной грудью, отправился в отделение внутренних дел Рязанского района, по месту жительства. Посетителей — ни души. Это меня сразу озадачивает: обычно коридоры заполнены гражданами из дружественных южных государств. Может, сегодня мой день, повезёт, и меня предадут справедливому суду? Но всё оказывается проще и банальнее: неприёмный день. Но мне наплевать! С дороги меня ничто не свернёт. Я безрассудный, как разъярённый бык. Я сильный, как свободный лев. Ни перед чем не остановлюсь. Если не сейчас, то уже никогда. Велика Россия, но не всём здесь рады. Не для всех приезжих в ней есть место. Жители столицы часто говорят: «Москва не резиновая». Стучу в дверь кабинета начальника отделения внутренних дел Рязанского района ЮВАО. «Войдите!» — раздаётся глухой неприветливый голос. Приоткрываю железную дверь. Всё! Действуй! Вперёд! За рабочим столом сидит в расстегнутом кителе коротко стриженный, крепкого телосложения подполковник. На служебном лице его лёгкая тень тревоги. На всякий случай. В кабинете душно, окна затворены. Воздуха мало, хочется поскорее выйти.
— Разрешите? — спрашиваю я по-военному. Подполковник поднимает на меня надменный тяжёлый взгляд, удостаивает исчерпывающим ответом:
— Приемный день в четверг.
Печать лёгкой тревоги снята с усталого лица. К счастью, о некоторых тонкостях государственной службы я уже осведомлён, научен опытом.
— У меня особый случай, — осторожно продолжаю я.
— Слушаю. — Колючий взгляд скользит по мне, как шайба по льду, не задерживаясь на деталях. И хотя я никогда не стоял на коньках, — рождён на юге — чувствую, как теряю равновесие. — Что у вас?
— Я пришёл сдаваться…
Подполковник застывает, потом неожиданно приподнимается. Глаза его начинают беспокойно бегать, учащается ритм дыхания. Неожиданно для меня обычные слова, которые я повторял мысленно по несколько раз в день после моего последнего визита к Шпаковскому, действуют на начальника районного ОВД как сигнал тревоги. Видно, не часто сюда приходят с подобным заявлением. Простите за беспокойство, что поделаешь, мне очень надо. И я по доброй воле сюда явился. То есть раньше я бы сюда по доброй воле не пришёл, а сейчас уже другого выхода нет. Я сам во всём запутался. Но делаю это ради пользы стране. Добровольно приношу себя в жертву. Пора уже очистить Россию от нелегальных мигрантов и гастарбайтеров. Такова твёрдая воля подполковника Шпаковского и всей Федеральной миграционной службы.
— Кому сдаваться? — недоумевает подполковник.
— Суду. Меня депортировать нужно, — заявляю я. Начальник отделения подозрительно смотрит мне в глаза.
— Что вы несёте?
— Я злостный нарушитель визового режима, — разъясняю я.
Одновременно приходит мысль, что подполковник, наверное, думает: «Откуда взялся этот шизофреник?» Я бы обязательно так подумал.
— Вы откуда?
— Волжский бульвар, дом три…
— Откуда приехали? Гражданство у вас какое? — нетерпеливо уточняет он вопрос.
— Канадское.
— Мы такими иностранцами не занимаемся.
— А какими вы занимаетесь? — Я чувствую желание оскорбиться. Меня задело слово «такими».
— Из ближнего зарубежья, а вы из дальнего. Вам на Покровку надо…
— Я уже там был. Они меня сюда направили. Подполковник тяжело вздыхает.
Я продолжаю:
— Я два с половиной года в России без визы нахожусь…
Милицейский начальник молчит. Думает, куда бы меня послать… без последствий для себя. Как раз этого я и пытаюсь добиться. Может, пошлёт, наконец, куда надо?
— Я добровольно…
Подполковник хмуро перебивает:
— Что?
— Добровольно предаюсь в руки закона… — говорю я, но эффекта не выходит. Впрочем, для меня главное — сказать, вовремя донести информацию, иначе потом не докажешь, что тебя не силком затащили в отделение. Подполковник погружается в безмолвие, растворяется, становится похожим на призрак. По-видимому, не желает со мной связываться. Я хорошо его понимаю. У него своих проблем достаточно. Да и кому захочется иметь дело с шизофреником, добровольно отдающим себя в руки закона. Где вы таких видели? А вот он я. Здесь. Стою прямо перед его святейшеством и высочеством.
Я подхожу к столу ближе и для убедительности кладу свои документы перед подполковником:
— Вот моя виза… вот паспорт.
Ни один мускул на лице начальника не шевелится, он в упор ничего не видит. Снова пауза. Наконец какая-то светлая мысль брезжит в нём, и подполковник с облегчением говорит: «Завтра в девять зайдите в двадцать седьмой кабинет. Этот вопрос в компетенции Ефимцева», — и снова погружается с головой в дела. Я выхожу из кабинета на нетвёрдых ногах. Но мне ли отступать после всего? Мне ли трепетать перед всесильными повелителями судеб? Мне ли не привыкать к поражениям? На этот раз я доведу дело до конца! Чего бы мне этого ни стоило. Я полон решимости. Я не сдамся, не сломаюсь. Я заставлю их шевелиться. Я приведу в движение этот заржавевший, неповоротливый государственный механизм. Если меня необходимо судить, то, будьте любезны, выполняйте свою работу — судите и депортируйте! И не тяните кота за хвост. На следующее утро, в девять, стучу в кабинет лейтенанта Ефимцева. Никакой реакции. Не дождавшись отклика, решительно раскрываю дверь. В кабинете царит, что называется, весенняя идиллия, помещение залито солнцем. В стене напротив входа — широкое окно. У левой и правой стен расположены столы. За столами сидят сотрудники милиции. Один, старший лейтенант, ему около двадцати семи, пишет что-то. Сосед, лейтенант, помоложе, белобрысый, неотрывно смотрит в монитор, увлечённый компьютерной игрой. На меня внимания не обращают. Как бы и нет меня. Придётся нарушить этот пасторальный пейзаж.
— Здравствуйте!
Ноль внимания. Демонстрация пренебрежения.
— Кто здесь лейтенант Ефимцев? — спрашиваю.
— Что вы хотели? — неохотно поднимает голову старший лейтенант.
— Я по важному делу, — начинаю я деловито.
— Проходите, — нехотя предлагает он. — Я Ефимцев.
Я вхожу в кабинет, присаживаюсь к его столу без приглашения: настроен решительно. На стене рядом с репродукцией «Моны Лизы» настенный календарь с фотографией Путина. Улыбки обоих загадочные. У президента России улыбка более загадочная. Этот портрет Путина мне доводилось видеть во многих кабинетах Москвы. На Покровке, 42 он в каждом кабинете висит. И на каждом этаже в здании ФМС на Верхней Радищевской, 4. Что-то привлекательное в этой фотографии есть: загадочная улыбка, ясные добрые глаза…
В углу кабинета тяжёлый стальной сейф — наследие советского прошлого. Такие сейфы стояли во всех конторах и служебных кабинетах. Две тусклые золотистые рыбки едва шевелят плавниками в тесном аквариуме на подоконнике среди декоративных растений. Похоже, даже рыбки ленятся. На подоконнике растут традесканция, цефалоцерус, рододендрон Шлиппенбаха, драцена. В ботанике, как и в других науках, я не силён, но отличить травянистое растение от кактуса могу с лёгкостью. С тех пор, как стал невыездным, я по совету жены занялся комнатными цветами. Развёл дома настоящий зимний сад. Наша гостиная утопала в зелени и цветах. «Хоть какая-то от тебя польза», — говорила жена. Она подарила мне книгу о комнатных растениях, и теперь я знаю, какие растения относятся к суккулентным видам, а какие к бромелиевым. К суккулентам относятся алоэ, кактусы, ниолины, гастерии. Существуют также лиственные суккулентные растения, но о них я во второй книге расскажу. Меня больше интересует, как в РОВД города Москвы мог попасть рододендрон Шлиппенбаха, произрастающий в России только на юге Приморья? Кто его сюда доставил? Надеюсь, не сам Шлиппенбах.
— Слушаю вас, — отвлекает меня Ефимцев. — Кратко и по-делу.
— Меня депортировать надо, — без долгих разъяснений докладываю я милиционеру. Кратко и по-делу — как он и хотел.
— Куда?
Коллега Ефимцева за столом напротив прерывает свою игру, глядит на меня с любопытством. «Правильно. Полюбуйся придурком, который пришёл добровольно сдаваться», — думаю я.
— В Канаду.
— А почему не в Америку? — шутливо говорит Ефимцев. — Туда легче попасть.
— Я — гражданин Канады. Живу здесь нелегально, — объясняю я коротко и достаю свой канадский паспорт. Важно всё объяснить кратко и доступно, избегая подробностей. От этого будет зависеть успех моей затеи. — Я здесь три года без регистрации живу, — намеренно увеличиваю я для большей убедительности срок истекшей визы. — Надо заявление в суд подготовить.
В надежде на торжество справедливости я с уверенностью смотрю в глаза представителю закона в лице лейтенанта милиции Ефимцева. Именно для этого я к нему и пришёл, ради торжества справедливости. Наступает пауза. Ефимцев недоверчиво смотрит мне в глаза. Видимо, пытается выяснить степень моей вменяемости.
— Кто это вам посоветовал? — наконец спрашивает он.
— Шпаковский, из центрального управления… С Покровки, — уточняю я.
— Вы телефон знаете?
— Шпаковского? Нет, он не давал.
Ефимцев молча выдвигает ящик рабочего стола, извлекает оттуда записную книжку. Листает. Находит нужный номер. Звонит. Спрашивает Шпаковского.
— На совещании? — переспрашивает Ефимцев и, получив ответ, кладёт трубку на рычаг. Он растерян и, похоже, даже несколько подавлен. — Что будем делать? — обращается ко мне старший лейтенант.
Вопрос обескураживает, но я не показываю виду. Представитель закона прекрасно знает, что надо со мной делать! Нечего ломать комедию.
— Заявление в суд следует подавать, — подсказываю я, пытаясь сохранить невозмутимый вид. Мне хочется нагрубить, но я держу себя в руках. Надо поскорее это заканчивать. — Строгость закона должна применяться безотлагательно, — добавляю.
Молодой коллега Ефимцева, забыв на время о своей игре, обращается ко мне:
— А вам известно, что въезд в Россию для вас на пять лет будет закрыт?
И он меня спрашивает? Мне ли об этом не знать, драгоценный.
— Известно, — киваю я утвердительно. — На Покровке уже объяснили.
— Зачем вам это? — осведомляется Ефимцев.
— Это не мне. Это Шпаковскому надо. Говорит: Россия — не проходной двор!
Ефимцев озадачивается, погружается в глубокую задумчивость. Молчание затягивается.
Неожиданно старший лейтенант говорит:
— Давайте представим: мы переправим вас через границу… — Выжидательно смотрит мне в глаза. — Вы сможете новую визу получить?
Окружающая реальность начала расплываться перед глазами. Я перестал осознавать, где нахожусь. Время и пространство потеряли надо мной власть. Тело, словно в невесомости, утратило вес и зависло в воздухе. Грубый, жестокий мир начал казаться розовым и радушным. Как реагировать, услышав подобные слова в кабинете отделения внутренних дел? Можно ли верить услышанному? А вдруг это провокация?
Животный страх вернул меня в немилосердный реальный мир и опустил на землю. Я огляделся по сторонам, посмотрел на закрытую дверь кабинета. Чувство страха защищает нас от опасностей. Наверняка это провокация. Явная подстава. Но для чего им этим заниматься? — спросил я себя. И тут же родился ответ: чтобы осудить меня по криминальной статье и не заморачиваться с депортацией. Возни и затрат меньше. В милиции подобная тактика — норма. Слишком очевидны приёмы. И всё же не должен был Ефимцев давать мне надежду. Не имел он морального права её пробуждать, открывать мне эту дверь. Может, мне послышалось, и не говорил Ефимцев ничего противозаконного?
С тусклой надеждой я попросил:
— Могли бы вы повторить? Я не совсем понял…
— Если мы поможем вам пересечь границу, вы там сможете новую визу в Россию получить? — спокойно удовлетворил просьбу Ефимцев.
До этого я никогда на здоровье не жаловался, и давление у меня всегда было в норме: сто двадцать на восемьдесят. Но тут почувствовал учащение пульса и слабое головокружение. Если выйду из этого кабинета — надо будет срочно показаться врачу.
А может, у них видеокамера под столом? Знаю я эти дела. Я для работы и сам не раз к такому нехитрому приёму прибегал. Директор одного из московских кладбищ подозревался в каком-то нечистом деле и не хотел давать интервью, так я его скрытой камерой снял.
— Каковы будут ваши дальнейшие действия? — отвлёк меня от воспоминаний Ефимцев.
— В таком случае я пойду в Хельсинки в российское посольство и получу новую визу, — неуверенно сказал я.
— А приглашение есть? — поинтересовался старший лейтенант.
— Я уже договорился. Мне вышлют на финский адрес.
— У вас есть там знакомые?
— Да.
С Марко Лёнквистом, корреспондентом московского корпункта финского телерадиоканала YLE я три года провёл в командировках, поездил с ним по бескрайним просторам России и бывших союзных республик, включая холодные и горячие точки. После окончания контракта Марко вернулся в Финляндию и любезно согласился предоставить свой домашний адрес для отправки мне официального приглашения. Заграничный адрес — важное требование правил регистрации иностранных граждан в России. Адрес гостиницы или учреждения не принимался и не рассматривался. Приглашение высылали только на заграничный домашний адрес.
Поразмыслив, Ефимцев продолжил:
— А на границе у вас знакомые есть? Или хотя бы проводник поезда?
Я уже хотел ответить отрицательно, но тут вдруг вспомнил, как несколько лет назад мы с Марко работали на узбекско-киргизской границе и познакомились там с начальником КПП, гостеприимным пухлым узбеком, чей золотой рот сверкал на солнце каждый раз, когда тот его открывал. Я пожалел, что не взял с собой солнцезащитные очки. Снимать пограничного начальника было непросто: яркие лучи солнца отражались от золотых зубов и ослепляли объектив видеокамеры. Солист группы «The Rolling Stones» Мик Джаггер по сравнению с ним отдыхает. У Мика, я слышал, только один бриллиант в зубах, а у начальника пограничного КПП вся челюсть была золотой, хоть он и не был солистом рок-группы. Кстати, позже выяснилось, что начальник любит музыку, отдавая предпочтение узбекской народной. Мы почти подружились с этим добрым человеком. Перед нашим отъездом он угостил нас обедом и, пожелав счастливого пути, сказал: «Мы стоим на страже!» В машине Марко лаконично мне всё объяснил: «Через этот КПП проходит крупный наркотрафик. Весь конфискат пограничники реализовывают по собственным каналам. Синдикат. Понял?» Понял! Они днём и ночью стоят на страже! Значит, получается, наш добрый знакомый может пригласить Мика Джаггера на КПП и услышать в живом исполнении знаменитую «Ruby Tuesday»? «Прощай, Руби Тьюсдей. Мне будет не хватать тебя».
— Он может пригласить к себе «Роллинг Стоунз» в полном составе, включая звукоинженеров, осветителей и личного повара, — подтвердил Марко.
— Но начальник сказал, что крупные партии уничтожаются в присутствии представителей ООН и средств массовой информации, — напомнил я напарнику интервью.
— Сюда ни один представитель без разрешения не сунется, не говоря уже о провинциальном телеканале.
Вот так! Иностранным журналистам в России всё хорошо известно! Иногда мне кажется, что я работаю не в корпункте западного телеканала, а в киножурнале
«Хочу всё знать»: любая тайна известна. Жаль, что тот золотозубый узбек не служит на российско-финской границе. Я бы к нему обратился, и он бы мне помог.
Но вернёмся в ОВД Рязанского района, в служебный кабинет старшего лейтенанта Ефимцева. Что здесь происходит? Почему сотрудники милиции задают мне провокационные вопросы? Меня под суд надо! Я же пришёл добровольно сдать себя в руки закона! Где эти руки? Где этот закон? Где «самый гуманный и справедливый суд»? Где торжество справедливости? Ефимцев встал из-за стола, подошёл ко мне и, подвинув стул, присел рядом. Теперь, глядя на нас со стороны, можно было подумать, что мы старые добрые приятели.
— Нет у меня на границе знакомых, — сознался я.
— Ладно. Давай подумаем, — доверительно перешёл на «ты» Ефимцев, — как тебя через границу переправить…
Наверное, дорогой читатель, у тебя появилась мысль, что всё это плод моего воспалённого воображения? Что я выдумал и лейтенанта Ефимцева, и репродукцию «Моны Лизы», и календарь с Путиным рядом на стене? И золотых рыбок в аквариуме и комнатные растения? Что всего этого не было? Нет! Не выдумал. Моя фантазия не способна на такой полёт. Помните Веру, секретаря норвежского корпункта? Она предупреждала меня: «В России ещё и не такое может быть». Прости меня, Господи, за мои грехи! Я искренне каюсь, Господи. Я больше никогда не нарушу закон №155 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Клянусь! Никогда не посмею пренебречь своей визой! Обещаю вовремя продлевать, зарегистрируюсь в паспортном столе, сделаю временную прописку и даже в ЗАГС пойду. Честное слово. Я на всё пойду, только сделай так, чтобы этот кошмарный сон закончился. Пробуди мой мозг, выведи меня из этого заговорённого состояния. Ведь ради чего-то же официальный представитель закона пошёл на обсуждение деталей нелегального перехода государственной границы? Мне, понятно, терять нечего. А ему это зачем? Ради чего? Из сочувствия? Сострадания? У него, наверное, семья, дети есть. Ради чего этот риск? Выходит, не перевелись ещё люди большой, доброй души на земле Русской. Или перевелись, просто начальник не предупредил старшего лейтенанта о моём визите?
— Серёга, — обратился Ефимцев к молодому коллеге, — у тебя там есть кто-нибудь?
Серёга отрицательно покачал головой:
— Гусева давно перевели. Ефимцев повернулся ко мне:
— Придётся тебе самому.
— Мне самому что? — похолодел я.
— Границу переходить!
Честное слово, я вздрогнул. Мне приходилось многое слышать, не раз оказываться в неприятных ситуациях, но чтобы лейтенант милиции предлагал совершить нелегальный переход границы — такое было впервые. На тот момент я был только нарушитель визового режима, за что мне грозила депортация. Но если меня задержат на границе за нелегальный переход — я иностранный шпион, и уже тогда меня будут судить по другой статье. Нет у меня опыта в этом опасном деле. Профессионалы для этого специальные ботинки используют, с подошвами, оставляющими следы животных. Где я такие ботинки возьму?..
— Ехать лучше ночью, под Новый год, — продолжил
Ефимцев. — Главное — не вызывать никаких подозрений.
— А как же ночью без визы не вызвать подозрения на границе?
— Машина есть? — спросил деловито Ефимцев.
— У жены. Но мы не расписаны…
— Какая? — прервал моё объяснение Серёга.
— «Хонда Джаз»… А на поезде шансов больше?
— Смотря кто будет дежурить, — ответил Ефимцев.
— На кого попадешь, — пояснил Серёга.
— Ехать лучше на машине, — продолжил инструктаж старший лейтенант. — Лишних сумок не бери! Могут подумать, у тебя в сумке камера.
Что мне оставалось после всего делать? После всего, что я услышал, мы с лейтенантами становились соучастниками преступления.
— Под Новый год начальства всегда меньше, или совсем не будет, — заметил Серёга.
Ефимцев щелкнул пальцами:
— Долларов пятьсот — семьсот если дашь — могут пропустить… Действуй! Всё от тебя зависит. Удачи! — сказал на прощание старший лейтенант, пожимая мне руку.
«Всё от тебя зависит», — повторял я как заклинание, выходя из здания ОВД. А ведь действительно. От меня зависит всё. Вся моя жизнь. Конечно, от Шпаковского тоже многое зависело, о чём не следовало забывать.
Я не диссидент, да и с долларами у меня напряжённо — говоря по правде, долларов совсем нет. А хотя, подождите, какие деньги? Почему речь зашла о деньгах? Депортация должна проводиться за государственный счёт. Теперь же мне придётся за всё самому платить. Хитро придумано, ничего не скажешь. На всём экономят чиновники. Вон как о государственной казне неподдельно заботятся! Переживают. Теперь мне ясно, что на государство надежды нет. Остаётся на себя полагаться. Делай, что должно, и будь что будет. Ладно. Сделаю, что должно, а там посмотрим. Представляю, как расстроится подполковник Шпаковский, узнав о моём подлом, бесчестном поступке. Сильно огорчится. А он последний человек, которого я хотел бы огорчить. И если переход мне не удастся, Шпаковский превратит мою жизнь, которая и так не сахар, в настоящий ад. И будет моя душа обречена на вечные скитания и страшные муки. Ни отсюда не выехать, ни туда не заехать — между небом и землёй. Точнее, между Россией и Канадой. Отношения между странами и без меня напряжённые, а тут ещё я, как говорится, масло в огонь. Если на границе пресекут мои намерения — много подозрительных фактов моей биографии вылезет на поверхность. Посудите сами: бывший гражданин СССР с канадским гражданством, без регистрации, бывший сотрудник иностранных корпунктов, злостный нарушитель визового режима, пытавшийся нелегально перейти государственную границу, к тому же еврей. Много у вас будет доверия к такому типу? Сомневаюсь. Такого только суду предавать. И никому не докажу, что этот путь мне подсказал Ефимцев. Мне даже в кошмарном сне не могло привидеться, что я опущусь до такого серьёзного преступления.
В детстве мне очень нравились фильмы о бдительных и храбрых пограничниках, которые бесстрашно пресекали все попытки незаконного проникновения через границу. В фильмах показывалось, как иностранные шпионы пытались пронести запрещённые в СССР книги, а доблестные военные их ловили. Вон отсюда, шпионская нечисть! Гадкие, мерзкие враги и предатели Родины! Россия вам не проходной двор!
Руслан
Спустя неделю после моего апофеозного посещения Рязанского ОВД, где, наконец, прояснилось, что всё зависит от меня, я остался дома один. Жена с дочкой улетела к своим родителям в Улан-Удэ. Я лежал на диване, обдумывал дальнейшие действия и сам не заметил, как заснул. Около девяти неожиданно раздался телефонный звонок. Ну что за дела?! Стоит жене уехать, как мне тут же начинают звонить. На домашний аппарат нам звонили редко, не многие знали этот номер. Я и сам его не знал. Забыл. Я поднял трубку и услышал весёлый, смутно знакомый голос из далекого прошлого.
— Спорим на бутылку бургундского сухого вина «Мулен-а-Ван», ты ни за что не угадаешь, кто звонит, — уверенно произнёс он.
Стоп. Во-первых, я впервые слышал о таком вине — «Мулен-а-Ван». Я знаю вина «Агдам», «Кюрдамир», «Чинар», «Зубровка», «Белый аист». Впрочем, последние два напитка — это настойка и коньяк. А про «Мулен-а-Ван» никогда не слышал. Во-вторых, кто из моих знакомых такой энофил? Кем мог быть этот таинственный ценитель вин? Сам я не употребляю. И пьющих друзей у меня нет. Павел, который дружески предостерегал меня об опасности возвращения в Россию, тоже не пьёт. И его голос я бы сразу узнал. Я так и не догадался, кто бы это мог быть.
Оказалось, звонил мой бывший одноклассник Руслан, с которым мы не виделись уже более двадцати лет. Бутылку «Мулен-а-Вана» я проиграл. Откуда же я мог знать, что Руслан большой ценитель красного бургундского вина. Последний раз я встречался с ним в 1986 году, когда навестил его в Москве. Но тогда он не пил и в винах не разбирался. А теперь Руслан столичный бизнесмен, владеющий уютным кафе и магазином в центре Москвы, недалеко от Большого театра.
— Как ты меня нашёл? — удивился я.
— Спорим на «Шато ля Лагун»?..
— Нет. Стоп. Хватит, — осадил я Руслана. И спросил: — Ты только на бутылки споришь?
— Почему? На деньги. Я ищу наших одноклассников.
— Многих уже нашёл?
— Пока только тебя, и это уже немало.
— Вовремя ты меня нашёл. — Я уже говорил, что меня радовало всё, что отвлекало от унылых мыслей. Встреча с одноклассником была способна отвлечь от тоски и помочь справиться с депрессией.
— Если бы ты знал, как было нелегко. Кстати, ты про Калашникову что-нибудь слышал?
Откуда же я мог слышать? Я ни о ком ничего не слышал. Но надо же, как ловко Руслан ввернул. Спросил между делом. Вот что значит пить хорошее вино. Красное вино однозначно ему в этом помогает. Я бы и сам хотел найти Калашникову, потому не удивился вопросу. Ирина нравилась многим мальчикам нашего класса. Следующий вопрос будет об Ушаковой Саше? Так и есть. Руслан дружил со всеми красивыми девочками. Теперь всех разыскивал. Интересно зачем. Похоже, что-то тайное растревожило его воспоминания о далёких временах юности. С каждым может случиться. От этого никто не застрахован. Мы условились встретиться с Русланом в офисе, в его магазине у метро «Театральная». Я хорошо знал этот магазин, много раз проходил мимо и даже однажды зашёл. Здесь продавали соблазнительные сладости, экзотические сухофрукты, около тридцати сортов высококачественного листового чая, более пятидесяти сортов импортного зернового кофе. Служебный кабинет, кафе и винный отдел находились внизу, в полуподвальном помещении. Цокольный этаж был разделён на две части. В левом зале было уютное кафе со столиками, в правом торговали французским шампанским, дорогим красным вином и кубинскими сигарами, которые хранились в специальных застеклённых шкафах. Руслан провёл для меня небольшую обзорную экскурсию.
— Эти шкафы из особых сортов дерева. Здесь поддерживается определённая температура, — рассказывал он. — С Кубы доставили.
Рассмотрев цену одной сигары, я не по-детски удивился:
— И это кто-то покупает?
— Ещё как! — претенциозно ответил Руслан. — Богема. Элита. Михалков недавно заходил. Верник. Плисецкая. Волочкова. Все балерины Большого театра здесь бывают. Кстати, билеты в Большой нужны? — между прочим поинтересовался Руслан. — Недорого.
— Пока нет. — Моя собственная жизнь похожа на большой спектакль, только никто не хочет платить.
— Обращайся.
Мы подошли к стеллажам, на которых лежали бутылки с красным вином. Уложенные в ячейки под наклоном, они демонстрировали свое вогнутое дно.
— Здесь у меня дорогие сорта французских красных вин: «Шато ля Лагун», «Шато Пап Клеман», «Шато Монтроз», «Шато Мулен-а-Ван»… — перечислял Руслан названия.
Мне захотелось узнать цену вина, которое я ему проспорил. Я подошёл поближе, и у меня глаза на лоб полезли. «Шато Мулен-а-Ван» было самым дешёвым вином на полке — пять тысяч сто шестьдесят семь рублей.
«Шато Монтроз» стоило тридцать тысяч двести сорок пять рублей. Чтобы Руслан не заметил моё замешательство, я задал первый пришедший на ум вопрос:
— А почему у бутылок вогнутое дно?
— Вогнутое дно называется пунт, — просветил меня Руслан. — На дне бутылки собирается винный осадок. При разливе вина в бокалы осадок остается в углублении, образованном вогнутым дном. Но я думаю, сегодня это просто дань старым традициям.
Потом мы поднялись наверх, в торговый зал, где находились многочисленные сорта кофе, чая, различные сладости и экзотические сухофрукты.
— Здесь у меня вся Латинская Америка, — указал Руслан на широкую стену за прилавком. Аккуратные ряды ячеек с кофе в баночках производили впечатление. — Пятьдесят два сорта. Включая кофе с островов Ямайка, Индонезия, Сулавеси, Ява.
— Ты все эти сорта перепробовал?
— Основных сортов кофе всего три: «Арабика», «Робуста» и «Либерика». Все остальные — производное.
Мы уселись в его рабочем кабинете. Через пять минут официантка принесла нам чай и шоколад. На рабочем столе я заметил фотографию в металлической рамке: Руслан в обнимку с Жераром Депардье.
— Это у него в винном погребе на юге Франции, — вальяжно заметил Руслан. — Депардье большой ценитель вин и русских женщин.
Вот так да! Наши с Депардье вкусы совпадали. Я тоже люблю красивых русских женщин и ради этого даже готов употреблять красное вино и курить дорогие кубинские сигары. Но моя виза давно истекла, и русским женщинам теперь не до меня, как и мне не до них. Я по русским чиновникам хожу, которым тоже до меня дела нет.
Руслан всегда мог произвести хорошее впечатление. Он этим ещё в школе отличался. Умеет человек марку держать. Он рассказал о своей семье, поездке во Францию, редких сортах чая и самом дорогом сорте кофе «Лувак», зёрна которого подвергаются ферментации в кишечнике маленьких хищных зверьков — пальмовых циветт. Подробно изложил идею и философию употребления дорогих вин. Даже Омара Хайяма процитировал:
Лови же радости и жадно пей вино:
Жизнь коротка, увы! Летят её мгновенья.
Говоря о чае и вине, Руслан приводил невероятные подробности. Это черта серьёзных бизнесменов. Мы наслаждались редким сортом чая с высокогорьев ШриЛанки.
— Это листовой чай из скрученных цельных листьев, — делился со мной Руслан интересными сведениями. — Его вручную собирают исключительно на рассвете и только женщины. Женская рука с большей любовью срывает чайный лист. Они разговаривают с чайными кустами.
Помню, я однажды с деревом заговорил. Кажется, это был дуб. Тогда я вовремя опомнился и взял себя в руки. Но если моя жизнь и дальше так будет продолжаться, чувствую, снова заговорю — и нет гарантии, что моим собеседником окажется чайный куст. Я с наслаждением сделал глоток чая, представив смуглых женщин, срывающих листья с чайных кустов в пять утра, на высоте одна тысяча пятьсот метров над уровнем моря. Вообразил себе хрупких женщин, говорящих с чайными листьями: «Здравствуйте! Достаточно ли вы впитали солнечных лучей? Простите за беспокойство».
— Чувствуешь всю полноту насыщенного вкуса? — шутливо поинтересовался Руслан.
Я сделал глоток бесценного напитка и отставил чашку в сторону. Нет, не заслужил я напитка, в который вложено столько труда и любви.
— А проще нет чего-нибудь? Чай в пакетиках, например?
— Никогда не пей чай в пакетиках! — всполошился Руслан. — Там один мусор. Я тебе напиток богов, а ты пакетики…
— Извини. Почему «Лувак» считается самым дорогим? — переменил я тему.
— Процесс изготовления этого кофе сложный и очень необычный, — повёл рассказ осведомлённый Руслан. — Пальмовые циветты поедают спелые кофейные ягоды, в желудке у зверьков переваривается окружающая кофейные зёрна мякоть, а потом у них в кишечнике зёрна подвергаются воздействию особых ферментов. Кофейные зёрна после выхода их с помётом сушат на солнце, тщательно промывают, снова сушат и слегка обжаривают на огне из особых сортов дерева. Плантации находятся в Индонезии, в основном на Бали.
— Не хотел бы я пить эти… отходы пальмовых зверьков.
— Тебе никто и не предлагает. В Европе один килограмм этого кофе стоит четыреста — пятьсот долларов. Кофе с нежным ароматом ванили и шоколада. А самый лучший и вкусный «Лувак» производят дикие циветты, которые по ночам пробираются на кофейные плантации, где лакомятся отборными сочными кофейными ягодами.
— Всё равно не буду пить.
— Я уже понял. Тебе чай в пакетиках сойдёт, — рассмеялся Руслан. — Есть ещё более дорогой сорт кофе — «Айвори», но про него я тебе даже рассказывать не буду…
— Почему?
— Потому что кофейные ягоды едят слоны…
— Да, лучше не надо.
— А знаешь, сколько стоит? Тысяча долларов за килограмм.
Неудивительно: отходы жизнедеятельности слонов дороже помёта пальмовых грызунов. Очень логично. Мы вспоминали детство, школу, девочек, учителей — наслаждались приятным общением. Атмосфера беззаботности, забытого счастья витала вокруг нас. Но всё это продолжалось недолго, до момента, пока Руслан не поинтересовался моей жизнью. И стоило портить мне и себе настроение в такой замечательный день?
— Как же это случилось у тебя с визой? — удивился Руслан.
— Сказку про Колобка слышал? Я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл.
— Рассказывай свою сказку.
— Три года я работал с финнами, потом меня пригласили голландцы — они больше платили. Но общего языка я не нашёл, в коллектив не влился, не сработался. Молодая голландская корреспондентка оказалась ярой феминисткой. В свои двадцать пять лет мужиков люто ненавидит.
— Потому и ненавидит, что мужского внимания нет. Вся злость таких женщин — из-за недостатка мужского внимания. У них в Голландии это трагедия государственного масштаба. Для этого феминизм и придумали — чтобы мужиков унижать и контролировать. Голландцы к нам в Россию приезжают, на русских девушках женятся, — высказал своё мнение Руслан.
Согласен, могу это засвидетельствовать. Скажем, шеф-корреспондент корпункта голландского телеканала NOS Питер Домкур, с которым я имел честь работать, женился на русской и живёт в Москве. И он не один в своём счастье. Знаю немало других примеров.
— Из России я вовремя не выехал. Виза истекла. Сейчас меня не выпускают. Дорога закрыта.
— Добро пожаловать в Россию! — саркастично пошутил Руслан. — Что думаешь делать?
— Мне предложили границу переходить… Нелегально, — шёпотом добавил я, оглядываясь на дверь.
Руслан сморщился и криво усмехнулся:
— Ты шутишь?
— Нет. Мне теперь не до шуток.
— Ты помнишь Сергея Тропину? — отвлёкся от темы Руслан. — Он в соседнем дворе жил. С твоим братом Рафиком в одном классе учился.
— Ну да, помню… Кучерявый парень…
— В девяностом году Тропина в Израиль эмигрировал…
— Как все умные люди.
— Не спеши. Тропинка слишком кучерявым и умным оказался: он взял в Израиле крупный кредит в банке и в Москву рванул. Кинул, что называется, историческую родину на бабки. А Москва — не Израиль. Здесь деньги быстро заканчиваются: рестораны, бары с бабами, гостиницы, лей-пей, сабантуй…
Руслан вдруг замолчал. Сделал большой глоток горячего чая.
— И что дальше? — Я был заинтригован.
— А ничего! Его израильский паспорт недействителен уже восемь лет. Российская виза давно истекла. Из России его не выпускают. В Израиль, сам понимаешь, дорога ему закрыта. Даже если ему новый израильский паспорт дадут… в чём я сомневаюсь…
— Как же он живет? — посочувствовал я.
Мне было жаль Сергея. Он дружил с моим старшим братом и нередко приходил в наш двор, заходил к нам домой. Прозвище Тропина Рафик ему дал потому, что Сергей любил ходить тропинками.
— Как при коммунизме! В синагоге в Спасоглинищевском переулке. Его там бесплатно кормят.
— Неплохо устроился.
— У тебя тоже всё впереди, — съязвил Руслан. — На днях Тропина мне звонил. Хочешь, поговорю с ним?
— О чём?
— Присоединяйся. Тебя тоже примут. Они своих не бросают.
Я хотел кое-что сказать по поводу свой — чужой, но передумал. Начнётся долгая дискуссия.
— У меня время пока есть. А чего Тропина хотел?
— Денег просил.
— Зачем ему деньги в синагоге? Его же бесплатно кормят.
— Пожертвования для синагоги собирает, — объяснил Руслан.
— Может, снова хочет кинуть? — предположил я.
— Вряд ли, иначе евреи окончательно потеряют веру в Бога.
Я снова хотел было высказаться насчёт религии и веры, но вовремя одумался: тема уж очень деликатная и серьёзная. И личная. Лучше её не касаться. Не сейчас. Может Руслан мне денег предложит?
— Жалко Тропину. Хороший парень…
— Жалко у пчёлки в попке, — улыбнулся Руслан. — Ты сейчас о себе думай. Кстати, тебе деньги нужны?
— Нет, — не задумываясь ответил я, хотя деньги очень были нужны — мне предстоял нелегальный переход границы. Сказалась моя гипертрофированная скромность, вечно она впереди паровоза бежит. — Может, потом, — добавил я.
— Если понадобятся — звони, — поднял мне настроение Руслан.
Не прошло и недели, как я к нему обратился. Я вдруг решился на этот безумный шаг — нелегально пересечь границу. Другого выхода не видел. Однако возвращать долг было нечем. С просроченной визой меня на работу принимать отказывались. Я потерял три выгодных предложения. Канадское гражданство только усугубляло ситуацию.
— Отдашь, когда сможешь, — великодушно сказал Руслан.
Руслан — настоящий друг и филантроп; предложить деньги человеку без российского гражданства, находящемуся в сложном положении, — рыцарский поступок. Именно благодаря Руслану история получила дальнейшее развитие. Но помогут ли мне на границе одна тысяча пятьсот долларов? Я намеренно не хотел брать больше — долг платежом красен! Хватит ли этих денег для нелегального перехода? Сколько возьмут на границе, сколько надо дать? Ефимцев говорил, долларов пятьсот — семьсот, но точную сумму предстоит выяснить на месте самому. Переплачивать я не желал!
Граница — шпионский роман
До Санкт-Петербурга я решил ехать на машине. Добрался за десять часов. В дороге моим глазам предстала картина, наводящая на тоскливые мысли. Я часто ездил в командировки по России и многое повидал. И всё равно увиденное потрясло. Ночью я переехал покорёженный, будто после бомбёжки, мост через речку. Фары автомобиля едва освещали опасный участок. Сквозная дыра зияла прямо посередине моста. Рытвины и ухабы на трассе, ветхие дома и покосившиеся заборы вдоль дороги наводили уныние. Россия — вечное состояние депрессии; стоит только отъехать от города, и депрессия не заставит себя долго ждать. Ехать по этой трассе было небезопасно для жизни, в прямом смысле. Что происходило? Война закончилась более полувека назад. А что я видел? Перевёрнутый грузовой трейлер в кювете, труп мужчины на проезжей части, километровая пробка у железнодорожного переезда, бескрайние заброшенные поля, серые покосившиеся домики… Удручающее зрелище. Я помню парады Победы которые видел по телевизору. (Ничего другого кроме парада не смотрю.) Разве так живут победители?
В двенадцать ночи миновал Выборг, через полчаса — пограничный пункт Торфяновку. Наконец въехал на КПП «Брусничное», нарушая ночную тишину и спокойствие. К машине не спеша приблизился дежурный, попросил предъявить документы. Я волнительно протянул ему паспорт с визой. Он осветил документы тусклым лучом фонарика, просмотрел, спокойно произнес:
— Виза ваша недействительна…
Была во мне слабая надежда, что не заметит.
— Начальника смены пригласите, пожалуйста, — попросил я. Так научил меня Ефимцев.
— Здесь гражданин Канады… у него недействительная виза… — сказал дежурный в рацию.
Через минуту появился прапорщик.
— Поставьте машину на парковку и следуйте за мной, — распорядился он.
Мы вошли в двухэтажное служебное здание. Прапорщик провёл меня в просторный освещённый кабинет.
— Присаживайтесь, сейчас начальник подойдёт, — сказал он и вышел.
Сижу жду. Оглядываю большую комнату. Ефимцев оказался прав: кроме дежурных, начальства здесь не видно. В руках у меня небольшая чёрная кожаная сумка. Там деньги и документы. Спустя минут пять в кабинет входит майор. Он оживлён, по-видимому, ему вкратце доложили ситуацию. Садится за стол и снимает фуражку. Аккуратно кладёт перед собой. Я протягиваю ему документы. Он внимательно их изучает.
— Я не имею права пропустить вас. Виза недействительна, — произносит майор ожидаемую фразу.
— Понятно. Но я хочу, то есть готов… как бы это сказать… отблагодарить вас… — Я начинаю нервничать.
Майор осторожно бросает взгляд на чёрную сумку в моих руках. Я не решаюсь, медлю. Майор снова принимается просматривать документы.
— Номер визы не совпадает с номером паспорта, — указывает он на визу.
— Я его недавно поменял. Канадский паспорт на пять лет выдаётся.
— А может, документы фальшивые? — Он проверяет визу под ультрафиолетовой лампой. Наконец убеждается, что документы не поддельные.
— В долгу не останусь… сколько нужно… скажите… — бубню я себе под нос.
— Предлагаете вступить в сделку с совестью? — произносит майор не ясную для моего понимания фразу. Со мной проще надо, без загадок и мистики.
— Нет. Благодарность не заставит себя долго ждать…
— Скажите ваше веское слово, — деликатно намекает майор.
Но мне в его мысли снова недостает ясности: конкретнее надо выражаться. Назови конкретную сумму.
— Новую визу как получу, сразу обратно, — продолжаю я бормотать.
— Я не имею права, — отрицательно качает головой пограничник.
— Но я… сколько надо… вы скажите…
— Вы подставляете нас… Понимаете? А может, проверка? — майор смотрит на дверь.
— Я отблагодарю…
В кабинет вошёл тот самый прапорщик, который проводил меня сюда. Он с любопытством взглянул на меня и молча присел за соседний стол.
— Вы знали, что будут сложности на границе? — снова обратился ко мне майор.
— Знал, — подтвердил я.
— Ну, вот, — с облегчением вздохнул он, — действуйте согласно дальнейшему плану.
«Какому ещё плану? У меня нет никакого плана», — подумал я и сказал вслух:
— Я в долгу не останусь… если вы назовёте…
— Вы же взрослый человек.
— Конечно, — согласился я.
— Значит, всё понимаете.
— Более-менее… — сказал я, хотя ничего не понимал. Наш разговор двигался по кругу и никак не развивался; пограничники это быстро уяснили, а до меня не доходило.
Повисла тягостная пауза. Наконец майор сказал:
— Не думаю я, что вы проехали семьсот километров только для того, чтобы ночью со мной пообщаться.
Он загадочно взглянул на мою сумку. Он вообще казался немного загадочным.
— Нет. Не для этого, — нервно усмехнулся я.
— А для чего?
— Чтобы новую визу получить.
— Ну, и вот. Что у вас в чёрной сумке?
— Деньги.
— Правильно. Вы собирались платить за визу…
— Да. Собирался. Вы скажите… всё будет…
— Меня за это по голове не погладят. Я обязан доложить о вас начальству… — Майор выжидающе посмотрел на меня.
— Ну, раз надо… звоните, — сказал я.
В глазах майора отразилось недоверие, он помедлил и нехотя поднял трубку. Стал кому-то докладывать обстановку на КПП:
— Происшествий и серьёзных нарушений нет. Спокойно. Здесь гражданин Канады… Без визы. Хочет выехать. С истекшей визой… Что с ним делать? — Майор послушал, глядя на меня. — Ясно! Так точно! — Положил трубку. — Возвращайтесь в Питер. Идите в канадское консульство. Они должны дать вам письмо.
— Какое ещё канадское консульство? — удивился я.
— В Питере есть канадское консульство. Вы не знали? — как бы даже обрадовался офицер-пограничник.
— Впервые слышу. Вряд ли они станут что-то писать… — усомнился я.
— Чего вам терять? Пусть подтвердят, что вы болели, и засвидетельствуют вашу личность. Может, вас выпустят… Гарантий дать не могу, но попытаться стоит. Письмо должно быть на бланке консульства с гербовой печатью и подписью консула, — предупредил майор.
Всё вдруг потеряло смысл. Время на границе остановилось, оно утратило таинственную власть надо мной. Усилием воли я подавил в себе зарождающуюся апатию и тоску и заставил себя собраться. Придётся всё-таки ехать в Питер за призрачным письмом. Движение — в неустойчивости, — говорил композитор и педагог Карл Черни. Только у меня движения мало. Зато неустойчивости хоть отбавляй.
Понимаешь, это странно, очень странно,
Но такой уж я законченный чудак:
Я гоняюсь за туманом, за туманом,
И с собою мне не справиться никак.
В Санкт-Петербург я приехал глубокой ночью, точнее ранним утром. Консульство открывалось в восемь тридцать. До открытия оставалось более пяти часов. Припарковав машину напротив консульства, я решил вздремнуть на переднем сиденье. Не очень удобно, зато у дверей консульства буду первым. Меня предупреждали о возможной очереди. В полдевятого утра я ополоснул лицо водой из пластиковой бутылки и вошёл в приемную консульства. Ко мне вышла стройная девушка в чёрном брючном костюме, доброжелательная и уверенная. Я поделился с ней своими проблемами и попросил выдать письмо на бланке консульства, с подписью и печатью.
— Вряд ли вас пропустят через границу с этим письмом, — усомнилась она.
— Мне на границе сказали, что пропустят.
— Письма недостаточно. Вас в принципе с истёкшей визой не выпустят. В России действует закон, по которому иностранный гражданин с недействительной визой депортируется, и ему запрещается въезд на пять лет.
— Я рискну. Мне сказали, что выпустят… Девушка с сожалением посмотрела мне в глаза:
— Хорошо, посидите. Я поговорю с консулом. Через десять минут она вернулась и сообщила:
— Мы напечатаем для вас письмо на бланке. Дайте ваш паспорт. Подождите.
Через час моя спасительница появилась с письмом.
— Это всё, что мы можем для вас сделать. Остальное будет зависеть исключительно от решения пограничников. Мы повлиять на них никак не можем. Удачи.
Я горячо поблагодарил за помощь работницу консульства. Даже хотел было её обнять в радостном порыве.
Ну вот, драгоценное письмо с печатью консула имелось, и я поехал на КПП «Брусничное». Майора, дежурившего ночью, сменили, он отдыхал. Меня проводили на второй этаж, в кабинет полковника. Здесь, похоже, меня ожидали, что совсем не обрадовало. Приятно, конечно, когда вас ждут, готовятся к встрече дорогого гостя, приглашают за стол с аппетитными закусками, как это часто бывало в командировках по бескрайней России с иностранными корреспондентами. Но неприветливый, среднего роста полковник не собирался угощать меня красной икрой и строганиной. На его небольшом рабочем столе лежали папки, письма, документы. Он скупо предложил стакан воды и стул. От воды я отказался и, как оказалось, зря. Разговор выдался серьёзным. Я кратко обрисовал полковнику ситуацию. Рассказал о поездке в консульство и письме. Полковник не торопясь прочитал письмо, внимательно изучил печать, просмотрел паспорт и визу, сделал ксерокопии, заполнил какую-то анкету и протянул мне для подписи. В правом верхнем углу анкеты было место для фотографии. Но, к моему удивлению, фотографировать меня не стали. Покончив со всеми необходимыми формальностями, полковник поднял телефонную трубку:
— Позвоню в Выборг, в центральное управление. Разговор с управлением оказался отрывистым и неожиданным. Короткие фразы отзывались во мне острой, как от уколов иголкой, болью: «Да. Нет. Так. Гражданин Канады. Сверил. Вас понял. Доложу. Есть!» Очевидно, в Выборге уже были обо всём насчёт меня осведомлены. Полковник с хмурым видом опустил трубку на аппарат. Что-то записал в своих бумагах, потом налил в стакан воды из графина. Он медлил.
— Вам придётся вернуться в Москву, — наконец сказал полковник.
— То есть как? А письмо? — опешил я.
— Без визы не разрешают. — Он указал пальцем в потолок.
Меня мгновенно охватил жар. Я схватил стакан и залпом осушил его.
— Мне же обещали… — пробормотал я.
— Выборг отказал.
— Можно ещё?
Я поставил перед ним пустой стакан. Полковник молча налил из графина воды. Выходит, всё было зря? Зря ездил в Питер? Зря ночевал в машине под дверью консульства? Зря просил сотрудницу консульства выдать мне письмо? Зря терпел лишения и унижения? Мои годы проходят в бесполезных заботах, и, похоже, я тут на границе и состарюсь, ничего не доказав дотошному полковнику. Я не представляю для него интереса. Меня игнорируют официальные государственные лица, которые обязаны заниматься мной по долгу службы. Они обязаны составить заявление в суд о нарушении мной визового режима с требованием выдворить меня за пределы страны. Если им сейчас нет до меня дела, то как мне жить потом? Я вижу своё неприглядное будущее: одинокая старость — вот моё будущее. Причём очень скорое. Ладно. Теперь по-другому будет: я с этого места не сдвинусь. Пусть разбираются, поступают как угодно! Даже арестовывают. Прямо здесь и сейчас. На КПП! Может, хоть тогда дело сдвинется с мёртвой точки. Я обиваю пороги кабинетов чиновников, бегаю по учреждениям, требую собственной депортации — а что в результате? Совет о нелегальном переходе границы. Результата нет. Класть они на меня хотели. Необходим какой-то основательный, более смелый, даже вызывающий поступок, тогда они зашевелятся, забегают как тараканы. Может, самосожжение здесь устроить? Бензин в баке есть, как раз недавно заправился. Прямо в машине и поджечь себя. Это машина моей жены, но если надо для дела — она поймёт и даже одобрит мой поступок! А если даже не одобрит, мне уже будет всё равно. Или пока только машину поджечь, а себя потом? Вдруг сработает?
Колючая проволока аккуратно тянется в два ряда по верху высокого металлического забора, который проходил рядом с окном. Там моя цель — за окном, за колючим забором. Двести метров — и я на свободе.
— Как же вы можете удерживать нарушителя, если он преступил закон?! — воззвал я к логике. — В Европе за нарушение визового режима депортируют в сорок восемь часов. Без разговоров! А я живу здесь два с половиной года, и никому до меня дела нет.
— Мы с вами в Азии, — лаконично парировал полковник. — Школьную программу помните? Географическую карту мира?
— Помню. — География и русский были моими любимыми предметами в школе. До Уральских гор — это Европа. Россия — трансконтинентальное государство.
Может, ему о татаро-монгольском иге напомнить? Хотя некоторые историки сегодня утверждают, что никакого татаро-монгольского ига на Руси не было. Спорят. Раскопки ведут. А я прямо здесь, не выходя из кабинета, могу доказать: татаро-монгольское иго было! И было долго — лет триста или больше! И оно дошло сюда! До КПП «Брусничное». Я вижу большое иго в глазах сурового полковника. Оно глубоко засело у него в мозгах. А за географическую карту ему отдельное спасибо! Надо было карту российско-финской границы как следует изучить, прежде чем сюда соваться. Выяснить все тайные тропы. Будет мне в следующий раз урок.
Я молчал, полковник — тоже. Давил на меня своим татаро-монгольским игом. Сверлил угнетающим взглядом. Не знаю, сколько так продолжалось. Думаю, недолго. Но мне это тягостное молчание показалось бесконечным. Наконец полковник нарушил его, и, может быть, зря:
— Если вы патриот и любите Россию — получайте российское гражданство.
В этом добром совете проскользнула нотка иронии. Но, возможно, так только показалось — я неадекватно отношусь к подобным предложениям. Во-первых, российское гражданство нелегко получить. Я интересовался. Во-вторых, на слово «патриот» у меня возникает неоднозначная реакция.
— Я просто хочу жить в России со своей семьёй! Для этого надо быть патриотом?
О патриотизме немало сказано известными людьми. Например: «Патриотизм — последнее прибежище негодяя»; или: «Патриотизм — разрушительная, психопатическая форма идиотизма». Есть ещё много известных высказываний на эту тему. Но я не буду их здесь приводить. Достаточно тех, что есть. За этим словом можно скрыть любое преступление, любой теракт. Потом по телевидению будут рассказывать, как поступают настоящие патриоты. Тактика хорошо известна. Её часто используют в достижении грязных целей.
— Есть очень хорошее стихотворение об этом, — прибавил я.
— Интересно будет послушать, — сказал полковник.
Я чувствовал отчаяние, так что мог и «Горе от ума» процитировать: «А судьи кто?..». Но решил: лучше предоставить это судьбе. И с выражением произнес:
Что такое Россия? Это зимняя сказка,
Когда снег серебристый лежит на земле,
Когда мчатся мальчишки с горы на салазках,
Когда виден узор на оконном стекле.
Когда ветер траву молодую волнует,
Когда птицы поют снова в нашем краю,
Я Россию свою, мою землю родную,
Словно мать дорогую, очень нежно люблю!
Я пытался спровоцировать конфликт. Если меня задержат — это будет именно то, чего я и добиваюсь. Вряд ли, конечно, меня осудят за эти стихи, но, может быть, хоть нарушу душевный покой равнодушного пограничного начальства.
Полковник подозрительно взглянул мне в глаза и повторил:
— Получайте гражданство. Какие проблемы? Только сначала вам придётся отказаться от канадского.
Совет он мне дал действительно полезный. Я и сам об этом раньше думал, но пока никак не могу решиться. Есть одно обстоятельство: вам не всё известно из моей биографии. Там, в Канаде, у меня двое детей от первого брака. Кто же меня без паспорта в Канаду пустит? Вот был один отчаянный американец (дело это было давно) пришёл в американское посольство в Москве и бросил свой паспорт на стол консулу. В смысле — отказываюсь от американского гражданства. Его потом застрелили в Америке. Так-то. А не надо паспортами разбрасываться где попало. Я не хочу, чтобы и меня застрелили. Арестовали — да. Этого я очень хочу! Но не застрелили! Пару раз это уже пытались сделать. Первый раз — в армии: Смоловик Олег, сослуживец из Полтавы, снял автомат с предохранителя и ткнул дуло мне в живот. Перед глазами вся моя короткая жизнь пролетела. Это не плод моего воображения. Честное слово. Некоторые не верят в это, а я увидел свой двор, школу, маму, себя, братьев и сестёр. И мне так не хотелось расстраивать их своей ранней смертью от рук психически неуравновешенного прапорщика, что я отступил. (Олег решил посвятить себя военной службе: остался в армии сверхсрочником и щеголял в новой форме прапорщика.) Зато я теперь знаю, как буду себя вести в минуты смертельной опасности. Согласитесь, не каждому выпадет такая удача. (Потом я узнал, что Олега отправили служить в Афганистан, и в феврале 1989 года он вернулся домой живым.) Второй раз дело было в Грозном. Работал с голландскими корреспондентами над сюжетом, как российские солдаты проводят в городе зачистку. Вдруг засвистели пули, смотрю — все вокруг залегли, один я с камерой стою. Тогда тоже обошлось: снайпер промахнулся. Здесь, на границе, они не промахнутся!
— У меня в Канаде дети, — объяснил я.
— Ваше лично дело, — равнодушно заметил полковник.
Меня взбесило его холодное равнодушие, и я выпалил:
— Я отказываюсь возвращаться! Делайте что хотите! Я был не в силах контролировать свои эмоции, они достигли предельного накала. В то время моя неуравновешенная психика давала сбои. У полковника ни один мускул на лице не дрогнул. Стойкий оловянный солдатик. Точнее, оловянный полковник. Таких, похоже, из олова отливают. Потом в холодной воде закаляют. Я сам в детстве этим занимался: мы с пацанами отливали из олова и свинца кастеты. Я дрался неохотно, но, если требовалось, долго не думал.
— Вы не спешите, хорошо подумайте, — резонно порекомендовал полковник.
— Я уже подумал. Остаюсь здесь! Никуда не поеду, — упрямо заявил я, глядя ему в глаза.
— Вы верите в трудное счастье? — ухмыльнулся оловянный полковник. — На вашем месте я бы вернулся.
— Может, мне на Смоленской площади с плакатом встать? — съязвил я.
— Не советую, — серьёзно ответил полковник. — Тогда вами займутся другие органы.
— Я не поеду! — вскричал я. — Выпускайте или арестовывайте!
Полковник невозмутимо воспринял мой истеричный выпад.
— Первое требование невыполнимо, — заметил он, — а над вторым я подумаю.
— Мне обещали: если будет письмо — выпустят.
— К восьмидесятому году коммунизм обещали… Ко мне у вас есть вопросы?
— Арестовывайте!
Полковник вгляделся в мои горящие глаза, сообразил:
— На международный скандал рассчитываете?
— Именно.
— Зря. Перед Новым годом у людей есть более важные дела…
— Я сейчас в посольство позвоню! — пригрозил я.
В канадское посольство я действительно позвонил, но международного скандала добиться мне так и не удалось. Сотрудник посольства в Москве Наталья Булгакова разъяснила, что посольство не в ответе за чудиков, просрочивших свою визу на два года. Мне теперь самому придётся разбираться с ФМС.
— Идите на Радищевскую, — посоветовала в итоге Наталья.
Вечно меня все куда-то посылают. Сами вы все идите… на Радищевскую! Как говорили хулиганы в нашем дворе в посёлке Восьмой километр, до-ре-ми, до-ре-до. (Позже объясню магию этих нот.) Был канун Нового года. У людей имелись более важные дела, поэтому я, не дослушав сотрудницу посольства, пожелал ей напоследок сквозь зубы:
— С наступающим вас, Наталья!
— И вас также! — рявкнула консульская сотрудница и повесила трубку.
Моё настойчивое требование о собственном аресте осталось без внимания: у людей действительно имелись более важные дела. Пограничники не желали напрягать международную обстановку, и мне без скандала и попытки самосожжения пришлось возвращаться в Москву.
— Зря только съездил, — критикует меня Руслан.
Мы снова пьём чай с высокогорьев Шри-Ланки в его офисе.
— Ничего не зря! — возражаю я. — Я получил бесценный опыт.
— Какой? — критично интересуется Руслан.
— Опыт общения с пограничной службой.
— Тебе совсем другой опыт нужен, — нравоучительно говорит Руслан.
— Какой? — в свою очередь интересуюсь я.
— Взятки давать учись! Пограничникам общение с тобой не нужно. Правильно майор сказал: ты семьсот километров проехал не для того, чтобы разговоры ночью вести, — укоряет меня Руслан.
— Не берут, — оправдываюсь я. — Майор ещё сказал, что не может вступить в сделку с совестью.
— Все берут, и совесть здесь ни при чём. Давать не умеешь, — отчитывает меня Руслан.
— Ты прав. Я не могу давать полковнику на границе доллары! Это, согласись, очень странно. Меня бы сразу арестовали.
— А разве ты не этого хотел?
— Этого, но не за дачу взятки.
— Всё проще, чем ты думаешь. Чем выше чин, тем больше надо давать. Положил бы майору пятьсот долларов в карман — он бы пропустил. У них зарплата маленькая. Полковнику — тому, конечно, больше. Деньги надо совать в карман без лишних разговоров, при этом мило улыбаться. Ты должен показать им свою зависимость. Дай им насладиться твоим унижением. Тогда они возьмут. Думаешь, мне легко в центре Москвы магазин держать? Без взятки здесь не выживешь. Сертификаты, лицензии, акцизы. Одна проверка за другой. Как раз недавно зашёл ко мне один из Роспотребнадзора. Запарковал свой новый перламутровый «Кайен» напротив входа и ткнул мне под нос свою корочку. Говорит: «У тебя в магазине левый товар». Пятьдесят тысяч хотел. Я что, мальчишка? Я же не первый день в бизнесе! Какой ещё левый товар? Откуда? У меня на каждую бутылку сертификат. Эта шестёрка на испуг берет, ищет, с кого можно денег по-лёгкому срубить. Я же ему не лох! Десять лет ишачу и на старой «Тойоте» езжу. А этот со своей государственной зарплатой в тридцать тысяч рублей на новом «Порше» разъезжает…
Руслан прерывается.
— Знаешь, о чём я мечтал в восемьдесят восьмом году, когда приняли закон о кооперации? — продолжает он после недолгой паузы, меняя тему.
— О чём?
— Я мечтал о белом лимузине, шофёре-негре в белых перчатках и доме с фруктовым садом. Мне уже сорок семь, а у меня ни лимузина, ни фруктового сада!
— А негр у тебя есть? — спрашиваю.
— Я сам как негр! Пашу как папа Карло, без выходных.
И опять жёлтое здание на Покровке, 42. Тёмные кабинеты, безучастные взгляды, пустые разговоры и советы о визе — всё то же самое. Неужели со мной больше не о чем поговорить? Я многогранная, разносторонне развитая личность, а у них все разговоры только об одном — как озабоченные. Я хорошо разбираюсь в «венской классике», могу поговорить о современной русской литературе. Даже поспорить, если придётся. Но спорить с офицерами Федеральной миграционной службы нежелательно и даже чревато.
В этот раз меня принимает Михаил Алексеевич Антошин, начальник Отдела учёта, регистрации и оформления виз Управления Федеральной миграционной службы. Хотя он возникает в моей жизни на короткое время, — Шпаковский по какой-то важной причине отсутствует, — наше непродолжительное знакомство тоже оставит в ней яркий, неизгладимый след. Михаил Алексеевич мне сразу понравился. Честное слово. Если к подполковнику Шпаковскому любовь созревала постепенно, то майора Антошина я полюбил сразу. Любезный, элегантный, с тонким чувством юмора. В этом жёлтом здании, догадываюсь, работают только милые люди. Возможно, проходят спецотбор. ФМС ведь серьёзная государственная организация, а не Дорогомиловский рынок, где кавказцы торгуют фальшивой чёрной икрой. Михаил Алексеевич говорит со мной учтиво, едва улыбаясь:
— Господин Семёнов. Специально для вас информация к размышлению: неделю назад наши пограничники сняли с ночного поезда двух иностранцев…
— За что? — глупо улыбаюсь я. На Покровке, 42 я простодушно удивлялся всему.
— Догадайтесь сами. — Антошин делает короткую паузу. — Я вам подскажу. Виза была просрочена… На четыре часа, — прибавляет он.
— Боже… Бред какой-то, — непроизвольно вырывается у меня.
— Это не бред, господин Семёнов! Это пункт восемь статьи восемнадцать Кодекса об административных правонарушениях. Подобное нарушение иностранным гражданином режима пребывания влечёт за собой наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового, — чётко цитирует Антошин. — А у вас на два с половиной года виза просрочена. Чувствуете разницу? Такой ответственности мы на себя не возьмем.
— А вы попробуйте. Никто ничего не хочет брать! — начинаю горячиться я. — Вы — центральное управление. Разве не вы должны решать эти вопросы?
— Если бы ваша виза была просрочена на день-два — мы бы, возможно, и решили. А сейчас вам поможет только министр иностранных дел, — Антошин указывает пальцем вверх, — или начальник Федеральной миграционной службы генерал-полковник Ромодановский Константин Олегович. Он на Радищевской работает. Если оттуда нам сюда позвонят и дадут соответствующее распоряжение, то мы вас выпустим, — с милой улыбкой заканчивает Антошин.
Да он просто издевается! Мне нестерпимо хочется нагрубить. Я проглатываю обиду и грубо спрашиваю:
— Может, хотите, чтоб сам президент сюда позвонил?
— Это будет просто замечательно, — живо реагирует Михаил Алексеевич. — Тогда мы выпустим вас куда хотите.
Господин Антошин. Я понимаю ваш изощрённый армейский юмор. Вы, слава богу, не прапорщик. Вы — майор, и потому ваше чувство юмора острее и тоньше. На мою долю выпало достаточно препятствий, и я по необходимости готов преодолевать новые. Это как компьютерная игра — с каждым новым уровнем становится сложнее. Но если вы желаете, давайте посмеёмся вместе: вам позвонит президент — и мы с вами посмеёмся от души. Ваше желание для меня закон, и я пройду все уровни этой сложной игры. Другого выбора не остаётся. Президент так президент. Главное — не премьер-министр. Хотя разницы для меня нет никакой. Я только опасаюсь, чтобы из этого не приключилась какая-нибудь дикая история, как в случае со Шпаковским и Ефимцевым, когда я пытался добровольно предать себя в руки закона. Итак, мне придётся обратиться к президенту России! Ну, а чего здесь страшного? Если я каждый день обращаюсь к Всевышнему, неужели раз в жизни не имею права обратиться к президенту? Даже если это президент России — юридически чужой мне страны. Кроме просроченной визы терять мне нечего. Кто доведён до отчаяния, готов на поступок. Но как? Как беспрепятственно войти в Кремль и попасть в кабинет президента? Мне дважды уже приходилось бывать в Кремле, в Георгиевском зале, и теперь я хорошо знаю, где он находится. В середине 90-х годов 20 века там проводилась реставрация, о которой писали все российские и западные СМИ, в связи с коррупционным скандалом вокруг главы управделами президента Павла Бородина и швейцарской фирмы «Mabetex». Реставрация напоминала дешёвый евроремонт гастарбайтеров, скорее всего с просроченной визой, но это к делу не относится. Хотя как на это посмотреть. Судя по всему, Путин Георгиевским залом был доволен. Я это видел по довольному выражению лица президента. Он принимал там у послов африканских государств верительные грамоты. Послы подходили к Путину, вручали грамоты, чокались с ним шампанским в хрустальных бокалах и фотографировались. Послов было много, но Путина я заметил сразу — он был единственным белым человеком в дешёвых позолоченных интерьерах Георгиевского зала. Тогда меня без проблем пропустили в Кремль — у меня была виза. А сейчас моя виза просрочена, и дорога туда закрыта.
С майором Антошином мы расстались на дружелюбной ноте: Михаил Алексеевич пообещал ждать звонка, а я пожелал начальнику Отдела учёта, регистрации и оформления виз УФМС продвижения по службе. После встречи с ним прошла неделя. Я колебался, взвешивал, медлил, раздумывал, но в какой-то момент поймал себя на мысли: человек ждёт звонка от президента страны. Непорядочно с моей стороны заставлять майора столько ждать. И тогда я позвонил в общественную приемную президента Путина. Номер нашёл в телефонной книге. Это был день «икс», говоря условно. У каждого в жизни наступает такой момент или день, когда приходит прозрение, когда становится ясно, что реальность абсурдна и вокруг хаос. Я хорошо помню, как это случилось. Я проснулся утром, сел на краю кровати, посмотрел на телефонный аппарат и сказал себе: если минувший год моей жизни, поступки, встречи, разговоры — всё хаос и абсурд, то пусть это быстро закончится, а если нет, — я на верном пути.
Письмо президенту
— Напишите письмо на имя президента и приходите завтра, — ответил приятный женский голос из Администрации президента.
Бешено заколотилось сердце, мне захотелось вскочить, но я не чувствовал своих ног. Неужели всё это происходит со мной? Неужели я всё это слышу? Неужели так всё просто? Я уже год бьюсь над решением загадки этой китайской игры, правила которой глубоко от меня сокрыты. Год мучаюсь над разгадкой, а выход здесь простой.
— Я запишу вас на девять. Народу с утра меньше, — прибавила девушка.
Чем дольше она со мной говорила, тем ярче разгоралась надежда в моей потухшей душе. Я почувствовал, как потеплело в сердце. Что-то внутри меня зарождалось, какое-то новое чувство. Я влюбился в эту девушку из Администрации президента. Любовь с первого телефонного разговора. Она дала мне надежду: президент Российской Федерации решит мой вопрос и мои проблемы закончатся. Только главе великой державы такое под силу.
Однако, если сам президент решает визовые вопросы, некстати рассуждал я, чем же тогда занимается премьерминистр? Выдаёт разрешения на перепланировку санузлов? Или составляет график отключения горячей воды? А что, ничего тут удивительного нет! Это дела государственной важности. Путин, конечно, не государь Николай I. К президенту попасть намного сложнее. Мы живём не в крепостное время, мы в свободной демократической стране. Безотлагательного президентского решения ждут вопросы государственной важности: американцы разместили в Чехии новую систему противоракетной обороны. Саакашвили снес в Грузии памятник советскому воинуосвободителю, развязал войну в Южной Осетии. Сомалийские пираты захватывают российские корабли с грузами, берут моряков в заложники. А я тут со своей визой оператора иностранных корпунктов таскаюсь. Выходит, действительно больше некому разобраться и решить мою проблему, кроме президента России.
К приему в Администрации президента надо было подготовиться основательно. В семь утра я встал, принял душ, надел свой единственный летний костюм, хотя была середина января, и отправился на прием к Путину. Что же он подумает, увидев меня в светлом летнем костюме?
На входе в серое пятиэтажное здание на Старой площади охранник в звании сержанта, в зелёной военной форме, просканировав меня профессиональным взглядом, спросил:
— Куда?
— На приём к Президенту, — с гордостью ответил я.
Я был готов к любым неожиданностям, даже к тому, что меня не впустят. Но дверь отворилась, и я оказался внутри здания. Значит, это не сон. Я действительно иду к Путину. Надо было фотоаппарат с собой захватить. Сфоткаться с президентом, чтоб Шпаковского с Антошиным на Покровке удивить. Хотя вряд ли их удивишь фотографией.
Взглянув на каменное выражение лица второго охранника, я решил, что этот меня точно развернёт назад. Сержант стоял у рамки металлодетектора, сурово меня разглядывая. Он ничего не сказал, только кивнул. Волнуясь, я на непослушных ногах второй раз прошёл через рамку и наконец оказался у окошка, за которым сидела важного вида женщина лет пятидесяти. Она напомнила мне служащую советского государственного учреждения. Её прическа, одежда, осанка и манера держаться были результатом долгой работы в этом ведомственном здании, бывшей собственности центрального партийного комитета. Здесь царила ушедшая атмосфера полузабытого жителями столицы советского строя. Похоже, интеллигентная женщина когда-то была личным секретарём самого Леонида Ильича Брежнева.
— По какому вопросу? — степенно поинтересовалась она, продолжая что-то писать.
— Меня из России не выпускают…
— Ваш паспорт, — сказала она, продемонстрировав равнодушный взгляд.
Я наклонился и протянул через окошко паспорт.
— Вы что, гражданин Канады? — пролистав паспорт, удивилась работница Администрации.
— Да, — подтвердил я очевидный факт.
— Как вы сюда вошли? Мы иностранцами не занимаемся!
— Я… я же вам звонил… — разволновался я.
— И что вам сказали?
— Мне сказали записаться и прийти на прием.
— Мы занимаемся только российскими гражданами.
— Да, но мне сказали написать заявление… Женщина помолчала, потом сказала:
— Дайте ваше заявление.
Я протянул ей лист бумаги с заявлением. Пробежав глазами текст, она сказала:
— Я не уверена, что вас примут… Ну, хорошо, — прибавила служащая Администрации, чуть подумав, — я выпишу вам пропуск.
Распечатав на принтере пропуск и вложив его в мой паспорт, она вернула мне документ. Я получил регистрационный талон №179, на котором было напечатано:
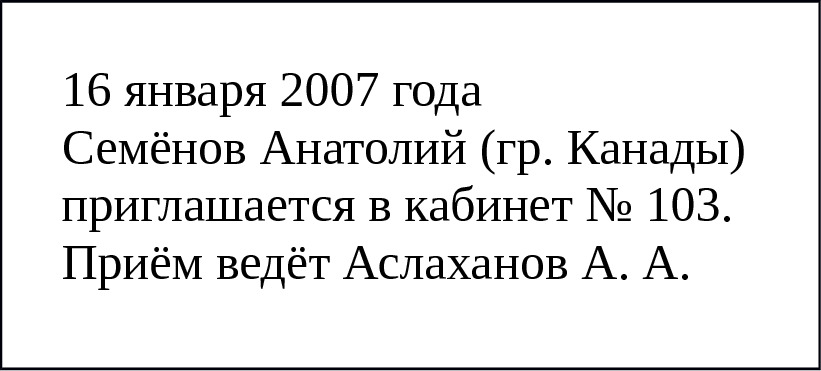
— Посидите, — кивнула она на мягкие красные стулья. — Вас пригласят.
Уже через пять минут в сопровождении этой приятной советской женщины я робко ступал по алой ковровой дорожке, которая стелилась по длинному, с высоким потолком, мягко освещённому коридору.
— Вас примет советник президента по национальным вопросам Асламбек Ахмедович Аслаханов, — сообщила служащая Администрации.
— А президент? — спросил я.
— Президент занят. У него встреча с губернаторами, — невозмутимо ответила она.
Я понимающе кивнул. Женщина в свою очередь поинтересовалась:
— Вы читали его книгу «Я всегда защищаю народ»?
— Чью, Аслаханова или Путина?
— Сейчас все пишут… у Аслаханова несколько книг.
— Нет, но обязательно прочитаю, — горячо заверил я работницу Администрации.
У дверей кабинета стоял двухметрового роста и атлетического сложения мужчина в идеально отглаженном чёрном костюме. Вид громилы был безучастным и решительным одновременно, как у личных телохранителей государственных персон. Я часто видел таких на саммитах и международных встречах политиков. Особо хочу отметить личного телохранителя покойного президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Мне его даже описывать страшно. (Говорили, что Кадырова охраняют бывшие боевики, из тех, кто перерезал горло русским солдатам. Об этом я слышал от одного чеченца, перешедшего на сторону федералов.) Это был хищник двухметрового роста с красными звериными глазами. Такие не разговаривают. Они убивают одним ударом. Эти парни на особом положении, с правом на убийство.
На высокой дубовой лакированной двери красовалась медная, отполированная до блеска табличка:
Помощник Президента Российской Федерации
по национальным вопросам Аслаханов А. А.
— К Аслаханову, — сказала служащая Администрации охраннику, у которого, слава богу, глаза были человеческими.
Тот пронзил меня острым взглядом, заставив сконфузиться, и одобрительно кивнул. А я уж подумал, обыскивать будет.
Мы с женщиной вошли в кабинет.
— Ждите, — указала она на стул и вышла.
Я присел к большому и массивному лакированному столу и с интересом осмотрел помещение. Меня потрясла обстановка — сохранённый в первозданном виде островок советской системы. Двадцать лет назад в стране произошли колоссальные перемены: ушли в прошлое секретари райкомов и обкомов, председатели агропромышленного и гидрометеорологического комитетов, министры пищевой промышленности и внешних сношений, упразднены колхозы и совхозы, изменилась Конституция. Отмечается День независимости России. Уже экзамены в вузах сдаются по американскому образцу. Но в этом кабинете… Скорее не мебель меня впечатлила, не обстановка, хотя и это тоже. Я был поражён царившей здесь особой атмосферой советской эпохи, духом лучших времён развитого социализма. Длинный прямоугольный стол из орехового дерева, покрытый толстым слоем лака, графин с водой на серебряном подносе, гранёные стаканы. Вишнёвые массивные стулья с высокими прямыми спинками, аккуратно расставленные вдоль стола с обеих сторон. Вызывающий ностальгию кабинетный диван, обтянутый кожей, с изящной резной отделкой спинки, массивное министерское кресло, лакированные кабинетные шкафы, высотой до потолка, железный сейф на колёсиках. Две большие картины на стене, с изображением классических пасторальных пейзажей. Роторный телефонный аппарат с золотым гербом СССР. Здесь даже пахло как-то особенно, по-советски. Я на секунду представил, что нахожусь в кабинете советского министра сельского хозяйства или первого секретаря обкома. В этом изолированном от окружающего мира пространстве сохранялась часть той страны, о которой я часто вспоминал, в которую изредка мне хотелось вернуться. Сюда, похоже, не ступала нога демократа. Я вообразил, что в кабинет сейчас войдёт генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и откроет торжественное заседание президиума. Между тем в кабинет вошёл депутат Государственной Думы Асламбек Ахмедович Аслаханов в дорогом чёрном костюме. Он присел в кожаное министерское кресло и доброжелательно улыбнулся:
— Ну что, обижают канадцев?
«Раз он шутит, значит, есть надежда», — пронеслась в голове шальная мысль.
— Меня из России не выпускают, — пожаловался я.
«Не суетись. Говори спокойно, — внушал я себе. — Человек, написавший книгу „Я всегда защищаю народ“, обязательно поможет».
— Почему?
— У меня виза просрочена. — Я протянул ему документы и справку из института Бурденко.
Асламбек Ахмедович изучил визу, пробежал глазами справку и проговорил:
— Большой срок…
Я промолчал. Помощник Путина по национальным вопросам, генерал-майор МВД и автор книги «Я всегда защищаю народ» ненадолго задумался. Потом снова раскрыл мой канадский паспорт, взглянул на просроченную визу.
— И как это получилось? — В вопросе отразился профессиональный интерес бывшего сотрудника внутренних дел.
— Я болел… — Лучшей причины для оправдания у меня не имелось.
— Два года? — иронично улыбнувшись, усомнился генерал-майор.
— Два с половиной, — уточнил я. И прибавил виновато: — Так вышло… случайно.
— Случайностей не бывает! Всё в нашем мире или испытание, или наказание, или награда, — философски произнёс Аслаханов.
Значит, мои неудачи — это награда. Не хотел бы я думать, что это испытания. Слишком их у меня много.
— Расскажите, — предложил Асламбек Ахмедович.
— Очень долго рассказывать придётся, — предупредил я.
— Вам теперь спешить некуда… Рассказывайте всё по порядку.
Мой добрый читатель, если тебе покажется, что всё интересное я уже рассказал, — ты сильно заблуждаешься! Уверяю тебя. Это только прелюдия. Увертюра. Экспозиция. Даже точнее можно сказать: вступительная часть водевиля. Дальнейшее повествование насыщенно и развивается не менее увлекательно. Но сейчас мне придётся отмотать потрескавшуюся киноплёнку воспоминаний назад и совершить экскурс в прошлое. Прости, что отвлекаюсь на лишние, как может показаться, подробности. Мне и самому не хочется обнажать перед тобой свои слабости и многообразные комплексы. Я не горю желанием рассказывать о своей семье и непростом детстве, превращая перипетии семейной жизни и страдания моих родителей в предмет насмешки. В конце концов, я не мазохист. Но если не рассказать, конструкция произведения нарушится, и дальнейшее повествование потеряет смысл. Обещаю, по возможности, быть кратким. И ещё. Я иду на это потому, что, вспоминая прошлое, надеюсь найти там причину своих нынешних бед и несчастий. Итак, я готов к интересному путешествию в прошлое. С чего же именно стоит начать? Попробую с момента рождения мечты.

Краткая история развитого социализма
Тысяча девятьсот восьмидесятый год. Московская Олимпиада. Леонид Ильич Брежнев. Афганистан. «Докторская» колбаса. Болгарский маринованный перец и венгерский зелёный горошек. Развесные панировочные котлеты и талоны на мясо и сливочное масло. В разгаре лето и развитой социализм, о котором нам, ученикам средней школы, много и подробно рассказывает Борис Семёнович Назаров — лысоватый, в сером твидовом пиджаке, чуть выше среднего роста, сорока лет преподаватель географии и обществоведения. Он один из редких счастливых учителей школы №32, обладающий собственным автомобилем, который он ставит под окнами кабинета. Его новенький ЗАЗ-966В, «Запорожец» яркокрасного цвета с «итальянским» сигналом, вызывает у многих школьников живой интерес, и поэтому Борис Семёныч частенько выглядывает из окна, любуясь машиной и одновременно отгоняя любопытных и потенциальных недоброжелателей, пресекая всякие посягательства на его частную собственность. Должен объяснить читателю, что такое «итальянский» сигнал, так как это словосочетание сегодня мало что может сказать. На Кавказе многим счастливым автовладельцам вместо стандартного заводского устанавливали на заказ сигнал, который воспроизводил фрагмент мелодии какой-нибудь популярной итальянской песни. В старой советской комедии «Будьте моим мужем» с Андреем Мироновым в главной роли как раз показан автомобиль с «итальянским» сигналом. В том эпизоде, где кавказский водитель приезжает на красном «Запорожце» за Ниной Руслановой. Разъезжать с «итальянским» сигналом в 70 — 80-е годы было престижно — кому не хотелось выделиться. Пешеходы оглядывались, жители ближних к проезжей части домов высовывались из окон. Только одно дело, когда «итальянский» сигнал издавала элегантная «пятёрка», и совсем другое — когда «Запорожец» с мотором сзади и багажником спереди. Этот двухдверный автомобиль с двигателем воздушного охлаждения производился для широкого народного пользования запорожским автозаводом «Коммунар» и стоил три с половиной тысячи рублей. Для преподавателя советской общеобразовательной школы совсем немалая сумма. Но Борис Семёныч жил согласно советским законам и популярному в СССР лозунгу «Накопил — машину купил». Для нас, школьников-подростков, «Запорожец» его служил объектом насмешек. Старшеклассники насчёт «ушастого» нередко отпускали злые шуточки. Кто-то из девочек даже хотел сфотографироваться на капоте красного «Запорожца», подражая фотомоделям из журнала «За рулём», но эта идея успеха не имела, так как Борис Семёныч чутко оберегал свою собственность от наших посягательств. Но однажды ребята всё-таки незаметно подобрались к машине и бросили в бензобак несколько кусков сахара. Просто забавы ради или отомстили за двойку. Борису Семёнычу пришлось заменить карбюратор. В общем, Борис Семёныч пользовался в школе повышенным вниманием. Иметь в собственности автомобиль в СССР было весьма престижно, а в бывшем посёлке Восьмой километр — большой удачей и счастьем.
Борис Семёныч — деловой и умный педагог: он любит нашу Отчизну, социалистический строй, предметы, которые преподаёт, и, конечно, свой красный «Запорожец». Он подробно рассказывает о географическом положении родной страны, её природных богатствах, социалистической морали и дружбе народов. Наша общая Великая страна имеет звучное всеобъемлющее название: Союз Советских Социалистических Республик.
«Развитой социализм — это власть трудящихся при руководящей роли рабочего класса, во главе с марксистсколенинской партией», — неоднократно говорил на уроках Борис Семёныч. И ещё что-то рассказывал о коллективном разуме коммунистической партии. Эти и некоторые другие тезисы я усвоил на всю жизнь.
Время от времени мне на глаза попадаются книги известных советских работников культуры, полные негативных воспоминаний об СССР. Возможно, у этих деятелей имеются серьёзные причины осуждать, критиковать, очернять — угрызения совести испытывает не каждый. Добившись при советской власти признания и успеха, эти господа-товарищи после развала Советского Союза принялись живописать изъяны социалистического строя. Ну, хорошо. Допустим, когото в Америку или даже Болгарию не пускали, кому-то когда-то продуктов из спецраспределителя не доложили, кому-то диссертацию не зачли, Ленинскую премию не присудили, звание заслуженного не дали. Понимаю, сочувствую, сожалею. Всякое было. А я всё равно отрицательно отношусь к этим негативным воспоминаниям хулителей. Ведь было время, когда они с удовольствием пользовались социалистическими благами и привилегиями. Обласканным всенародным вниманием, бедным служителям культуры жилось нелегко. Зато мне, сыну повара и многодетного отца, жилось весело и хорошо. «Нельзя безнаказанно бранить своё время», — предостерегал австрийский писатель Роберт Музиль. Вот поэтому я приложу все усилия для достоверного описания и сохранения в памяти людей периода развитого социализма, чтобы никому не вздумалось удалить эти воспоминания из реестра мировой истории. В этом состоит моя задача, моя историческая миссия.
В период моих хождений по кабинетам ФМС обнаружилось, что срок действия моего паспорта истекал, и я отправился в канадское посольство подавать анкету для получения нового паспорта. Процедура получения нового документа через каждые пять лет — отдельная тема, но я не буду отвлекаться. Рассказ уведёт нас в сторону. Думаю, это один из способов сбора и отъёма денег. В общем, я заполнил анкету и протянул её сотруднице посольства в окошко.
Референт посольства Наталья Булгакова посмотрела в бумагу и раздражённо сказала:
— Что это вы тут написали?
— Родился в АзССР, — уверенно произнёс я.
— Нет такой страны!
— Нет, но была. Азербайджан был частью СССР — и я там родился.
— Вычеркните и забудьте! — требовательно заявила она.
Я, конечно, подчинился и вычеркнул АзССР из анкеты, иначе остался бы без паспорта. (Жить в России без паспорта никому не рекомендую, хотя такие люди есть.) Но я, извините, не собираюсь вычёркивать из памяти своё прошлое, какое бы оно ни было; хотя и не скажу, что оно было мрачным и безрадостным. Моя память хранит немало светлых воспоминаний о большой и великой стране. Ирина Роднина и Александр Зайцев, Анатолий Карпов и Гарри Каспаров, Муслим Магомаев и Людмила Зыкина, Валерий Харламов и Владислав Третьяк — эти имена звучали как торжественная музыка: зрители на стадионах, спортивных аренах и в концертных залах утирали слёзы гордости за СССР. Но история покрывается толстым слоем архивной пыли, сегодня всё это забывается. Но я напомню. Я напомню неблагодарным кляузникам о героях-комсомольцах, героических строителях БАМа. Они у меня всех героев «Молодой гвардии» поимённо вспомнят. Никто не забыт, ничто не забыто! Бесплатное высшее образование получали? В закрытых поликлиниках бесплатно лечились? Продукты на служебных машинах к вашим подъездам доставлялись? Перед партийными чиновниками заискивали? За рубеж за государственный счёт ездили? Квартиры от государства бесплатно получали? А дачные участки? Не отрицайте! Всё это было. Так что же с вами случилось? Самолюбие проснулось и тревожит душу? Сострадаю. И вот вам мой решительный ответ: вы — предатели советских идеалов и героев, нет вам прощения и народного доверия! Я не позволю вам искажать историю СССР и втаптывать её в грязь! СССР — это музей народной памяти, и распоряжаться этим достоянием нужно бережно и с трепетом. Всеобщее счастье и благополучие граждан многонациональной страны в эпоху экономической стабильности должно быть и будет предано широкой огласке. Внешний враг и гонка вооружений, диссиденты и психбольницы, Лубянская площадь и карательная цензура, товарный дефицит и война в Афганистане — это нас почти не затрагивало. Мы, энергичные безмятежные советские пионеры-комсомольцы 70 — 80-х годов, полные светлых надежд, в политике не копались, членов партии не критиковали (анекдоты про Брежнева и Андропова не считаются). Заботы и проблемы взрослых или политика страны нам были неинтересны. Нашим увлечением была рок-музыка: громкая, бунтарская, энергичная. Даже больше чем увлечением, — она была смыслом нашей беспечной молодости. Мы доставали и слушали импортные пластинки, переписывали их на кассеты и бобины, переводили с английского языка тексты песен. Понимали, что параллельно существуют другой мир и другая жизнь, о которой слышали от взрослых — жизнь грубая, иногда жестокая. Но эта реальность была далека от нас так же, как и война в Афганистане. Юношеское увлечение западной музыкой превосходило по важности всё остальное, в том числе и то, что из Афганистана возвращались покалеченные солдаты. Слухи о них доходили до нас от их родственников и знакомых, об этом не писали в газетах, не говорили по телевизору, не рассказывали в школе. На наши молодые годы пришлась «эпоха гуманизма». Взрослели же мы в смутные годы «перестройки» и в тоскливое время распада СССР. А зрелые годы совпали с ельцинской «демократией» и путинской «стабильностью». Сколько всего за одну жизнь! Это разве не удача? «Пусть песни расскажут, какими мы были». Хороших песен о нашем поколении достаточно, но потоком времени они оказались выброшенными на помойку истории. Но некоторые я здесь напомню. Дышите глубже и сохраняйте спокойствие! Я не фанатик марксизма-ленинизма, не живу прошлым и не мечтаю вернуться назад, в СССР, но у каждого своё прошлое. Это надо понимать. С этим придётся мириться. Не стоит забывать своё прошлое. Я помню немало хорошего и достойного, великие стройки и завоевания социализма и никому не позволю принижать руководящую роль ЦК КПСС, тем самым перечёркивать уроки Бориса Семёныча.
Мой отец — не коммунист, не партийный работник, не служащий государственного аппарата. Он работник сферы обслуживания — шеф-повар. Искусный мастер с разнообразным опытом, включая опыт 2-го Украинского фронта, рядовой Юхай Семёнов служил поваром при полевой кухне. Именно на войне он навсегда усвоил искусство приготовления пищи на целый полк из продуктов, рассчитанных на батальон. Эти ценные навыки неоднократно выручали его в тяжёлые трудовые будни мирного времени при проверке ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности).
В мирные семидесятые, когда даже на коробке с цветными карандашами красовалось «Миру — мир!», отец работал в ресторане аэропорта. Днём ресторан был как столовая, а вечером там обсуживали по высшему разряду. В тот день я приехал к отцу по наказу матери, чтобы отвезти домой продукты: мясо, сливочное масло и другие блага развитого социализма. Отец регулярно, раз в месяц, отправлял домой продукты, чтобы прокормить большую семью. Было обеденное время. Папа усадил меня за стол:
— Кушать хочешь?
Кто же откажется от бесплатного обеда в ресторане! Посидеть здесь — для меня удовольствие: можно любоваться самолётами, огнями взлётной полосы, которые были включены днём, наблюдать за пассажирами.
Папа подозвал официантку, попросил:
— Люба, накорми моего сына и принеси бутылку лимонада.
Люба, в белом переднике и красивом узорчатом кокошнике, принесла макароны с котлетой, лимонад «Буратино» и поставила всё на стол. Окинув меня любопытным взглядом, она удалилась.
— Покушаешь, зайдёшь за сумками, — сказал папа и тоже скрылся за дверью с надписью «Служебное помещение».
Я сижу за столиком в просторном светлом зале на втором этаже у большого высокого окна, с завистью рассматриваю пассажиров, деловито всходящих по трапу. ТУ-134 выруливает на взлетную полосу, двигатель набирает обороты, самолёт разгоняется и взлетает с раскатистым гулом. Я провожаю его долгим взглядом, с аппетитом уплетаю желтоватые от масла макароны и котлету из нежной говядины. С наслаждением запиваю еду золотистым лимонадом «Буратино» — волшебный вкус этого душистого газированного напитка помню до сих пор! Золотой вкус моего детства. И этот вкус, и другие мелочи хорошо запечатлелись в моей памяти. Тогда мне, беззаботному тринадцатилетнему мальчишке, казалось, что моя жизнь будет такой всегда: родительская забота, вкусное бесплатное питание, обещающий вид из окна аэропорта и мечта… Мечта о путешествиях. Я мечтаю улететь, воспарить, оказаться между небом и землёй и унестись с облаками. Моя мечта — вырваться из этого душного и чуждого мне города. С самого детства во мне зрело непреодолимое желание побывать в больших далёких городах и увидеть интересных людей. Я был уверен: интереснее люди — там. Далеко. У нас такая огромная страна, а я кроме нефтяных вышек и газовой трубы нефтеперерабатывающего завода ничего не видел! Сбыточная ли моя мечта? Не могу знать. Но свою мечту я не предам и обсуждать её ни с кем не собираюсь. Мечты не обсуждаются!
Обнимая небо крепкими руками,
Лётчик набирает высоту,
Тот, кто прямо с детства дружит с небесами,
Не предаст вовек свою первую мечту.
Я родился в южном темпераментном городе, на берегу Каспийского моря. На гербе нашего города изображены щит и три языка пламени над голубыми морскими волнами. Мне всегда хотелось узнать, что означают три факела, разгадать тайну происхождения трёх загадочных огней. Но если взглянуть на герб республики — тайна приоткроется: буровая вышка на фоне восходящего солнца и белый хлопок в обрамлении красной ленты. Нефть, газ, море и хлопок — известные символы Азербайджана.
Я жил в посёлке с не совсем приличным, как мне казалось, названием Восьмой километр, на окраине города Баку, на третьем этаже четырёхэтажной хрущёвки, на улице с грубым названием — Нефтепереработчиков, где летом от жары плавится асфальт, удушливый плотный воздух раскалён, а палящие лучи солнца пропекают мозги. Когда меня в школе спрашивали, где я живу, я отвечал: «Рядом с кинотеатром „Севиндж“». Кинотеатр знали все, а произносить пошлое, лишённое красоты длинное словосочетание «улица Нефтепереработчиков» мне было стыдно. Создавалось впечатление, что в нашем дворе проживают нефтепереработчики. Но это было не так. В нашем и соседних домах жили азербайджанцы, русские, армяне, лезгины, талыши и евреи — многонациональный двор, — и, насколько я знал, никто из них не работал на нефтеперерабатывающем заводе. Зато в нашем дворе проживали криминальные авторитеты, отсидевшие на зоне, бандиты и хулиганы, молодые, ещё чистые ребята, подражавшие бандитам и, по видимости, собирающиеся в места не столь отдаленные в ближайшем будущем. Сегодня улица Нефтепереработчиков — это современный широкий проспект с высотками, который носит имя известного азербайджанского композитора Кара Караева. Если бы нашу улицу переименовали раньше, я не оказался бы на другом полушарии Земли, в Канаде, и моя жизнь сложилась иначе. Ко всему прочему, в нашем районе находился Бакинский нефтеперерабатывающий завод (БНЗ). Тоскливая серая труба, извергающая в небо голубовато-красный факел, гордо возносилась над заводом. Этот огонь пылал не угасая и был виден из любой точки города. Ночью факел между делом освещал нашу улицу, которая давно не освещалась городскими фонарями.
С детства мне был знаком неповторимый лирический баритон Муслима Магомаева, звучавший по телевизору, по радио, в парках культуры и отдыха, в метро. Особенно запомнились слова популярной песни: «И я вхожу, как в детство, в город мой, Баку!» А ещё — незабываемый вкус чёрной икры и копчёной осетрины, нередко приносившихся папой с работы. После этого уже не напишешь: наша семья жила в нужде. Никто, конечно, в это не поверит, но, к сожалению, именно так и было. Вместе с родителями наша семья состояла из двенадцати человек. У меня пять сестёр и четыре брата: Рива, Данил, Хая, Ольга, Мира, Тамара, Борис, Рафик, Эдик. Я — предпоследний, девятый по счёту. Мой отец работал много, его трудовая биография началась в тринадцать лет, когда его с улицы взял к себе учеником повара один добрый человек — об этом отец всю жизнь вспоминал с благодарностью, — тем самым избавив от бандитского влияния и возможной тюрьмы. У отца было два брата: старшего звали Танхун, Анатолий, младшего — Синька, Сёма. В те незапамятные довоенные времена многие советские евреи называли своих детей русскими и еврейскими именами. Моего родного дядю Синьку судьба не уберегла от тюрьмы, и он неоднократно сидел за воровство. Я видел его один раз: хмурый и немногословный, чуть сгорбленный, с нарочитой походкой жулика. Даже мне, тогда ещё несмышлёному подростку было ясно: человек из преступного мира. В нашем дворе своих таких было немало.
Отец содержал и кормил большую семью как мог, но одной его зарплаты всё равно не хватало. Раз в месяц, как правило, в выходной день, отец брал с собой на работу меня или кого-то из братьев, отрезал большой кусок мяса от государственной говядины или баранины, кусок сливочного масла, ещё чего-то заворачивал в бумагу и отправлял всё с одним из сыновей домой. Вкус бесплатных благ социализма — государственного мяса и сливочного масла — до сих пор мной не забыт. Моя память надёжно его хранит. Вкус этот особенный. Я тоже из тех, кто вкусил «блага» социализма, но своему социалистическому прошлому я благодарен. Могу с уверенностью и гордостью признаться: я выкормыш СССР. В прямом смысле слова. Спасибо той стране, что заботилась и кормила меня, что предоставила возможность бесплатно учиться в двух учебных заведениях. Что бесплатно лечила, что предоставила моим родителям бесплатную квартиру. Спасибо за возможность служить в Советской армии, которая воспитала меня, закалила характер и сделала мужчиной.
Несмотря на то, что Баку расположился на берегу тёплого и богатого осетриной и нефтью Каспийского моря, на пляже мне довелось загорать не часто. В популярной советской кинокомедии есть хорошая фраза:
«Кавказ — это и кузница, и житница, и здравница». Действительно так, но мне почему-то хотелось поскорее выписаться из этого бесплатного санатория. Пятна мазута даже при слабом ветре упорно липли к отдыхающим, и воздух на пляже полнился тяжёлым, удручающим запахом. Мой брат Рафик — он старше на два года — однажды потащил меня с собой на ближайший от нашего дома карьер. Я безрассудно бросился в фиолетовую, как марганцовка, воду и пошёл ко дну. Солнце стало покрываться надо мной фиолетовой толщей воды. Рафик вытянул меня и вытолкнул к берегу. Я выполз из воды и, жадно глотая горячий воздух, снова радовался жизни. Почему вода в карьере фиолетовая, и не опасно ли в ней было купаться, я так и не выяснил.
Детские годы я развлекался ловлей мальков и скользких лягушек в пожарном водоёме. Юношеские годы провёл в расположенном вблизи нашего дома кинотеатре «Севиндж», что в переводе с азербайджанского означает «Радость». (Очень удачное название для кинотеатра, походы в кино дарили мне именно это чувство. Я хорошо помню также первомайские демонстрации, куда меня брала с собой старшая сестра Рива, и об этом с удовольствием расскажу чуть ниже, поскольку это тоже доставляло мне большую радость.) Кинотеатр находился в трёх минутах ходьбы от нашего дома, и если мне удавалось выпросить у мамы копеек пятьдесят — семьдесят, я спешил купить билет на какой-нибудь новый фильм. В фойе «Радости» царила особенная обстановка, там всегда ощущался характерный запах. Вдоль больших зашторенных окон стояли игральные автоматы. Мне нравилось играть в «Морской бой». Выпускал красненькие торпеды и топил корабли в тёмных водах игрального аппарата. Если в кармане оказывалась лишняя мелочь, я покупал в буфете фруктовое мороженое, и это было настоящее фруктовое мороженое, такого теперь не найти. Перед кинотеатром нередко образовывались толпы народа, жаждавшего приобщиться к киноискусству. Популярное изречение В. И. Ленина «Из всех искусств для нас важнейшим является кино» наглядно подтверждалось каждый раз, когда показывали индийские фильмы. В Баку, да и повсюду в республике, индийское кино было наиважнейшим из искусств. В дни демонстрации индийских фильмов толпа у кинотеатра стремительно возрастала и перед сеансами становилась неуправляемой. Зато зрители в Баку были самыми благодарными. Они настолько любили индийские фильмы и проникались, что многие парни после вечернего сеанса отправлялись вершить справедливость на улицах родного города. Моральные ценности киногероев оказались очень близки и понятны азербайджанским молодым ребятам. На чёрно-белый индийский фильм «Бродяга», с ошеломительно популярным и любимым повсеместно в СССР актёром Раджем Капуром, билетов было не купить. Каким образом мне удалось попасть на сеанс, уже не помню. Кто-то из старших братьев взял меня с собой. Зал был забит до отказа. Воздух казался тяжёлым от духоты и влажности. Широкие ступеньки по обе стороны от деревянных откидных кресел были оккупированы счастливчиками, переплатившими при входе контролёрам. Чтобы пробраться к своим местам, нам с братом пришлось через кого-то переступать. Места оказались заняты, и только после препирательств их освободили. Ещё до начала фильма в зале воцарилась наэлектризованная атмосфера. Зрители в возбуждении ожидали начала. Когда погас свет и запустили фильм, началось что-то невообразимое. Песня главного героя «Awaara hoon» всколыхнула весь зал: зрители пели, плакали и радовались вместе с индийским бродягой. Этот фильм очень нравился маме. Она с обожанием рассказывала о Радже Капуре, делилась с нами впечатлениями о фильме и мечтала посмотреть его ещё раз. Но в семидесятых годах видеомагнитофонов не было. Оставалось только ждать, что «Бродягу» когда-нибудь снова покажут на большом экране. Спустя тридцать семь лет, в Канаде, румынский эмигрант порекомендовал мне диск с этим фильмом. Такова сила важнейшего из искусств, тем более если актёр пользуется огромной зрительской любовью.
Детство моей мамы прошло в детдоме города Евпатории, где она оказалась с двумя сёстрами и братом после скоропостижной смерти мамы (моей бабушки), Адасó или Хадэсо. Ася по-русски. С какой-то согревающей теплотой мама вспоминала о нежном возрасте, Чёрном море, родном дворике, который примыкал к православной церкви. Колокольный звон раздавался трижды в день, извещая прихожан о начале службы. Мама рассказывала о своём отце Натане, потерявшем в молодом возрасте обе ноги и лишившемся возможности заработка. Так дети оказались в детском доме. Осенью 1941 года немцы заняли Крым. Детдом был эвакуирован. Натан забрал дочек Маню, Тури, Нину и сына Сёму и перевёз детей подальше от войны, в Баку. Дедушку при его жизни мне никогда видеть не приходилось. Когда он умер, мне тоже неизвестно, я только знаю, что прожил Натан недолгую жизнь, и похоронен во Львове. Зато мамину мачеху Ханум, сухую, энергичную старушку, я хорошо помню. Жила долго, почти до ста лет. Мы с мамой ездили к ней в старый район Баку. Во внутреннем дворике у Ханум стояла небольшая беседка, поросшая виноградом. В центре дворика журчал фонтанчик, струйки воды при ветре каплями разлетались в стороны, освежая мне лицо. Ханум и познакомила маму с моим отцом Юхаем, с соблюдением традиций горской общины. Родители поженились 4 апреля 1942 года. Выдавая свою дочку замуж в шестнадцатилетнем возрасте, Натан дал ей ценное жизненное напутствие: «Выходи за него, дочка. С Юхаем ты голодная не будешь». Девятнадцатилетний отец к тому времени уже работал поваром в столовой. Шёл 1942 год. Мирный Баку, конечно, не голодал, как блокадный Ленинград, но лозунг сурового военного времени «Всё для фронта! Всё для победы!» всех вынуждал затянуть потуже пояс. Через пару месяцев отца отправили на фронт.
Маму звали Тури, но соседи по двору почему-то называли её Нюра. «Нюра, — кричали они с нижнего этажа, — закрой воду, нас заливает!» Я видел редкие мамины фотографии в старом потрепанном альбоме. Даже на чёрно-белой потрескавшейся фотографии мама без косметики выглядела красивой. Только на одной фотографии была с накрашенными губами. Отец, воспитанный в строгих горских традициях, не позволял маме пользоваться косметикой. Накрашенная женщина воспринималась на Кавказе неадекватно. Я помню, сестра Мира однажды явилась домой с помадой на губах и накрашенными ногтями. Отец схватил её за руку и потащил на кухню, где под крики и слёзные клятвы сестры, что она больше никогда не посмеет краситься, кухонным ножом соскабливал с ногтей кроваво-красный лак. А ведь Мира уже была совершеннолетняя. Рассказываю об этом для того, чтобы показать отношение отца к этому делу; косметикой пользуются только проститутки — вот как на это смотрел. Никаких компромиссов.

Сегодня к городской женщине без косметики мои знакомые относятся с подозрением: урбанизация повлекла за собой искажение жизненных ценностей. Но это их личное дело.
Мама не любила носить кошельки, предпочитала пользоваться носовым платком: завязывала деньги в узелок — так надёжнее. Расплачиваясь в гастрономе, она долго развязывала тугой узелок и, наконец вытащив оттуда сложенную в маленький квадратик бумажку, протягивала деньги кассирше. Любопытно, что кассиры и продавцы терпеливо ждали и не торопили. Одевалась мама скромно и однообразно, избегая ярких цветов: тёмная косынка на голове (показывать свои волосы считала неприличным даже дома), неприметное однотонное платье, поверх него серый или коричневый шерстяной жакет, на ногах неизменные чувяки. Моя жена в Канаде купила себе такие же тапочки за сто долларов, итальянские. Утверждает, что модно. Мама за модой не гонялась и покупала чувяки за два рубля. И ещё мама время от времени прикалывала на грудь орден «Мать-героиня», которым её наградили указом Президиума Верховного Совета СССР. Большая золотая звезда этого ордена на фоне расходящихся в стороны серебряных лучей производила впечатление и походила на «Золотую Звезду» Героя Советского Союза.
В квартире во всех углах были припрятаны соль, сахар, мука, рис, гречка, спички, свечи — неприкосновенный запас для поддержания жизни на осадном положении. НЗ время от времени обновлялся. На самом верху старого буфета, как два сторожа, стояли две ветхозаветные керосиновые лампы, на случай отключения электричества. (В нашем районе это время от времени происходило.) Натыкаясь периодически на её тайники, мой брат Борис спрашивал:
— Ты хорошо подготовилась? Сообщи, когда война начнётся!
На это мама, сделав страдальческое лицо, как на христианских иконах, отвечала:
— Чтоб наши враги сгорели! Ай Худό! Ай Худό!
Воду из крана не пейте, враги чем-то отравили…
На этот счёт мама была недалека от истины: никто, конечно, не добавлял отраву в воду, но из-за осадка пить её из крана было небезопасно. В общем, скучать с мамой нам не приходилось.
Некоторые слова мама стыдилась произносить вслух. Однако это не мешало ей скандалить и ругаться с соседями. Доставалось даже жильцам из других подъездов и домов, в конце концов соседи стали обходить маму стороной. О наших многочисленных родственниках в доме чаще упоминалось негативно. Помню, мама неоднократно с осуждением говорила:
— Эта Маня, чтоб она сгорела, на базаре пирожки кушала!
Звучало это так, словно она сообщала нам страшную тайну. От смеха мы сползали с дивана на пол, хохотали до спазмов в животе. Объясняю современным языком: Маня — проститутка. Мужчины на базаре её угощали, и потом она с ними спала. (Следует заметить, что дело происходило в тяжёлое послевоенное время.)
Мама не произносила вслух слова «шлюха» или «проститутка». Это было для неё неприемлемо. Она вела себя так, будто получила воспитание в пансионе благородных девиц и соблюдала внутренний этикет великосветской дамы. Зато проклятия днём и ночью так и слетали с её уст. «Чтоб наши враги сгорели», — без устали повторяла мама своё таинственное заклинание. Каких именно врагов она подразумевала, мама никогда не уточняла. Держала в секрете. Я как-то решился выяснить и поинтересовался:
— Ты имеешь в виду наших внешних врагов, американских милитаристов?
— Да-а-э-э, — неохотно согласилась мама и снова воззвала к огню.
Словно сибирский шаман, мама часто обращалась к стихии огня. «Огненное» проклятие было наиболее употребляемым. Почему из четырёх природных стихий мама взывала к одной, для меня до сих пор остается загадкой. Например, даже тогда, когда мы заливали водой соседей снизу, мама взывала к огню на непонятном мне горском языке. Обладая исключительным чувством юмора, своими порой злыми шутками мама доводила нас до слёз, сама при этом не улыбаясь. В этом она походила на грустного комика великого немого кино Бастера Китона. Мама имела четыре класса образования. Окончить школу помешала война. Её любимую книгу, роман Виктора Гюго «Отверженные», в течение долгих лет я находил у неё под подушкой. Похоже, мама перечитывала её на протяжении всей жизни, ассоциируя себя с беспризорной Козеттой, которую приютил главный герой, беглый каторжник Жан Вальжан. История завершается счастливо: Козетта вырастает и, превратившись в красивую девушку, удачно выходит замуж. Наверное, в глубине души мама мечтала о такой же судьбе. Но жизнь — не роман со счастливым финалом. К тому же Козетте было легче, она не была матерью десятерых детей. А Жан Вальжан не работал шеф-поваром в бакинском аэропорту. Тем не менее, мама твердила нам о каком-то недосягаемом счастье, веря, что в один прекрасный день оно нагрянет, и в нашей семье воцарятся благополучие и идиллия.

Нередко мама с благодарностью вспоминала Сталина.
— Сталин был строгим, но очень скромным и справедливым! — говорила она и как бы в подтверждение с выражением читала стихотворение, которое выучила до войны в школе:
На дубу зелёном,
Да над тем простором
Два сокола ясных
Вели разговоры.
А соколов этих
Люди все узнали:
Первый сокол — Ленин.
Второй сокол — Сталин.
А кругом летали
Соколята стаей…
Ой, как первый сокол
Со вторым прощался,
Он с предсмертным словом
К другу обращался.
Отец морщился, негодовал и сердито выговаривал:
— Хватит! Чему ты детей учишь?!
— Детям уже стихи нельзя почитать? — недоумевала мама.
— О Сталине забудь! — строго внушал ей папа. Не то чтобы он был против Сталина, — Сталин войну выиграл! — просто время с тех пор изменилось, и в школах учили
другие стихи.
— Видите, дети, с кем я живу? — сокрушалась мама. — С Гитлером живу! У них даже день рождения в один день.
И мы от смеха сползали со стульев. Нас веселило это сопоставление. Папа действительно родился в один день с Гитлером — 20 апреля, только 1920 года. Он не виноват. Такое случается. Гитлер в то время ещё только выступал в пивной и не был популярен.
Мама не собиралась забывать Сталина, ведь она считала, что Вождь народов заботился о детских домах и беспризорниках, о целых народах и большой стране, которую боялись и уважали буржуи-капиталисты. Что в восстановлении страны после разрухи и полёте Гагарина в космос была исключительная заслуга великого и справедливого Сталина и советского народа. Не зря же в нашей квартире висел известный портрет вождя, закуривающего трубку.
— «Благодарственная товарищу Сталину!» — торжественно объявляла мама, игнорируя папины замечания, и декламировала:
От героев плодородных пашен
И от всех крестьян страны родной
Ты прими, отец, спасибо наше,
Ты прими, отец, поклон земной.
Ты согрел нас ласкою своею,
Ты сплотил нас в дружную семью,
Научил нас всех любить сердечно
Дорогую Родину свою.
Ты ведёшь нас к подвигам великим,
Ты нас учишь побеждать в борьбе,
Трудовой и ратной нашей славой
Мы, наш Вождь, обязаны тебе!
От героев плодородных пашен
И от всех крестьян страны родной
Ты прими, отец, спасибо наше,
Ты прими, отец, поклон земной.
— Сталин после войны талоны отменил, — приводила мама конкретные примеры. — Каждый год цены на хлеб и другие продукты понижал. При нём была строгая дисциплина. А когда пришёл Хрущёв…
— …Мы получили трёхкомнатную квартиру, — замечал папа.
Мама сердилась и снова говорила:
— Видите, дети, с кем я живу? Слова мне не даёт сказать! Геббельс! Настоящий фашист. Враг народа. Всю мою жизнь испортил… Квартиру нам дал не Хрущёв, а советское правительство, — заключала она.
До этого родители с пятью детьми ютились в маленьком полуподвальном помещении с общим туалетом во дворе в старой части Баку, и только после рождения шестого ребёнка и письма в горисполком они переехали в новую трёхкомнатную квартиру на улице Нефтепереработчиков.
Однажды после очередной маминой речи в защиту светлого имени Великого Сталина Рафик мне сказал:
— Хватит дома сидеть! Пошли другую песню послушаем. — И потащил меня на улицу.
— Куда ты его берёшь? — забеспокоилась мама. — На плохую дорогу?
— На хорошую, — успокоил её Рафик.
— Смотри, чтоб он по плохой дороге не пошёл…
— Не пойдёт, — пообещал брат.
Мне не очень хотелось выходить на улицу: через наш двор часто проходила Больная Света со своими грязными оборванными детьми — мальчиком и девочкой. Видеть её мне было неприятно, а самому попадаться ей на глаза — даже небезопасно. Горловой хриплый голос Больной Светы слышался издалека, но разобрать её речь было невозможно. Её остерегались и боялись дети и подростки не только нашего двора, но и соседних дворов. Больная Света походила на Бабу-Ягу. Для полного сходства ей только метлы не хватало. Зато в своих руках она держала толстую палку или металлический стержень. Её грязные и нечёсаные волосы торчали в разные стороны, как пакля. Такой же грязной была её рваная одежда. Даже Баба-яга в сказочном фильме казалась симпатичнее Больной Светы. Находиться на её пути никто не рисковал: она могла сделать всё, что вздумается. Взрослые рассказывали пугающие истории. Например, что она запросто может избить малолетку-подростка, внезапно накинуться на прохожего. Говорили, как-то пыталась похитить ребёнка из коляски у аптеки. С ней не связывались. Как только юродивая появлялась вблизи нашего двора, раздавалось предупреждение: «Больная Света идёт!» Дети бросали свои игры и разбегались. Двор моментально пустел. В беседке между гаражами сидел Олег в окружении дворовых пацанов с очевидными хулиганскими манерами, курящих папиросы «Казбек» и, по-видимому, находящихся в начале плохого пути, и исполнял под гитару совсем другую песню о Сталине:
Товарищ Сталин! Вы большой учёный,
В языкознаньи знаете вы толк,
А я простой советский заключённый,
И мне товарищ — серый брянский волк.
За что сижу, воистину не знаю,
Но прокуроры, видимо, правы.
Сижу я нынче в Туруханском крае,
Где при царе сидели в ссылке вы.
В чужих грехах мы сходу сознавались,
Этапом шли навстречу злой судьбе.
Мы верили вам так, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.