
Бесплатный фрагмент - Не сущие стены
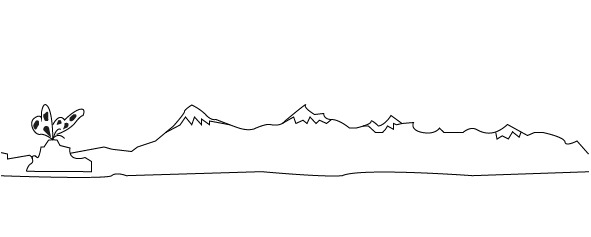
Я смотрю на яркую тропическую бабочку и не верю своим глазам. Её не должно, и не может здесь быть. Но я вижу бабочку так же ясно, как и всё остальное вокруг. Как линии и мозоли на своих руках.
Нельзя. Нельзя верить глазам.
Я зажмуриваю их и открываю снова.
Бабочка никуда не делась. Она продолжает сидеть на камне, иногда помахивая крыльями. Наверное зябнет.
Чтобы убедиться в её нереальности я смотрю поочерёдно то на бабочку, то на серое небо, то камни и снег вокруг. Всё остаётся на своих местах. До тех пор, пока бабочка не перелетает на камень поближе ко мне.
Я пытаюсь вспомнить, что я читал об изменённых психофизических состояниях человека в экстремальных условиях, но в голову упорно лезет только окровавленная тропинка, тянущаяся от места авиакатастрофы.
Сколько мы уже ползём? Два дня? Три?
Оборачиваюсь, чтобы спросить у служителя видит ли он бабочку, а заодно и посмотреть как он там. Но по немигающему взгляду, устремленному прямо туда, где за облачной пеленой проглядывает контур солнца, становится понятно, что он сейчас видит вещи гораздо более приятные, чем тропическая бабочка посреди заснеженных гор.
Стараясь надолго не сводить глаз с бабочки на камне, я поднимаюсь и подхожу к нему.
Он счастлив.
По крайней мере с таким выражением лица служитель отошел в мир иной. Неизвестно для чего я упорно пытаюсь вспомнить хоть какую-нибудь молитву. Но вместо этого в голову, как назло, лезет всякая пакость.
Этот пустой взгляд, устремлённый в вечность, нельзя перепутать ни с чем. Чтобы окончательно удостовериться я присаживаюсь, и не сводя глаз с бабочки пытаюсь прощупать у служителя пульс.
Пульса нет.
Зря я тащил его всё это время на себе. Сколько там мы ползли? Два дня? Три?
Кажется это я уже пытался вспомнить.
Не важно!
Важно, то что я не мог его бросить там. Нас ведь всего двое оставалось в живых.
Он и я.
И наверное он даже просил оставить его и не тащить. Чувствовал, что с раздробленными ногами ему долго не протянуть. Но я не слышал его. Ничего не слышал кроме этой невероятной пустоты, в которой где-то далеко-далеко летит ракета.
Иногда он пел или молился. Красиво наверное пел. Или молился. Все служители красиво поют. Я не слышал как он поёт, но чувствовал, как ритмично вздымается его грудная клетка.
Жаль его. Ну, пусть земля ему будет пухом.
Бабочка перелетает с камня на камень, и я порхаю за ней. После того как ты кого-то тащишь два дня, а потом бросаешь — ощущение невероятной лёгкости.
Н0—0ль
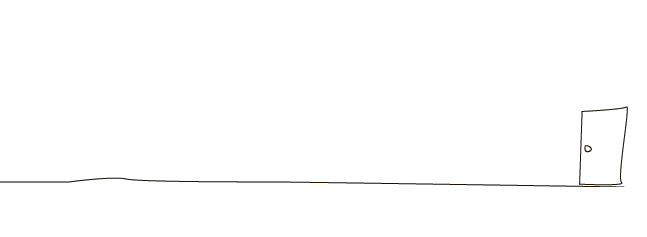
Уверенные шаги смолкают внезапно, прямо перед дверью. Обычной тонкой дешёвой дверью из двух картонок оклеенных под дерево, со звенящей пустотой между ними. Если кто-то с той стороны поднимает сейчас оружие, то эта дверь не сможет задержать ни одной пули. А так, действительно, идеальное место для убийства. Длинный, как продолжение коридора кабинет с обеих сторон уставленный стеллажами, с маленьким зарешеченным окошком напротив двери. Из-за высоченных потолков стеллажей, тянущихся от двери до окна комнаты, кажется, что в кабинете совсем нет места.
Почти так и есть. Здесь помещаются только три крохотных стола с настольными лампами, несколько стульев, на которых навалены папки с бумагами и, притаившийся в тени одного из стеллажей, хозяин кабинета. Шаги за дверью застают его с раскрытой папкой в руках. Он отвлекается от содержимого бумаг и, затаив дыхание, глядит на дверь.
Проходит три мучительно долгих секунды прежде чем раздаётся стук.
Хозяин кабинета захлопывает папку, тем самым надеясь прогнать навязчивое и липкое не то предчувствие, не то ощущение. И, вроде даже как облегчённо вздохнув, говорит:
— Войдите!
Стоящему за дверью приглашение войти слышится как будто изнутри его прокаркали. Хозяин кабинета действительно смахивает на очень осторожную и чрезвычайно умную птицу. Голос у него ломкий, и совершенно сухой. Как будто осень и последние высохшие листья на деревьях ждут дуновения ветра, чтобы они смогли наконец опасть.
Дверь распахивается и в кабинет входит гигант. По-другому этого человека описать трудно. Он очень высокого роста, широк в плечах и дверная ручка в его огромной пятерне кажется просто игрушечной. Дверной проем для него тоже мал и, чтобы войти, ему приходится основательно пригнуться и почти протиснуться боком. Становится ещё сумрачнее, как будто вошедший заслонил собой весь свет, или забрал всё пространство кабинета. Но свет идёт от окна, а в кабинете и без него было тесно. В полумраке ярко и неуместно жизнерадостно светятся новые погоны и шевроны вошедшего, и тускло холодно равнодушным светом светятся усталые глаза хозяина кабинета, по-прежнему притаившегося в тени стеллажей. Оба мужчины несколько секунд смотрят сначала друг на друга, потом одновременно переводят взгляды на пистолеты, лежащие поверх документов, на одном из столов.
Один пистолет в кобуре, другой без. Оба лежат стволами к двери. Оба они выглядят здесь совершенно несуразно. Маленький и серебристый револьвер органичнее бы смотрелся бы в сумочке престарелой, но воинственной бабули, чем в кабинете начальника отдела по особенным делам. Второй пистолет квадратный с длинным тонким дулом уместнее смотрелся бы в деревянной кобуре на боку революционера прошлого века, или в руке матроса, опоясанного пулемётными лентами.
Вошедший откашливается и первым, подняв усталые глаза от оружия, спрашивает, кажется даже, что немного виновато:
— Всё-таки уходишь, Абдулла?
Высокий, (не такой конечно, как вошедший, но всё же достаточно высокий), худой, лысый как колено, морщинистый как высохший баклажан, Абдулла вместо ответа устало моргает равнодушными глазами.
— А ведь я, — говорит вошедший и отводит глаза. — честно признаться, никогда особо не верил во все эти твои бредни. А оно, видишь, как вышло. Торжествуешь наверное?
И если до этого он говорил мягко, то вопрос звучит резко как выстрел охотника в тишине болот. Абдулла равнодушно пожимает плечами и в кабинете снова скрипит его вороний голос:
— Неуместно это сейчас. Да и о чём торжествовать? О том, что слишком многие умерли, а я оказался прав? Пффф….
Абдулла поднимает со стула папку и ставит её в стеллаж. Всё. Места в нём больше нет.
Абдулла отряхивает руки стуча ладонью о ладонь, но на столе и на стульях и даже кое-где на полу лежат ещё папки с бумагами.
— Не будешь разве сдавать дело в архив? — спрашивает великан, вместе с Абдуллой оглядывая комнату.
— Оно ещё не закрыто. — снова пожимает плечами Абдулла. Говорит он совершенно равнодушно, как будто о постройке сарая или о пекущемся пироге.
— Но разве… — начинает было вошедший и его сверкающие шевроны начинают прыгать, пока он активно жестикулирует, пытаясь описать руками масштаб дела и при этом не задеть ничего в кабинете… — Это вот всё! Вот эти вот все материалы, разве не дают нам понимания и возможности…
— Не дают! — обрывает его Абдулла.
Сейчас он ещё больше похож на нахохлившегося ворона. Ссутулился, руки засунул в карманы, локти оттопырил как крылья. Того и гляди вспорхнёт. Но он не вспархивает, а только наклонив по птичьи голову, снизу исподлобья глядит на великана и хрипло каркает:
— Столько людей погибло, ещё больше погибнет, а мы так ничего и не узнали. И уже тем более… — говорит он предваряя немой вопрос великана, — ничего не сможем сделать.
— Ты что сдался, Абдулла? — прищурившись тихо спрашивает великан.
В ответ Абдулла хохочет. Больше всего это похоже на кашель человека полощущего горло. Он продолжает держать руки в карманах и размахивать локтями как крыльями.
— Сдался? — Переспрашивает он отсмеявшись, и обойдя один из столов, подходит к великану вплотную. — Знаешь как мы сейчас выглядим? Ну как выглядит вот это вот всё что происходит?
Великан молча глядит на него, понимая, что вопрос риторический.
— Мы как дерево во время наводнения. — говорит Абдулла и как будто становится немножко выше.
— Что это значит?
— Это потоп, генерал! Такой про, которые пишут в священных книгах и без устали твердят служители. Или в эти бредни ты тоже не веришь? Этот потоп значит то, что тебе невероятно повезло. Смотри: воры, мошенники, убийцы, насильники, грабители, сумасшедшие, доносчики, взяточники, казнокрады, соблазнители, экстремисты, оборотни в погонах, пьяницы, наркоманы, дебоширы, сутенёры и сводники, гадалки, бездомные. Их больше нет! Всё! И ещё долгое время не будет. Кто-то за нас. — Абдулла обводит руками комнату, заваленную бумагами. — постарался и всё почистил. Убрал помехи в работе следствия и оперативных служб. Дал передышку. Списал в архив почти все дела. Закрыл глухари, и представляет вам возможность начать всё с чистого листа. Смотрите теперь не профукайте свой шанс, генерал!
Они оба невероятно легко переходят с ты на вы и обратно. Как люди очень давно знакомые и крепко дружившие, потом потерявшиеся, а теперь вдруг снова встретившиеся, но уже в совсем другом статусе.
— Мне звонят из центра. Им нужны виновные. — сурово насупившись говорит генерал
— Делайте что нужно делать, а не то что приказывают из центра, генерал. Сейчас надо строить новую систему. Виновных искать бесполезно.
Абдулла не хочет спорить. Он говорит устало, как родитель в сотый раз объясняющий непонятливому ребенку почему он не будет покупать ему игрушку.
— Как это бесполезно? Ты же сказал, что дело не закрыто.
— Оно не закрыто потому, что мы ничего о нём не знаем. Все эти бумажки, только констатация свершившихся фактов, да и то скорее всего не всех. Мы не знаем ни что будет дальше, ни настоящих мотивов всего этого дела, ни его участников. Хотя с участниками проще — их больше нет.
— Такое ощущение, что ты покрываешь их, Абдулла!
— Ты ведь никогда не верил моим бредням, да?
Генерал отрицательно мотает головой.
— Они запустили этот процесс ценой собственной жизни.
— Как это?
Абдулла и великан-генерал долго смотрят молча друг на друга. Наконец Абдулла достаёт руку из кармана и чешет ей нос. Потом он набирает в грудь воздуха и продолжая глядеть своему оппоненту в глаза начинает читать по памяти:
— Первым глубокий вдох на рассвете делает тот, кто желает миру добра…
Видя, что его слова никак не отражаются на лице генерала, он усмехается и меняет тон на обычный презрительно-насмешливый:
— На вот почитай на досуге. — и сунув руку в карман плаща достаёт оттуда основательно потёртый блокнот, размером в четверть большого листа, в черной обложке из искусственной кожи.
— Что это?
— Откровения Сан-Себастьяна. Бредни почище моих. Но может ты разберёшь свежим взглядом, то чего не увидел я.
— Тот самый Сан-Себастьян, который…? — спрашивает генерал и не закончив предложение берёт из рук Абдуллы книжку, открывает её на середине и начинает перелистывать страницы исписанные каракулями.
Абдулла усмехается и отходит к столу. Пока великан возится с книгой он собирает фотографии. Молодой Абдулла с женщиной, детьми и собакой, Абдулла чуть постарше с собакой, Совсем сморщенный Абдулла с другой женщиной и другой собакой. Совсем молодой Абдулла в кругу мужчин с оружием. Среди мужчин присутствует и великан. Он молодой, улыбающийся с залихватским чубом и с автоматом в каждой руке.
Сам же великан, постаревший, сильно поседевший и невероятно серьезный, вертит блокнот, переворачивая его вверх ногами и обратно. Перелистывая страницы он мрачнеет с каждой секундой.
— Тут всё как будто зашифровано. — говорит Великан обижено.
И на секунду Абдулла видит его ребёнком, обнаружившим под ёлкой совершенно не тот подарок, о котором мечтал. Моргнув, Абдулла прогоняет видение прочь и продолжает запихивать фотографии в рамках в безразмерный карман своего плаща.
— Там последние четыре страницы — ключ к шифру. Три дня почитаешь с рамкой — потом будешь читать как на родном языке.
Фотографии никак не лезут в карман, упорно цепляясь рамками за края кармана, но в конце концов сдаются, и Абдулла, протянув руку, хватает с вешалки, притаившейся в углу, и набрасывает себе на шею вязаный полосатый шарф с топорными узорами по краям. Берёт со стола пистолеты, один из которых в кобуре, другой без; поворачивается и натыкается на суровый взгляд великана.
— Оружие пойду сдам. — говорит Абдулла и генерал вынужденно отступает, чтобы пропустить его к двери.
Я вижу всё это, потому что он хочет этого. Он сам хочет чтобы мы все это видели.
— Твои клиенты шалят, Абдулла? — спрашивает усталый седой полицейский, когда Абдулла кладёт на стойку пистолет в кобуре и проталкивает его в зарешеченное окошко.
— Отшалились уже. — совершенно бесстрастно говорит Абдулла и смотрит в телевизор, за спиной седого. В телевизоре показывают какое-то непонятное помещение усыпанное пылью.
— Ты что кекнул их и теперь на покой с чистой совестью?
— Вроде того. — говорит Абдулла и нагибается над просунутым ему в окошко журналом.
— Так и не вытащил небось из кобуры ни разу. — говорит седой вертя в руках блестящий чёрный пистолет. — Выглядит как новый.
Этот пистолет ни капли не похож ни на один из тех, что несколько минут назад Абдулла вынес в руках из своего кабинета.
— Ты же знаешь. Не люблю я этого. — морщится Абдулла.
— Наградные-то забрал?
Вместо ответа Абдулла кивает.
— Говорят, из наркотического вообще никого не осталось. — сообщает внезапно седой полушепотом, максимально приблизившись к окошку. При этом он с подозрением оглядывается по сторонам. Но подслушивать их некому — в полицейском управлении царит непривычная тишина. Абдулла вместо ответа равнодушно пожимает плечами.
— Я думаю вот что. — седой оглядывается по сторонам и ещё тише говорит: — нам всем надо «спасибо» им сказать…
После паузы он снова оглядывается, на этот раз далеко вытягивая шею, и не увидев никого кроме Абдуллы продолжает:
— Столько людей умерло, это конечно печально.
При этом седой кивает на телек в котором какие-то люди в медицинских масках подметают пыль очень похожую на пепел и собирают всё это в мешки.
— Но если подумать, по большинству своему, людишки то были совсем никудышные. В основном опасные, вредные и…
— Мы по большинству все такие. — нетерпеливо перебивает его Абдулла. И захлопнув журнал возвращает его в окно. — Но какое-то время да, будет полегче. А там уже всё зависит от вас.
— Ты так говоришь, как будто ты тут совсем ни причём.
Абдулла молча возвращает ручку, протягивает руку седому, которую тот пожимает.
— Это одновременно и услуга и возможность и проклятье. — говорит Абдулла совершенно будничным тоном. Как будто диктует составляющие какого-то рецепта.
— Всё, как обычно, да? — огорчается седой полицейский и нахлынувшая было на него бодрость вдруг испаряется, отчего он делается ещё более уставшим чем был вначале.
— Именно! — подтверждает Абдулла и желая завершить разговор проталкивает в окошко журнал
— Странный ты, Абдулла.
— Как обычно.
— Давай. Успехов тебе! — говорит седой и наконец забирает журнал.
Абдулла усмехается, но головой в знак благодарности всё же кивает, поднимает руку в прощальном жесте и пижонским движением закинув за спину шарф он направляется к выходу.
В телевизоре, за спиной седого полицейского уже склонившегося над журналом, что-то беззвучно рассказывает плачущая женщина. Слёзы оставляют яркие борозды на пыльных щеках. За её спиной по квартире облаком летает пепел.
— … Однако пока никто ни из учёных ни из военных не взял на себя смелость прокомментировать ситуацию. Также пока неизвестно и точное количество погибших. Пострадавших от этого необычного массового самовоспламенения нет, ущерба на удивления тоже. Огонь необъяснимой природы не затронул ни мебель, ни одежду, ни другие предметы обихода. Уже появилось несколько десятков версий от различных оккультных и эзотерических деятелей, которые однако не выдерживают никакой критики. Коллектив нашего телеканала также понёс невосполнимые потери творческих и технических работников. Мы вместе со всеми всецело скорбим по безвременно ушедшим и соболезнуем их близким. Вам же, дорогие наши телезрители, искренне рекомендуем не верить непроверенным фактам, слухам, не паниковать и не поддаваться на провокации. Оставайтесь с нами, чтобы следить за последними актуальными новостями, проверенными фактами и комментариями специалистов….

Закономерности вырастают
Клюв стучит по железу так, как будто кто-то изо всех сил долбит в треснувший колокол. Как им это удаётся, подбирать крошки тихо, и ещё умудряться мило курлыкать и выглядеть при этом естественно? Смотрю на своё отражение в стекле и ничего не вижу. Это всё потому, что у птиц зрение устроено совсем по другому, совсем не как у людей. Сплошные узоры, узоры, узоры.
Тепловые узоры, накладываются на навигационные, ситуационные, событийные, тропинки-узоры людей, животных, и других птиц. Это только те, из видимых линий, которые я понимаю. А там есть ещё куча каких-то вообще непонятных. Но если как следует сосредоточиться и как следует понаклонять голову туда-сюда, то можно видеть какие-то совершенно обычные и привычные человеку вещи. Но они всё равно выглядят так, как будто их рисовал художник с патологической страстью ко всяким завитушкам и мелким деталям. Наконец, вместо своего отражения, вижу как внутри комнаты девочка хлопает в ладоши. Ей около пяти лет. Как раз такой возраст, когда можно совершенно искренне радоваться тому что три дня подряд на окно прилетает голубь, поесть рассыпанных для него крошек.
Как же всё-таки тесно и непривычно быть голубем. Совершенно внезапно крылья распахиваются сами по себе и делают несколько взмахов. От этого все крошки слетают с подоконника куда-то вниз. Часть из них обязательно попадает на балкон восьмого, туда где за ящиком с пустыми бутылками притаился жилистый и бесшумный, полосатый и страшный кот. Его нет в поле моего зрения, но несколько красных извилистых линий указывают на то, что он там и готов начать охоту в любой момент. Узорами я вижу возможные траектории его прыжков и дальнейших событий. В большинстве случаев он ловит птицу, но при этом всё равно оказывается за балконом.
Бррр.
За окном внутри квартиры девочка дёргает за халат свою маму. По обиженно оттопыренной губе видно, что она собирается вложить всю свою детскую силу в эту просьбу. По её губам я читаю:
…Такой милый! Давай возьмём его…
Если научился читать по губам, то всегда будешь уметь это, даже если ты ящерица. Но я не буду досматривать чем всё это кончится. Смысл? После того, что произошло со всеми этими внезапно полыхнувшими изнутри людьми, не то что брать домой, даже подкармливать голубей опасно. Откуда им знать, может именно мы разносим всю эту заразу.
О! Вот это номер! Я уже начал делить их и нас.
Вроде как я голубь, а они люди! Ахахах!
Нерешительно потоптавшись, всё же срываюсь вниз. Сколько раз летаю и всё равно каждый раз в горле ком, в желудке тянет и неимоверно страшно перед прыжком. Но это всё фантомные ощущения. Человеческие. Не птичьи.
Птица ныряет вниз без всякого страха, она распахивает крылья, и ловя воздушные потоки, твёрдо скользит между домами. Это человек внутри птицы паникует и боится. Но в этом ничего стыдного нет. Я привык к тому, что есть надежные стропы, проверенный купол, запасной парашют и допустимая высота. Понятные какие-то механизмы и понимание, что всё скоро закончится. Внутри голубя всё по другому. В этой вот ситуации главное не поддаваться панике и не начинать судорожно делать глупости, а молча наблюдая, дать птице возможность просто делать то, что она умеет лучше всего.
Летать.
И вот как раз сейчас, пролетая мимо длинного застеклённого балкона, я пытаюсь разглядеть себя. Издалека в отражении вроде обычный городской голубь. Ну и хорошо. Просто отлично. Нельзя выделяться. Наш клиент, то ли слишком суеверный, то ли слишком умный, то ли везёт ему нещадно. Скорее всё вместе. Четыре раза уже уходил и потому сегодня всё должно быть наверняка. Другого раза уже не будет. Именно поэтому я не ворон, хотя быть вороном… ну это совсем другое, хотя и художник тот же и тесно почти так же. Но спасибо, что хотя бы не воробей. Вот уж где настоящее паскудство.
Но тут самое главное, что от задания отвлекаться нельзя.
Громко хлопая крыльями приземляюсь на козырёк хлебного. Прямо в середину голубиной стаи. Несмотря на чистоту и отсутствие еды, голубей здесь всегда невероятное количество. Тянет их сюда почему-то. Запах видимо. Затеряюсь среди них и не привлекая внимания буду делать свое дело.
Приземляюсь, значит, и приветственно курлыкаю. Птахи отрываются от своих нехитрых дел, замирают и несколько долгих секунд смотрят на меня. Не знаю, что уж они видят, но видимо тест свой-чужой я не прошёл и они, сорвавшись всей стаей, улетают куда-то на юго-восток.
Ну и ладно, ну и хрен с ними. Буду одинокий голубь на карнизе за окном.
Вылезаю и сажусь на козырёк.
На противоположной стороне в окне торчит кот. Наверняка этот засранец целыми днями глядит через дорогу на голубиную возню и мечтает хотя бы на минуту оказаться здесь — на козырьке. Кот заметил и пялится на меня. Отсюда вижу, как у него расширяются глаза и он, пятясь назад, цепляет раскидистый цветок в большом горшке и вместе с ним пропадает с подоконника.
Хреново это.
Если всё животное видит что-то неправильное во мне, почему бы нашему клиенту это тоже не почувствовать и не сорваться с крючка в очередной раз.
Придётся применить тактику ястреба. Конечно, голубю это будет совсем не просто. Зрение никудышное, да ещё и эти узоры бесконечные. Но вариантов, средств и времени нет совсем. Работаем, как обычно, с тем, что есть.
Перемещаюсь. Узоры хитро устроены, надо только понимать по какому из них лететь, а какого остерегаться. Вот я поднимаюсь, заворачиваю на виток первой спирали и еле успеваю разминуться с двумя сороками.
Откуда они только взялись?
А-а-а! Летели по вот этому неприметному прерывающемуся узору. Тоже четко по курсу идут. Всё как в большой авиации, только вместо диспетчеров, переговоров и прочего — разные линии, витиевато написанные в воздухе неизвестным художником. С птицей делаем ещё один манёвр. (А! Это мы облетали провода) И вот теперь можно подниматься наверх.
Не дёргаться! Не дёргаться!
Надо расслабиться. Сосредоточиться на главном. А управление полностью отдать птице. Там тело натренировано махать крыльями, знает как летать, приземляться и прокатывать среди птиц за своего. А я чем больше стараюсь тем хуже получается. Да, да, да надо помнить про баланс и контроль: я обо всём помню и всё контролирую — птица летает. Я наблюдаю, командую и координирую — птица выбирает оптимальный путь, угол, наклон и скорость ветра… Такая вот у нас пернатая и весёлая команда. Не без шероховатостей и недопониманий, конечно. Но уж как есть.
С крыши ближайшего дома тот же самый вид на площадь и примыкающие к ней улицы, только повыше чем с козырька хлебного. Отдать выбор места и приземление птице было хорошей идеей. Голубь приземлился так ровно и плавно, что сородичи сидящие на этом же карнизе и глазом не повели. Вниз в прохожих, правда, приходится вглядываться изо всех сил, а голубиными глазами это, ох как, непросто. Но кто говорил, что будет легко? Зато здесь я незаметен, высоко, среди важно воркующих соседей.
Через некоторое время на козырёк хлебного начинают снова собираться те дурачки-голуби, которых распугало моё первое приземление. Пусть собираются — это хорошо. Когда начнётся заварушка — будет прикрытие. Крылатая завеса. На всякий случай. Но это я наверное просто нервничаю, нужно заняться делом, обидно будет упустить клиента.
После нескольких безуспешных попыток мне наконец удаётся настроить птицу следить за людьми, а не за другими голубями, погодой, едой и солнцем. Когда видно только людей и их узоры не обязательно быть даже ястребом. Вот поток в одну сторону, вот в другую. Люди идут по своим людским делам одни туда, другие обратно, третьи им всем наперерез. Вот петляющий кто-то. Это мальчишка какой-то на скейте.
Несмотря на недавнее мероприятие по массовому сокращению населения, которое все зовут этим пафосным «Вдохом на Рассвете» — народу на улицах как-то особо не поубавилось. Или это только здесь — в центре.
Первые несколько дней, конечно, практически никого не было. Улицы были пустынны. Почти из каждого окна раздавались рыдания, да изредка, с криком, пробегал какой-нибудь человек или медленно брела плачущая женщина. Сейчас попривыкли и вывалили на улицу.
Люди ко всему привыкают.
На одной из улиц появляется знакомая фигура.
У голубя как-то особенно стукает сердце. Так-так, приготовились, приготовились. Голуби-дурачки на козырьке тоже заворочались.
Когда фигура подходит, самый жирный из голубей с козырька слетает вниз.
Так стоять! Тут что-то не то. Еле удерживаю птицу, готовую поднять панику и стрелой броситься вниз, туда, где дедушка достаёт из кармана плаща кулек с сухим хлебом и начинает крошить его. Голуби с козырька радостно гомоня слетаются ему под ноги. Понятно теперь, чего они там трутся всё время. А мы пока есть не будем. Впереди у нас важное дело, нельзя быть отяжелевшим и отвлекаться на ерунду. Хотя желудок и говорит обратное.
Голуби, сидящие рядом со мной на крыше, то ли слишком сытые, то ли у них свой дедушка, но они не летят вниз. Они с важным видом расправляют крылья и пускаются в полет. Лететь за ними или что? Нельзя упустить клиента, но и торчать тут, когда все сорвались тоже подозрительно.
Упустить или спалиться? Вот в чём вопрос.
Но очевидно это вопрос только для меня, а не для птицы. Вот она видит перед собой свою полетную дорожку, точнее мы оба её видим. Но пока я думаю, птица просто расправляет крылья и устремляется за сородичами.
Куда мы?
Круг над площадью?
Ну предположим, что круг над площадью действительно можно дать, почему бы и нет?
Это до сих пор удивительно чувствовать чувствами птицы. Ты не знаешь ни одного названия улицы, но зато точно знаешь, где север, как лететь, кто командир, где твоё место в стае и как не столкнуться с другими. Ориентируешься по каким-то неуловимым для человека ориентирам, видишь вообще все вокруг, но сосредоточиться не можешь ни на чём, и всё движущееся воспринимаешь в общем. Вот внизу прямо под нами идёт знакомая фигура, ни деталей, ни каких-то конкретных черт уловить нельзя. Вот же, птичье чутьё. Нужно спуститься чуть пониже. Наш дедушка или кто это? Фигура выходит с северо-западной улицы на площадь. Плащ, блестящая лысина, походка в развалку, левая рука в кармане, правая машет в такт шагам, как будто что-то ищет в воздухе. Военный? Где я его видел? Яркий шарф, неброская внешность.
Стоп!
Шарф не яркий. Шарф такой же неброский, как и вся остальная одежда. Люди видят этот шарф совершенно обычным, а вот птичий художник разрисовал его так, что любая птица издалека видит, что лучше держаться подальше от него и его владельца. Шарф заряжен по самое немогу.
Ооооо!
Вся стая чувствует это и меняя на лету траекторию уходит за дома. Линии нарисованные в небе голубиным художником меняются моментально. И для всех птиц эти линии идут одинаково — огибая как можно дальше площадь на которую прямо сейчас вступает лысый.
Фигура замедляет шаг и начинает озираться.
Тихо, голубь, лети тихо!
Сердце, перестань так колотиться. Выдох! Нужно сделать выдох. Легко сказать! Когда ты птица — вдыхать — выдыхать бесполезно. Кислород не успокаивает. Я бы вжал голову в плечи если бы они у меня были, но я и так маленький сизый голубь в стае таких же точно сизых голубей. Фигура начинает поднимать взгляд и оглядывать верхние этажи зданий.
Редкие прохожие издалека обходят его, а он стоит, засунув теперь уже обе руки в карманы, и смотрит в небо.
Так! Спокойно!
Он меня не видит. Я вне поля его зрения. Мы ушли за крышу дома. Десять секунд и мы вынырнем. Главное чтобы он за это время не ушёл.
А он ли это?
Да он! Кому же ещё быть?!
А вдруг не он?
Ладно сейчас проверим. Выныриваю вместе со стаей из-за крыши. Он всё ещё стоит и озирается.
Сейчас или никогда?!
Сейчас!
Я меняю траекторию и прямо передо мной появляется одинокая линия. Она красная, она таит опасность она не уходит как все другие далеко-далеко.
Она обреченно обрывается над площадью.
Вариантов не много. Точнее их совсем нет.
Но мне и не нужно жить долго и счастливо. Тем более внутри птицы.
У птиц вообще нет особого понимания будущего. Они очень просто относятся к жизни и ещё проще к смерти и риску.
И самое главное, что у меня в руках все тумблеры управления, поэтому у птицы совсем нет выбора и она послушно выходит на красный курс.
Сигаю вниз с высоты и камнем несусь на другой конец площади под ноги дедушке, бросающему хлебные крошки голубям.
Бойтесь, дурачки, я ястреб!
Ничего не подозревающие голуби, подбирающие крошки с асфальта, приближаются со стремительной скоростью. Во время своего пикирующего снижения, успеваю посмотреть в сторону. Там на другом конце площади, озирающаяся фигура как раз стоит ко мне спиной и довольно далеко. За пару человеческих ростов до земли я резко распахиваю крылья, чтобы затормозить ими.
Хлопок.
Для меня и для голубей этот резкий хлопок как самый главный сигнал об опасности.
Ох, как по крыльям то дало!
Надо беречь себя. Глупо будет запороть всё в самом начале. Перепуганная стая с шумом поднимается в воздух прямо из-под ног обескураженного дедушки.
Голубиное сердце колотится как бешеное, с такой частотой, что мне начинает казаться, что это не сердце стучит, а ревёт двигатель маленького одномоторного самолетика.
Паника! Паника!
Вокруг меня носится около полусотни таких же встревоженных и обескураженных самолетов. Мне кажется что нужно внести ещё больший хаос. Поэтому я пикирую, планирую, ношусь мимо голубей. Что удивительно, несмотря на панику и неразбериху, и сеть из красных линий в воздухе, никто не сталкивается и даже не задевает друг дружку крыльями. Невероятных усилий нашей пернатой команде (мне и голубю) стоит сохранить этот шаткий баланс, когда я командую, а птица делает. Каждый хочет дернуть рычаг управления на себя. Но отвлекаться нельзя. Мы в деле!
Голубиная стая поднимается всё выше и выше. Никто из спешащих по площади людей не смотрит в воздух кроме лысого и дедушки. Старик стоит разинув рот, и хлеб, уже целым куском, из его скрюченных пальцев падает на землю.
А этот с шарфом не прост, он напряженно прищурившись шарит по стае ища особенного голубя. Он ищет меня.
Точно наш клиент!
Невероятно цепкий и неприятный взгляд хищника у него.
Странное у тебя зрение, когда ты птица-жертва. Всегда сразу схватываешь самую суть.
Теперь он — Хищник.
Хищник нервничает. Хищник оглядывается по сторонам. Хищник хватается за шарф. Хищник чувствует, захлопывающуюся, ловушку. Я пикирую немного пониже, пролетаю мимо, до сих пор бестолково мечущихся, голубей и даю ещё один круг вокруг Хищника, медленно снимающего шарф со своей шеи.
Когда ты голубь, ты не видишь людей насквозь, но зато у тебя невероятной силы интуиция. Это тоже отдельные линии прорисованные художником.
Тут невозможно ошибиться — единственный человек из всех прохожих, нервничающий вместе с голубиной стаей, не может быть ни кем иным кроме как нашим клиентом. Пока он пытается отыскать меня в пернатой толпе, я пролетая прямо над ним ставлю метку.
Обычную такую голубиную метку.
О! Это не просто так всё. И это последняя проверка. Вместо того чтобы осмотреть себя или начать отряхиваться, Хищник не глядя довязывает узлы, и поднимает шарф на вытянутых руках над головой. На метку он не обратил ни малейшего внимания. Он совсем перестал видеть людей, и всё остальное вокруг себя. Для него, как и для меня сейчас нет ничего кроме противостояния.
Отсюда сверху я вижу, что он начинает что-то бормотать. Свободный конец шарфа в несколько оборотов намотан на правую руку, левая рука держит шарф как раз перед узлом. Удобная и опасная вещь. Эдакая неприметная, легальная и простая в изготовлении палица. Легким движением руки удлиняющаяся и укорачивающаяся. Страшное оружие в руках мастера.
Он так и стоит. С вытянутыми вверх руками и длинным белым пятном начинающимся на плече и медленно стекающим по серому плащу.
Немногочисленные люди, как будто чуя приближающуюся угрозу, стараются обходить его как можно дальше. Их линии, как линии птиц ведут в обход площади с Хищником, раскручивающим шарф. Только всё отличие между нами в том, что они их не видят.
Голуби разлетелись. На площади наступает внезапная тишина. Капля птичьего помёта капает с полы плаща на землю.
Всё. Ловушка захлопнулась.
Охота началась.
Я кружу как ястреб над застывшим с шарфом мужчиной, являясь одновременно наблюдателем и живым маяком для охотников. А они уже здесь. Наконец-то. Ожившие статуи. Бледные, спокойные и существующие с одной единственной целью — убивать. По двое они приближаются к площади с прилегающих улиц. Слившихся с жиденькими потоками людей и поэтому пока невидимых для Хищника, я узнаю их — на птичьих рисунках они совсем другие. Как будто наспех заштрихованные ребенком среди аккуратно раскрашенных фигур людей из сотен маленьких завитушек. Я стараюсь зависнуть как можно выше. Для охотников я маяк, для Хищника метка. Буду тут кружить, пока всё не закончится. По крайней мере изначально план был такой.
У Хищника отличное чутьё. Он всё понимает. Его бормотание переходит сначала в пение, потом в крик, а потом и вовсе в визг и прохожие шарахаются от него. Он раскручивает свою шарф-палицу и некоторые прохожие начинают вспыхивать. Явно, колдовство — не его тема. Вспыхивают и тут же гаснут на людях только лишь фрагменты одежды. Ничего смертельного, но некоторую панику наводит. Особенно в свете последних событий. На отвлекающий манёвр тоже не похоже. Слишком серьёзно он старается.
Время замирает. Ветер застывает между перьями. Крик Хищника становится практически видимым. Охотники разрывая пространство рвутся к Хищнику, пока он всех не угробил. Тот пускает вторую волну огня. Здесь получается чуть получше и некоторые люди даже целиком вспыхивают. Правда не ярко и не надолго. Сгореть никто не сгорит, но волосам и глазам приходится не сладко. Сейчас начнётся паника. Наверное Хищник кажется людям внизу огненным смерчем, карой небесной или стихийным бедствием. Но сверху это просто отчаянный зверь загнанный в ловушку. И именно из-за его отчаяния нужно быть особенно осторожным. Он может вычудить что угодно и уйти через самую малюсенькую щель.
Охотники, расталкивая начинающих паниковать людей локтями, рвутся убивать. Но они всё ещё далеко. На третий круг Хищник вкладывает в шарф всю свою силу. Мне тут сверху видно, как физически ему тяжело вращать эту самодельную палицу. Хищник утробно рычит и пытается воспламенить кольцо людей вокруг себя. Но на этот раз совсем ничего не выходит, только дедушка на другом конце площади, схватившись за сердце, падает. Прямо на хлебные крошки у себя под ногами, туда, где минуту назад он кормил голубей.
Птицы чувствуют всё совсем по другому. Например слышат они так себе, однако, кроме обычного видят и на секунду две вперёд. Вот я вижу, что сделает Хищник в ближайшие пару секунд и стараюсь держаться у него за спиной когда он вращается. Сейчас он поймет, что прикрыться пылающим щитом не получится и будет пытаться затеряться в толпе, смешаться с ней. А я ему буду мешать. Я должен быть маяком для охотников, Хищник слишком хитрый, чтобы отпускать это дело вот так. Чтобы быть одновременно над хищником и у него за спиной мне приходится держать высокую скорость, а этого можно достигнуть только постоянно снижаясь. Он же вертится всё время и гораздо быстрее меня, и в какой-то момент меня втягивает в воронку, Хищник чувствует это и невидимый поток выпущенный из шарфа летит прямо в меня. Я увиливаю один раз, увиливаю второй.
Э-ээй, уважаемый! Не слишком ли много внимания несчастному голубю?
В конце концов случается то, что и должно было случиться — наши траектории, моя и невидимого горячего заряда, пересекаются. Поток обжигает, щекочет и давит изнутри. Перья вспыхивают как сухое сено. Это неприятно, это возмутительно и обидно, сердце начинает бешено колотиться.
Но не время поддаваться эмоциям, не время умирать. Охотники уже совсем рядом, нужно продержаться ещё чуть-чуть. Но птица не поддаётся, приходится совсем вытеснить её и взять всё управление в свои руки. Ощущение такое как будто управляешь чем-то невероятно сложным вроде самолёта, глядя через чулок на голове, смотря в зеркало, сидя за дверями кабины пилотов. На секунду мне кажется, что я снова слышу свист приближающейся ракеты, но это просто свист ветра вокруг падающей птицы. Премерзкое ощущение, но выбирать вообще не из чего. Нужно дожать! Пока есть возможность управлять своей горящей тушкой я направлю себя на таран. Прямо в удивлённое лицо хищника. Все рефлексы бунтуют. Всё внутри говорит что нужно лететь отсюда, подняться повыше, расправить крылья, махать ими пока не потухнет огонь. Но я вопреки всему прижимаю горящие крылья к пылающему корпусу и чуть подруливая горящими кончиками и обугленным хвостом целю прямо на хищника. Он вздрагивает и пускается бежать.
Это победа!
Маленькая. Незначительная. Бесполезная.
Но победа!
Он бежит!
Я говорил же да, про способность предвидеть всё на две секунды вперёд? Вот теперь мы с хищником соревнуемся в этом. Хотя какое это соревнование? Корректировать движение уже невозможно и я лечу пылающей пулей в удаляющуюся спину. Нужно чуть подкорректировать траекторию, чтобы достать. Чтобы догнать. Чтобы успеть за ним.
Хищник делает самое худшее, что может сделать человек в такой ситуации. Он отключает интуицию и предпочитает действовать разумом. Или рефлексами. Выучка, видимо, говорит ему, что нужно бежать зигзагом. Последние самые драгоценные минуты своей жизни человек доверяет знаниям полученным в самые депрессивные и темные годы своей молодости. Уж мне поверьте, интуиция вернее всяких рефлексов. Особенно если это интуиция горящего голубя.
Э-эээ-хдыщь!
Удар!
Дотянул! Чётко промеж лопаток.
Хруст.
Наверное это мой позвоночник хрустит.
Рикошетом отскакиваю от спины Хищника и пока угасает мир, в круговороте неба и земли, успеваю увидеть, что охотники уже здесь.
Мир тухнет с ощущением железной плиты небрежно наброшенной на голову.
Я вдыхаю.
Непривычно.
Как будто после нескольких лет отсутствия вернулся в пустующую квартиру, в которой перекрыты краны.
Пыль. Кругом пыль и засуха.
Пить. Как же хочется пить! Пытаюсь облизнуть пересохшие губы, но язык распух и не слушается. Открываю глаза. Как будто кто-то резко распахнул тяжелые шторы в давно покинутой квартире. Поднявшаяся пыль и яркий свет больно бьют по глазам и очень хочется их закрыть. Но глаза должны быть открытыми. Это тяжело, но всё-таки чуть легче чем ворочать языком. Из полутьмы ко мне наклоняется фигура в капюшоне и протягивает надо мной пятерню.
— Пи-и-ить! — пытаюсь произнести я, но горло пересохло настолько, что ни единого хрипа даже не вырывается. Ладонь, мягкая, тёплая и успокаивающая — опускается мне на лоб и закрывает собой свет. Становится совсем темно и опять ощущение, что глаза закрыты. Закрыты давно, так что веки почти слиплись. Пытаюсь открыть глаза, и разлепить веки. Теплая рука всё ещё лежит на голове. Но теперь это другая рука и как будто лежит уже на затылке. Пить хочется чуть меньше. Снова пытаюсь облизнуть губы, теперь язык слушается, но самих губ нет. Язык охватывает нос и в мозг врывается ураган запахов. Затхло, тухло, воняет людьми, немытыми телами, потом, больными желудками и зубами. Как будто гнойными нарывами. Тухлыми овощами, деревом, топливом и пылью. Очень пыльно. Чихаю и глаза открываются сами собой. Справа от меня лежит человек. Теплая рука поднимается с его лица.
Странное у него лицо. Недоброе совсем, голодное, больное и грустное. Открытые бесцветные глаза смотрят невидящим взглядом вверх перед собой. Дышит. Человек дышит. Как будто болеет он, как будто чего-то в нем не хватает. Тёплые руки треплют меня за холку. Пить хочется страшно. Но ласковые руки становятся стальными и толкают на выход. Нет времени. Нужно бежать. Быстрее! Свои в опасности! Скорее, туда где лают огненные псы! На помощь, скорее! Это не мои мысли, но игнорировать их нельзя. Они как стальные руки на холке толкают вперёд. Это мысли Вожака! Кто-то близкий и дорогой в опасности и нужно очень поспешить, чтобы его спасти.
Рывок и я спрыгиваю на землю. Ноги подкашиваются и я чуть не разбиваю челюсть об асфальт. Воздух, пахнет улицей, здесь ходит много людей, ездит много машин, откуда-то издалека тянет выпечкой и едой. Но нужно не туда. Огибаю фургон. Снаружи фургон пахнет ещё хуже чем внутри. Тот человек, который лежит в фургоне — я!
Это я лежу там на спине и смотрю перед собой невидящим взглядом. Тело по привычке дышит, а я здесь.
Я в этом псе.
Если я здесь значит все не просто так.
Быстрее, быстрее! Нужно собраться и бежать. Мимо фургона, за угол направо. Знакомый запах, свои. Ждут. Лаю дважды, как и было условлено. Но тут, несмотря даже, на пересохшее горло лай выходит звонким. Трое из арки между домами выныривают за мной. Два длинноногих поджарых кобеля и одна маленькая шавка впереди.
Гоним! Гоним! Свои в опасности. Лай огненных псов всё ближе. Лапы упруго подкидывают меня и несут легко и быстро. Через дорогу, пока нет машин, сворачиваем во двор. Тут сильно пахнет палёной тканью и опять каким-то топливом. Навстречу нам быстро идут разрозненные и взволнованные люди. Они опасны, они дёргаются, они пугаются, они непредсказуемы. Нужно держаться от них подальше. Делаем крюк, огибая их, но люди так взбудоражены, что не обращают на стайку бродячих собак никакого внимания. Посреди двора на детской площадке столб. Пока я был голубем — всегда сидел тут, ждал пока мама разрешит маленькой девочке насыпать крошек на кухонный подоконник. И всегда смотрел как гуляющий породистый и лощеный кобель больше похожий на шар задирает перед этим столбом заднюю ногу.
Огненные псы гавкают всё реже, злее и громче.
Уже, мы уже тут! Стаей вырываемся на площадь, взволнованных людей здесь почти уже не осталось. Сильнее пахнет жареным и горелым. Ускоряемся и быстро проскочив пустую площадь заворачиваем во двор. Можно уже не бояться привлечь чьё-то излишнее внимание. Мы совсем близко к цели, так что можно действовать совершенно открыто.
Времени на маскировку нет совершенно, пригибаясь к земле прячась за пылающими трупами пробираются во двор охотники.
Свои.
Судя по нескольким догорающим трупам, от которых тянет жареным и горелой синтетикой, наш клиент всё-таки разобрался как работает шарф. А значит будут жертвы.
Плохо.
Мы как мохнатая змея скользим мимо пригибающихся к земле фигур с оружием. Огненные псы. Люди любят их. Те хранят их покой. Но люди боятся других людей, и когда от страха невозможно уже никуда спрятаться — огненные псы начинают лаять. Псы лают, люди падают, люди умирают, люди боятся ещё сильнее. Люди прижимают огненных псов ещё ближе к себе. Но бесконечно бояться нельзя. Мы выходим мимо припаркованных во дворе машин на детскую площадку, где так же пригибаясь к земле, прячась за детскими тренажерами бежит в сторону от песочницы человек с прожжённой на спине дырой в плаще.
Чужой! Ату его!
Чужак успевает добежать до арки, ведущей в соседний двор, и нырнуть в неё. Когда туда врываемся мы он уже ждёт нас. Охотников. Обратная сторона арки закрыта решёткой.
Был хищник, стал чужак, а теперь дичь. Но это совсем непростая дичь. Стоит твёрдо, смотрит спокойно, в вытянутой руке зажата наша смерть. Один из огненных псов смотрит своей черной пастью в нашу сторону. Шарф зажат в другой руке. Или он не надеется на него, или там кончился магический заряд. Кто его знает, как все эти колдунские штуки устроены?
Сейчас главное не останавливаться и не сбавлять темп, тогда есть возможность успеть. Дотянуться до него прежде чем…
Лает огненный пёс. Дважды. Я успеваю проскочить, а самый большой из кобелей падает. Хорошо, что они оба глухие. Не боятся выстрелов. Без отрыва следуют за выкормившей их шавкой. Время привычно останавливается и всё, как обычно, происходит очень медленно. Длинный тонкий ствол медленно поднимается от отдачи, дымящаяся гильза медленно падает по красивой траектории.
Но торопиться нельзя, а то можно всё испортить.
Осталось немного. Кровь гремит в ушах. Сердце вот-вот взорвётся от перенапряжения. Все силы в лапах, в быстроте в координации. Сейчас главное успеть.
Над головой грохочет ещё один выстрел. Лапы путаются и я кубарем пролетаю мимо чужака.
Когда подселяешься в животное вот так вот, без должной подготовки, такие досадные накладки происходят постоянно. Не стоило так сосредотачиваться на лапах, как обычно, это кончается тем, что я спотыкаюсь и валюсь кубарем. Что-то железное звякает совсем рядом со мной. Чужак теряет ко мне интерес. Скорее всего он решил, что я мертв. Похоже это один из тех немногих случаев, когда неуклюжесть спасла мне жизнь. Не мне. Псу. Отсрочило его смерть ненадолго.
Чужак палит по рычащей шавке, мечущейся из стороны в сторону. Второй кобель подбит, и скуля уползает назад в сторону детской площадки, волоча задние ноги. Не время рассматривать и медлить. Времени нет. Ползком. Не привлекая внимания.
Не дергаться! Не рычать! Не спускать глаз! Не скулить!
Зайти сбоку справа. Собраться. Прыгнуть. Зубами вцепиться в шею.
Человек вскрикивает и начинает тихо рычать пытаясь одновременно скинуть меня и стараясь не терять из виду других нападающих. На что он надеется?
Тёплая солёная кровь обжигает пасть. Как же хочется пить, но пить нельзя — хват главнее. Хват нельзя ослаблять. Нужно держать! Держать изо всех сил.
Сердце бешено колотится, но в голове всё кристально ясно. Человек слабеющей левой, с зажатой в ней шарфом, пытается стряхнуть меня. На правую я навалился всей тушей и прижал собой пистолет. Сколько там патронов? Он успел вставить новую обойму, когда мы ворвались в арку? Не обратил внимания, хотя надо было.
Человек пытается ухватить меня за глаз. Я инстинктивно сжимаю зубы и начинаю мотать головой, чтобы вырвать кусок шеи. В арку с оружием в вытянутых вперёд руках наконец то входят охотники.
Чего так долго то?
Чего тянули?
Хищник, чужак, человек, поворачивается, закрываясь мной от них.
Стреляйте, родные, долго не удержу! Охотники как на расстреле дают одновременный залп. Хотя погодите, почему как? Это и есть натуральный расстрел
Перед вооруженными людьми в тупике стоит совершенно беззащитный человек, отягощенный вцепившимся в шею псом.
Пули проходят сквозь меня. Интересно серебряные или нет?
Новый залп и за ним сразу же ещё один.
Умирать не больно, пули немного обжигают внутренности. Ломота с челюсти растекается по всему телу. Человек хрипит и заваливается. Вместе с ним заваливаюсь и я. Странно, что в этот момент я чувствую не проделанные дыры в теле, а то, что мне впивается в живот, что-то тупое и твёрдое. Удар о землю гулко отдаётся в голове. Сил подняться на лапы уже нет. Отрываюсь от горла чужака. Кровь хлещет фонтаном. Делаю глоток. Наконец-то перестало першить. Облизываю нос горячим солёным языком, он еле шевелится. Сильно пахнет гарью, потом, страхом и смертью.
Охотники всё ещё держа чужака на прицеле приближаются медленно и осторожно. Чужак свободной рукой пытается закрыть рану в горле, а увидев, что охотники подбираются ближе он рычит и стреляет. Но так как на пистолете лежу я, выстрелом мне обжигает брюхо и сносит заднюю лапу. Ну может часть лапы. Вот это действительно больно. Я вою. Вою из последних сил. Наверное это получается очень громко и наверное слишком близко — чужак, находящийся при смерти вздрагивает. Глаза его широко раскрываются. Он скосив взгляд пытается увидеть меня. Я ловлю этот взгляд полный удивления и недоумения. Взгляд человека, которого собачий вой вытянул с того света. Человека, который бывал там не раз. Хищника, который прошел путь от царя всего живого до цепной шавки и обратно. Одиночки, который создал огромную семью и во имя её спасения стал чужаком.
Ты держался всё это время достойно.
Спи спокойно, брат!
Охотники дают последний залп.
Темнота.
— Разговаривал ты с этим новым начальником полиции?
— Разговаривал, ну. Но толку от него нет совсем.
— Чего так?
— Да что-то он к звонкам серьезно не относится
— Может ему и самому звонят?
— Конечно звонят! Конечно же и ему звонят! Всем звонят и ему тоже. Ты знаешь кого-нибудь кому не звонят?
— Нет.
— А ты пробовал телефон отключать?
— А ты что думаешь это поможет?

Из крохотных совпадений
Я открываю глаза, когда грузовик снижает скорость, а потом и совсем останавливается. Водитель вылезает и кряхтя идёт к кузову. Они вытаскивают меня за руки и за ноги тащат. Они наверное уверены, что я ничего не чувствую, но я чувствую. Просто у меня нет сил ничего сказать.
И пить. Очень хочется пить.
Сквозь чуть приоткрытые глаза пробивается лунный свет. Осенние низкие облака медленно плывут, скоро они закроют Луну совсем. Небо начинает раскачиваться и через несколько секунд я отправляюсь в свободный полёт, а потом в свободный спуск в кювет.
В борщевик кинули, сволочи. Главное чтобы не обожгло глаза — остальное переживём. Наконец я останавливаюсь на дне придорожного оврага. Повезло, что по пути не попалось камней об которые можно было бы удариться головой. С другой стороны, непонятно сколько так придётся пролежать, может и лучше было бы головой о камень?
Нет-нет! Нельзя паниковать, унывать и терять самообладание. Нужно ждать, нужно дождаться. Может быть через пару дней силы вернутся и можно будет встать. Если, конечно, меня неподвижного не убьют жажда, голод и ночные холода. Хотя может это и к лучшему. Медленно открываю глаза. На дне канавы ничего не растёт и я лежу на спине опухающим лицом к полной Луне, которую затягивают тучи.
В лунном свете стоит неказистая покосившаяся хата. На завалинке сидит дед, прямой как жердь. У него длинные седые волосы и такая же длинная и седая борода. Что-то странное у него с глазами, как будто он слепой. На посох, который дед держит в руке, садится ворон. Этот ворон смотрит на меня антрацитовым глазом и каркает единожды.
Р-Раз
Среда вечер.
Суббота утро.
Много машин, больших и маленьких, грязных и чистых приезжают между средой и субботой. Много женщин за рулём, ещё больше мужчин. Некоторые приезжают одни, у других в салоне: дети, собаки, друзья, любимые. Несмотря на развешанные везде предупреждения, никто никогда не высаживает пассажиров перед заправкой.
Особенно с субботы до среды.
И никогда со среды до субботы.
Когда работаешь сутки через двое, смена выпадает на среду или субботу всего 3—4 раза в месяц. Но для меня это не проблема. Всегда кому-то нужно поменяться. У всех есть какие-то дела. Планы на выходные. Выходные.
У всех кроме меня. У меня нет ни планов, ни выходных, ни торжеств, ни поездок с семьёй. Я не хочу отдыхать. Я не могу отдыхать. Я не сплю, не устаю, и не могу радоваться. Я в постоянном напряженном сером состоянии ожидания.
Серые люди в серой рутине на серых машинах грязных и чистых, более серых или менее серых, приезжают на серую заправку помногу каждый серый день. В серых салонах почти неотличимые от сидений серые собаки с их каждодневной серой преданностью и серые дети с их вязкими серыми капризами и страхами. Любимые или друзья с вечным серым ожиданием выгоды. Иногда кто-то из них, очень редко, даёт мне немного серой мелочи. Мой серый начальник делает вид, что доволен мной. Но он доволен лишь тем, что официально мне можно платить в два раза меньше. Жёлтые всполохи радости два раза в месяц летают над ним по этому поводу. Хотя вся внешность его остаётся такой же серой, а лицо таким же печальным.
Я живу в сером ожидании. В ожидании того, что скоро что-то произойдет. Не изменится к лучшему, а именно произойдёт.
Что-то.
Хоть что-нибудь. Например, наступит среда. В среду день будет тянуться бесконечно, но наконец, понемногу сумерки станут поглощать его. И когда всё вокруг начнёт терять очертания, мутными пятнами станет сливаться друг с другом, и почти уже превратится в сплошную серую пелену, через которую приходится продираться с усилием. И при этом быть невероятно осторожным, потому что во всей это серости даже светоотражающие полосы на комбинезоне блекнут, машины движутся по заправочной станции как будто на ощупь, грозя раскатать, смешать тебя с этой серой однотонной массой вокруг. Наступает такой момент, когда даже дышать становится тяжело. Густой серый воздух застревает в лёгких, забивает горло и всё вокруг останавливается. И как раз где-то в этот момент или пятью минутами позже, там, где раньше была дорога, мелькает едва заметная искорка.
Сначала кажется, что она просто привиделась. Что это просто следствие нехватки кислорода — отчего начинает рябить в глазах. Но за первой искрой мелькает вторая и сердце делает глухой удар. Первый за эту неделю. Загустевшая кровь кое-как начинает двигаться по венам. Второй удар сердца и видно, что в том месте где только что были искры появляется свет. Ещё через секунду свет становится невыносимо ярким. Он приближается очень и очень быстро. Везде куда он падает, вязкая серость отступает и обрисовываются контуры зданий, дороги, людей, деревьев, кустов. Её автомобиль въезжает на станцию. Подъезжает именно к той колонке у которой стою я. Или это просто я стою в том месте, куда она обычно подъезжает. Щёлкает лючок бензобака, открывается водительская дверь и она выходит поправляя рукой локон. Красная ниточка с черепахой и двумя бусинками охватывает её запястье. Я киваю ей и она обязательно улыбнувшись кивает мне в ответ. Это самый яркий и светлый момент в неделе. Один из двух.
Один в среду, другой в субботу.
Эффект от этих моментов, как от световой гранаты, только наоборот. После гранаты сначала долго не видишь, а потом проходит. Тут наоборот — какое-то время видишь, потом постепенно всё заволакивает серая вязкая масса. В ночь со среды на четверг и с субботы на воскресенье я сплю. Не очень долго и очень беспокойно. Но сплю. Я могу спать. Я даже немного хочу спать. Среди прочего мне снится тонкая красная ниточка на её руке. Снится точно так же ясно, как я видел её наяву.
Наверное это потому, что всё остальное никогда, даже во сне, не имеет цветов. Одна сплошная непроглядная серость.
…Несмотря на смену всех телефонных номеров, что доставило мне и моей семье массу неудобств, звонить продолжают уже на новые номера с той же периодичностью. Поступающие мне звонки, считаю угрозами в свой адрес, а также в адрес своей семьи. Связываю их со своей профессиональной деятельностью. Так как голос злоумышленника, очень похоже подражающий моему собственному голосу, обращается ко мне не по имени, а по должности. Называет меня «судьей». Можно было бы предположить, что это кто-то из тех, кто был у меня подсудимым. Но звонящий, знает слишком много подробностей слишком разных дел, разных годов. И хотя этот голос можно принять за женский, но строит фразы и говорит он как мужчина.
Прошу принять меры и оградить меня в дальнейшем от этих звонков и прочих проявлений посягательств на жизнь, свободу и спокойствие мою и моей семьи…
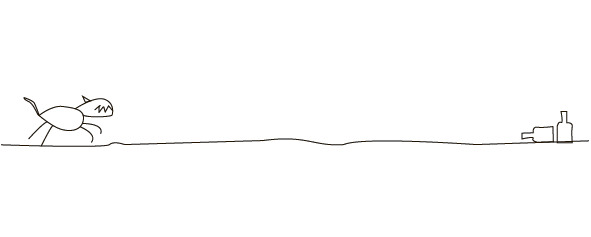
Сколько не ищи
Я открываю глаза.
Больница. Опять этот проклятущий тёртый линолеумна полу и белый кафель в трещинку на стене. Вот и всё что я вижу. Ну ещё разве что ножку кровати ещё. Больше ничего.
А больше ничего и не увидеть. Особенно, когда тебе сделали операцию на позвоночнике, а теперь ты лежишь на животе и не можешь пошевелиться, потому что коновалы эти что-то перемудрили и половина тела теперь не двигается. Вторая половина при попытке пошевелиться отзывается такой адской болью, что лучше даже и не пытаться.
Но зато хотя бы кормят. Трижды в день приходит медсестра и я втягиваю через трубочку какое-то пюре. Ещё после обеда приходит Колдун и приносит какой-то невероятно сытный отвар. Каждый раз, как я его допиваю Колдун удивлённо крякает и говорит «Хех!» Потом хлопает меня по плечу и уходит. Про то как всё это потом выходит не спрашивайте. И даже не пытайтесь представить.
Сегодня Колдун приходит раньше обычного. Я слышу взволнованное шарканье его слоновьих ног и скрип тележки. Он идёт быстрее чем всегда. Целенаправленно к нам. Дверь распахивается. Колдун некоторое время стоит на пороге, предполагаю, что озирает палату, потом делает плавный как у кошки, и совершенно бесшумный шаг через порог и тихо, вкрадчиво произносит:
— Ну здравствуйте, господа! Как поживаете?
Ответом ему, как обычно, служит гробовое молчание. Говорунов среди нас нет. Ни одного. Юра уже год лежит в коме, Толстый — овощ, максимум на что он способен это пускать пузыри и газы, но делает он это не осмысленно, поэтому не считается. Я мог бы промычать что-нибудь в ответ, но не хочу — потом ещё несколько часов корчиться от боли, вызванной этой попыткой. Поэтому тоже молчу.
Колдун входит и садится на своё обычное место — на стул напротив меня.
— Смотрю вы все на поправку пошли. Это хорошо!
Я вижу только кончики носок его ботинок. Они огромные, пыльные, стоптанные и совершенно никак не вяжутся с больницей
Он наклоняется надо мной и шепчет мне в самое ухо:
— Смотри!
И раскрывает ладонь перед моим глазом. На ладони лежат часы. Самые обычные, ничем не примечательные часы. Кроме того, что по корпусу идут какие-то крохотные каракули и ремешок их порван, и как будто кем-то погрызен. Как будто собакой. Да, точно вот следы зубов. Собачьих клыков. На обратной стороне часов должна быть запёкшаяся кровь. Частично собачья частично человечья. Я даже чувствую её металлический вкус во рту. Колдун подтверждая мои мысли переворачивает часы.
Обратная сторона идеально чистая.
— Помыл уже! — говорит он заговорщицким шёпотом. — Опасно же таскать с собой окровавленные вещи.
— А вообще, парни, я вами очень доволен! — говорит он громко — вы все молодцы!
В приоткрытую дверь заглядывает кто-то из персонала.
— Поддерживаете?
— Так точно!
— Помогает?
— Конечно, — говорит Колдун и обводит нас рукой. — смотрите сами. Парни сегодня бодрячком.
В коридоре смеются. Это было бы действительно смешно, если бы не было на самом деле. Колдун ждёт пока шаги и смех в коридоре затихнут. Достаёт из своей бездонной тележки банку с отваром. Я не могу оторвать от неё взгляда. Банка слишком чистая даже для больницы. Она идеально чистая, как будто только что её выдули. Накрыта точно такой же идеально чистой крышкой. В отдельной салфетке одноразовая коктейльная трубочка. Отвар прозрачный, чуть желтоватый. В нём ничего не плавает, он очень приятный на вкус. Я допиваю его до конца и Колдун, как обычно, хекает.
— Ну что? — спрашивает он, собираясь уходить — сегодня я так понимаю свидание с этим как его? С Братюней вроде?
Сколько я себя помню я всё время лежу в больницах.
Я всё-всё помню с того самого момента, когда ракета попала в кабину пилотов.
Всё то, что было до этого я помню совсем смутно.
Но зато уж потом, после ракеты, помню всё в самых мелких деталях.
Особенно хорошо я помню, всё, что случилось после встречи с Колдуном.
Может даже слишком хорошо.
Мы встретились с ним в гражданской больнице в которую я попал на реабилитацию после военного госпиталя.
После того, как они меня списали.
Колдун — первый кто внимательно и без тени сомнения или какой-то брезгливости выслушивает мою историю про бабочку. В тот момент мне почему-то очень важно, чтобы хотя бы кто-нибудь поверил во всю эту историю. В то, что именно бабочка вывела меня из заснеженных гор, спасла от волков, от обморожения. Колдун, очевидно, верит. Он похож на какого-то учёного. Постоянно поправляя очки с толстенными линзами, он расспрашивает меня какие у неё крылья по форме и какие, где пятнышки. Я ему детально описываю, но он всё равно просит её нарисовать. Я обещаю нарисовать. Так мы расстаёмся с ним в первый раз.
Я хожу на процедуры каждый день, но встречаемся мы только через неделю. Всё это время я ношу листочек с нарисованной в нём бабочкой во внутреннем кармане.
Колдун долго рассматривает рисунок, потом удивлённо причмокивает и качает головой. Говорит, что такой бабочки он не знает, но это не значит, что её не может быть.
Я спрашиваю верит ли он мне. И он не задумываясь говорит, что конечно верит.
«И даже больше…» — говорит он таинственно.
Через месяц должна родиться Малютка, поэтому я тороплюсь искать работу и ни о чём не расспрашиваю его. А он торопится к каким-то старикам и не собирается ничего уточнять. Так мы расстаёмся с ним во второй и в последний раз.
Бабочка появляется два года спустя. Она вылетает из ниоткуда. Как будто выпархивает из приборной панели, прямо из подвижной решётки печки, откуда обычно дует тёплый воздух зимой. Она появляется прямо перед моим лицом, и сходу атакует левый глаз, заставляя по инерции увести и машину вправо. Правым открытым глазом я вижу, как через долю секунды прямо перед нами вылетает зад джипа со встречной полосы. Его крутит.
Из-за того, что я успел увести машину на обочину, мы лишь едва соприкасаемся, но высокие скорости делают своё дело.
Мы снова встречаемся с Колдуном, и опять в больнице. Сразу же после аварии. Как только я прихожу в сознание, он уже сидит рядом с моей койкой. Я сразу узнаю его. Я не вижу его, но понимаю, что это он. Он поёт мне. Поёт, что-то успокаивающее и невероятно красивое. Я не слышу его, но понимаю это по тому как вибрирует воздух вокруг меня. Обожженная кожа становится невероятно чувствительной. От его пения мне становится лучше. Оно обволакивает меня коконом. Как будто кокона из бинтов мне мало. Но эти два кокона дают мне в два раза больше шансов превратиться в бабочку. В яркую тропическую бабочку сидящую на камне в заснеженных горах. Вылетающую в самый последний момент, чтобы спасти людей от аварии. Чтобы спасти себя.
Но я не могу спасти себя.
Уже не могу. Я лежу в двойном коконе прикованный к больничной койке. Без зрения и слуха. И чувствую всё обожженной кожей под бинтами. Чувствую людей ходящих по коридору, чувствую врачей, склоняющихся надо мной и расстроенно качающих головами. Чувствую как подходит и садится рядом Колдун. Я чувствую, как он поёт или молится.
Однажды утром я просыпаюсь от его пения. Но самого Колдуна рядом нет.
Это очень незнакомо. Непонятно, неприемлемо, невозможно, но при этом в этом нет никаких сомнений.
Я пытаюсь расслышать слова песни, но единственное, что слышу это то, что пение звучит внутри кокона. Со временем, когда слух, как и после авиакатастрофы, постепенно начинает возвращаться я понимаю, что это пение слышу только я.
Ещё я понимаю, что Колдун поселился в моей голове и оттуда его уже не выгнать. Так что теперь мы с ним уже не расстанемся.
Я знаю где он, а он знает где я.
Он ходит и разговаривает с людьми. Теперь у него окладистая борода, длинные волосы собранные в хвост и одет он как настоящий служитель Миссии.
Хотя, почему как?
Он теперь действительно служитель.
Колдун рассказывает людям об исцелении, прощении о лучшей жизни. Люди верят ему.
«Там кстати есть совсем простой и быстрый вариант.» — говорит он людям шепотом.
«Но это отдельно нужно разговаривать.» — говорит он людям.
«Лучше всего наедине.» — говорит он людям и ненадолго закрывает глаза.
Колдун утешает стариков и одиноких. Приносит им от Миссии еду и лекарства. Какие-то полезные мелочи по праздникам. Но праздники эти все религиозные и все без исключения светлые. Старики и одинокие люди идут на поправку быстрее остальных. Врачи очень радуются по этому поводу, и приписывают все заслуги исключительно себе. Колдун не возражает. Он продолжает носить нехитрую еду и небольшие подарочки.
Одинокие люди выписываются из больницы одухотворёнными, и полными сил и желания начинать новую жизнь. Больше они никогда не попадают в больницу. Ни в эту, ни в какую-либо другую.
Врачи этим очень гордятся и приписывают это грамотному лечению и хорошему уходу.
Колдун не возражает. Он молча продолжает ходить и опекать стариков и одиноких людей. Он по сто раз слушает все их бесконечные шамкающие истории. Он сочувственно кивает, когда старики начинают говорить о родственниках, а одинокие о предательствах. Он ничего не говорит, когда не нужно ничего говорить. Он слушает, когда нужно слушать. И слышит, когда нужно слышать.
Когда слух постепенно возвращается ко мне. Он приходит и прервав пение внутри моего кокона говорит, нагнувшись к самому моему уху:
— Я ведь нашел её! Да! Это очень редкий вид.
Он говорит какое-то длинное название на нелепом мёртвом языке. И видя, что я никак не реагирую, называет бабочку именем какого-то древнего царя. Он так и говорит: «бабочка царя…», а вот имя этого царя я запамятовал.
Я говорю ему:
— Она снова спасла меня.
— Что? — переспрашивает Колдун.
Я повторяю. Он долго пытается уловить смысл в моём невнятном бормотании, но потом, когда я уже оставляю попытки что-то сказать, его как будто вдруг осеняет:
— Она снова спасла тебя?
— Да!
— Ладно. Лежи не говори и не волнуйся. Береги силы!
И он уходит разговаривать со стариками и одинокими людьми о прекрасном мире, который их ждёт. У них как раз множество вопросов по этому поводу. Им всем безумно интересно, как там всё устроено в том мире, который никто не видел, и в который никто из них никогда не попадёт.
Хотя бы послушать. Можно даже наедине.
Иногда Колдун приходит посидеть рядом со мной. Иногда при его появлении пение становится громче и тогда он сидит молча. Иногда пение становится очень тихим или даже смолкает вовсе, тогда он что-то шепчет, наверное молится.
Иногда Колдун спрашивает:
— Кто твои предки?
— Кем был твой прадед?
— А кем был его прадед?
— Где они жили?
— Что они делали?
Я не отвечаю.
Колдун не рассказывает мне о лучшем мире.
У меня всего лишь поломана челюсть и половина костей.
У меня есть семья, которая меня ждёт.
Колдун не выслушивает моих историй.
Я лежу на спине, горелый как сухарь и перемотанный как мумия, и даже при огромном желании не могу ничего сказать.
Колдун не даёт мне никаких нравоучений.
Я не знаю кем был мой прадед, и уж тем более кем был его прадед.
Колдун не ждёт никакого ответа. Он спрашивает и сразу же уходит.
И каждую ночь после этого мне снится тропинка в лесу.
— Да, что там у вас за хрень творится?
— Там знаете, Валентин Муратович, очень странная ситуация получается.
— Что ещё за ситуация?
— У нас тут вот эти особые пациенты.
— Ну?
— Ну, особые пациенты о которых знает всего несколько человек.
— Ну-ну, и что?
— Я имею в виду, что несколько человек всего знает об их особом статусе, Валентин Муратович.
— Да, что вы тянете то? Говорите уже как есть!
— Просто вот эти особенные пациенты они же все в разных отделениях лежат… лежали
— Так.
— Так вот. Позавчера нам позвонили и велели этих пациентов собрать и срочно перевести в другую больницу. Пофамильно назвали, понимаете?
— Так.
— Как уговорено назвали их всех. С кодовыми словами и прочим.
— Так.
— Мы их погрузили в подъехавшие машины и отправили. Но они пропали и никуда не доехали.
— Хреново. А что за машины были?
— Вот то-то и оно. На камерах наблюдения этих машин нет. И ни в какую больше больницу они не прибыли.
— Кто-то украл у нас пациентов что ли?
— Получается так, Валентин Муратович
— Ёщкеренский фауфень! Кому это на хрен нужно? Кто звонил то? Выяснили?
— Да, Валентин Муратович, выяснили.
— Ну и кто же это был, вашу мать?
— Это вы и были, Валентин Муратович, с вашего номера звонили. Вашим голосом.
— Не может быть этого! Слышишь! Не может! Что за хрень там у вас творится!? Сейчас погоди…. Я перезвоню чуть позже, там кто-то пришел ко мне…
Я отвлекаюсь. Силуэты прохожих сливаются в сплошное серое марево. Тело само бежит по газону, обгоняя хмурый поток, возвращающихся с работы, людей. Ещё немного и газон перейдёт сначала в пыльную обочину, а потом в лесополосу. Можно будет срезать, главное, чтобы медсестра успела покормить меня к тому времени. Через лесополосу проходят рельсы и очень неохота попадать под поезд. Слишком долго я иду собачьим ногами к цели. Держась краешком сознания там где пёс бежит по газону всей остальной частью возвращаюсь в палату. Успеваю к тому моменту, как сестра наклоняется и заглядывает мне в глаз. Приветственно моргаю ей трижды.
— Что ж, сердешный, не становится тебе лучше?
Моргаю ей в ответ дважды.
— Ишь, оптимист какой! — говорит сестра вставая и шурудя посудой в своей тележке. — А доктор вот говорит, что улучшений не замечает.
И совсем-совсем тихо добавляет:
— Отмучался бы ты уже!
Прекрасно понимаю её, но не время унывать, тем более она же не знает про то, что кроме врачей меня лечит ещё и Колдун. А уж в нём то я ни капли не сомневаюсь. Получилось тогда с ожогами, получится и сейчас. Что-то слишком много времени я провожу в больницах.
Сестра всовывает мне трубочку в рот, и я начинаю приём измельчённой пищи. В это время пёс минует обочину и начинает пересекать лесополосу.
Больничная еда по сравнению с колдуновским отваром безвкусная, почти отвратительная. Но выхода нет. Я старательно выпиваю её всю. Нужно быть благодарным. К тому же нужно много еды, чтобы было много сил, для того чтобы скорее поправиться. Колдун сказал, что всё заживёт как на собаке.
Собака в это время уже добралась до рельсов и бежит вдоль них. Хороший пёс попался — целеустремлённый. Сам бежит к цели, не отвлекается на всю эту собачью ерунду: понюхать, пописать, поискать следы. Навстречу проезжает поезд. Из окна выглядывает машинист и провожает меня взглядом.
В палате Толстяк громко вздыхает и пускает газы. Проснулся. Безобидный овощ Толстяк. Наверное он так приветствует медсестру или оно само у него так выходит, но случается каждый раз. Не менее трёх раз в день. Иногда мне кажется, что по Толстяку можно часы сверять. Но часов у меня нет, как и нет возможности проверить эту теорию. Сестра ставит мне капельницу и идёт кормить Толстяка.
Толстяк так громко всасывает пищу, что я не могу сосредоточиться и всё время возвращаюсь в палату. Связь между мной и псом становится очень слабой и устав ждать меня он засыпает, зарывшись в сухие листья в корнях какого-то дерева.
Псу снится хозяин — огромный мужик с усищами. Снятся тренировки, таскание автомобильной покрышки набитой камнями. Снятся собаки во дворе. Снится что огромный чёрный пёс, которому он неоднократно доказывал своё превосходство, улучил момент и отвоевал себе половину двора и часть парка, и теперь нужно срочно бежать показывать кто во дворе хозяин. Это какой-то невероятный бред, но всё равно в сто раз интереснее, чем смотреть в потёртый линолеум и слушать как чавкает Толстяк.
После кормёжки Толстяк ещё некоторое время взбудоражено сопит и кряхтит. Скорее всего он невероятно рад. Рад кормежке, рад этому скупому человеческому общению, рад вниманию, когда медсестра с равнодушным лицом вытирает платком ему слюни и сопли. Вытерев и убрав за Толстяком медсестра переходит к Юре.
Юра в коме поэтому его кормят быстро, — просто меняют пустую бутыль с питательным раствором на полную, проверяют как работает капельница и приборы. Потом медсестра уходит. Тушит свет, и закрывает дверь. В палату едва-едва пробивается свет через щель под дверью. До меня доходит только едва заметный его отблеск. Дыхание Толстяка становится ровным, через некоторое время он снова пускает газы. Около получаса прошло с того момента, как Толстяка начали кормить. Точно, блин, как часы. Наверное.
Еще через минуту его дыхание совсем замедляется и Толстяк засыпает. В это время где-то далеко просыпается пёс.
Он встаёт и потягивается.
Впереди ещё долгий путь.
Я перебегаю в темноте через рельсы и лечу через лесополосу. Хорошо собакам — они могут в кромешнейшей темноте видеть. Не так ясно как днём, но всё равно всё понятно. Запахи, звуки, воздух кругом всё это даёт ощущение пространства. Особенно запахи. В темноте они ощущаются совершенно по-особенному. Как будто ребёнок с длинным шарфом в руках несётся вперёд, а шарф развевается вслед за ним. И ты ухватившись маленькими зубками за его край мчишься галопом, пытаясь успеть своими пока ещё коротенькими ножками за своим человеком. И шарф заслоняет весь мир перед глазами, зато ты отлично видишь носом: и кота гонявшего клубок шерсти по полу, и бабушку вязавшую из этой шерсти этот шарф, и маму идущую на свидание, обернувшую тонкой рукой этот шарф вокруг своей прекрасной шеи. И ещё совсем молодого папу, обнимающего маму при этом уткнувшегося в её шарф прокуренными усами…
Ветер меняет своё направление, и наваждение пропадает.
Пропадает вся семья, остаётся только холод, одиночество и темнота вокруг.
Надо идти на свет. Выхожу из лесополосы на окраину микрорайона. Так, вот школа, мимо неё вдоль забора, тут на площадке обычно собираются собачники, но сейчас для них ещё рано. Чуть дальше гаражи. Ага, от них направо.
Так, двор со сгоревшим грузовиком посередине, который заменяет всем окрестным мальчишкам детскую площадку. Да и мальчишек то теперь особо не осталось. Но всё равно, сейчас нужно осторожно.
Ага! Чисто-пусто. Здесь никого нет. Ни на качелях, ни у подъезда, ни у входа в подвал. Таааак, идём в другой двор.
А вдруг они вообще не придут?
Да как не придут? Придут. Не могут они не прийти. Ну вот же! Из двора Мармешло слышны какие-то вопли. Тем лучше. Там три старых двухэтажных барака и гаражи. Народу нет, а если и есть, то только старики. Лишний никто не вмешается и не воспрепятствует. Хотя, кто что сможет сделать?
Так, что это за звук? Кто-то выходит из темноты двора мне на встречу. Кто это? По запаху не определить, ветер дует в другую сторону, да и кого я тут собираюсь узнать по запаху? Нужно подпустить идущего поближе, а самому затаиться. Нельзя спугнуть основную цель.
Справа по тропинке между гаражами и кустами сирени продирается ещё кто-то. Несколько человек. Собираются, родимые. Только кто это, блин?!
— Аркаша! — кричат из кустов тому кого я вижу и пытаюсь опознать. Из темноты вместе с запахами сирени, перегара, пота, табака, какой-то застарелой дряни, машинного масла и вонючих ног, вываливаются четверо.
— О! Гвоздь! Здорово! Здорово, пацаны! А это кто?
— Да, плясун один. Ща концерт будет давать. — говорит Гвоздь и кивает на парнишку, которого остальные двое крепко держат за шкирку. Парнишку я не успеваю разглядеть — его заслоняют.
— А потом просто давать. — добавляет Гвоздь и все дружно хохочут.
— А ты сам то куда?
— Да в ларёк за сижками.
— О! Батон, сходи с Аркашей, а то район неспокойный, вдруг обидит кто.
Они отзываются на шутку ещё одним отвратительным залпом смеха.
— И на, на пожертвования этого, купи пацанам чего-нибудь достойного. А то пляски смотреть будет неинтересно.
Хохоча они расходятся. Батон заслонявший парнишку уходит вместе с Аркашей. А Гвоздь и ещё один какой-то здоровенный амбал тащат щуплого длинноволосого во двор. Знакомый он какой-то. Где-то видел я его. Но не время.
Не время.
Воспоминания все потом. Сейчас нужно приготовиться.
Я иду вслед за ними. Чтобы их шарканье заглушало мои шаги. Как я не старался бы быть тихим, а когти всё равно клацают по асфальту. Сейчас нужно быть особенно внимательным, осторожным и незаметным. Незаметным быть тяжеловато. Белую собаку даже в темноте хорошо видно. Но когда её выбирали, меньше всего думали о маскировке. Хотя надо было. Пока я вспоминаю, видел ли я черных или серых собак такой породы, Батон останавливается и оглядывается назад.
Почуял!
Я замираю. Хорошо, что он обернулся когда меня от него скрывает куст.
— Чё там Батон?
— Пельменями как будто пахнет! — отвечает тот принюхиваясь.
— Да ну тебя в пень с твоей жратвой! Только, что же поели.
— Так это пельмешки. Домашние. Я такие за километр почую.
Про пельмешки Батон говорит так, как будто это самое дорогое, что было и есть в его жизни.
Вроде пронесло. Теперь стараюсь держаться подальше, Но они всё равно не слышат, потому что идут и переругиваются, а парнишка как будто поскуливает. Фонарей нигде нет. Но я всё равно ухожу в палисадники.
Так. Теперь нужно пройти вблизи дома, практически прижимаясь боком к стене. Таким образом прохожу до угла и прячусь за машиной. Ага, отсюда уже лучше видно.
Из двора слышны приветственные крики, невнятное какое-то бормотание, а ещё теперь сменился ветер и снова тащит перегаром, потными телами и дешёвым табаком. Откуда-то примешивается запах свежей мочи. К гаражам ходят ссать, наверное.
Так, все ли здесь?
Позиция для атаки хорошая. Обзор великолепный. Я нахожусь в темноте под машиной, а они сидят под фонарём на детской площадке. Беспечно, вальяжно, вольготно. Как будто не ждут нападения. Хотя откуда бы им ждать нападения? Самые страшные звери здесь — это они сами.
Где самый главный их дикий зверь? А! Вот же он: важно сидит в самой середине компании за деревянным столом беседки. Вокруг него суетятся другие. Усаживают напротив него парнишку.
Так, сколько их? Братюня, Гвоздь, парнишка, ага, пять, восемь, девять, вот десятый шатающейся походкой идёт от гаражей, застёгивая по пути ширинку.
Ну, раз все собрались, то нужно начинать! Траектория просчитана, у них там под фонарем всё спокойно, дорога чистая, никто ни откуда не выходит. Асфальт под лапами надёжный. Мышцы разогреты, ветер попутный. Готовимся, и ррра-аз….
И тут длинноволосый парнишка, вскакивая со скамейки взвизгивает, как девчонка — высоко-высоко. Он выкручивается из курточки, за шиворот которой его продолжает держать Батон и вылетает из беседки на детскую площадку. Туда поближе к гаражам. Но он не бежит. Он орёт, топочет ногами, но остаётся в свете фонаря. Поближе к людям. К своим, какими бы плохими они ни были. На улице прохладно, а парнишка остаётся с голым торсом, в мешковатых армейских штанах на подтяжках. У него огромные от ужаса глаза.
— Зверь! — высоко кричит он. — Там зверь! — и показывает на меня пальцем.
Ну не совсем на меня, но в темноту, где я прячусь. Вот паскуда, сорвал всю внезапность! Порву вторым после Братюни!
Шайка-лейка недоумённо смотрит на парнишку, а потом медленно вся переводит взгляды туда, куда он указывает. Пока в их глазах есть кроха недоверия и нотка сарказма, пока их рты изогнуты в презрительных улыбках — самое время атаковать.
Хотя бы потому, что их глаза устремлены в одну точку и все они на одной волне. Лучшего момента не будет!
Рывок. Разбег. Прыжок. И вот я весь такой великолепный, белой пулей мгновенно пересекаю двор, влетаю в свет фонаря и оттолкнувшись от земли совершаю лёгкий прыжок. Приземляюсь на стол, в самый центр компашки.
Похоже панический ужас парнишки передался видавшим виды хулиганам, потому что за всё это время ни один из них даже не двинулся. Оцепенели. Это мне на руку.
Братюня сидит на скамейке в самом центре и из его пальцев медленно выпадает сигарета. Медленно катятся по столу сбитые мной бутылки. Но пока рты людей медленно раскрываются, собачьи когти упираются в потёртые доски стола. Всё тело напрягается, и пока Братюня не поднял руку, чтобы закрыться ею от нападения, я делаю стремительный прыжок вперёд.
Ррррам-кдыххха.
Фонтаном бъет кровища из горла Братюни, и пока он ватными руками пытается прикрыть вырванную с куском мяса артерию я уже прыгаю на следующего.
Кровь, кровушка, кровища!
Вена, крик, укус, рывок, ещё рывок, хрип, кровь, следующий. Снова вена, укус, рывок, хрип. Вот кто-то очухался и достаёт нож. Медлить нельзя! Кидаюсь в ноги. Прохожу под правой рукой, которая только начинает совершать замах. Резкий поворот вокруг корпуса и мои зубы надёжно фиксируют запястье.
О как взвыл!
Сжимаю челюсти. Хруст костей. Всю массу своего небольшого тельца вкладываю в рывок. Человек замолкает и падает. Видимо от боли потерял сознание.
Следующий!
Пока я расправлялся с этим остальные, видимо, очнувшись от оцепенения пытаются бежать. Это у них не очень-то получается на ватных ногах.
Зверь своё дело знает! Никто не уйдёт от возмездия!
В воздухе пахнет страхом, свежим мясом и кровью. Это заставляет и без того бешено колотящееся сердце биться ещё быстрее и громче. Следующего человека я нагоняю на выходе из двора. Прыгаю ему на спину и пока мы летим к земле прокусываю артерию на шее. Рывок — кусок мяса отдельно — человек отдельно. Во рту приятный солёный вкус. Свежая кровушка. Но возле гаражей ещё трое — нужно бежать туда. Мягкий песочек детской площадки приятно трёт подушки лап, когда я разворачиваюсь для прыжка…
…Толстяк закашливается.
Блин! Да как же не вовремя!
Толстяк пытается ворочаться и оглушительно выпускает газы.
Так. Не отвлекаться! Сосредоточиться! Сосредоточиться!
Толстяк, что-то хрипит.
Да, ты чего, Толстый? Там у меня месть всей жизни, а ты тут пердишь!
Но сейчас Толстяк хрипит как-то особенно долго, потом снова выпускает газы, выдыхает и в комнате становится невыносимо тихо. И как будто ещё темнее.
Толстяк! Погоди! Не уходи, Толстяк!
Колдун, с позволения врачей, читает над Толстяком молитву. В это время даже медсёстры перестают деловито сновать по палате и стоят в почтенном молчании.
Когда Толстяка увозят Колдун садится на стул передо мной, где он обычно сидит и тяжело вздыхает. Он долго молчит, так долго, что мне начинает казаться, что он тоже умер.
От горя.
Сколько я ни прислушиваюсь я не могу уловить его дыхания. В тот момент, когда я уже готов отчаяться, он наконец-то вздыхает.
— Он умер счастливым. — говорит Колдун. — Да, да. В это трудно поверить. Но это была и его месть тоже. Не только твоя. Не помнишь его? А он тебя вспомнил… Вроде. И его брат тебя, наверняка, знает. У нас же небольшой городок то.
Вот это новости! Где-то я пересекался с Толстяком и его братом ещё до того как в третий и окончательный раз угодить в больницу. Колдун прав — городок у нас небольшой, не удивительно, что мы можем быть знакомы. Может быть даже я и узнал бы Толстяка если бы увидел его хотя бы. А то я всё время пока здесь — кроме пола ничего и не видел. Я не знаю даже настолько ли Толстяк был толстый, как я его себе представлял.
Кажется, что вся жизнь так и пройдет лицом вниз на больничной койке. И тут же она кончится. А какие ещё могут быть варианты, когда у тебя отказал спинной мозг и теперь ты весь парализованный, и даже пальцем двинуть не можешь.
Колдун снова вздыхает и говорит:
— Ладно, отдохни пару дней. Найдём тебе нового проводника.
Я не устал, Колдун. Совсем не устал.
В обед мне снится сон, что я опять пёс. Но я знаю, что это сон. Потому что теперь я уже умею отличать сны от путешествий. Все сны начинаются одинаково. С тропинки.
Я бегу по тропинке и выбегаю на кукурузное поле. Я большой и добрый пёс — играю в кукурузном поле с маленьким мальчиком. Я не даю ему упасть в обрыв. Он говорит мне: «Спасибо тебе за поддержку, брат!»
И теперь во сне я большой человек, а это мой младший брат. И теперь он говорит мне: «Я буду помнить тебя всегда, брат!»
Это тощий длинноволосый парень, с голым торсом и в армейских штанах с подтяжками. Он держит пса двумя руками за нижнюю челюсть. Он целует пса в нос, а тот облизывает солёным языком лицо человека, оставляя на нём кровавые следы. А после, храня тепло его ладоней на челюсти, несётся сквозь холодный летний вечер к гаражам, добивать тех, кто ещё остался в живых.
Я вижу, то, что видел Толстяк в последние мгновения своей жизни.
Я вижу это потому, что он хотел, чтобы я это увидел.

— У вас есть дети? — спрашивает она.
И я на секунду замираю.
После той аварии с джипом я долго ещё лежу в больнице, но потом всё-таки понемногу иду на поправку. Хромой, обожженный, полуслепой и полуглухой долго не могу найти работу. Мыкаюсь по каким-то социальным центрам, выбиваю пособия. Но нигде меня не берут. Руки гнутся плохо, ноги не ходят, глаза видят кое-как.
Колдун устраивает меня на автозаправочную станцию. Совсем крохотную с тремя колонками. На окраине города. За ней начинается пустырь. Сюда заезжают в основном постоянные клиенты. Их не очень много. Так что два хромых и увечных вполне справляются с тем, чтобы их заправить.
Каждую среду и субботу сюда приезжает она.
Сначала в беспросветной серости появляется маленькая искорка. Потом появляется свет. Потом цвет. И этот цвет красный. Красный цвет ниточки на её левой руке. Она нетерпеливо поправляет этой рукой волосы и кажется уже жалея о том, что завела этот разговор повторяет свой вопрос:
— У вас есть дети?
Она смотрит на меня прищурившись. Маленькая и упрямая она протягивает мне руку. В руке мелочь. Несколько звенящих монет. Лишними они не будут, но и погоды не сделают. Опять же правилами это строго регламентировано. Я моргаю, отворачиваюсь, как будто не выдержав её взгляда, подхватываю ведро и уношу его на станцию. Со станции я делаю два шага и берусь за заправочный пистолет. Сейчас уже, сейчас заправка закончится. Я это знаю, потому что она всегда заправляет одинаковое количество топлива. Она обходит свою машину сзади и снова смотрит на меня:
— Мальчик или девочка?
Я киваю. В последнее время в этой далёкой жизни слова даются мне всё труднее
— Девочка? — переспрашивает она
Я киваю ещё раз. Невольная полуулыбка пробегает по моим губам, она перехватывает её и тоже слегка улыбается.
— Купите ей мороженное. — мягко говорит она и кладёт монеты на полку заправочного автомата.
— Спасибо! — говорит она, когда я вынимаю пистолет из бака и начинаю завинчивать крышку. Я снова киваю ей головой. Она хлопает дверью и уезжает.
Выезжая с заправки она пропускает машины идущие по главной. Она сосредоточена и строга. Она закидывает за ухо волосы. В какой-то момент, пока она поднимает руку, ослепительно сверкает черепашка на её левом запястье. С виду самая обычная медная черепашка в окружении двух бусин надетых на красную ниточку.
Она приезжает всегда в одно и то же время. В одни и те же дни недели. В среду в обед и рано утром в субботу. У неё всегда чистая машина и улыбка на лице.
В субботу на заднем сидении у неё лежит какая-нибудь игрушка, в среду папка с документами. Раз в три месяца она розовая. Два раза в месяц голубая, всё остальное время, это разные папки всех оттенков зелёного.
Длинные крючковатые пальцы Тихого с вечно не стриженными ногтями, под которые забилась грязь вперемешку с маслом, по одной подцепляют монетки и отправляют их во вторую огромную и вечно грязную ладонь.
— Между прочим, — говорит он своим охрипшим голосом. — В правилах сказано, что ты не можешь вымогать, клянчить, просить или каким-либо другим образом выпрашивать деньги у клиента. Однако, если клиент сам решил тебе, что-то дать, то про это в правилах ничего не сказано. И лучше брать, потому, что если клиент монетами повредит станцию, то ему ничего не будет, а с тебя взыщут!
Тихий поднимает вверх свой длинный грязный палец, а ладонь с монетами опускает в карман.
— Консультация платная! — говорит он резко отступая назад и его вытянутый указательный палец из назидающего превращается в предостерегающий.
Я даже и не пытаюсь дёрнуться, хотя это мои деньги, а консультации я не просил.
Я больше никогда не увижу Тихого.
Просто смотрю на его грязный палец и бегающие глаза и знаю это. Он так и уйдёт из моей жизни, пятясь назад. Я запомню его таким, затравленно озирающимся на меня до конца смены. Остальные запомнят его ушедшим в запой и так там и оставшимся. Они ещё некоторое время будут вздрагивать в тишине, как будто чуя за плечом чьё-то присутствие. Тихий любит это, неслышно подойти сзади и молча стоять там совершенно не дыша. Наблюдая за тем, как другие делают своё дело. За это его никто не любит. Хотя он и не сделал никому ничего плохого.
Но мне всё равно. Я никак к нему не относился и не отношусь. И уж тем более я не стал бы ему мстить ни в той далёкой жизни, ни в той которая была до неё. Ни в какой. Никогда. Из-за мелочи. Хамства. Наглости. Подлости. Предательства.
Несмотря на свой скверный характер, работу Тихий делает на совесть. Никогда ни с кем не ругается, почти никогда никому не возражает и тоже с удовольствием меняется с другими сменами.

— Гриииибыыыы! ГриииибыыыыЫЫЫ! — истошно орёт среди ночи тётка в палате в другом конце коридора. От этого адского крика даже у меня кровь стынет в жилах. Я прислушиваюсь своим единственным слышащим ухом, но отчетливо слышу, только редкое и тихое дыхание Юры и то как работают приборы, поддерживающие его жизнь.
Больше не слышно ничего, потому что хоть как-то слышащим ухом я лежу в палату. А тем ухом, которое не слышит совсем, я лежу к двери. Но зато с той стороны где не слышит ухо — хорошо видит глаз. Сейчас он видит, что в крохотной щелочке под дверью появляется тусклый свет. Это включили дежурное освещение. Наконец я слышу торопливые мужские и семенящие женские шаги, проносящиеся мимо палаты. Это санитарки и дежурный врач спешат на помощь.
Хотя чего торопиться? Наверное проснулась уже вся больница. Все проснулись уже, кроме Юры, конечно же.
— Гриииибыыыэээаау! — разносится по больнице.
Я каждый раз вздрагиваю, потому, что кажется, что вопль раздаётся прямо рядом со мной.
Очевидно, дежурный врач и успокоительное достигают своей цели, потому, что всё смолкает.
Но это ненадолго, всего лишь на некоторое время. Вместо криков больницу начинает сотрясать смех. Такой смех, который слушаешь и думаешь, что уж лучше, наверное, пусть бы она продолжала вопить.
Страшный смех у этой женщины. Страшный.
Но для меня страшнее всего, что я помню его. Слышал его после контузии. В больнице. Уже в гражданской. Там, где мы первый раз встретились с Колдуном. Я был ничем не примечательным, с растерянным взглядом, тросточкой и самыми обычными, хоть и не радужными планами на жизнь. В коридоре я часто видел такую же как я — самую обычную женщину с беспокойно бегающими глазами. Именно она смеялась этим потусторонним смехом. Смехом, слыша который хотелось убежать куда-нибудь подальше, там спрятаться и никогда в жизни больше не вылезать.
Смеяться она всегда начинала неожиданно, над чем-то, понятным только ей. Даже напоказ неверующий главврач, всей душой ненавидящий служителей Миссии, услышав этот леденящий душу смех вспоминал Светлейшего.
Колдун, тогда ещё самый обычный пациент, даже близко не помышлявший о служении много разговаривал с этой женщиной. И в большинстве случаев она его внимательно и с интересом слушала. Но всё равно продолжала сторониться людей. Всё время молчала. И только время от времени по коридорам разносился этот дикий хохот.
Всё это было невероятно давно. В одной из прошлых моих жизней, когда я мог ходить и был уверен, что у меня есть будущее. Сейчас я лежу лицом вниз и не знаю: так же худа и замучена эта несчастная женщина, бегают ли всё так же беспокойно её глаза? Но одно я знаю точно — ошибиться я не мог. Это точно она!
Только если раньше она постоянно молчала, то теперь она ходит целыми днями по коридору и рассказывает всем подряд о чудесном месте, где она живёт, а по ночам зовёт грибы. Когда она прерывает свои рассказы на полуслове и замолкает я понимаю, что пришёл Колдун.
12 дней после нападения пса на пьянствующую братву Братюни у гаражей, мы почти не видимся. Колдун заглядывает урывками, спрашивает как я, поит отваром и сразу же уходит. А я лежу и вспоминаю. Вспоминается почему-то в основном непосредственно Братюня.
Он был неплохим. Даже хорошим парнем.
Очень. Очень давно.
В детстве мы с ним дружили. Я был старше его и никому не позволял его обижать. Отца у него не было. И мой отец почему-то всегда с сожалением вздыхал, когда его видел.
— Как дела, братюнь? — спрашивал он, положив руку ему на плечо. Наверное поэтому он так с тех пор и был для меня Братюней.
— Держишься молодцом? Ну давай, давай!
Я вспоминаю, как отец ныряет в холодное озеро, чтобы спасти маленького Братюню, поскользнувшегося на камне во время рыбалки. Как мы его отогреваем и натираем спиртом. Как нам попадает от его мамки и как отец ходит потом с апельсинами к нему в больницу. Непонятно, зачем мы потащили его с нами на рыбалку?
Видимо отец хотел как лучше.
— У пацана нет детства. — говорит он вечером матери, когда думает, что я не слышу.
Но я все слышу и всё понимаю.
У Братюни детство было, но оно было совсем другим. У него есть мамка, которая балует его. Не мама, а именно «мамка» так он её всё время называет. Иногда даже получается очень ласково. После той рыбалки в наши отношения закрадывается холодок. Может он думает, что это я его специально толкнул. А может чего и похуже навоображал там себе.
Этого уже не выяснить. Мы с тех пор как-то больше не разговариваем с ним.
На следующий год летом мамка отправляет его в лагерь, а возвращается он оттуда уже полностью слетевшим с катушек. Он всё время молчит и не реагирует на речь, целыми днями либо спит дома, либо стоит столбом посреди двора и флегматично мокнет под дождём, пока его мамка не приходит с работы и не утягивает его домой.
Братюне уже 14, два года после того злополучного летнего лагеря он провалялся по дуркам, вернулся каким-то скользким, озлобленным, коварным и совсем незнающим границ.
Он начинает пакостить. Несколько раз я слышу, как он кричит про какую-то месть, но выходят у него только мелкие пакости. Не очень понятно кому он собирается мстить, но пакостит он исключительно мамке и своим соседям. Надо признать, пакости у него выходят иногда крайне неприятные.
Несколько раз он был разоблачен, уличен и неоднократно бит. Я практически ничего из этого не видел и не знал. Мне было не до этого, я поступал в училище. Пока я учился, Братюня окончательно двинулся умом. И стал творить вообще какие-то очень странные вещи.
Однажды светлой лунной ночью он рисовал палкой на детской площадке какие-то узоры, а потом дико кричал в небо, стоя голый на коленях в самой середине двора. Я тогда как раз приехал в отпуск к родителям и этот нечеловеческий крик испугал меня до глубины души. Я тогда просто застыл перед окном и не мог оторвать взгляд от этого зрелища. Вот и сейчас эта картина стоит перед глазами. Лунные лучи заливают совершенно типовой двор с ржавой детской площадкой и покосившейся беседкой. Неподвижно замершие деревья тычут в небо свои несуразно кривые голые ветви.
Посередине всего этого великолепия на коленях стоит обрюзгший, совершенно голый, косматый с жиденькой бородёнкой Братюня, и две неуклюжие сосиски рук, вздымаются над многочисленными жировыми складками. Как и деревья ветвями он пытается дотянуться до Луны проткнув небо.
Фигура Братюни размывается. Но зато узоры, нарисованные им в смеси пыли и щебня, становятся ярче в лунных лучах. Я долго разглядываю каждый узор, каждую закорючку, сопоставляю их со сторонами света, вспоминаю, как днём Братюня разогнав местную детвору ходил с палкой туда-сюда по двору и огрызался на каждого, кто решался сделать ему замечание. Потом он начал ставить палку в разных местах и смотрел на получившиеся лунки. Стал тихим и спокойным. Поэтому даже если кто-то и хотел звонить в дурку — передумал, увидев, что Братюня успокоился.
В следующий раз я выглянул в окно уже когда смеркалось. Братюня ходил туда-сюда волоча палку за собой. Это сейчас я понимаю, что он что-то рисовал. Тогда мне, да наверное и всем, казалось, что просто душевнобольной парень ходит и бормочет себе что-то под нос. Если его не трогать, то наверное оно само всё пройдет.
Мамка его давно уже не выходит во двор, да и вообще по ощущениям куда-то делась. Поэтому-то Братюня и сидит беспрепятственно ночью в самом центре круга, в переплетении каких-то древних и страшных букв и узоров, подсвеченным лунным светом и в очередной раз, что-то нечеловечески орёт.
Всё вокруг вздрагивает.
Ворон одиноко вспархивает с дерева, лениво хлопая крыльями и улетает куда-то за дом.… Наверное полетел к Колдуну.
Это было невероятно давно. Очень-очень давно. Когда я ещё был молод и полон сил. А прямо сейчас я беспомощный, жалкий и беспозвоночный лежу лицом вниз в больнице.
Прямо сейчас, как и тогда я неподвижно застыл. Но в этот раз над старым потёртым линолеумом. Это всё, что я уже очень долгое время вижу. Только линолеум, трещинку в кафеле на стене и ножку кровати. Единственное теперь, что я могу сам — это вспоминать прошлое. И вот я делаю всё что могу. Вспоминаю.
Действительно ли был тогда там ворон, или это моя фантазия уже дорисовывает детали?
Тёплая рука ложится на моё плечо.
— Ты молодец! — говорит Колдун — Молодец!
Голос его звучит непривычно мягко и непривычно громко. Хотя стоит он с той стороны, где ухо не слышит совсем. Зато там видит глаз и я вижу, как стоптанным пыльным огромным ботинком он наступает на узор, который нарисовал Братюня. Да и вообще на весь наш двор.
— Всё правильно вспомнил! Стараешься. Скоро окончательно поправишься.- говорит Колдун.
Я как завороженный смотрю на то, как двор родительского дома становится всё меньше и меньше. И вот уже вокруг ботинка Колдуна весь наш микрорайон в миниатюре. И я отчетливо в деталях вижу каждую крышу каждого дома. Вот по одной из них пробирается совсем микроскопическая кошка. И только теперь, когда кошка огибает полуразрушенную печную трубу, до меня доходит, что Колдун за всё это время не сказал ни слова. А всё, что я слышу, звучит прямо у меня внутри головы, мягко и тепло, как раз под тем ухом, которое слышит только звук далёкой ракеты, летящей в кабину пилотов.
Он хлопает меня по плечу. Почему-то именно прикосновения Колдуна не причиняют мне вообще никакой боли, тогда как каждое прикосновение медицинской сестры или доктора потом ещё долго отдаётся во всём теле.
Колдун задумчиво уходит, не покормив меня бульоном и не хехнув, по традиции. Дверь закрывается, и мир погружается в темноту.
Почему-то сегодня позже обычного он приходил. И как его вообще пустили, ведь уже ночь и пора спать?
— Кстати. — внезапно говорит голос в моей голове, с той стороны, где ухо не слышит совсем. — Я нашёл нам нового проводника.
Это здорово. Надеюсь с ним будет всё не так как с Толстяком.
Эх, Толстяк-Толстяк.
— Спи спокойно! — говорит голос у меня в голове — Завтра трудный день — начнём тренировки!
Прилетевший ворон приземляется прямо на родительский подоконник, широко распахнув крылья, и мир заполняет окончательная и беспросветная темнота.
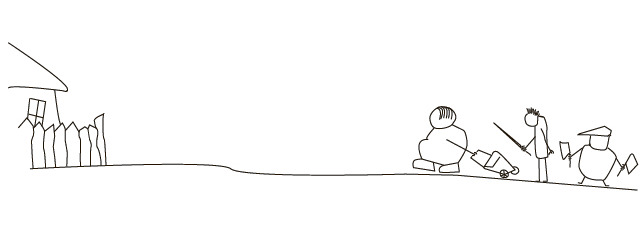
Мы входим тихо-тихо, спинами прижимаясь к забору. Так, чтобы особо не светиться перед соседями. Тут, конечно, можно особо не стараться — соседи уже давно смирились, что в этот переулок со всего района стекаются всякие мутные личности.
Со стороны, когда мы только ещё подходим к переулку, мы выглядим именно так — какие-то мутные типы. Впереди, широко шагая и тяжело дыша, переваливается с ноги на ногу Колдун. Его длинные седые волосы с фиолетовым оттенком постоянно падают на лицо и он периодически то сдувает их с лица, то неуклюже смахивает опухшими сосисками пальцев. За Колдуном скрипя на весь район катится его вечная тележка с разными колёсами. Следом в расстёгнутой мятой видавшей виды лёгкой курточке, поверх майки-алкашки, засунув руки глубоко в карманы широких потёртых штанов идёт Бурят. Он оглушительно шаркает своими поношенными кроссовками. Я ссутулившись и опустив голову плетусь за ними, лопатки мои словно обрубки крыльев ангела топорщатся под выцветшей камуфляжной курткой. Камуфляжные же штаны болтаются, ботинки стоптаны и тоже выглядят чересчур большими. Трудно в это поверить, но еще два года назад — всё это было мне в пору. Семь сотен дней. Теперь камуфляж велик, даже будучи надетым сверху на робу заправщика.
Но стоило нам завернуть в переулок и подойти к воротам, как мы становимся совсем другими. Внешне это не особо заметно. Мы такие же неуклюжие и отталкивающие, но шаги наши становятся более плавными, руки вылезают из карманов, Бурят перестаёт шаркать, а колесо тележки Колдуна как будто даже скрипит гораздо тише.
Шайтан присоединяется к нам, когда мы уже почти подходим к воротам. Он неожиданно возникает из-за какого-то незаметного выступа покосившегося забора.
Мелкий, тощий с торчащими ушами и шрамом через левую щеку, он поправляет кепку, шмыгает носом и одновременно цыкает зубом. Колдун на ходу кивает. Скорее всего Шайтан подаёт сигнал, что всё чисто. Он недоверчиво косится на меня, наверное это из-за того, что я в прошлый раз чуть не завалил всё, и неодобрительно покашливает. Колдун раздраженно машет на него рукой. Шайтан отворачивается и недовольно сплевывает. Половины зубов у него во рту нет.
Кого волнует мнение этого мелкого шибздика?
И уж тем более никто в тот раз не мог предвидеть, что всё обернётся именно так. И потом, там много кто не успел сориентироваться, а не только я. Голоса эти в голове, картиночки, мысли чужие, травяные сборы. Для меня в диковинку это всё.
Было в диковинку. Сейчас уже вроде как обвыкся. Знаю всё, что нужно знать, делаю всё, что нужно делать, вижу всё, что нужно видеть.
Шайтан разжимает кулак, и из рукава поношенной джинсовой куртки выпадает обрезок водопроводной трубы. Синие пальцы ловят её уже на подлёте к земле, и его нос делает ещё один шумный вдох.
Какой-то он невероятно шумный этот Шайтан. Сопит, пыхтит, сплевывает все время. Даже шаркающий ногами Колдун с отдышкой и вечно скрипящей тележкой, кажется, производят меньше шума, чем этот Шайтан одним своим носом.
Нужно дышать глубже, нужно не циклиться.
Мне кажется, что я слышу писк крыс, покидающих район — такая страшная атмосфера окружает всех нас. Ещё и эти шмыгания носом опять. Я на ходу пытаюсь попасть рукой в медицинскую перчатку. Выходит не очень. Руки дрожат. Нужно снова выдохнуть и перестать нервничать и торопиться. Шаг, ещё один и ещё один. Пальцы попадают куда надо, и перчатка оказывается надетой на руку.
Наконец мы останавливаемся перед покосившимися воротами с открытой настежь калиткой. Останавливаемся так, чтобы нас не видно было из дома. Стоя надевать перчатки проще — вторая поддаётся практически сразу. Колдун достаёт из своей тележки какие-то тряпки и раздает их нам.
От тряпок воняет.
Сильный приторный запах чего-то прокисшего, забродившего разложившегося вызывает такое отторжение, что к горлу сразу подкатывает ком. Но вообще, если чуть привыкнуть и дышать через раз — пахнет какими-то травами и гнилью. Это не химия, но запах всё равно невозможный.
Шайтан долго не хочет брать тряпку из рук Колдуна, но в конце концов, под тяжелым пристальным взглядом, всё-таки сдаётся, и взяв её, брезгливо повязывает на манер ковбойского шейного платка. Я тоже не знаю зачем нам это всё. В случае даже самой слабенькой химической атаки, например из газового баллончика такая защита крайне сомнительна, однослойная ткань пропитанная травяным настоем, скорее даже губительна. Кто знает, как поведёт себя газ соединившись с этой вонью? Но спорить с Колдуном себе дороже, и я нехотя повязываю платок, закрывая нос. Почему-то сразу вспоминается, как мы с отцом ездили помогать бабушке в деревню.
Это было детство, было тепло, был сенокос, за мной бегал по двору бычок. Потом меня пугал страшный белый гусак. А ещё у бабушки на цепи жил ласковый мохнатый пёс.
Такой же мохнатый пёс едва слышно скулит спрятавшись за будкой, когда мы входим во двор.
Не крадёмся, но идём очень тихо. Не прячемся, но очень стараемся казаться незаметными. Домик такой же, как был у бабушки. Такой, если внезапно на него обрушился бы средний город областного значения. Маленький, перекошенный с крохотными окнами, штукатурка, с некогда беленых стен, отваливается кусками. Двор окружен высокими соседскими заборами и весь зарос бурьяном. Зарос по плечи. В таких зарослях можно спрятать партизанскую деревню и искать её потом целую неделю.
Готовимся. Подходим.
На крыльце спит какой-то мужик. На крыльце находятся его голова и руки, а тело и ноги скрытые в полумраке дома любезно придерживают нам дверь. Колдун плюхается на лавочку у дома, шумно выдыхает и опускает голову на руки, лежащие на ручке тележки.
Всё. Дальше мы сами.
Каждый из нас достаёт по маленькому мешочку с травяным сбором сделанным только для него. Я поднимаю тряпку, подношу мешочек у носу и сжимаю свой мешочек пальцами. Внутри что-то щелкает и запах плотной пеленой ударяет в нос.
Как будто бежишь по огромному ровному полю. Трава тебе сначала по пояс, потом всё выше и выше и наконец ты бежишь среди травяных стеблей скрывающих тебя с головой. Со всех сторон запах растущей зелени, ты точно не попадёшь ногой ни в какую норку или ямку, и самое главное, ты точно знаешь куда бежать.
Каждый из нас точно знает куда бежать и что делать.
Мы входим.
Первым, помахивая трубой, как кот хвостом входит Шайтан. Я перешагиваю через лужу блевотины на крыльце и пригибаясь в косяке вхожу в дом.
Ба! Да тут гашеные все.
Вдоль стен большой комнаты раскиданы матрасы, на матрасах лежат какие-то люди. Одни тихонько сопят, другие что-то бормочут во сне, кто-то стонет. Чем пахнет в этом, никогда не проветриваемом, помещении я не знаю и знать не хочу. Но дышать здесь совершенно невозможно.
Из соседней комнаты на четвереньках выползает какой-то опухший мужик со спутанной бородой. Он оглядывает нас мутным взглядом и начинает блеять как совершенно взаправдашний баран. Бурят медленно замахивается правой рукой, очевидно прикидывая как получше и побесшумнее уложить этого псевдокопытного. Но мужичок, не отрывая взгляда от кулака Бурята, сам по себе падает лбом в пол. Бурят легонько толкает его ногой. Бородатый начинает храпеть и через тряпку и невыносимую вонь в помещении я чувствую его перегар.
Шайтан снимает повязку, шмыгает носом, морщится, потом снова надевает. И снова снимает её. На мой удивлённый взгляд он презрительно кривится и сплёвывает куда-то в угол.
Зря, нельзя оставлять улик.
Хотя-я-я. Тут такая адская грязь, что даже самые матёрые опера предпочтут повесить всё на кого-то из этих вот пассажиров, чем ковыряться здесь, пытаясь найти наши следы. Вполне возможно что плевок Шайтана чище в сто раз, чем пол на который он плюнул.
Проходим комнату насквозь и выходим на веранду. Что-то вроде кухни, здесь стоит стол, плита. Явно не рабочая — завалена каким-то хламом. На подоконнике валяется пыльный нож, похож на охотничий. Шайтан хмыкает и указывает в его сторону трубой. Пожимаю плечами.
Ладно.
— Оружие найдёте на месте. — инструктирует нас Колдун, когда мы только встречаемся. — Всё должно быть оттуда. Должно быть местное. С тамошней энергетикой. Иначе… эээ. Иначе мы не пройдем. Сигналка сработает. Ясно?
Чего не ясного то. Всё понятно.
Взвешиваю нож в руке. Самоделка, но самоделка качественная. Взвешиваю на пальце. Хороший баланс, отполированная рукоятка. Острота клинка тут не важна — не салат пришли резать.
Из дома мы попадаем на узкую тропинку, за нами раздаётся оглушительный храп. Шайтан вздрагивает и оборачивается. Мы с Бурятом на секунду замираем — сойти с тропинки некуда. Шайтан ещё раз сплёвывает и мы двигаемся дальше. Аккуратно, как пантеры перед прыжком. По обеим сторонам от тропинки растёт конопля. Она огромная. Растёт рядами. Проходя очередной ряд я смотрю в междурядье слева и справа. Там тропинки. Утоптанные и забросанные вроде опилками. Чтобы даже в самый лютый дождь можно было ходить и ноги при этом оставались чистыми. Сразу видно, что кто-то за этим всем следит и поддерживает идеальный порядок. И этот кто-то уж точно не один из этих торчков, которых мы оставили в доме. Надо отметить, что контраст между домом и огородом разительный. Но отмечать некогда — нужно быть настороже.
Напряжение нарастает. Воздух становится густым и почти ощутимо вязким. Несмотря на сборы, которые вроде должны делать нас бодрее, наоборот наваливается какая-то невыносимая тяжесть. Сначала очень тяжело поднять голову, потом каждый шаг даётся с огромным трудом. Нож в руке тяжелеет.
Он становится как утюг, потом как гиря и через пару шагов, сделанных через силу, кажется, что ты пытаешься кончиками пальцев держать танк падающий в пропасть.
Из междурядья конопли, резко разрывая загустевший воздух, совершенно неожиданно, на Шайтана выпрыгивает чёрная тень. Шайтан, такой же отяжелевший, как и мы, хоть и пугается, но всё-таки успевает панически выставить согнутую руку и отталкивает тень локтем в полёте. Она приземляется и широко расставив лапы оглушительно шипит, перегораживая собой нам дальнейший путь.
Это самый обычный облезлый чёрный кот с желтыми глазами. Безобидная животинка. Но на земле перед прижавшим уши зверем лежит клок рубахи выдранный из рукава Шайтана. А у самого Шайтана с локтя вот-вот сорвется первая капля крови, которая положит начало ручейку. Даже я вижу, что царапины на руке Шайтана очень глубокие. Чем дольше шипит кот, тем сильнее холод схватывает ноги и начинает ползти по позвоночнику вверх. А шипит он не останавливаясь. Невероятно страшно от его шипения, хочется всё бросить и бежать, но за спиной тяжело дышит Бурят.
Шайтан легонько качнув трубу направляет её в сторону кота, тот сначала вроде как отпрыгивает, но потом сгруппировавшись делает какой-то сумасшедший рывок и прыгает прямо Шайтану в лицо. Тот пытается закрыться, но кот уже вцепился в лысую голову Шайтана, по оттопыренным ушам течет кровь, сам Шайтан что-то неразборчиво и отрывисто восклицает, а потом переходит на визг. Этот визг приводит меня в себя, оцепенение спадает, холод сменяется жаром и я с размаху бью кота ножом. Остриём прямо в его открытую, удачно подставленную мне для удара, шею. Кровь фонтаном вырывается из шеи этого зверя, он медленно убирает зубы от окровавленного лица Шайтана, поднимает свою уже намокшую от крови мохнатую голову и пристально вглядывается в меня своими страшенными зеленющими глазами.
Я снова превращаюсь в столб. Несколько секунд назад глаза кота были жёлтыми. Да и ладно глаза, от такого удара ножом он должен был уже умереть, заорать, отпрыгнуть, обмякнуть, запаниковать, укусить меня в конце концов, но только не так вот спокойно смотреть на меня своими, постоянно меняющими цвет, глазищами. Бурят проламывается между мной и конопляной стеной, подняв тучу едкой дурманящей пыли, и схватив кота за шиворот с лоскутами кожи сдирает его с головы Шайтана.
Шайтан издаёт дикий вопль, вопль полный боли и ненависти. Бурят кидает окровавленного кота на тропинку между ними, и Шайтан тут же со всего размаху ударяет трубой. Мне кажется, что я слышу хруст костей, а потом уши закладывает от невероятно пронзительного вопля. На встречу нам по тропинке несётся девчушка лет четырнадцати, угловатая, лохматая, тощая и невероятно быстрая. Она держит на вытянутых над головой руках топор. Теперь в авангарде у нас Бурят, а я до сих пор остолбеневший стою за спиной Шайтана. Бурят, теперь самый подвижный из нас, принимает удар на себя. Он делает шаг на тропинку между рядами конопли, уходя вправо от удара девочки, та по инерции пролетает мимо него. Бурят хватает её сзади за топор и дёргает его на себя. Шайтан в это время снова наотмашь бьет перед собой трубой как саблей. Кусты мнутся под тяжестью упавшего тела, и время снова замирает.
Шайтан оборачивается ко мне. Левая сторона его лица залита кровью. Правый глаз горит, левый то ли вытек, то ли его просто не видно. Шайтан хищно рычит.
Сердце делает один медленный гулкий удар и время, до этого тянувшееся невероятно медленно вдруг решает нагнать всё, что оно упустило. Кажется, что ускоряющие сборы наконец-то подействовали. Потому что дальше всё несется галопом. Сердце стучит в ушах всё громче и громче:
«Надо быстрей! Надо быстрей!»
А может это совсем не сердце, а шепот Колдуна?
«Надо быстрей!»
Цель уже рядом. Штурмуем летнюю кухню.
Кто был интересно этот человек, который устроил летнюю кухню в противоположном от дома конце участка? А может это раньше был сарай, а потом….
Да-да. Совсем не время отвлекаться на посторонние мысли. Нужно быть здесь и сейчас!
Перепрыгиваем по очереди через размазанную по тропинке тушку кота и стараясь максимально далеко обойти дергающиеся в конвульсиях, торчащие из зарослей, девичьи ноги. Такие же тощие и чересчур загорелые ноги были у одной бабушкиной соседки в детстве. Но не о том опять мысли, ох, не о том.
Бабушка, сеновал, отец, деревня, гусь. Гусь больно щипает меня за руку и я словно просыпаюсь. В дверях стоит бабка. Она грузная, опухшая, неопрятная, в засаленном драном халате. В очках с одной дужкой и разных тапках. Чем-то она даже смахивает на Колдуна, но только годков на двадцать постарше. У неё такие же свисающие дряблые щеки. Такие же огромные жабьи губищи и неимоверно толстые руки. Уперев их в такие же безразмерные бока она стоит спокойно, монументально и внушительно.
То ли от этого её спокойствия, то ли от того, что снова что-то сбоит в колдуновских сборах мы как будто замедляемся.
Штурм захлёбывается.
Хотя какой это штурм? Еле ноги передвигаем. Но пыжимся изо всех сил. А тут она ещё и вскидывает руку нам на встречу и что-то кричит. Я не слышу вообще ничего, вижу только краешком глаза, как шлёпают жабьи губы и желтые пеньки зубов в черной пасти. Скорее всего, то что вырывается изнутри неё — это приказ остановиться. Потому, что почти уже добежавший до бабки Шайтан, останавливается как вкопанный. Другой рукой бабка швыряет в нашу сторону какую то пыль.
Я вижу как во время броска, от резкого движения безобразно трясутся её морщинистые щёки и обвисшая кожа огромных рук, и как при этом волшебно всеми возможными цветами блестит пыль брошенная в нас. Бурят уклоняется и сразу же начинает дико кашлять, Шайтан хватается за горло и дико зашипев валится на бок.
«Пора» — слышу я мягкий тёплый голос под правым ухом. Он одновременно и толкает меня вверх и заставляет сжиматься вниз. Я чувствую, что я скручен как пружина.
Да, я пружина. Моя функция именно в этом. Разжаться в нужный момент, по условному «пора». И пока сверкающее и чудесное облачко пыли не дошло до меня, я распрямляюсь и швыряю нож. С неимоверной силой и скоростью он летит в бабку, так и застывшую с вытянутой в нашу сторону рукой.
Я вкладываю в свой бросок всю силу, которая у меня есть. Это тяжело.
Это как вырвать закрытую дверь горящей машины.
Это как порвать заклинивший ремень безопасности.
Это как удержать падающий в пропасть грузовик.
Это как пружина распрямляется внутри расплавленного металла. В последний раз. По мере распрямления, сгорая сама.
Суставы вылетают из пазов, мышцы и сухожилия рвутся. Рука по частям устремляется за ножом, но вот непослушные уже и как будто чужие пальцы отпускают рукоять и нож улетает. Медленно вращаясь он пролетает сквозь пылевое облако.
Некоторое время мы стоим как двое тянущихся друг к другу влюбленных на той знаменитой картине. Но это, наверное, только со стороны так кажется. Я хоть и не вижу своего лица, но наверняка оно так же перекошено, как и у неё. Вряд ли, конечно, мои щёки и спутанные волосы непонятного цвета, так же подались вперёд, но наверняка одухотворенного в моём лице тоже мало.
В этот раз колдуновские сборы действуют как-то урывками, то всё вокруг быстро, то совсем наоборот. Вот сейчас всё тянется и тянется, и пущенный мной нож, старательно разрезая воздух, всё никак не долетит до цели.
Но всё-таки он долетает под удивлённым взглядом старой жабы. Она издавая какой-то странный хрип, вытянув руки перед собой, падает назад. Очки с одной дужкой, перемотанные изолентой, валятся вперёд.
Облако пыли, рассеченное пополам пущенным ножом, в свою очередь долетает до меня. Я долго борюсь, стараюсь не дышать, но бешено колотящееся сердце таки заставляет сделать вдох.
Короткий и глубокий. Как будто вынырнул на секунду из воды и вдыхаешь до того, как тебя накроет новой волной. И ей накрывает. Сквозь запах леса, деревьев и трав накатывает мощная океанская волна и я сгибаюсь в диком кашле. Волна оставила после себя соль. Все дыхательные пути превратились в соляную пещеру. Там растут соляные кристаллы. Сталактиты и сталагмиты. Нет больше никакой слизистой. Всё высохло. И с циничным скрежетом трётся друг об друга.
Я кашляю до тех пор, пока перед глазами не начинают плыть красные круги. Пока в мире вокруг не остаётся ничего кроме этих кхыкающих звуков. В один из моментов когда мне не хватает воздуха, всё вокруг меркнет и я падаю.
Очухиваюсь от того, что колесо тележки Колдуна проезжает по моей руке. Рычу. Сталактиты в моём горле утробно и гулко звенят в такт. Если не глубоко дышать, то вроде как прохладный ветер проникает в соляную пещеру. А если дышать ещё и ртом, то вроде как даже сухости в горле становится меньше, неужели помогает Колдуновская тряпка-вонючка.
Рычу ещё раз.
— О-о-о! Ты живой? — удивлённо говорит Колдун и трогает меня носком своего бесцветного ботинка.
Вместо ответа я пытаюсь подняться
— Это хорошо. — говорит Колдун. — Пошли, поможешь мне как раз
Колдун как ошарашенный мечется по подвалу. Я первый раз вижу его таким взбудораженным. Обычно он флегматичный и немного депрессивный, а тут он шныряет от одной стены к другой, хватает с бесконечных полок какие-то банки. Трясет их, пытается сквозь мутное стекло разглядеть содержимое. Некоторые он бережно ставит на место, некоторые как попало кидает в свою тележку. Зачем ему это всё?
Как будто услышав мои мысли, он останавливается взглядом на мне и, вжавшемся в угол и всё ещё кашляющем рядом, Буряте. Он смотрит на нас, а рука его уходит мимо банок куда-то глубоко в стеллаж. Он долго что-то там шарит, а потом странно улыбнувшись подзывает нас к себе.
— Беритесь с той стороны — говорит он дрожащим голосом. — а я здесь возьмусь и отодвинем его от стены.
Мы беремся.
— Только аккуратно давайте, чтобы банки не поронять.
Мы беремся аккуратнее. Но это очень плохая идея. После бешеной гонки, короткого, но выматывающего боя с котом, девочкой и бабкой, мы до сих пор не пришли в себя. Бурят кашляет как сумасшедший, меня не слушаются пальцы, да ещё и стеллаж сколоченный из грубых досок и весь уставленный банками оказывается невероятно тяжёлым. Мы долго пыхтим, что бы сдвинуть его с места. Наконец он поддаётся, и мы выдвигаем его сначала сантиметров на пятнадцать, потом еще сантиметров на десять.
— Поднажмём маленько! — пыхтит Колдун.
И мы поднажимаем. Потом поднажимаем ещё маленько, наконец стеллаж отодвинут на достаточное расстояние от стены, я вижу, что там какая-то дыра заваленная то ли соломой, то ли травой какой-то.
Со стеллажа падает банка, но Бурят успевает подхватить её.
— Кхм! — строго кашляет Колдун — давайте это, не загораживайте свет.
Мы послушно теснимся с Бурятом ближе к выходу.
— Кхм! — ещё раз кашляет Колдун на этот раз многозначительно. Повисает тишина, мы стараемся не двигаться. Колдун как-то очень странно смотрит на нас. И в этот момент слышно, как наверху начинает плакать ребенок. Колдун вздрагивает.
— Давайте, — говорит он. — заткните его там! Одно дело, когда в притоне алкаши орут, а на ребенка сейчас пол района сбежится. Сердобольные же все.
Мы с Бурятом двигаемся к выходу, когда Колдун говорит:
— Погодите!
Он залезает своей огромной ручищей в сумку и начинает там шарить. Слышно как звенят банки. Он достаёт два пестрых платка.
— Меняйте повязки! Только быстрее, а то ребеночек себе грыжу наорёт.
Мы снимаем старые платки, отдаём их Колдуну и повязываем новые. Эти пахнут уже не так противно. Или мы принюхались.
Поднимаемся из темного подвала в залитую светом летнюю кухню. Поднимаемся осторожно, потому что на пороге лежит ногами на улицу красномордая бабка в халате и из под неё вытекает лужа крови. В ворохе белья между разделочным столом уставленным грязной посудой и черной от готовки, налипшего жира и пыли, газовой плитой барахтается младенец. Как же мы не заметили его, когда входили? Наверное просто не обратили внимания на кучу грязного тряпья. Да и Колдун нас торопил.
— Быстрее давайте! — глухо кричит из подвала Колдун. — Что вы там копаетесь?
Бурят протягивает к шее младенца свои огромные ручищи. У меня ёкает сердце. У Бурята очевидно тоже, потому что он на секунду замирает, как бы раздумывая, потом откашливается. Снизу слышится недовольное пыхтение Колдуна. Он наверняка недоволен, что ребенок всё ещё плачет. И это риск, очень большой. Колдун прав.
С точки зрения соседей алкаши и нарки, которые целый день орут, те пусть хоть переубивают друг друга, все только обрадуются. Но вот ребенка мучить нельзя, ребенок может вырасти хорошим. Нужно только дать ему шанс. Бурят откашливается ещё раз, аккуратно подхватывает ребенка на руки, устраивает его на сгибе локтя и начинает покачивать. Ребёнок замолкает на пару секунд, а потом снова начинает орать. Я замечаю на газе совершенно закопчённую кастрюльку с водой. В остывающей воде стоит, видимо никогда не мытая, бутылочка со смесью. Бурят тоже её замечает, выхватывает бутылочку из воды встряхивает, и прижав ребёнка к груди, оттопыривает кисть и капает несколько капель из бутылки себе на внутреннюю сторону запястья. И очевидно удовлетворившись результатом сует соску в рот малышу. Крик мгновенно смолкает.
В напряженной тишине слышно как внизу возится Колдун, он пыхтит, шуршит, гремит банками и что-то бормочет себе под нос. Наконец он выбирается из подвала и кое-как, со скрипом и пыхтением, вытягивает свою разбухшую от банок тележку. На лице его удовлетворенное выражение, как у ребенка, который заказал подарок, ждал его год и получил именно то, что хотел. Однако увидев кормящего Бурята Колдун сереет и свирепеет. Таким я его тоже никогда не видел. Он краснеет, сжимает кулаки, скулы проглядывают под его жирными щеками, он даже оставляет свою драгоценную тележку и тяжелыми шагами идёт к Буряту. Бурят стоит к Колдуну в пол оборота. Они очень долго молча смотрят друг на друга.
— Я имел в виду совсем заткнуть!. — хрипло говорит Колдун.
Бурят молчит, в тишине слышно, как младенец чавкает. Колдун медленно опускает ледяной взгляд вниз на ребенка и лицо его вытягивается от удивления. Он осторожно поднимает руку к лицу ребенка и Бурят поворачивается так, чтобы не дать ему прикоснуться к малышу.
— Да не буду ничего я делать! — ворчит Колдун — Просто посмотрю.
Бурят недоверчиво поворачивается и Колдун касается пальцем трех родинок под левым глазом малыша.
Я первый раз вижу как он смеётся. Негромко и очень хрипло. Широченная улыбка озаряет его лицо.
— Ах ты ж стерва-курва! — весело говорит он лежащей на полу бабке и вроде даже собирается легонько пнуть её ногой, но передумывает. — Самое дорогое притарила! Чуть не обманула меня! Молодцы! — это он уже говорит нам, и мы не сговариваясь приосаниваемся — Правильно сделали всё!
И он снова смеётся.
Колдун счастлив!
— Ладно, давай комод передвинем. — говорит он мне. И мы передвигаем комод обратно на место, ставя его на половик, которым была накрыта крышка люка, до того как мы пришли.
Теперь мы торопимся на выход. У посиневшего и скрюченного тела Шайтана Колдун задерживается, недолго смотрит на него потом дает команду покрепче завязать платки на лицах. Повязывает платок и себе. Ребёнка он завязывает в платок полностью.
Что у него там в тележке, гардероб для табора?
Потом Колдун возвращается и вынимает из кармана у бабки огромную горсть серого с блёстками порошка.
Мне доверено катить его тележку, Бурят несёт ребенка. Проходя через дом Колдун заглядывает в каждую комнату и щедро посыпает там порошком. Алкаши и наркоманы в отключке начинают ворочаться и сипло хрипеть.
— Хех, — посмеивается Колдун, когда мы отойдя на квартал моем руки и лица под ледяной водой уличной колонки. — Без меня сюда ни ногой! — предупреждает он нас. — Видели, что бывает, с теми кто думает, что он самый умный?
Это очевидно он про Шайтана.
Конечно видели. Выводы сделаны. Это же давно понятно, что с Колдуном лучше не шутить.
— Расходимся! Найду как обычно! — говорит он, и они с Бурятом уезжают, на поджидавшем их все это время, старом гремящем грузовике.
— …тогда пересечёмся во вторник и по контрактам как раз решим.
— Да, вторник устраивает. Я после обеда в офис к тебе подскочу, Михалыч. Кстати, а ты Чернобая давно видел?
— О-о-о-о.
— Что «о-о-о-о»?
— Ты же не знаешь ещё, да?
— Чего не знаю?
— Чернобай же плох совсем.
— Что случилось?
— Заболел же он сильно.
— Как заболел? Я же вот его видел не так давно.
— Так он не так давно и заболел. Поехал, говорят, в этот притон. Ну где ещё, помнишь, бабка сумасшедшая?
— Какой притон?
— Ну халупу свою продавать не хотела.
— Какую?
— Ну, участок Б-702 на плане, где электрический узел для торгового центра должен был быть.
— А-а-а — а, да-да, там ещё две избушки на курьих ножках и огород заросший травой. Ну помню, ага.
— Так вот там бабка самогон гонит и алкашей всех местных у себя собрала.
— И чё?
— Ну, Чернобай ребят взял и к бабке этой сунулся. С благими намерениями. Тырым-пырым. А она только вышла, глянула на них, чихнула и ушла обратно. Они там постояли чуть, да и по другим делам поехали. Что там с этой бабкой заморачиваться? Решили, что раз она по-хорошему не хочет, то придётся как обычно. Тем более вряд ли расстроится кто-то, что она ну… кхе-кхе… сам понимаешь.
— Ну, и что? И что?
— А то, что ночью пацанов всех прохватил кровавый понос, а Чернобай слёг с головной болью. Ну вот…
— И что? Доктора, что говорят?
— Доктора лечат их всех, но, по ходу, они и сами там не знают от чего. Пацаны все очень плохие, а Чернобай просто на стену лезет. Обезболивающие ему не помогают.
— Да ну, блин! Порчу, что ли навела карга старая?
— Да кто ж её знает?
— Надо решить с ней, Михалыч!
— Да как решить-то, родной? Три бригады поехали и все пропали.
— Что с концами пропали?
— В том-то и дело, что все…
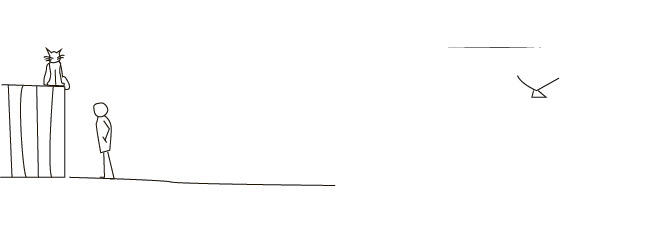
На углу забора умывается кошка. Обычная такая кошка, каких полно в любом дворе, где есть хоть одна сердобольная бабуля. Кошка в основном чёрная в белых пятнах. Точнее эти пятна были белыми когда-то давно. Теперь они грязно-коричневого цвета. Кошка временами отрывается от умывания и не опуская лапу щурится на солнце и снова принимается умывать свою совсем несимметричную морду. Наконец что-то отвлекает её от сосредоточенного умывания и она смотрит вниз. Туда, где стоит человек. Он стоит на тротуаре, держит руки в карманах спортивных штанов и не сводит с кошки глаз. На секунду их глаза встречаются.
Два взгляда усталых хищников, про которых никак не скажешь, что они хищники. Этот человек и эта кошка — они чем-то похожи, чем-то неуловимым. То ли манерой смотреть, то ли напряжением в мышцах, то ли готовностью атаковать без промедления. Сторонний наблюдатель обязательно увидит между ними внешнее сходство: следы от многочисленных шрамов, общая потрёпанность одинаковый недоверчивый и злой взгляд. Только у кошки один глаз закрыт бельмом. У человека через один глаз проходит шрам. Кошка зевает демонстрируя человеку один поломанный клык. Человек усмехается. С одной стороны у него не хватает нескольких зубов, а некоторые зубы золотые. Кошка лениво оглядывается по сторонам и, важно махнув хвостом, уходит по забору налево. Человек помедлив некоторое время, тоже оглядывается, но как-то воровато и сворачивает за кошкой за угол. Через минуту за этот же угол сворачивают два бездомных пса, взявшихся из ниоткуда, но бегущих весьма целенаправленно. Оба беспородные, нескладные, со слишком длинными ногами и короткими телами. Они явно бегут по следу, но при этом даже не опускают головы вниз, чтобы принюхаться.
А если посторонний наблюдатель решит проследить за псами он увидит, что псы действительно идут за мужчиной. Больше нет никакой кошки, которая вела бы его за собой. Он идёт сам, напрямик через пустырь между домами. Походка его быстра и бодра, даже несмотря на то, что он сильно подволакивает одну ногу.
По пустырю навстречу ему идут несколько парней. Молодых, сильных, уверенных в себе. Ещё издалека они растягиваются в цепь, как бы окружая мужчину и что-то ему говорят.
Кто угодно, даже не слыша слов, просто по позам и диспозиции людей, их лицам и движениям, сразу поймёт, что творится неладное и нехорошее. Но никто посторонний ничего этого не видит, да и не может видеть. А тот кто видит и наблюдает — совсем не посторонний.
Ворон пикирует над молодыми и сильными парнями и кого-то из них даже задевает краешком крыла. Пока те отвлекаются на него и говорят что-то обидное в его адрес на пустыре за спиной мужчины появляются бродячие псы.
Их много. Они стягиваются со всех сторон. Отдельные группки собираются в цепь. Лохматое воинство. Стая против стаи.
Они подходят молча. Не скалятся, не рычат, не поджимают хвосты. Они просто подходят вплотную, обтекая лохматой волной мужчину и на несколько секунд замирают между ним и парнями, как бы проводя невидимую грань.
Глядя людям в глаза огромная стая безмолвных псов синхронно делает шаг вперёд. Спокойный, твёрдый и уверенный шаг. Потом ещё один и ещё один.
Они идут молча, все вместе. Маленькие, большие, лохматые и не очень. С длинными хвостами, с короткими хвостами, вообще без хвостов. Их уши разных форм и размеров колышутся в такт их шагам.
Парни вздрагивают.
Парни переглядываются.
Парни отступают.
Сначала на шаг. Потом ещё на один. Многие держат руки в карманах как бы не решаясь достать нож, цепь или кастет. Хотя решимости у этих парней не занимать. Мужчина смотрит на их отступление совершенно отрешенным взглядом. Ему совершенно не интересно это всё. Он равнодушно обходит псов и продолжает свой путь через пустырь.
Пройдя через несколько дворов, в которых дети играют в пыли детских площадок или качаются на ржавых качелях, мужчина опять натыкается на кошку.
Она опять сидит на углу. Там где между плохо состыкованными бордюрами растет сорняк. На этот раз кошка холёная, домашняя, пугливая, полосатая и очень пушистая. Увидев мужчину кошка покидает своё место и перебежав на другую сторону останавливается у палисадника соседнего дома. Оборачивается и смотрит, заметил ли её мужчина. Поймав его взгляд кошка передумывает нырять в палисадник, а бежит вдоль кривого забора из каких-то старых железок и заворачивает за угол дома. Направо. Когда мужчина поворачивает за угол, кошка дождавшись пока он увидит её — ныряет в подвал через маленькое окошко в фундаменте дома. А мужчина отправляется дальше по дороге между домами. Он минует мамаш с колясками, лавирует между припаркованными на крохотных тротуарах машинами и выходит на другой пустырь.
Здесь полицейские сидя в машине со включёнными мигалками скучающим и равнодушным взглядом сканируют людей бестолково толпящихся перед торцом одного из домов. Люди ничего не говорят и ничего не делают. Они просто стоят и смотрят. Смотрят на стену на которой от первого до последнего этажа нарисована женщина с младенцем. Мужчина тоже смотрит на рисунок. Женщина кажется ему знакомой.
Он видел её где-то.
Может это его родственница? Знакомая? Кто она?
Он видел, как она смеётся. Помнит, как она собирает со стола тарелки в одну стопку. У неё точно такое же выражение лица, как тогда когда она гладит вещи.
— Принёс? — внезапно спрашивает кто-то сзади.
Мужчина оборачивается. Перед ним стоит безобразный старик. Жирный, крайне неряшливо одетый, одной рукой он держит старую потасканную и пыльную сумку-тележку с разными колёсами. А пальцами-сосисками другой руки он пытается убрать с лица длинные волосы, наполовину седые наполовину фиолетовые.
— Ну? — нетерпеливо спрашивает старик.
Мужчина смотрит ему в глаза и видит, что грозный тон никак не соответствует, той неуверенности, что плещется на дне его зрачков. Это эмоции живых. Мужчина проделавший долгий путь помнит о них, но совершенно не помнит как это чувствовать. Мимо них проходят двое взрослых, которые ведут за руки ребенка. Ребенок периодически подпрыгивает, подгибает ноги и хохочет оттого, что взрослые удерживают его на руках, так как будто он летит.
Да, он точно так же проделал большую часть пути сюда, но эмоций при этом никаких не было. Ни детского восторга, ни радости, ни ощущения невесомости. Только холод в ладонях, от прикосновения ещё более холодных рук, за которые он держался. Ещё был холод вокруг.
Родители слегка раскачивают ребенка и со смехом не отпуская при этом выкидывают вперед. Ребенок радостно верещит.
Жирный старик со спутанными волосами недовольно покашливает.
Мужчина вынимает из кармана правую руку и протягивает её старику. Как монарх протягивает подданному руку для поцелуя. Медленно и с достоинством. На среднем пальце поблёскивает тот самый перстень. С выпуклым глазом коня, в зрачке, которого выгравировано птичье перо.
Колдун утвердительно хмыкает, снова убирает падающие на лицо волосы и кивком головы приглашает мужчину идти за ним.
Ни один посторонний наблюдатель, если бы он конечно был, не понял бы, что произошло. Но посторонних здесь нет. Одним глазом ворона я вижу Колдуна и мужчину в спортивке уходящих с пустыря, другим глазом я вижу падающее из моего оперения перо. Оно совсем не такое, как в кольце.
Под ухом раздаётся теплый смешок.
Пора!
— Куда ты, Беглецов?
— Да, надо заяву отработать, господин майор.
— Что там опять семейно-бытовое?
— Никак нет! В этот раз опять инопланетяне.
— Тьфу ты, ёщкеренский щепещерь! Когда все эти алкаши сдохнут уже? Гоняют полицию почём зря. Не дают работать нормально.
— Да если бы, господин майор. Это бабулечка божий одуванчик. Пришла вся трясётся. Говорит в квартире у них небесное воинство собирается.
— Какое воинство?
— Н-небесное…
— Небесное значит? И давно собирается?
— Да уже недели три.
— Так. Три недели в квартире собирается воинство и никто не сообщил?
— Ну-у, вот бабулька же пришла.
— Так, и что говорит?
— Говорит, что живёт в коммуналке. В их квартире, в самом дальнем конце у них жил старик алкоголик. Сначала месяц пил как проклятый. Допился, говорит, до чертей. Всё страшные какие-то слова в полнолуние орал. Такие, говорит, что аж сердце от страха леденело. Так они там все перепугались, что до утра никого и не вызывали. А уж утром его скорая увезла, совсем ему, говорит, уже плохо было. Комната его какое-то время простояла открытая, брать то там, кроме старых газет, матраса и пустых бутылок, нечего. Но туда никто и не совался. Только бабулька, проходя мимо комнаты, заглядывала туда нет-нет. Ничего там не было необычного. Потом правда она видела, что там как будто кто-то на полу мелом что-то нарисовал. И стали слышаться какие-то странные звуки. И с каждым днём, значит, звуки были всё более странные и звучали всё громче.
— А-а-а-а, что-то помню. Арнольд Жаныч вроде этим занимался?
— Да, всё верно. Это ещё его тогда был участок. Он в тот раз сходил, посмотрел, описал всё. Ну и ради смеху бабкам посоветовал позвать служителя Миссии. Они и позвали, тот пришёл, сделал там что надо, денег взял, поел борща, бабок послушал и ушёл. И помнят бабки, что когда служитель уходил — дверь стариковской комнаты была открыта. А на следующее утро она уже была закрыта, хотя они клянутся и божатся, что никто посторонний в квартиру не заходил, а ключей от этой двери никогда и не было. Алкаш этот сроду не закрывался.
— Так! И что теперь?
— А последние несколько недель оттуда, из этой квартиры, слышится хлопанье крыльев и пахнет благовониями.
— Может голуби залетели какие-нибудь?
— Не знаю, вот сейчас посмотрю. Но они говорят, что сразу же окна все осмотрели. С улицы видно, что они закрыты. Но там у одной бабки в доме напротив подружка живёт, так вот она вроде как видела, большие белые крылья. Вроде как у….
— Понятно, Беглецов. Давай без предположений и мистификации.
— Есть! Господин майор?
— Говори.
— Там бабка эта говорит, что они по очереди с другими старухами у двери этой дежурят. В замочную скважину вроде как ничего не видно, но зато через дверь слышно, что внутри кто-то дышит. И говорят, что вроде человек несколько дышит. Ровно так дышат, как будто спят.
— Тьфу, на тебя ещкеренский! Беглецов! Отставить мистику и страхи! Давай, иди там разберись, старух успокой и разъясни всё!
— Есть!
— Погоди! Возьми штурмовую группу, я сейчас распоряжусь. Пусть ребята разомнутся. Если там нет никого, то вместе поржём потом. Старухи небось уже с катушек слетели там все вместе, а мы тут переживаем.
— Так точно, господин майор!
— Только это, Беглецов. Вперёд них не лезь. Мало ли что там за воинство на самом деле…

Мы входим.
Тесно. Длинная и узкая комната с единственным окном, заклеенным газетой. Тут и там вдоль стен сидят медитирующие мужчины. Из-за рассеянного и тусклого света, не понятно статуи это или живые люди. Ни один мускул на их лицах не дергается, когда мы по очереди, стараясь ступать как можно тише, проходим между ними. Поверх по-турецки сложенных ног у каждого автомат с пристёгнутым магазином. Их руки совершенно спокойно лежат накрывая оружие. У каждого борода.
И если особо не приглядываться, то не понятно, что с ними не так. Но стоит только посмотреть на их руки, с сильно отросшими, начинающими закручиваться ногтями, и сразу начинаешь замечать остальные нелепости: неаккуратные бороды с нестрижеными усами, волосы лезущие в закрытые глаза и топорщащиеся вокруг ушей.
Пыль еле заметным тонким слоем покрывает каждого. Особенно это видно на волосах и ресницах. Очень хочется поднести палец к носу кого-нибудь из них, чтобы проверить живы ли они. Но мы здесь не за этим. И они здесь не за этим. Между идеально прямыми спинами мужчин и стеной стоят рюкзаки.
Мы останавливаемся в самой середине этой длинной, как коридор комнаты. В стене, что слева от нас — заколоченная дверь. За дверью, подпирая её с той стороны, стоит шкаф. У шкафа сидит мужчина и возит вилкой в консервной банке. Наконец он подцепляет кусок рыбы. Другой рукой хватает стакан и чокается с сидящими напротив. Их четверо с разных концов стола. Они все косо смотрят на последнего. Того, который сидит отдельно. Подальше от стола. Жирного, неприятного, отталкивающего, со спутанными волосами, потными ладонями и постоянной отдышкой.
— Непорядочно это с твоей стороны, Колдун. Дело делаем вместе. За столом вместе. А ты от коллектива отделяешься. Давай, чисто символически?!
— Это, как если бы я символически руки себе отрубил, перед тем, как оружие в них взять. — говорит эта обрюзгшая жаба, и поднимает руки перед собой холодные мерзкие лапы и шевелит коротенькими пальцами сосисками. Ногти на этих пальцах какие-то желтые потресканные, края обкусанные. Под ногтями забилась невымываемая грязь. Как будто он только что копал ими землю. Колдун смотрит на свои руки, пальцы и ногти, как будто бы в первый раз.
Мы смотрим на них вместе с ним. Одновременно с той и с этой стороны. Правда с этой стороны мы видим только дверь.
Мы видим всё что видит он, потому что Колдун хочет, чтобы мы это видели.
Мы чувствуем его страх, потому, что Колдун не может его скрыть. Потный, обрюзгший, с фиолетово-седыми волосами паклей и пальцами сосисками — он боится. Мы чувствуем как трясутся все его поджилки. Именно поэтому мы здесь. В тайной комнате с погруженными в транс бойцами из прошлого. За замаскированной шкафом дверью. Мы сжимаемся как пружины, чтобы в случае чего распрямиться и катапультировать страх Колдуна подальше отсюда…
За стеной в полном молчании выпивают. Напряжение висит такое, что можно резать его ножом. Если не устаканится, то и придётся резать его ножом. Но сначала придется выбить дверь, и повалить шкаф. Миша-Коля и его нога, как меч Фёдора Невского, уже на старте. Он ждёт. Я дважды поднимаю и опускаю руку со стилетом, зажатым в ней. Бурят невозмутимо продолжает взвешивать в руках маленькие топорики.
— И всё-таки это не по-людски, Колдун.
— Отстань от него, Филин! — говорит голос с сильной хрипотцой. — известно же, что водкой можно любую магию убить. А нас сейчас только она и спасёт! Давай ещё по одной разливай и пошли.
Ну великолепно! Эти тоже его боятся.
Колдун умудрился довериться каким-то бандюганам. Иесли по началу между ними скорее всего всё было хорошо, то теперь все они боятся друг друга. И вместо того, чтобы делать дело, будут опасаться каждый за свою задницу и играть каждый в свою игру.
— Не подведи нас, Колдун! — говорит тот у кого голос с хрипотцой. Это крепкий, коренастый мужчина очень маленького роста. У него не хватает пальцев на обеих руках и зубов во рту.
— У меня всё готово! — говорит Колдун и опять пытается убрать прилипшие волосы с лица, но у него, как обычно, никак это не получается.
…выехав на адрес установил.
Указанная гражданкой Е. комната, принадлежащая гражданину О. оказалась не запертой и совершенно пустой. Если не считать некоторых предметов быта, как-то: матрас, тумбочка, вешалка и швейная машинка неизвестной марки.
Там же на месте было принято заявление от гражданки С, о пропаже продуктов из холодильника установленного в её комнате и таинственным образом появившегося следа подошвы мужского армейского ботинка почти под самым потолком, на высоте приблизительно 3.5 метров от пола.
На место отправлен эксперт и в качестве караула оставлено двое бойцов штурмовой группы.
В каждой машине их сидит по четыре-пять человек. В отличие от тех, покрытых пылью, что медитируют в комнате — эти совершенно не подготовлены. Рыхлые, вялые, какие-то расслабленные и праздные. Они все курят прямо в машинах, шутят, жрут, некоторые пьют пиво. Больше похожи, на бездельников, чем на реальных бойцов. Может, конечно это такая реалистичная маскировка. Может они соберутся к делу ближе. Но очень вряд ли. Здесь нужен трезвый ум и собранная команда.
Ничего этого нет.
И совсем не понятно, как с такой организацией и с такими бойцами они собираются хоть кого-то взять. Это полный провал, заранее всё понятно. На стороне этих людей единственная сила — это Колдун. И мы — козырь в рукаве Колдуна. Наверняка не единственный козырь. Даже скорее всего не единственный. Слишком уж быстро ушли вслед за Колдуном Бурят и Миша-Коля.
Торопиться нужно. Всё начнется с минуты на минуту, а мы ещё даже не закончили обход периметра, прежде чем двигаться на точку.
Мы обходим зону операции по периметру и проходим уже мимо девятой группы. Но везде одно и то же. Пахнет сигаретами, пивом, мочой, жирной пищей, машинным маслом и каким-то тухляком. Понятно теперь почему Колдун надеется на то, что мы его вытащим. С этими «бойцами» кашу не сваришь. Это же все — котята задумавшие победить льва. Уличная шпана, решившая кастетами и приёмчиками, подсмотренными в дешевых боевиках, победить отряд спецназа. Непонятно только зачем Колдун в это всё впутался и как.
Ладно, с причинами потом разберёмся.
Сейчас нужно сделать главное.
— Иди сюда, хороший. Иди ко мне. — говорит главный верзила последней группы, и чмокает губами. Я оглядываюсь на остальных и секунду помедлив иду. Со стороны это выглядит как будто длинноногий пёс с облезлым боком, отделился от стаи и ударяя себя хвостом по бокам, припадая на задние лапы, осторожно подходит к склонившемуся человеку.
— Хороший. Хороший. — говорит верзила и пытается погладить пса по голове. От него пахнет алкоголем, гаражом и въевшимся дымом. Пёс давно живёт на улице поэтому не подходит к человеку близко. Знает, что это может быть черевато. Но долго живя на улице пёс сразу видит недоеденный кусок булки от хотдога, который человек прячет за спину.
Пёс нерешительно двигается вперёд. Вдруг повезёт? Человек оскаливается и достаёт из-за спины огромный кусок восхитительнейшей нежнейшей булки, в которой только что была вкуснейшая сосиска. Булка ещё пахнет ею, а по пальцам человека ещё течет майонез. Желудок пса голодно урчит. Пёс начинает бить себя хвостом по бокам в два раза чаще и чуть поскуливает. Человек оскаливается ещё сильнее. Он осторожно даёт псу булку. Кидает её на землю. Недалеко от себя. Пёс успевает подобрать её и отпрыгнуть в сторону до того, как верзила схватит его.
— Эх! Пуганый, сволочь! Ушёл.
— Зачем он тебе?
— Шашлыку захотелось, прям сил нет.
— Из облезлой собачатины?
— Нормальная это собака. Здоровая. Я вижу же.
— Да ну, какая-то драная.
И пока верзила убеждает корешей, что у него глаз намётан и вообще собаку просто нужно грамотно готовить и тогда никакая зараза не страшна, мы уже далеко. Мы выходим на передовую.
Входим, точнее проскальзываем в темный прохладный подъезд.
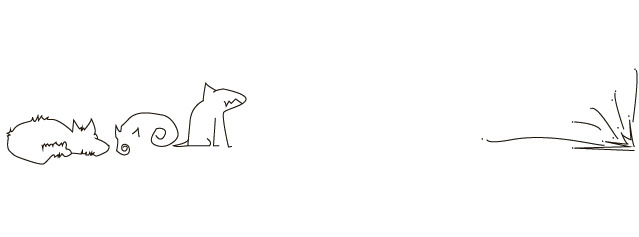
Бабка, которая нас впустила, до сих пор ходит и ворчит.
Под лестницей темно и тихо и поэтому прекрасно слышно, как скрипят половицы на втором этаже, в её квартире. И ещё прекрасно слышно, что она всё время, что-то бубнит.
Меня всегда поражала, эта удивительная человеческая особенность видеть то, что хочешь видеть. Открывая нам дверь в подъезд бабка приговаривает «заходите, мои родные, хорошие» хотя кого она видит перед собой, и когда мы успели с ней породниться — навсегда останется загадкой.
Пока она взбирается на свой второй этаж становится известно из её ворчания, как она ненавидит весь мир и практически полностью было рассказано почему. Вторую часть рассказа о ненависти к миру мы слышим, когда бабка спускается. И хотя это полнейшее нарушение конспирации — бабке пофигу. Она приносит нам две новых супных миски заполненных густым и наваристым рассольником.
Пока бойцы по двое насыщаются бабка гладит их по мохнатым головам и спинам и полушепотом рассказывает о сгинувших сыновьях и том, как бы ей сейчас жилось хорошо, будь они рядом с ней. Вот не боится же старая карга лезть к незнакомым собакам во время еды. Гладит их и называет их человеческими именами. Говорит им, что такие же вот у неё были сыновья, смелые, храбрые и красивые и ели так же много и хорошо. Поэтому и были такими сильными. Она терпеливо дожидается пока они доедят и уходит бормоча, что родненьким нужно будет только потерпеть до вечера, а там уже она накормит нас по царски.
Ну конечно же. Здравствуй, бабуля!
Она видит в нас каких-то освободителей. Защитников, волею случая, занесённых к ней на постой. Поэтому мы и родненькие и еду нам в новых суповых тарелках, а не в старых ржавых кастрюлях, которые пора выкидывать. А соседям ненавистным всем смерть и разрушения! Из-за них ведь всё это! Из-за них сыночки то и сгинули.
Бормотания и проклятья становятся монотонными, а скрип половиц затихает совсем. Весь отряд, кроме одного часового, засыпает, свернувшись калачиками на каких-то старых картонках.
Часовые успевают смениться трижды.
За это время входная дверь открывается десять раз: восемь — чтобы впустить людей и два раза, чтобы выпустить.
Перед тем, как дверь должна открыться в одиннадцатый раз перед ней тормозит машина и мы все, кто спит в пол уха под лестницей, просыпаемся как будто от толчка.
Будто сердце делает более сильный удар.
На самом верхнем этаже хлопает дверь и две пары ног выстукивают феерическую музыку. Это композиция о людях достигших в жизни всего. Темп размеренный, подошвы новые, люди сытые, довольные, никуда не спешащие. Люди уверенные. Люди у себя дома.
Они спускаются по лестнице, к ожидающей их машине и даже не подозревают, что под лестницей сидим мы. Сидим и ждём начала представления, чтобы дождавшись своей очереди эффектно выйти в самом конце и феерично выступить в финале.
Кто-то из спускающихся прихрамывает, отчего один из звучащих шагов получается смазанным и немного более длинным чем три других. Это придаёт музыке ритмичность и делает её запоминающейся.
Наконец, входная дверь открывается в одиннадцатый раз и в музыкальную композицию врывается шум улицы, и запахи выхлопных газов и пережаренного масла. Наверное рядом готовят еду.
Дверь закрывается в одиннадцатый раз. Мелодия стихает, а запах еды остается. Я вспоминаю, что я так ничего и не поел, кроме булки от хотдога, но поесть наверное уже и не придется.
Начинается!
Мы вжимаемся как можно глубже под лестницу. На улице кто-то что-то кричит. Слов не разобрать совсем. По интонации это совсем как проклятья сумасшедшей бабки, только крик. Проходит несколько долгих секунд и грохот раскалывает мир. Всё внутри охватывает паника и жгучее желание срочно бежать отсюда как можно дальше. Но дисциплина, железная человеческая воля и четкая цель заставляют отряд оставаться на месте.
По правде сказать, держать одному стаю псов трудновато. Прям откровенно тяжело. Но мы сидим под лестницей в безопасности, поэтому даже на секунду поддавшаяся панике стая, снова успокаивается. В следующий раз нужно учесть, что так сильно будет отдавать в уши. Очень сильно по ним ударило — некоторое время слышно вообще ничего.
Когда слух постепенно восстанавливается — в угасающем фоне от взрыва слышатся автоматные очереди. Что-то идёт не так.
А судя по интенсивности очередей всё идёт не так. Возле двери автоматные очереди бьют не переставая. Раздаётся второй взрыв, более далёкий и менее громкий. Подъездная дверь распахивается в двенадцатый раз и впускает сразу несколько матерящихся автоматчиков, запах гари, пота и свежей крови. Мужчина с шаркающей ногой тащит кого-то, кто судя по всему, ходить не может совсем. Тот хрипит и бестолково семенит ногами.
— Полежи тут, шеф! — говорит шаркающий и кладёт шефа рядом с нами. То есть почти под лестницу. Отсюда видно, что это хорошо сложенный мужчина в дорогом костюме с лысиной, на которой дрожат в такт дыханию капельки пота и крови. Он лежит на спине и над ключицей у него торчит оперение стрелы. Он пытается время от времени ухватить её рукой, но бронежилет не дает ему этого сделать.
Добротный броник, вовремя надетый под деловую рубаху — дорогого стоит.
А Шаркающий — молодец! Знает своё дело!
Но и мы тоже свое дело знаем. И знаем как его закончить и что, в принципе, уже пора заканчивать.
Можно, но ещё рано.
Шаркающий перехватывает короткий автомат, который до этого бил его по спине, и спешно направляется к остальным. К бронированной двери подъезда. Пули ударяют в неё несколько раз, но застревают в толстом железе, не в силах пробить его. Тут же им отвечают два автомата снаружи откуда-то сбоку. Кто-то из охраны этого лысого остался на улице и сейчас пытается пробиться под защиту бронированной двери.
Судя по звукам — наших больше и они теснят оставшихся. Отстреливающиеся охранники прикрывая друг друга подходят к подъезду.
Пора!
Когда дверь открывается в тринадцатый раз, чтобы впустить ещё двоих автоматчиков мы, пользуясь некоторой суматохой в рядах стрелков, выпрыгиваем из темноты и начинаем рвать обороняющихся на части.
По крайней мере им так кажется.
В тесноте и темноте подъезда, наша внезапная молчаливая атака застаёт людей врасплох. Они мечутся в тесном пространстве пытаясь закрываться руками, но им это не помогает. Их глаза привычные к свету плохо видят в подъездном полумраке. Они никак не могут оценить наше количество, размеры и нашу скорость. У нас куча преимуществ, самые главные из которых внезапность и отсутствие боязни умереть.
Мы стараемся нападать по двое и с боков. Пока более мелкий и юркий слева рычит, бросается и отвлекает на себя внимание, более крупный справа хватает за шею и наваливается всей тушей на руку, блокируя возможность воспользоваться оружием. Но даже если кому-то и выпадет возможность достать нас выстрелом или ножом, она вся сводится на нет ограниченностью подъездного пространства.
Тут сейчас сгрудились три человека, которых раздирают псы, два автоматчика, которые хотят войти, но никак не могут этого сделать.
Туда дальше, где посвободнее, где только-только начинается широкая лестничная клетка, в полутьме вальсируем мы втроём. Я с лохматым и шаркающий вдвоем со своим автоматом. Значит вчетвером вальсируем. Никто не решается напасть первым. Шаркающий потому, наверное, что боится нечаянным рикошетом зацепить своего хрипящего шефа, лежащего у нас за спинами. Мы, видя что шаркающий уже готов к схватке, ждём когда он расслабится или ошибётся. Но пока он не делает ни того ни другого.
Вальсируем.
Человек силён и уверен в себе. Автомат он держит одной рукой за рукоять. Машинка хоть и небольшая, но всё равно достаточно увесистая. Долго такой не помашешь без ущерба для точности боя. А точность сейчас важна как никогда. В другой руке Шаркающего описывает замысловатые узоры в воздухе десантный нож.
Тоже сомнительная затея.
Нет. Нож сам по себе хорош, но вкупе с автоматом он может быть неуместен. Хотя Шаркающий явно профи. Не стоит его недооценивать, как он недооценивает нас.
На улице снова начинают активно стрелять. Это наш шанс напасть, но Шаркающий даже не вздрагивает. Он всего лишь на крохотную долю секунды бросает взгляд в сторону двери.
Отвлёкся!
Мы одновременно нападаем и он не придумывает ничего лучше, чем начать палить. Звуки выстрелов грозным эхом разносятся по подъезду и заглушают предсмертные хрипы остальных автоматчиков.
Но мы уже вышли из зоны его обстрела, и я вцепляюсь в левый бицепс шаркающего, а лохматый уже подобрался к горлу оттеснив правую руку с автоматом от тела.
Человек натурально и очень страшно рычит.
Рукояткой автомата он изо всех сил бьет лохматого по спине. Десантным ножом зажатым в левой руке он ударяет лохматого в бок. Того, что я вишу у него на этой руке, он как будто и не замечает. С каждым ударом лохматый вцепляется в шею человека всё сильнее и рычит всё громче. Человек же, со всё большим остервенением, бьет пса.
Автоматные очереди на улице затихают, слышны одиночные выстрелы. Я изо всех сил раскачиваюсь на его руке, тем самым оттягивая человека назад. И наконец он падает.
Падает на спину с высоты своего роста.
Грохается плашмя.
Сверху на нём лежит истекающий кровью пес. Человек собирается с силами и уже не с рыком, а со стоном наносит ему удары ножом. Всё реже и реже. Рука с автоматом придавлена. Опасности с той стороны можно уже не ждать. Лохматый уже не жилец, да и Шаркающий не лучше. Я оставляю сцепившихся. Отхожу и отряхиваюсь.
О-о-о-о-о! Вот это кайф — отряхнуться после хорошей драки. Как будто вылил на себя ушат холодной воды после жаркой бани. Бодрит и освежает. Ещё больше бодрит, что всё почти прошло по плану, и вся операция подходит к финальной фазе и вот я почти у цели.
Прямо передо мной лежит хрипящий человек. Он смотрит на меня глазами полными ужаса и всё ещё зачем-то безуспешно пытается достать из шеи торчащую стрелу с темным оперением. Рядом воткнуты еще два или три древка, но у них оперение уже обломлено.
Скорее всего это Весёлый стрелял. Только он может всадить три-четыре стрелы в самое короткое время с какой-нибудь невероятной дистанции в цель, размером с детскую ладонь. Но даже если это не он — всё равно эффектно!
Взрывы, пули и ножи не достали лысого, но зато ещё как достали стрелы и зубы. Оскаливаюсь. Лысый наконец-то закидывает руку к стреле, но не хватает её за древко, а поддевает пальцами цепочку.
Что там у него? Не граната же?
Видно, что ему невероятно тяжело всё это. Пальцы не слушаются цепочка норовит выскользнуть, он сам хрипит и булькает.
Невероятно тяжело и невероятно важно. Я подожду.
Терпение и труд творят чудеса, и вот умирающий человек вытаскивает из под бронежилета амулет и показывает его мне. Блестящая железяка необычной формы с черным камнем в нижней его части.
И что? Он думает, что амулет защитит его от чего-то или мгновенно залечит его раны?
«Рычи. Отходи»
Что???
«Отходи! Рычи!» — слышу я мягкий встревоженный голос под левым ухом.
Ну хорошо. Ладно.
Я начинаю пятиться.
«Рычи!»
Ну ладно, ладно!
Я поднимаю шерсть на загривке и издаю утробное протяжное рычание. Человек смотрит на то, как я растворяюсь в темноте. Он пытается что-то сказать, но у него это никак не выходит. Язык не слушается его, пересохшие распухшие губы тоже не слушаются. Где-то слева последний раз обиженно вздыхает Шаркающий и сразу же, следом за ним, с облегчением, тихо вздыхает лохматый.
Прощайте, братья!
Я делаю ещё несколько шагов назад, окончательно пропав в темноте… Лысый теряет сознание и его рука грохается на пол.
«Хватай пока теплый. Неси мне. Пока теплый. Неси! Хватай!»
Это снова голос под левым ухом.
Кого нести?
Я чувствую во рту странный вкус железа. Не похоже на кровь.
А! Понятно. Нужен амулет. Я быстрыми тихими шагами подбираюсь к лысому. Он дышит. Неровно и очень слабо. Без сознания. Не долго ему осталось.
«Пока тёплый. Хватай. Неси.»
Да несу я, несу!
С четвертой попытки срываю амулет с цепочки. Почему-то всё время боюсь, что лысый проснется, но он не просыпается. Хотя если бы он и проснулся, то что бы смог сделать?
Страх этот не мой, так же как и голос, под левым ухом. Поэтому наверное есть чего бояться, просто чего именно я не знаю. Наконец амулет сорван, теперь надо на выход. Но тут вроде всё должно быть проще простого.
Мёртвый автоматчик безжизненной ногой любезно придерживает для меня бронированную входную дверь. Только после того как их всех погрузят в труповозки и последние полицейские группы уедут — эта дверь закроется в тринадцатый раз. Но я к тому моменту буду уже далеко.
Перепрыгнув через гору мертвых и ещё шевелящихся тел, человечьих и собачьих — пулей вылетаю из подъезда.
На улице перед подъездом лужа крови, пахнет порохом и страхом. Корчатся и стонут люди. Двое пытавшихся войти точно уже не жильцы на этом свете. Нужно пройти мимо них под прикрытие огня. Огонь — лучшее прикрытие, особенно если держаться от него подальше.
Так. Вот на дороге перед домом три машины, центральная из которых горит. Догорает. Остальные изрешечены пулями. Кругом валяются мёртвые люди. Я перебираюсь на другую сторону дороги, туда где трое в костюмах тащат через двор Колдуна. Тот выглядит как мёртвый. Безвольной тряпкой висит у них на руках. За ним тянется струйка крови. Следы никто из них не заметает. Ну тут даже ищейкой не надо быть, чтобы такой след взять.
За спиной раздаются выстрелы. Одиночные. Сухие. Прицельные. Испуганный и озлобленный мужик, тот, который кормил меня булкой и желал шашлыка из собаки — прицельно расстреливает псов. Одного за другим. Теперь он весь в крови, еле держится на ногах, но прицеливается и бах!
Бах! Бах! Добивает и людей и собак и своих и чужих. Хотя ему то откуда знать, где там свои, а где чужие.
Ещё один пёс пропадает со связи.
Ещё одними глазами я не могу больше видеть. Последний оставшийся кроме меня пёс — бойцовый. Несмотря на перебитую лапу и выбитый глаз он держится бодряком. Он клубком выкатывается из-под ног у бригадира и без всяких церемоний хватает его за правое запястье и дёргает вниз. Автомат делает ещё один выстрел, и контуженый человек падает на бок. Пёс визжа и вертясь тут же вгрызается в его шею. В следующий раз, когда я оборачиваюсь, к бригадиру на помощь подбегают два бойца. Далеко и не явно я слышу крики и выстрелы. Вкус железа во рту усиливается.
Прощай, бойцовый!
Сейчас у меня важная задача. Сейчас мне нужно спешить туда, где троица крепких мужчин в костюмах втаскивает Колдуна в один из подъездов.
— Недолго ему осталось. — говорит один из них и вытирает лоб тыльной стороной ладони с зажатым в ней пистолетом. — Может это? — неопределённо машет он рукой над телом. Я выхожу из темноты тихо и видимо совершенно неожиданно для них. Встаю над телом Колдуна и скалю зубы на предложившего.
— Да он сам сдохнет вот-вот! — говорит человек с пистолетом. По всем ощущениям говорит он это оправдываясь и исключительно обращаясь ко мне. Я снова скалю зубы. Делать это жутко неудобно, потому что железяка с камнем у меня во рту занимает всё место. Но и бросить я её не могу. Ни бросить ни показать этим в костюмах.
Почему? Наверное потому, что так говорит мне тихий, слабеющий голос под левым ухом.
— И куда нам его тащить по твоему? — снова спрашивает костюм наклоняясь ко мне и разводя руки.
Очень опасный жест в общении с псом. Очень!
Но, несмотря на все соблазны, я стою как вкопанный над телом Колдуна и оскалив зубы тихонько рычу.
— Может пристрелить тебя, а? — спрашивает наклонившийся.
«Может вцепиться тебе в харю?» — мог бы спросить его я, но эта вот железяка с камнем в пасти. Да и ещё сама эта собачья пасть, которая не может произвести никаких звуков кроме рыка.
Человек смотрит собаке в глаза и изнутри меня начинает захлёстывать ненависть.
Нельзя! Нельзя поддаваться эмоциям!
Нельзя быть псом! Нужно быть сильнее его. Нужно переглядеть человека. И я вкладываю все силы в то, чтобы не моргая смотреть в его лицо.
Но пёс бунтует. Он чувствует, что моё время командовать скоро истечёт и начинает возмущаться. Волны накатывают одна за другой.
Ох, как не вовремя всё это. Стоит сейчас чуть расслабиться и пёс бросит амулет и тут же кинется на самого ближнего в костюме. Одного он успеет задрать — это точно. Остальные двое сразу же начнут палить. В полутьме подъезда и при должной сноровке у пса есть шансы уцелеть и выйти живым, но тогда их совсем не остаётся ни у меня ни у Колдуна.
Мои мысли о том, что он подставляет стаю немного отрезвляют пса.
Хотя когда это мы успели стать ему стаей?
Неясно, но ладно, потом выясним этот вопрос. Человек видя, что собака застывшая над телом старика, так и не двигается, не делает никаких движений, и не собирается отступать от своего, наконец отступает сам. Он выпрямляется и с усмешкой оглядев своих слегка обескураженных товарищей спрашивает:
— И чё? Вот чё ты предлагаешь?
Как бы в ответ на его вопрос сзади каркает ворон. Хрен его знает откуда он взялся и когда. Но прямо сейчас он сидит на перилах с какой-то тряпкой в лапах и вертит головой рассматривая нас.
— А тебе чего?
Кажется, что этот человек совсем не удивлён тому, что происходит. Наверное он думает, что так и должно быть. Может это Колдун понарассказал ему каких сказок, а может кто другой.
Ворон снова каркает и шумно хлопая крыльями перелетает ко второму выходу из подъезда. Пока все отвлеклись на ворона я вкладываю амулет в раскрытую ладонь Колдуна и он, хоть и кажется лежащим без сознания, тут же крепко сжимает кулак. Мне кажется, что лёгкая улыбка пробегает по его лицу.
— Что, туда? — опять спрашивает птицу человек с пистолетом. Ворон как бы в ответ стучит клювом по двери.
— Хренова мистика! — говорит он, прячет пистолет за пояс и кивнув остальным подхватывает Колдуна.
Я остаюсь, чтобы слизать кровь с пола в подъезде. Тряпкой, которую притащил ворон они затыкают рану и дальше кровавый след за Колдуном не остаётся.
— Здоров будь, человечек сыскной.
— Я же просил тебя сюда не звонить!
— Ты просил по пустякам не звонить. А я звоню по важному делу.
— Какое у тебя может быть важное дело?
— Да уж важнее некуда. Сухого нашли.
— Нашли?
— А общак не нашли.
— Ну, а что Сухой то говорит?
— Сухой ничего не говорит. Он говорить уже неделю не может. Распух и посинел. В реке всю неделю провёл.
— Что ты говоришь, тогда, что Сухого нашли. Нашли тело Сухого.
— Ты ментовской свой жаргон для документов оставь. Мои ребята неделю не спят, землю роют не для того, чтобы ты, гнида, умничал.
— Ты давай там, урод, берега не путай! Я тут тоже не просто так сижу! Уже полгорода переворошили. Эти гады уже почти у нас в руках!
— Гады меня волнуют в последнюю очередь. Ты мне общак найди!
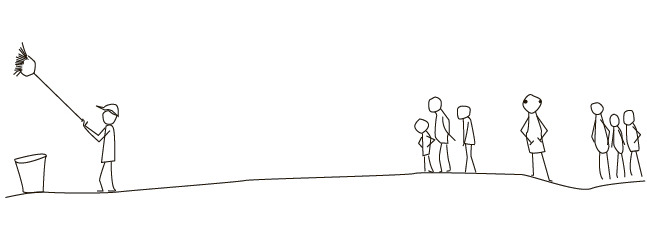
— Красиво, правда? — спрашивает Колдун.
Я пожимаю плечами. Откуда мне знать, что вообще такое красота. Да и не до неё как-то, когда и так всё болит, а тут позади ещё и две подряд долгих смены на заправке. Ноги гудят невероятно.
Мы стоим перед этим домом уже минут десять.
Колдун торчит тут, задрав голову, наверное, с самого утра. Ветер перепутал все его седые с фиолетовым оттенком волосы. Он стоит опираясь, как на трость, на свою вечную тележку на разных колёсах, и не отводит взгляд от дома, весь торец которого занимает рисунок.
Это какие-то беспорядочные линии разной толщины. И если долго вглядываться в них можно увидеть как будто два силуэта, один вроде бы побольше, другой поперёк него поменьше. Если уж совсем отпустить фантазию, то кажется, что здесь вполне могла быть нарисована женщина, держащая на руках ребёнка.
Красиво ли это? Ну не знаю…
На пустырь гремя въезжает полицейский микроавтобус. Никто из тех, кто смотрит на дом, не обращает на него внимания, все стоят как завороженные. Только один мужчина бросает взгляд на часы, а потом разочарованно цокает, поднеся их к уху. Изнутри автобуса по громкоговорителю усталый голос совершенно равнодушно произносит заученные безликие формулировки. Голос просит нас разойтись и не толпиться. Никто не расходится, все как завороженные продолжают пялиться на торец дома на котором ничего не происходит. Все хотят увидеть, как контуры сами по себе проявляются на стене.
Но контуры не проявляются.
Людей немного — около тридцати человек. Мы стоим небольшими группами, молча и спокойно. Никого не волнует ни появление здесь полицейских, ни их призывы разойтись. Кто-то из этих людей, как и Колдун — пришёл поглазеть на граффити, кто-то как я — за компанию, кто-то просто, проходил мимо и решил вдруг остаться. Из автобуса снова раздаётся усталый квакающий голос, который призывает нас разойтись и не мешать. В этот раз в нём слышится раздражение и стальные нотки. Некоторые, в основном те, кто стоят ближе к автобусу, делают несколько шагов подальше от голоса, но в остальном народ остаётся на месте.
Вышедший из автобуса, полицейский сходу затевает перепалку с ближайшим к нему, отчаянно помятым гражданином. Он резко и грубо спрашивает чего мы тут стоим. Его визгливый голос совсем непохож на голос из громкоговорителя. Помятый гражданин, говорит, что стоять законом не запрещено. Полицейский апеллирует к какому-то положению, разрешающему ему указывать гражданину где стоять, а где не стоять. Гражданин сильно сомневается в полномочиях полицейского. В итоге спор скатывается в русло «А чё?» «А то!» «А то чё?»
Но кроме них двоих к спору больше никто не подключается. И из автобуса никто не вылезает на помощь полицейскому, и из толпы никто не присоединяется. Перепалка, на удивление, быстро угасает. Помятый мужчина и полицейский, как и все остальные задрав головы смотрят на стену дома, и только изредка вяло переругиваются между собой.
Приезжает машина коммунальных служб с огромной длинной стрелой и мужчины с валиками на длинных ручках начинают с самого низа закрашивать граффити, занявшее весь торец пятиэтажки.
Как будто случилось что-то важное, что требует их участия — полицейские споро покидают микроавтобус. В ожидании протестов или боятся, что мы будем мешать коммунальщикам. Мы не мешаем. Все просто стоят и безучастно смотрят, как краска закрашивает угольные контуры рисунка. Полицейские видя, что сопротивления, бунта и народных волнений нет, некоторое время мнутся. Но потом, поддавшись всеобщей апатии, тоже либо вяло продолжают наблюдать за происходящим, либо залезают обратно в микроавтобус.
— И как только умудрились так быстро нарисовать? Вчера же только полностью закрасили! — говорит незаметно подошедший Весёлый. Лицо его повёрнуто к Колдуну, а это значит что одним глазом он смотрит на торец пятиэтажки, а другим на землю у себя под ногами.
— Это дом мироточит. — с нескрываемой гордостью выдыхает Колдун.
Он так говорит, как будто это его, Колдуна, собственная заслуга. Но нет. По тому, как он неотрывно глядит на стену — для него это тоже чудо чудное. Весёлый, склонив голову к плечу, некоторое время пытается вникнуть в слова Колдуна, и видимо смысл сказанного его не устраивает, поэтому он встряхивается.
— Как мироточит? — нервно подпрыгивает Весёлый, — Целый дом? Разве такое может быть?
Его глаза, и без того глядящие в разные стороны, начинают дико вращаться независимо друг от друга.
Он похож на длинного нескладного хамелеона в человеческой одежде. Тонкие и худые руки и ноги, которые, как и глаза двигаются независимо друг от друга. Его невзрачная одежда песочного цвета делает его похожим на хамелеона ещё больше. Кажется, что куда его не поставь — он там будет как родной.
— Такое бывает? — спрашивает он, нащупав взглядом меня
Я пожимаю плечами. Меня лично почему-то давно уже ничего не удивляет. Как будто во время первой операции, после крушения, у меня вырезали какой-то орган, который отвечает за удивление
— Всякое бывает. — отвечает вместо меня Колдун. И кое-как смахнув с лица паклю, которую все почему-то считают волосами, он снова хватается за ручку тележки, стоящей перед ним и впивается взглядом в рабочих.
На них, правда, интересно смотреть. Они орудуют со знанием дела и очень деловито. Как будто дело им привычно, и закрашивают это граффити они по нескольку раз в день. Скорее всего так и есть. Интересно какая уже эта бригада по счёту, которая здесь работает?
Краем глаза я вижу, как одухотворенно на всё это смотрит Колдун. Как будто это не обычный рисунок на стене дома, а действительно Чудо.
Ну, ему то виднее.
Когда мы встречаемся с ним во второй раз — Колдун уже служитель Миссии.
Проповедует в основном всякому сброду. Несёт светлое слово в массы, очень много знает, с любым может интересно разговор поддержать на любую тему.
Эрудит, аскет и настоящий друг.
Он носит бороду, волосы собранные в хвост и огромный серебряный знак принадлежности к культу, поверх культовых же одежд.
Он носит всё это с гордостью, до тех пор когда борода таинственным образом пропадает, а тележка наоборот появляется. Тогда он снимает серебряный символ через голову, держа за длинную серебряную же цепочку, целует и приговаривая: «Ох! Лучше тебе этого не видеть».
Потом прячет его во внутренний карман и грустно глубоко вдыхает, но больше ничего не говорит. Вместо этого его голос появляется у каждого из нас в голове.
Голос мягкий, тёплый, обволакивающий и очень тихий.
Я слышу его чуть ниже левого уха. Там откуда уже давно не доносятся никакие звуки.
Голос говорит нам: «Входим!»
И мы входим…
После той аварии на трассе она поправляется очень быстро.
Она первая из всех нас встаёт на ноги.
Встаёт на ноги и начинает ходить.
К нам. По экспертизам, учреждениям, судам. Готовить. Работать.
Я поправляюсь долго. Всё очень плохо заживает и постоянно болит. Я мало сплю, отвратительно ем и никак не выздоравливаю. На мне больше всего ран.
Я принял весь удар на себя.
За те короткие мгновения, между тем, как стало понятно что удара не избежать, и самим ударом у меня было лишь одно желание, вбитое армией и годами службы — ценой своей жизни спасти всех. Я был готов к этому. Меня этому учили и я этому научился.
Но физика бессердечная сволочь больше всего искалечила Малютку. У неё травма всего одна, но это травма позвоночника.
Следователь, который потом приходит в больницу, говорит, что случилось чудо. Он показывает запись с видеорегистратора фуры, идущей в двух машинах за джипом. На ней хоть и очень далеко, но видно, как сначала моя машина резко уходит вправо, а через секунду на том месте, где должны были быть мы неожиданно появляется джип.
— Это чудо! — воодушевленно говорит следователь и при этом виновато вертит в руках фуражку.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.