
Бесплатный фрагмент - Мусорное счастье
Сборник рассказов
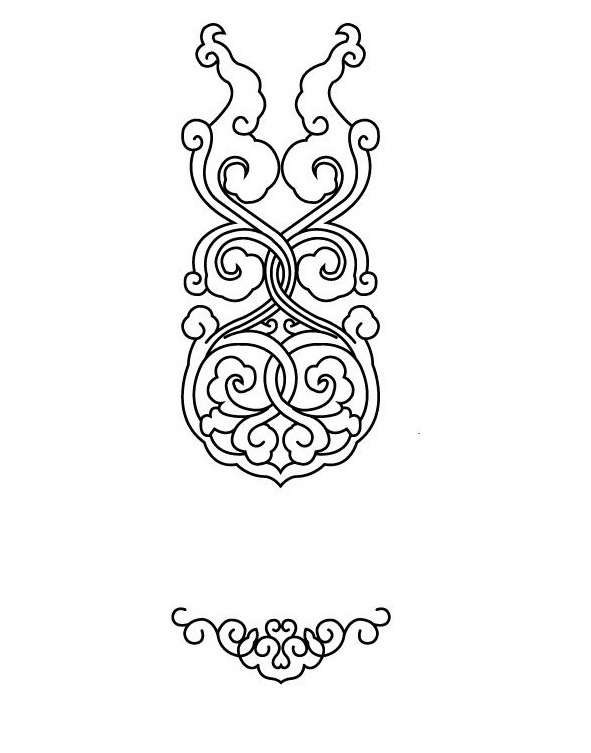
1.Цветок Декабриста
«Если ваш лифт уже ушёл…,
может быть, это был не ваш лифт…»

В мойке, кофейный пепел, на окне — скорченный цветок.
Пётр Матвеевич верит, что цветёт он раз в сотню лет.
Он и цвёл как умалишенный, пока не ушла Зоя, потом сдался и умер, и Семёнов так не смог его выбросить. Пыль поднимает подсвеченные солнцем миры. К стенке пришпилены фотографии поездов и развилок: юной женщины в оранжевом жилете; её же, только старше — с ломом в руках. Она держит его, как амазонка копьё и смеётся. На полке будильник — кондуктор времени.
«Чухр-чух-чухххррр», — злятся колёса. — «Ооо-иии-еее» — успокаивают их рельсы. «Пррредъявите билетики! Вам, мужчина, в один конец, не проспите остановку»! Минутная тишина. Потом снова. «Чухрр-Ооо-иии-еее…» — «Колёса странно стучат, — замечает кто-то, — будто поют». «В конце пути такое часто случается», — успокаивает кондуктор. Звуки, вибрируя, проходят сквозь стены, буравят мозг, скребутся в душу тёплыми лапами.
«По-мо-ги-иииимнееее»…
Он спит, шевеля губами, стремится поймать звуки песни, мотива? «В конце…, какого пути»? с трудом разлепляет глаза. Стрелки будильника, … путей, векторы в точке сна — 5. 25! «Ёлы-палы! Это кто ж с ранья хамит?» — кричит в абажур мужчина. Прилипшая муха на бахроме — последний урожай осени.
— А у хамки темброк ничего, альт, меццо? — пищит в ухо кто-то.
— Кто ты? –вздрагивает мужчина.– Ввв… внутреннй голос?
— Уж точно не внешний!
— Вот кто жильцов на заре будит… Снишься, так тихо снись. –и снова проваливается в сон.
— Жилец тоже мне… Не сглазь, Семёнов! -пела не я, врать не стану. -шепчет голос. Звать –Лярвою, Ля-Рвой.., Рва… лей….
— Валей??? А ккккоторая пела, она …ка-кая?
— Многого хочешь.
— Это же сон, Валюх, ну, какая?
— Низкие духи мало что видят, но, надеюсь, не дылда; дылде плешь твоя в глаза сразу бросится; и лучше толстуха!
— Это зачем?
— Где вокал размещаться будем?
«Аааа-иии-ееее», — доносится непонятно откуда.
«Ну, точно: «Помоги мне, помоги мне»», — вытягивает спящий Пётр Матвеевич, — как в фильме со Светличной. А халатик какой! А песня! И без халатика. Хороша. А эта всё мычит без слов, как немая»
— С немой и жизнь будет тихою. — вклинивается Ля-Рва.
«Может, певичка малограмотная, приезжая, вот и мычит.» — Думает спящий.
— Они без столичных вывертов, только… плодятся. –Соглашается сущность.
Пётр Матвеевич смотрит на муху. Насекомое колыхается от сквозняка, и, кажется, вот-вот взлетит.
— Разбега тебе не хватило, полёта! Теперь всё изменится! Ширши ля фаму, Семёнов, что значит-есть голос- найдётся тело…
«Учёные, якобы, взвесили, сколько в нас грамм души.» –Мыслит Семёнов.
— Бре-ее-ед! — взрывается Рваля. — Затаись, подслушай, откуда мотивчик! Вот он, источник звука, квартира, допустим, с тремя шестёрками; подкатишь проездом, на лифте, как бы случайно, и на звонок большим пальцем дзыньк! А там халатик с пуговкой перламутровой, а под ним — дама красоты обещающей; а ты, бритый с лосьоном, с ведром как с прикрытием!
— На даму-согласен, ведро-то зачем?
— Для порядку «утро доброе! Вы У. К. изучали? Издавать голосовые шумы можно со скольких до скольких? А она: «ой, простите, стены, знаете ли, виноваты. Дайте шанс исправиться.» — краснеет; вариант — бледнеет. А ты ей: «не бойсь, соседка, кой-что понимаем в операх…» И цветы из ведра под нос с небрежной галантностью.
— Насчёт цветов, ты, Валюша, загнула. Ноябрь на дворе, в кармане дыра, если только занять?
— Хрен тебе кто одолжит! — хохочет сущность. — Поздно, Семёнов. Подари ей Цветок Декабриста, чтоб ждала, когда зацветёт –долго, лет сто!
Пётр Матвеевич видит свои запои, реально, как горы пустых бутылок, и содрогается. «Спасибо Зое, с того света вытащила!» Напев манит, только без слов, а слова в голове проносится. «Щасссс. И тебе помогут. Рваля.., Рваля.., Рвалентина…»
На днях в дверях лифта он еле разошёлся с объёмной спиной новой соседки; почти уткнулся в красный, дерзко пахнущий плащ, смешался и засопел. «Может, пташка она?» У Семёнова аллергия на женские ароматы: на все, кроме креозота, лосьона и маминых пирогов. «Спина в красном» спросила: «Вам выше?» Нет, голос у толстушки совсем другой. Забыл, следом зашёл солидный мужик, приобнял, и они вышли на пятом. Если не она, то кто же мычал?
— А если это та стерва снизу, засёкшая, как ты мусор в окно выбрасывал?
— У той ещё муж повесился.-
— И ты бы повесился!
— Или …с балкона выпал?
— Любой бы выпал!
— Стерва живёт двумя этажами ниже.
«Поо-оомоги мне» — Низко поскрипывает кто-то
— И что бабе не спится? –Возмущается Рваля.
— Ба-а-а-бе … — смакует Пётр Матвеич: первому долгому «баа-аа» трудно сопротивляться, и оно чуть не втягивает в себя всего Петра Матвеича. «Ба» второе — краткое, упругое, грубо отталкивает его от себя. –И почему … «бабе»? — отчего-то обижается он — «жен-щи- не».
— И ясен пень, не старой и не замужней! Стала бы она при своём на заре вокал разводить?!?
Это мысль словно наводит фокус, задействовав воображение Петра Матвеича. Он уже различает гладь шелковых простынь, каких у него –отродясь, не было.
Слева, допустим, ты, Семёнов, играющий загорелыми бицепсами; и не в труселях, а в боксёрках, а лучше, в стрингах… –.Хихикает голос.
— Тьфу ты, что в бошку лезет!
— Справа, — холмящийся вожделеньем, с «феромонами тайны…
— Как в рекламе?
— Как у тебя, Петруша, женский такой рельеф!
«Э-эээ-ээх!» — он взбивает подушку, и, откинувшись на кровати, погружает ноги в заросли ковролина, как ставят на воду старые военные корабли. «Попылесосить бы….«В углу арсенал сломанной техники. Звонок в дверь.
Наша птичка протелепалась? Сейчас спросит: «вас не разбудил мой вокал? Мы, простые оперные дивы привыкли петь на рассвете». Или «так страшно одной в хрущовке! Может, бокал шампанского?»
Но за дверью — бледная девочка в длинном пальто.
— Чего тебе?
— Я цветок принесла, — и протягивает цветок декабриста в синем кашпо, точно
такой, как на его окне, но с расцветшим бутоном.
— Какой? Зачем? — в голове мешанина.
— Расцвёл в день моего ангела, — улыбается девочка.
— Мне-то зачем…, у меня свой есть. Тебе, детка, должен твой папа цветок дарить.
— Он не может, его уже нет… —
Семёнову становится не по себе. Он замечает- на девочке не пальто, а простая рубаха до пят и тёмнота расступается. «Странно, не рожденье, не именины –день ангела!»
— И с… сколько тебе исполнилось?
— Семь было бы, если бы вы мою маму в больничку не отвезли! Что, вспомнили? — она поднимает глаза –два утра в проёме ночи. Нет, он не вспомнил, не было ничего, нечего вспоминать. — Возьми, папочка.
«Помоги… ииии мне, поппомоги»
Семёнов вскакивает весь в поту, летит в коридор, включает свет, весь, везде: ночники, и люстры, и закопченную лампочку в туалете. «Где чёртов сонник? Зойку, смотри ж ты, припомнила. Надо же! Но откуда знает про бывшую? О чём это он? Сон это был, кошмар, нет никакой девчонки, и не было, он же в один в квартире: ни девчонки, ни Лярвы чёртовой…, ни песни! Нет, песня была!
Лет восемь назад в той больничке бывшая жена Семёнова, Зоя, всего каких-то пару часов провела, и ничто его не заставит думать про эти часы. Жили бедно, а тут мать умерла –износили её пути. Зоя — студентка, а он…, а что он? Старше намного, работал, и что не родили? После, само собой, жена ребёночка захотела, а больше ведь бог и не дал ни ему, ни ей; потом пошли его пьянки, и покатилось, она и ушла.
Позвонить бы, спросить, как ей там, замужнем?
— Ичто ты ей скажешь? — проявляется голос.
— Скажу, –давно завязал…
— Скажи, что с тех пор как ушла, баб нормальных не встретилось на пути.
Пути расходятся. «а могла бы быть такая вот дочь лет семи» — « Стук колёс-«Чууухррр, чух-чухххр…» «Помоги мне» –требует кто-то. «Ничем не помочь, никому, особенно ему, тупик, приехали.».
Он падает на диван, проваливаясь в тряску вагонов, в развилки, в пути, в семафоры, в мирки облупленных станций. Есть женщины в русских селеньях, и в городах есть, у других, у кого-то и где-то, не здесь, не у него.
Только б найти певунью. Это важно. Кому? Для чего? В его сне девочка с цветком, и мать в жилете путейца. «Нечеловеческая музыка». — Мать грозит ему пальцем: «Не подходи к железнодорожному полотну. Это может привести…, это приведёт… Минздрав предупреждает…. Рельсы-шпалы-запоздылый, ваш поезд уже…. Чухххр-чухххр….»
Пару дней не работает лифт, и Петр Матвеевич карабкается пешком, глотает таблетки, сидит на ступеньках. Слушай-не слушай, ни звука –вымер подъезд. Ни мотива, ни голоса этой тва… Вали. Он падает на диван, и вдруг заветный мотив. «Бегу» — Пётр Матвеевич на лестнице, табличка, какое-то объявление; слова, к чёрту слова, и лифт заработал; не бритый — не важно. Это недалеко, откуда-то сверху. Кнопка вызова. Мотив приближается вместе с лифтом, он ближе, ближе.
«Попалась птичка!» — изниоткуда проявляется Лярва. — Щас встретитесь!»
Двери распахиваются — холодные металлические объятия-челюсти, и пустота, но где же лифт? Открытая шахта. Пётр Матвеич слышит, как истираемые реле тросы, (так это тросы?) поют человечьими голосами: «Помоги мне, помоги мне».
Его окликают по имени: наверху мама, и дочка с зажженной свечой, и кто ей дал спички? «В День Ангела можно!» — кивает будильник.
«Взять цветок, позвонить Зое». Мать возится со ставшей прозрачной, кабиной или вагоном? « Вот всё и выяснилось. Мама, мама, ты испечёшь пирог, починишь лифт? Лифт?!? Стрелки сжимают, да, говорила, не ставить ногу, рельсы до неба, лестница. Он сможет, он всё исправит, и делает шаг наверх».
«Прр-редъявите билетики!» — поют тросы, стучат колёса. Сквозь завесу– Зойкин истошный крик. «как же так, Господи? не жена, и что.., он же не пил, Петенька!» «В конце пути всё случается», — успокаивает кондуктор, или начальник станции, или не важно кто. « Рельсы-рельсы-шпалы-шпалы, вниз-вверх» — «Чухххр-чухххр… Ооо-иии-еее…»
В мойке-кофейный пепел, на окне– новый бутон. Пыль поднимает подсвеченные солнцем миры.

2.Под кустом чёрной смородины

В глухом углу дачи, у забора, точней, под кустом чёрной смородины мы с Женькой и маленьким Серёней закопали в землю лягушку: не живую, а дохлую. Закопали и стали ждать, что же будет. В тот день к нам приехали дядьки какие-то ходили, ломали старый забор, на плечах трубки носили, на сигары похожие, чуть весь наш план не сорвали.
Женька объяснил, что нужно подождать три года, «чтобы червяки своё дело сделали», ну, чтобы косточки обглодали, и мы бы вытащили лягин скелетик — лёгенький, будто гномичий, с белыми и чистыми косточками. Положили мы земноводную в целлофановый пакет. Клал, конечно, Женька, я отвернулась, а Серёнька притащил картонную коробку от ниток– красивую, с печатями и медалями, даже жалко такую тратить. Женька сказал, что это будет наша самая главная тайна, и грозно поглядел на Серёню, который рассеянно ел козявки. Мы положили пакет в коробку; землицей присыпали, цветочками полевыми украсили, чтоб всё, как положено. Ждали долго, дня три, ходили мимо куста, посматривали, как там и что?
Дядьки куда-то делись, и стало спокойно.
Потом прошёл сильный ливень, и Женька заволновался, не смоет ли он наш «клад»? Потом припекло, и земля высохла, да так сильно, что вся трещинками, как старушка покрылась, и Женька снова забеспокоился, вдруг и «лягушонка в коробчонке» тоже трещинками пойдёт? Потом снова был дождик, маленький, грибной, и Женька сказал, что теперь «зелёной» хорошо — она в своей естественной среде.
На четвёртый день день странные дядьки опять объявились, а мой папа их даже встретил.
Мы ещё немножко поиграли и полазили по деревьям, но Женька всё равно был мрачнее тучи. Мы подумали, может, он что-то не соблюл в технологии, или забыл проверить, появляются ли от лягушек бородавки, и если да, то от каких– от дохлых или от живых?
Довольно скоро у всех у нас терпение лопнуло и мы пошли лягу откапывать, только в месте нашего «клада» те же противные дядьки столб здоровенный вбивали- и как назло, прям туда, под бывший смородиновый куст, который валялся рядом, похожий на паука-колдуна, а моя мама бледная-бледная рядом покачивалась. Столб торчал именно там, где ещё недавно мирно лежала лягушка. Я себе её так живо представила– зелёненькую бородавчатую царевну-лягушку, расплющенную этой громадиной, что меня даже вырвало, Женька по-взрослому руганулся, а Серёнька захлюпал носом.
Тогда мы дали друг другу слово больше ничего ни дохлого, ни живого не закапывать, а если что и закапывать, то только важные вещи и дневники. Я не хотела хоронить свой дневник, потому что в нём было несколько пятёрок по родной речи и пению, а у Женьки были двойки и трояки, и поэтому он расхохотался басом и сказал, что дневник — особо секретный документ, который ведут разведчики, путешественники и герои. И мы решили вести дневник исследователей дальних миров. Идея всем очень понравилась, особенно Серёне, хотя он ещё не умел писать. Но Женька сказал, что малый будет бортмехаником, для этого и уметь ничего не надо, только смотреть в необозримый космос, ну, и сохранить дневник для потомков. Я нашла толстую тетрадку в клеточку. Тетрадь была старая, но чистая, с крепкой чёрной шершавой обложкой. «Её и старить почти не нужно»! — Обрадовался Женька.
Сначала мы её всю немножко изгваздали глиной для убедительности, потому что на Марсе обязательно должна была быть глина. Страницы потяжелели, став похожими на печенье «Хворост». Женька предложил для чистоты эксперимента покапать на глину кровью (для придатия жути), на что Серёня быстро спрятал пальцы в карманы, а когда я сказала, что «сдавать кровь» мы не дадимся, то Женька отстал.
Вечером он принёс большие походные спички. Огонь грыз страницы, и они желтели, старея на наших глазах. Дырки вышли что надо: больше, чем сырные, с чёрной угольной бахромою, чтобы никто даже не сомневался в том, что дневник побывал в великих космических битвах. Мы хотели немножко прожечь тетрадку, но чуть не спалились сами.
Когда огонь погасили, тетрадь уменьшилась почти на одну треть, но Женька нас успокоил, сказав, что в случае потопа она переживёт всё человечество, если, конечно, пакет с дневником положить в другой пакет; тот другой — в третий; потом поместить всё это в контейнер, и запечатать в медную капсулу с серебряным покрытием; доставить её на орбиту и выбросить в открытый космос. Ничего сложнее контейнера у нас не было, а об открытом космосе можно было забыть.
— Не страшно! — успокоил нас Женька. — Ну, их, космонавтов этих! Это будет дневник разведчика, — заключил он, а мы с Серёней радостно согласились.
— А о чём пишут разведчики в своих дневниках? — спохватилась я.
— Пока не знаю, — призадумался Женька. — Вот разведаем что-нибудь, тогда и напишем. Ты у нас больно грамотная, ты и пиши!
Потом мы ещё много чего разведали и узнали и очень сильно вытянулись за лето. А потом я и подумала-подумала, да и написала в прожжённой чёрной тетрадке с глиняными листами:
«В глухом углу дачи, под кустом чёрной смородины, мы с Женькой и маленьким Серёней закопали в землю лягушку: не живую, а дохлую. Закопали и стали ждать, что же будет».
3.Пусть будет «ОН»

Нет, за тебя! Как ты смеёшься?!? И хватит уже обо мне, а что, жизнь, типа, удалась, тьфу-тьфу-тьфу. Да, Галка, прости, можно тебя, как в школе, ага. У тебя под Лондоном? Обалдеть! У меня– на Николиной.
Муж, дети, счастье банальное, сама знаешь. Как там? все счастливые семьи бла-бла одинаково. Вот твой — весь в инновациях; мой — в инвестициях, ага, по уши. Ну, что я тебе объясняю? Вот как-то так. Езжу на чём? На водителе, то есть, на двух — меняются. А что сама? Стараюсь особо не выделяться. Жизнь-то вокруг какая? Вот мы с тобой скоко… Скоко-скоко? С выпускного не виделись — пока ты себе разъезжала — а я от не фиг делать всё писала-писала, бумагу марала –в стол, конечно, не скромничаю. И что, что талант? За талант — легко! Чин-чин!
Как торкнет–нетленка, что могу что-то миру дать — так они у нас сразу все и забегают, пресса волну нагонит –раскручусь, сразу серией и издамся!
Мой тоже, конечно, вложится — перспективу задницей чует! Подними листочек, пожалуйста, не доверяю я электронике. И сразу просится перо к бумаге, минута, и… А ты у меня ведь всё списывала. Там-тА-рам, и слова чернилами текут. Щас детей даже клякс лишили, а я люблю от руки, по-старинке. Вот тут описание мужичка одного, зацени.
Глаз-то как забестел! Как зовут? Да не важно. Пусть будет «он», ладно? Идея такая:
1 глава
«Его дом где-то там — с вечно старою мамой и тикающей, текающей, да-да, утекающей от него жизнью. Рухлядь по стенам, но заметь чистые, отмытые с краской полы». Полы — метафора, не поймёшь. Дом. «Там у него всё –заросший репеем двор, первый кораблик в бутылке», он о море мечтал, «первая сигарета, и первая б… дь, баба, не баба– совсем девчонка; соответственно попадает по малолетке. Ещё не решила, рассказ, а может, роман. Талант, говоришь?
Суть в этих символах — как там, дворы-колодцы, уколоться и упасть на дно колодца, при чём здесь колодец? Эти полы, кораблик, не просто детали, бутылка особенно, чтобы не было мучительно, короче, за бесцельно прожитые. Кто ответит? Никто. Сам пока не готов, и понеслось. Что дальше? Так вот, мать драит и драит полы, да, как палубу. Из прошлого– только эти полы с отколупленной краской. Мне это важно. А этому раздолбаю всё что-то мешает туда вернуться.
И такой вопрос в никуда: «Зачем она замыла ему дорогу?», да, домой.
2 глава
Тут я не дописала, но будет крупно так — дом перекроенный, кто-то въехал, следы грязных ног, и ставшая меньше мама. В том-то и фишка, что больше не моет. Дай прикурить. Откуда знаю в подробностях? Хм, да был тут типок один, скорей прототип. Общались, навеяло, как-то у них проездом. А что море? В финале кораблик уплыл, бутылки осталась. А что детали, они повсюду: поездки, обрывки фраз, ну, что я тебе рассказываю?
Как тебе это: «с его плеч сползает любая сумка, с головы шапка, с рук сходит любая баба. Он плюётся, когда говорит, мычит, когда спит, хотя и не спит никогда». Совсем, что ли? Не сплю, конечно. Говорю же, навеяло
Я тут набросала: «он пахнет дешёвым парфюмом, иногда обманчиво дорого; пьёт, когда нервничает, а нервничает почти всегда; не пьёт под гипнозом, связанным, в коме, да, про морг я вычеркнула». Это я так, на будущее. Вот ты докопалась! Давай за будущее! А освежить?
Ну, был он у меня как-то, и что? Жрал всякую дрянь, не с помойки, правда, — делился, я не о дряни, домашнюю-то еду? Дай лимончик. Спасибо. Пробовал. Да не о дряни я! Почему сразу бомж? Ну и жена, типа, стерва, не прописывает, да, по сюжету. И что, что женат? Мне он кто? Не любовник, блин, не любовник, да, просто друг, дура, не гомик он! Почему сразу же импотент? Бабки? Работа? Вопрос. А давай за бабульки выпьем — тебе не важно, а я выпью. Это ж не следствие — это рассказ, или роман, думаешь, фильм? Как покатит. Пытался прорваться в бизнес, всюду –облом. Вроде семья, жена, дети, у меня об этом глава.
3 глава
Вот, послушай: «Его кредитная линия длинней линии жизни», блин, тут я выпендрилась: «протравлена на ладони службою падших ангелов…» Как на слух? Ничё? Сейчас у нас что? Поздняя осень, а у этого– затяжная зима. Или вот, из серёдки, когда вся хрень, всё плохое уже случилось: «на пороге –предчувствие денег, календарной весны, ранней старости» и отбивка к «Секретным…», ну, к Скалли и к Малдеру. Та-рам-пам-пам-пам-пам — голос за кадром в нос как у Володарского: «его пенсия где-то там, он где-то здесь, и эти двое могут не встретится». Да, это о старости. И музыка, в дрожь бросающая; на раз напишут, когда бабки подтянутся. Предварительно, с Журбиным. А что? Настреляем у олигархов.
За олигархов не пью! Прости, ничего личного. Это я так, на будущее. Как ты смеешься?!? Где же это? Аааа, вот. За семью? Чуть позже.
4 глава
Мысль такая — сейчас всем не хватает любви. Круто?!? Почему сразу ему? Ей не хватает, да, этой стерве. А давай «за любовь»! И тебе простого бабского счастьюшка, потому что надо ещё придумать страсть что ль какую и все сразу завяжется. Измену? Ну, нет, он не такой, сказала же– женат на подруге. Не говорила? Я побледнела? Это от курева. Освежи!
А что сюжет? Крупно постель, иначе не снимут, но без интима. А давай за постель! Это важно. Я тебе не ответила? Новый взгляд, всё вскользь, межу строк. Добавить шторма, в смысле секса? Тут надо думать. И программно за кадром: «общаться с ним — в удовольствие, дружить — в тягость, любить– в наказание; может быть– во спасение» –э то я о душе. О душе ближе к финалу. Да не о смерти! А давай на посошок!
Как он на морду? Да ничё так! Хошь честно, урод уродом, но улыбка, если зубы, конечно, вставить, и глаза большие, когда трезвый, наверное. Он на бровях, на рогах когда — страшный, хамский, значительный. Я об этом дальше пишу. Подержи бокал: «харизма его чудовищна»! — да не о сексе, тебя прям заклинило! Чем связаны? Да ничем! У кого ещё такой есть? Кто он мне? И что ты чувствуешь? Почему сразу «мой»? Послать его? Да легко! Какие события? Фильм не для всех, ну, книга, рассказ, на худой конец.
Спрашивай! Любит ли он детей? Да, больше чужих, но о своих не забывает, вижу по взгляду, помнит. Я как раз об этом дальше пишу, вот: « с ним –легко, за него–страшно, без него–тошно».
Тебя тоже тошнит? Больше не пьём. Мы дошли до финала
Финал.
В финале везде бутылки, загаженные кем-то полы, были полы? Реф-ффрен, понимаешь, нет, не фамилия, и кораблик мечется в унитазе. Как тебе символ? При чём здесь Джек Воробей? Дай сигаретку.
Быть идеальной противно. Так они и жили– сначала у них ничего не было, а потом их обокрали. Не сюжет, анекдот это. Как ты смеёшься?!? Не здесь, не сейчас, Не познакомлю. Тебе что, совсем биг-бэн склинило? Почему сразу муж? Муж-шмуш-шму-шму, — не слово, кличка собачья. По паспортун–не по паспорту, а по барабану, как там в горе и…, а хотя бы и в горе, и умереть в один день! Это я так, на будущее. Тсс, отвечу.
«Да, ра-ботаю, а, ты, видимо, от-ды-хаешь? По голосу вижу. Мы опять никуда не едем? На море он хочет. Мычи внятней. Морду умой, прими лекарство, не это! Ну, хамло! Что? Размыло дороги? У твоей матери –годовщина! А за могилкой? Отложила, спрятала от тебя, не в доме, не во дворе, не у соседки! Принесу бутылочку, не дури там, жди, скоро буду».
Обалдеть! Мать-покойница снова замыла ему дорогу! Я не о прошлом — о настоящем. Как ты смеёшься?!? Ну, всё, Галк, побежала, на гору эту, как её, на Николину, да, водитель заболел, прикинь, оба. Как что — отзвоню, ага, первый экземпляр, и на премьеру само собой. Пока-пока, цулу, и твоего, и мелких.
Надо же — «муж»… И как она догадалась?

4. Ведро
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
