
Бесплатный фрагмент - Мистерия
Первый сборник русского хоррора
Светлой памяти Алексея Вячеславовича Атеева (1954—2011)
За исключением исторической части повествования (событий, происходивших до 2000 года), все персонажи и события представленных произведений являются вымышленными, любое совпадение с реальными лицами чисто случайно
Авторы
Писаки, ебаки и чубаки
(вместо предисловия)
В ушедшем 2017 году имели мы неосторожность принять участие в литературном конкурсе, упоминать название которого не стоит как из этических, так и из рекламных соображений. Надо сказать, что посвящен он был хоррору. С сожалением дошли мы до этапа самосуда работ, когда авторы оценивают рассказы своих коллег, и констатировали печальнейшее состояние, в котором жанр Кинга и Кунца пребывает в современной России. Огромное количество литературных фриков, широко известных в узких кругах, занимаются не более, чем переписыванием того, что задолго до них написали признанные мастера жанра. В своих попытках фраппировать плагиатом читающую публику они доходят до дичайших приемов — наделяют лермонтовского Печорина чертами Дракулы, обучают читателей, простите, кончать молча, а творения свои нарекают яркими названиями типа «Ебака». Сами эти авторы регулярно становятся на котурны и устраивают в Интернете хвалебные воспевания од и панегириков самим себе от своего же имени, чтобы ненароком малочисленный читатель (коим в 50% случаев является сам писатель) не позабыл драгоценного сердцу имени.
Что же в действительности кроется за этим непрерывным потоком графоманского безумия? Только элементарное отсутствие новых форм и сюжетов. Даже пресловутый «Ебака» подкачивает в этом плане, являя собой не более, чем наглый плагиат Джорджа Лукаса.
В мире, где все сколько-нибудь пугающие сюжеты уже вышли из-под пера людей, куда более талантливых, чем описанное сообщество писак (писателями их назвать язык не поворачивается), именно поиск новых форм, новых образов и линий — есть сложнейшее и, вместе с тем, почетнейшее дело, отличающее автора от графомана со стажем. Запад уже пережил подобный кризис хоррор-авторов в начале 1990-х, знавал он и графоманов от литературы, которые могли обновить давно изъезженный сюжет разве что потоком сальностей (взять хотя бы знаменитого Бентли Литтла). Ничего хорошего у писак тамошних не вышло, а имена их пополнили топку литературы ужасов, придя под гром переводческих фанфар на не избалованный ужасами (да и вообще книгами) российский литературный рынок. Не сумев отыскать принципиально новой формы, эдакие Бентли Литтлы заставили старика Кинга вновь нарушить обещание не писать романов и взяться за перо. Сдались. Дали слабину.
Чего не хватило? Только сугубо национального колорита. Вся Америка боится пугающих клоунов с детства, а потому очевидно, что кинговский Пеннивайз или капитан Сполдинг из «Дома 1000 трупов» будут самыми популярными героями американских масс-медиа. Столь же очевидно, что лучше, чем Кинг или автор «Дома» Роб Зомби вряд ли кто-то из их земляков сможет тему раскрыть. Ну и уж тем более очевидно, что внедрять этот сюжет в российскую книжную действительность — дело более, чем неблагодарное. Необходимо искать похожие элементы в русской истории — но никак не в великой русской классической литературе, чьи герои с легкой руки плохих школьных учителей, может, и вызывают у школьников ассоциации с Дракулой, но никак не достойны порхать по страницам «Ебак».
Найдя, преподносить этот сюжет тоже надо иначе. Иван, родства не помнящий, не может знать, чего боялись его отцы и деды, а потому его надо принудительно сталкивать с мрачными страницами истории. Делать это возможно, размасштабируя перед ним то, что ему страшно на сегодняшний день. И даже учитывая, что в этом сборнике не все рассказы имеют местом действия Россию, новая форма в их подаче состоит в обновленном способе подачи материала, который, надеемся, будет интересен и нов для российского читателя.
Мы постарались отыскать эти новые формы и линии — вернее, сложное дело поиска начато; понятно ведь, что одним сборником рассказов революции не совершить. Отзывы читателей станут маяком дальнейшего движения; верно ли избран путь? Если нет, то куда идти и стоит ли вообще продолжать движение? Мы всегда для них открыты: aaronsvalner@gmail.com.
В заключение надо сказать немного о человеке, памяти которого посвящен сборник. Это — наш земляк, магнитогорец Алексей Атеев, автор первых русских романов в жанре ужаса, таких, как «Солнце мертвых», «Загадка старого кладбища» и «Псы
Вавилона». Болезнь унесла его рано — ему не было и 60 лет, но и за эту короткую жизнь он сумел начать тот поиск, обрыв которого начисто столкнул с рельсов локомотив отечественной хоррор-литературы. Мы постояли над его обломками и начали движение с того места, на котором, как нам кажется, Атеев остановился. Потому и решено было назвать сборник первым сборником русского хоррора, что после смерти классика прошло слишком много времени — имеем ли мы право считать себя его преемниками? Быть может, это новый путь?
Да, мы знаем, что на нас обрушится шквал разгромной критики. Первому всегда трудно. Но за первым следует второй, и в этом — великая логика исторического и литературного прогресса, остановить который невозможно!
Листабо

«Бойся своих желаний — если очень чего-то хотеть, оно может и сбыться… Если очень кого-то звать — он может и прийти…»
У Америго Пьемонкези нестерпимо болела спина. Солнце светило ему прямо в лицо из открытого окна, но закрыть его не было никакой возможности — таково было требование художника, которому все не хватало света. Свечение так ярко и мощно разлилось по замковой галерее, что в его палящих лучах дон Пьемонкези не мог даже рассмотреть портреты предшественников, чье созерцание всегда прибавляло ему терпения в минуты, когда больная спина ныла, но государственные дела не позволяли принять горизонтальное положение. Дож даже стал опасаться, что краски на старинных гравюрах выцветут, и лиц вовсе нельзя будет рассмотреть после этого визита портретиста. Неудивительно — окна здесь открывались редко, да и то чаще всего вечерами, оттого-то дон Америго так сильно переживал за бесценные творения художников, навсегда сохранившие легкой кистью мастера страницы истории республики.
Но не это сейчас волновало его больше всего. И даже не очередное противостояние с Союзом десяти, в которое он вклинился так неудачно и не вовремя и которое грозило ему лишением престола. А то, что и без того растянутая во флотских сражениях спина от более чем часового сидения на стуле в неудобной позе просто разламывалась. И как только он ни умолял художника прерваться — проклятый инквизитор был непреклонен. На него, видите ли, в сей час снизошло вдохновение…
Всем богам, каких знал старый безбожник дон Америго, помолился он в этот час — но неизвестно, эти ли молитвы или проклятия, мысленно посылаемые натурщиком на несчастную голову художника, были услышаны свыше. А только так или иначе, позирование пришлось прервать — вице-дож синьор Антонио Скарлатти вошел в галерею, неся впереди себя свиток.
— Дуче, Вас сию же минуту требует совет.
— Какого черта им еще нужно? Разве мы не договорились обсудить все на завтрашнем заседании?
— Да, но там сейчас обсуждается закон о налоге на роскошь.
— И кто его внес?
— Скуола пекарей.
— Удивительно, что не скуола ювелиров, — сыронизировал дон Америго. — Сами видите, чем я занят.
— Сожалею, но государственные дела важнее. Вам придется прерваться.
Разведя перед бранящимся художником руками, Пьемонкези пулей выскочил в сопровождении Скарлатти из галереи и направился в Совет, который заседал через две улицы отсюда. Как только они вышли за дверь, дож поблагодарил своего коллегу.
— Спасибо Вам, что вытащили меня из лап этого деспота, иначе я уж приготовился отдать Богу душу. — И добавил, обращаясь к приказчику дворца: — Выпроводите этого мазилу и велите закрыть все окна, я опасаюсь за творения мастеров…
Заседание Совета было нелегким. Неспроста представители демократической партии устроили эту провокацию — о действительном характере принимаемого закона дож догадался спустя несколько минут обсуждения. Скуола пекарей потребовала обложить налогом тех, чье состояние превышало десять тысяч гиней. Дожу не полагалось иметь таких богатств в личной собственности, но ни для кого в республике не было секретом, что супруга дона Америго, Сантуцца Пьемонкези, чье родство восходило к самим Медичи, была куда богаче иных членов Совета. С одной стороны, дож как руководитель республики должен был быть заинтересован в доходах бюджета, а с другой принятие положения било бы по его собственному карману. Демократы решили уничтожить его, подумал дон Америго, но получасовое сидение в удобном кресле все же навело его на мысли о том, как в этот раз избежать разгромного поражения и перенести его хотя бы на завтра — ведь завтра будет слушаться доклад апелляционного суда об отмене ряда принятых дожем законов.
— Синьоры, — заговорил он своим звонким, раскатистым голосом бывшего военачальника. — Я полагаю, для принятия законов такого рода еще не вполне готова почва. Обратите внимание на то, как живет Венеция, каково благосостояние ее жителей. Неужели Вам самим не приятно быть куда богаче тех же генуэзцев? А почему так, кто-нибудь спрашивал себя? Я отвечу — потому что Светлейшая Республика Венеция уделяет меньше внимание благосостоянию чиновников, чем богатству жителей своих. Нам неважно, каково жалованье государственных лиц, нам важно, чтобы за счет низких налогов республика и ее жители процветали. Что же предлагает нам досточтимая скуола? Повысить налоги. Но зачем? Куда они будут направляться? Уж не в карман ли пекарей, хлеборобов или торговцев? Э, нет, в карман чиновников. Пришло ли время, спрашиваю я вас, затянуть пояс на животе торговца, чтобы ослабить его на животе слуги государства?
Слово взял Джотто ди Тавольо — глава комиссии Совета, который был давним оппонентом Пьемонкези и всегда поддерживал те инициативы, что исходили от его врагов — демократической партии. Он был известным в республике ученым, и, по слухам, даже алхимиком — последние были обязаны причиной своего появления недюжинному уму Джотто. Хотя республика была не так уж бедна на светлые головы, как в прежние свои времена, а все же таких прозорливых ученых она еще не видела — это и не нравилось Пьемонкези в его недруге больше всего.
— Мы предлагаем направлять налоги не на содержание чиновников, а на жалованье докторов, которые очень скоро понадобятся нам, учитывая распространение чумной заразы.
— Какой еще чумы?!
— Генуя, Италия, Флоренция, Париж — всюду уже побывала черная смерть. Не сегодня — завтра она может объявиться и в Венеции.
— И сколько времени она шагает по Европе?
— Уже не один десяток лет.
— Тюю, — протянул Пьемонкези. — И почему-то еще не дошла до нас, хотя мы активно торгуем и с Генуей, и с Флоренцией! А хотите я скажу, почему? Потому что это не более, чем выдумки таких вот ученых мужей, которые решили обогатиться, ничего не делая! Подумайте об этом, синьоры прежде, чем голосовать!..
Ропот пронесся в рядах Совета — они заседали с раннего утра и уже порядком устали.
— А коли однозначного ответа на мои вопросы нет, я предлагаю вам хорошенько подумать над законом до завтрашнего общего заседания. А сегодня вечером приглашаю всех в театр. Нам всем надо отдохнуть перед тяжелым днем. Тем более на гастролях генуэзский театр. Заседание объявляю оконченным…
Сенаторы нехотя покидали зал — многие понимали, что трон под дожем сильно шатается, и он просто тянет время, чтобы очередным тактическим маневром отвести от себя удар. Но каким будет этот маневр? Дож и сам не знал. Потому и вечером он, собираясь с женой и маленьким сыном Винченцо на представление комедии дель арте, был чернее ночи. Безуспешно Сантуцца пыталась добиться от него хоть какого-нибудь объяснения — дож предпочитал не слушать ничьих советов и потому ни с кем не делился своими потаенными мыслями.
Несколько бокалов вина и занимательное представление немного развеяли темные мысли дона Америго. В перерыве между актами дож перекинулся парой слов с облаченными в маски актерами и поднял тост в их честь.
— Ваше представление очень веселит меня, я благодарю вас, господа, от лица всех зрителей…
Актер в маске арлекина — видимо, он был старший в труппе, — вежливо расшаркался перед главой республики.
— Как же называется ваш театр?
— «Листабо», синьор.
— Чудное название… Что оно означает?
— О, это веселая история. Мы как-то были в Португалии, показывали там представление. Так вот там к нам прибился один африканец, который столицу страны не мог толком назвать и вместо «Лиссабон» говорил «Листабо». Так мы его и прозвали. Он был неплохой малый, весьма симпатичный. Так вот однажды произошел случай истинно в стиле комедии дель арте. В наших представлениях присутствует один персонаж, мы звали его «Чумной доктор». Так вот маска его настолько уродлива, а костюм настолько страшен, что видавшие виды морские волки, моряки Португалии пугались как мыши при его виде. А наш несчастный Листабо через полгода увидел его впервые и так устрашился, что отдал Богу душу. Клянусь Вам, синьор, так и было. В его память мы и назвали наш театр…
— Неужели умер именно от страха? — удивился дож.
— Нет, как позже выяснилось, он умер от чумы, но момент смерти пришелся именно на их знакомство с маской, потому мы сперва и подумали, что именно она — виновница смерти нашего старичка…
— Однако! — всплеснул руками дон Америго. — Почему же я до сих пор не увидел этой ужасной маски?
— О, у Вас все впереди, это во втором акте.
— Я буду ждать с нетерпением…
От беседы его отвлек Скарлатти.
— Синьор, нам нужно поговорить.
— Не наговорились на Совете? У меня лично после этой вакханалии ни язык, ни голова не работают.
— Между тем завтра заседание Большого Совета, и нам нужно что-то придумать…
— Что мы можем придумать, кроме как затянуть слушания?
— Но и это будет затруднительно!
— Отчего же? Я проткну Вам живот шпагой, и мы отложим заседание до выборов нового председателя Совета, — хохотнул Америго. Скарлатти было не до смеха — ускользни трон от Пьемонкези, и он тоже останется не у дел. Причем если первый тут же образует скуолу и начнет жить на широкую ногу, то второму останется только отправиться в монастырь и стать переписчиком книг — до назначения на государственную должность вороватый чиновник был беден, как церковная крыса. Шутка не позабавила дона Антонио, но дожу было уже не до его реакции — начался второй акт.
Увлеченный рассказом актера, Америго ждал появления нового персонажа. Он был частым гостем на представлениях комедии дель арте, но о новой маске слышал впервые. Велико же было его удивление и даже… омерзение, когда та появилась на сцене. Длинный костяной клюв выдавался чуть не на метр вперед актера, сам он был одет в ужасающий бесформенный кожаный плащ и треуголку, в каких ходят разве что сапожники, глаза были спрятаны за толстыми линзами круглых очков, присаженных к клюву. Сам клюв закрывал все остальное лицо, а поскольку из-за него актер не мог толком дышать, и говорил в нос, то звуки на выходе получались отвратительно скрипучими и пугающими. Как специально режиссер подобрал музыку — лютня заиграла при появлении маски нечто, леденящее душу. Публика замерла, а маленький сын дона Америго Винченцо в ужасе прижался к отцу и заплакал. Вскоре маска исчезла со сцены, но успокоить ребенка уже не получалось — пришлось срочно вернуться домой.
Вечернее представление повеселило дона Америго, но нагнетающаяся вокруг него обстановка не выходила из головы, мешая заснуть всю ночь. Утром дож решил прогуляться — свежий воздух действовал на него успокаивающе. Прогулка заняла больше часа, и дону Америго даже показалось, что некоторые светлые мысли пришли в его голову за это время, но все было омрачено неприятной случайностью. При входе на городской рынок из карманов дуче исчезли все золотые монеты. Он грязно выругался, стоя у рыбной лавки, но делать было нечего.
О том, что в Республике процветает детская преступность, ему докладывали уже давно. Жаловалась и жена, и прислуга, и граждане. Но до такой наглости — обокрасть самого дожа — пожалуй, редко кто мог опуститься. С другой стороны, такая ситуация требовала принятия кардинальных решений и как можно скорее.
Дорогу до Совета дож провел в размышлениях, но, дойдя до него, стал как вкопанный, хлопнул себя по лбу и резко развернулся. Члены Совета еще не знали, что заседанию сегодня не суждено состояться. Дож сказался больным и остался дома. А уже вечером Скарлатти докладывал ему о происшествии на городском рынке в полдень.
— Там появились актеры из того театра, что вчера вечером давал представление — «Листабо», кажется, в тех самых масках, о которых они вам говорили. Видели бы вы, что начало твориться с местными мелкими воришками — они кинулись врассыпную, едва завидев людей в ужасающих масках и пропитанных грязью плащах! Я от души посмеялся, став свидетелем этой картины — те, кто еще вчера нагонял страху и на торговцев, и на покупателей, сами словно вспомнив, что они еще дети, стали дрожать и прятаться за прохожих… Мне это напомнило, как вчера Винченцо испугался, увидев чумных докторов на сцене комедии дель-арте. Думаю, дуче, что проблема детской преступности решена — увидев этих «чудовищ», наши маленькие супостаты вряд ли захотят встретиться с ними еще раз. Вот только… — Скарлатти задумался о чем-то, и дож вздрогнул — уж не догадался ли его пронырливый помощник о том, что задумка с появлением «страшных актеров» на рынке в разгар посещаемости принадлежала главе Республики?
— Что?
— Я видел еще и реакцию взрослых на листабо.
— И что же? Какой она вам показалась?
— Не могу сказать, чтобы она сильно отличалась от детской — люди стояли в оцепенении до тех самых пор, пока актеры не покинули площадь… Они тоже были порядком напуганы… Казалось, я один понимаю, в чем дело… И в этот момент мне подумалось вдруг, что темнота и стадные чувства еще очень сильно развиты у простых наших граждан…
«Нет, он в самом деле умный человек. Даже если догадался, что я разыграл спектакль на рыночной площади, то все равно никому не скажет. Да еще и идею подскажет мне такую, которая вмиг решит все проблемы…»
…Ах, как любил Америго улицы Венеции в дневные часы, когда яркими и теплыми лучами солнца согревалась эта благословенная Богом земля! Адриатика посылала скалистым берегам пенные волны, одну за другой, а вода каналов переливалась всеми цветами радуги, словно бы радуясь волнующему ее бризу и шепча прохожим старинные итальянские песни. Во многих странах мира побывал Америго — и нигде такими чудесными не были его встречи с солнцем. Оно то жутко палило, убивая все живое на своем пути, то изредка баловало землю своим теплом, делая ее промерзлой до самого корня векового дерева. Отовсюду ему хотелось бежать, чтобы только скорее коснуться подошвами родной земли, прогуляться по вымощенным грубым желтым камнем мостовым, вдохнуть терпкий и отдаленно напоминающий море запах каналов.
Видимо, такова была участь всех дожей Венеции — рано или поздно они запускали руку в государственный карман. Пока дон Америго командовал флотилией, ему бы такое и в голову не пришло. А сейчас он на своей шкуре чувствует, насколько мало жалованье главы республики и как предательски хочется именно в эти моменты жить на широкую ногу. Почему? Кто знает — быть может, стремительно приближающаяся старость так дышит в затылок дуче, словно заговорщицки бросая ему: «Ну же, вперед, тебе осталось совсем недолго, да и судья твой высоко». И оттого он все реже показывается на здешних улицах днем — и веление власти таково, что запрещает руководителю республики ходить одному в людных местах, и сам он днем чаще бывает или занят, или погружен в мрачные мысли о не дающих покоя демократах.
Но город от этого он не стал любить меньше — теперь ему стала нравиться ночь. Стоило сумеркам спуститься на родную Венецию, как вновь ее пьянящий воздух и витающий в нем дух романтики и счастья наполнял тело и мысли дона Америго. Затихали птицы, легкий ветер шевелил листья деревьев, веяло ночной прохладой, а вдалеке слышались звуки кифары — и в этот момент дож будто забывал о своем истинном возрасте, и ему казалось, что все еще впереди и будет куда как замечательно. Он снова любил свой город, как и прежде, в такие моменты.
Еще и потому, наверное, что именно вечерами его любимые театры давали свои представления в этом городе. Сегодня это был «Листабо». Дож пересматривал виденный накануне спектакль и все так же с нетерпением ждал появления той самой ужасающей маски. Оглядевшись в какой-то момент представления, он понял, что в своем ожидании не одинок, но отметил, однако, что народу пришло на представление куда меньше, чем в первый раз, да и те, кто пришел, вместо вожделеющих лиц сидят с гримасами животного ужаса.
И стоило непривычному для глаз венецианцев — а потому и притягательному, и ужасающему одновременно — чумному доктору появиться на сцене, как этот ужас превратился в оцепенение всех зрителей. Всех, кроме дона Америго. Он один с чувством глубокого удовлетворения взирал на жуткий длинный костяной нос маски, на ее круглые очки, на безмолвно зашитый рот. Смотрел и думал, что, сколько бы ошибок он в жизни ни сделал, а любимый им город все равно ниспошлет ему мудрый совет и спасение от ненастья…
Перенесенное на завтра заседание Совета началось в шесть часов вечера. Открыл его дон Америго, на котором лица не было — он был бледен, а под глазами красовались черные круги — результат бессонной ночи.
— Синьоры, полагаю, что сегодняшнее заседание нам придется перенести.
— Хватит, дон Америго, — произнес глава демократической партии дон Пьетро Амензола. — Вам не удастся больше выигрывать время! Заседание состоится во что бы то ни стало.
— Боюсь, дон Пьетро, не моя злая воля помешает нам продолжить обсуждение, а нечто иное.
— Что же?
— Следуйте за мной.
Собрание в полном составе вслед за дожем вышло из зала заседаний и направилось на площадь святого Марка. К тому моменту здесь собралось достаточно много народа. Собравшиеся в ужасе взирали на ворота замка дона Пьетро Де Ла Виньо, которые были украшены страшными атрибутами. Подвешенные за шеи под самые балки ворот, висели здесь пять трупов с выпущенными кишками. Ворота замка и брусчатка окрест были залиты кровью. Люди с негодованием и страхом взирали на эту картину.
— Кто это сделал?! — вскричал дон Пьетро, выходя вперед. Молчание было ему ответом — казалось, люди даже не столько напуганы, сколько обескуражены. — И кто же?! — не унимался сенатор.
На его причитания из толпы выделился человек и робко произнес:
— Это были они… артисты из комедии дель арте… в тех масках…
Прохожий не пояснил, о каких именно масках идет речь, но присутствующие поняли его и без слов.
— Немедленно в театр и взять их! — вскинул руку Пьетро, но прохожий опередил его:
— Их там уже нет. По слухам, они уехали еще с утра. Мы обыскали даже городские окрестности — отовсюду их и след простыл… Но что же нам теперь делать, дон Америго? — обратился взволнованный горожанин к дожу.
— Расходитесь по домам и ждите наших указаний.
Заседание Совета продолжилось, но по иному сценарию, нежели, чем планировали сенаторы.
— Эти актеры… они с ума сошли…
— Не спешите с обвинениями, синьоры, — поднял руку Америго. — С этим нужно как следует разобраться. Начать нужно с того, что актеры тут ни причем. Трупы были свежие, это видно невооруженным глазом, а балаган покинул Венецию еще утром, как сообщают прохожие. Это раз. И потом — при въезде в Венецию их, разумеется, обыскали на предмет оружия. Найди наши стражи что-то, что могло бы представлять угрозу для жителей Светлейшей Республики, ни о каких представлениях не могло бы быть и речи! Тут другое…
— Что же?
— Вспомните, как звали того персонажа, кто так сильно напугал наших граждан накануне? «Чумной доктор»! А кто нам только и говорил, что о надвигающейся на Венецию чуме?! Ди Тавольо! Я ни от кого, кроме как от него не слышал и слова такого! Кстати, где он?
Депутаты осмотрелись — алхимика не было в их рядах.
— Думаю, синьоры, нашим инквизиторам придется серьезно поговорить с синьором Джотто, а пока я объявляю в городе комендантский час! Покуда мы не решим эту проблему, считаю обсуждение всех остальных преждевременным!
По счастью, заметил Пьемонкези, никто не поднял вопроса о том, кто такие были убитые. А это значит, что замысел его пока остается нераскрытым…
Сразу после заседания Совета он спустился в подвал стражников. Случайно на глаза ему попалась одна из масок персонажа комедии дель арте, позаимствованная у генуэзцев.
— Это что еще такое?!
— Извините, дуче, — проговорил начальник стражи дворца.
— А если кто-нибудь увидит?!
— Но кто? Здесь никогда никого не бывает…
— Все равно уберите. Сейчас же отправляйтесь за Ди Тавольо. За инквизиторами я уже послал. Приведите его на суд, он, кажется, совершил преступление… Да, кстати, после этой несчастной пятерки, что вы развесили на стенах дворца Де Ла Виньо, камеры успели убрать?
— Да, дуче, камеры готовы для новых узников.
— Думаю, Ди Тавольо придется посидеть там некоторое время. Правда, недолго. Совсем недолго.
Дож как в воду глядел — суд над виднейшим деятелем демократической партии инквизиторы провели скорый и суровый. Его пытали, обвинили ко всему еще и в колдовстве, и, в итоге, не дав толком оправдаться, приговорили к аутодафе на той самой злосчастной площади святого Марка на глазах всего города.
Когда мудрец стоически принимал смерть, а языки пламени лизали его пятки, Скарлатти робко спросил у своего дуче:
— И что теперь? На какое-то время мы сохранили Ваш трон, но что будет дальше? Свято место пусто не бывает…
— Хочешь сказать, что этого мало?
— Хочу сказать, что всех демократов на костер не отправишь…
— Что ж, пожалуй ты прав. Идея у меня есть…
Ученый мучился в жутких страданиях — тело его обгорело и превратилось в уголь; все потому, что, согласно приговору инквизиции, он не пожелал выдать сообщников, помогавших ему убивать невинных горожан. Все это походило на настоящий дьявольский огонь из комедии Данте, так ужасна была казнь со стороны. Дож и раньше видел казни — но никогда не организовывал их так бесцеремонно и бесчинно, как сейчас, никогда не прибегал к такой низкой откровенности в борьбе за власть. Однако, сама идея близости дьявола к нему — а близки в этот час они были невероятно — навела его на другую, более дерзкую, мысль.
Утром должно было вновь состояться заседание Совета — надо было отменять комендантский час, а, согласно уложения, самостоятельно дож такого решения принимать не мог. Допустить этого он не хотел — сейчас он вспомнил слова своего предшественника, Леонардо Маццини, о том, что всякая власть основана на силе и страхе. Он чувствовал, что одна казнь вовсе ничему не научила ни демократов, которые по-прежнему дерзко взирали на своего дуче, ни народ, который попросту ничего не понял и списал все на разбойника и еретика Ди Тавольо. Размышляя об этом, ночью накануне заседания Пьемонкези отправился в подвал к стражникам.
— Как там камеры наших преступников?
— Опять полны, дуче. Поймали троих новых преступников и одного перебежчика на границе с Генуей.
— Вот и отлично. Маски далеко?
— Все на месте.
— Сегодня же ночью, там же, сделаете то же самое. Привлечете к себе как можно больше внимания и уйдете подальше от городских ворот, в лес. Там переоденетесь и вернетесь в город уже незамеченными.
Командир стражи кивнул синьору. Он не боялся крови, да и мужества ему было не занимать — они вместе воевали и с римлянами, и с арабами, и он верил Пьемонкези как своему боевому командиру, до сих пор сохранившему этот статус. Зная это, дож со спокойной душой отправился спать.
Велико же было его удивление, когда утром он обнаружил на пороге своей спальни Скарлатти. На том не было лица.
— Что случилось?
Тот от ужаса не мог вымолвить ни слова и только позвал дуче за собой. Они, как и следовало ожидать, дошли до площади святого Марка, где собралось едва ли не все городское население. Америго Пьемонкези подумал, было, что знает, в чем дело, но не тут-то было — за спинами слишком большого числа сограждан не разглядел он, что трупов было вовсе не пять, а порядка двадцати. И они уже не висели, как первый раз, под замковыми воротами, а были буквально растерзаны в клочья — да так, что даже лиц было не разобрать в оставшемся от людей кровавом месиве. Пьемонкези опешил. Опрометью, не слушая ни Скарлатти, ни причитающих людей, еле слышно говорящих о том, что чумные доктора вновь устроили беспричинную кровавую бойню, бросился он к командиру стражи, Парди.
— Что это такое? Как прикажешь это понимать?
— Дуче, — дрожащим голосом отвечал тот, — я сам ничего не знаю. Стоило ночью нам приблизиться к площади, там это уже было… По темноте мы вернулись в казармы, но Вам докладывать не рискнули — было поздно… Клянусь Вам, это не мы…
Пьемонкези сначала не поверил своим ушам — верить Парди он привык за многие годы совместной службы.
До глубокого вечера он промолчал и на заседание совета не явился. Беседовал он в тот день только со Скарлатти, сказавшись больным. Вице-дож впервые подумал, что глава республики действительно обескуражен — таким он не видел его еще никогда.
— Кто же это может быть?
— Понятия не… Хотя знаю, — внезапно цепкий взгляд Пьемонкези устремился на собеседника. — Это чертовы актеришки — те самые, у которых я купил их маски.
— А где они сейчас? Вы же велели им уехать и как можно скорее! Да и в городе их нет, это точно!
— Их нет, но я знаю, где их найти.
Под покровом темноты Пьемонкези и Скарлатти в сопровождении стражников выдвинулись из города в направлении маленькой деревушки Треви на севере отсюда. Там был небольшой, но уютный трактир — дож на радостях отсыпал актерам за купленные у них страшные маски столько, что несчастные бедняки, не видевшие в жизни ничего, дороже золотого кубка наверняка сейчас здесь пьянствуют, вдали от городской суеты.
Где-то он был прав — на подъезде к деревне увидел он шарабан и еще несколько повозок, на которых актеры несколько дней тому назад приехали из Генуи. Но то, что ждало его внутри, поразило и обескуражило его еще сильнее.
Изнутри трактир, некогда цветущий и привлекавший к себе внимание путников, в котором сам дон Америго не раз останавливался, напоминал настоящую бойню. Кровью было забрызгано,.. нет, залито, все — от пола до потолка. Человеческие останки и внутренности валялись здесь всюду, и пахло несвежими, разложившимися телами. Где-то валялись кости и осколки черепов… На некоторых скелетах остались театральные костюмы.
— Но кто это? Кто это может быть? Неужели проклятый алхимик мстит нам с того света за свою кончину?
Америго ничего не ответил. Они вернулись в город в полной тишине.
Спал дож в ту ночь плохо — а кто бы после такого уснул? Едва забрезжил рассвет, как дверь в его спальню тихонько приоткрылась. Скрипнула половица, из темноты прорезался свет факела. Спросонья дож даже не подал голоса, а лишь пошел на свет.
Источник оказался дальше, чем ему казалось — спуститься пришлось прямо во двор. Не до конца разлепившиеся веки мешали хозяину дома видеть своих собеседников в полутьме, но по шороху плащей было понятно, что их несколько. Пьемонкези сделал несколько шагов в глубину сада и ахнул — перед ним стоял человек выше дожа раза в два, на голове его красовалась треуголка, а на носу висела ужасающая маска, никому доселе не известная в Венеции, но так хорошо запомнившаяся ее жителям после злосчастного представления комедии, превратившейся в драму…
— Кто вы? — пробормотал Пьемонкези, не помня себя от страха. Да, даже этот, видавший виды вояка опешил при виде такого чудовища.
Ответа не было. Вернее, они не говорили с ним голосами — но словно бы внушали ему мысли, от осознания которых дожу становилось жутко. Словно бы чьи-то слова лезли в его голову настойчиво и упорно, хотя он их не слышал.
«Ты ищешь нас, хотя твои поиски бессмысленны…»
Дож опустил голову вниз и пришел в еще больший ужас — трое или четверо великанов в жутких театральных нарядах чумных докторов не стояли перед ним, а парили, не касаясь земли. Факела, что держали они в руках, были огромные — потому такой яркий свет исходил от них. Несколько мгновений назад фантом помаячил факелом у дверей спальни дожа и вылетел сюда, маня его за собой. Но зачем? Не для того ли, чтобы здесь, на улице, в окружении собственного сада еще более ужасными показались дуче огромные фигуры чудовищ?..
— Но откуда вы? — почему-то спросил он далее.
«Отовсюду… Из Генуи, Флоренции, Парижа…»
— Но там всюду черная смерть!
«Многие зовут нас и так… Разве дело в словах?..»
— А в чем тогда?
«В том, что там, откуда мы пришли, для нас больше нет пищи… Зато ее много здесь…»
— Но… о чем вы?
«А что ест чума?»
Последняя мысль буквально сковала конечности Пьемонкези.
— Но… почему… почему я? — от страха дуче не мог толком сформулировать свои страхи и измышления, но и без этого странное ночное видение — то ли сон, то ли явь — понимало его.
«Эти люди избрали тебя главным… Как вожак ведет стаю к выживанию или гибели, так и ты поведешь их к нам в руки…»
Мысли чудовищ, так отчетливо слышимые дожем, не были вопросительны и ничего даже не утверждали — они отдавались в голове Америго глухим отзвуком приказа голоса свыше.
«Ведь если долго о чем-то думать или кого-то звать — то искомое в итоге найдет тебя… Ты порой и сам не знаешь, о чем помышляешь… Ты хочешь просить нас показать силу, хотя все понимаешь и сам страшишься… Что ж, и в этом отказа не будет…»
Внезапный оглушительный вопль озарил сад дома. Стоявший сзади с мечом на изготовке наивный, преданный и глупый Парди в попытке спасти жизнь государя поплатился своей — чудище схватило его и вырвало с костью руку, сжимавшую эфес клинка. Стражник кричал, лежа на гравийной дорожке сада и истекая кровью — все домашние, включая охрану дожа, давно проснулись от такого крика, но никто не решался высунуть носа и отправиться на помощь Парди, который уже спустя полчаса затих. Все эти полчаса Пьемонкези стоял как вкопанный и смотрел на него, о чем-то спрашивая своих ночных гостей, а когда забрезжил рассвет и они исчезли так же тихо, как появились, приказал послать за Скарлатти.
— Собирайте совет, — бросил он ему с порога. — Продлеваем комендантский час.
По дороге они разговорились. Вице-дож смотрел на дуче с хитрецой. Тому же было явно не до шуток.
— Я понимаю, дуче, что вы решили немного испугать народ, но, воля ваша, вся эта затея с комендантским часом…
— Ничего ты не понимаешь! — стоило Америго взглянуть в глаза Скарлатти, как воцарившийся в его душе накануне ночью животный ужас словно чума передался собеседнику. — Все куда серьезнее! Это уже не шутка, давно не шутка…
— Что — не шутка? Листабо?
— Можешь звать это как хочешь, но они есть! Я пока еще не знаю, как защитить от них людей, но полагаю, что нахождение наши граждан дома хоть как-то увеличит их шансы на спасение. Во всяком случае, вчера они не смогли войти в мои покои…
Дож схитрил. Все-таки в первую очередь он был главой республики, а уж потом — простым человеком. Чтобы сохранить как можно больше жизней, он продлил комендантский час, но не подумал, что те, кто одной силой мысли внушал ему прописные истины, способы раскусить его хитрость и наказать его за ослушание.
В один из вечеров дож, закончив диктовать очередной указ Скарлатти, вдруг выглянул в окно с балкона собственного дома. Увидев своих посетителей он буквально оцепенел от ужаса — ворота дома были распахнуты, а прямо перед ними висели в воздухе, невысоко от земли трое листабо. Они держали в руках жену, сына дуче и кухарку. «Господи, я же говорил, чтобы не выходили из дома!» — мысленно выругался дуче, но тут же осекся, опасаясь, что чудовища научились читать его мысли.
Воздух вокруг них словно плавился, извивался и переливался как падающая с гор вода — так бывает, когда вблизи смотришь на пламя. Они не разговаривали, но внушаемые ими мысли раскатами грома отдавались в голове собеседника.
«Ты решил нас обмануть… Зачем? Ведь мы обо всем, как казалось, договорились…»
— Я… я… — пытался что-то промямлить Пьемонкези, но язык стал ватным и словно перестал его слушаться.
«Теперь ты будешь наказан…»
— Возьмите лучше меня! Отпустите ни в чем не повинных людей!
«Зачем? Дож нам нужнее, чем его вдова. А тем более — умный дож…»
Как только последняя мысль пронеслась в воздухе, один из листабо, державший замершую от ужаса супругу дона Америго взмахнул свободной рукой и, разломив пополам грудную клетку, вцепился ей в самое сердце. Гримаса нестерпимой боли исказила лицо жены — Винченцо, видя это, вскричал как ошпаренный, а Скарлатти в ужасе впился ладонью в плечо дуче. Сам Пьемонкези похолодел, хотя на улице стояла нестерпимая жара.
Вырвав сердце супруги, листабо поднес его к клюву своей чудовищной маски и всосал его длинным костяным отростком внутрь себя, чавкнув и запачкав кровью мостовую. После чего безжизненное тело Сантуццы полетело во двор дома дожа.
Другой в это время стал отрывать голову ребенка от туловища. Или детские кости были такими прочными, или листабо нарочито мучил дитя — процедура оказалась долгой и болезненной. Извиваясь от боли, Винченцо не мог проронить ни звука — были порваны шейные горловые связки. Скарлатти в страхе отвел глаза, а дон Америго словно бы не мог сделать этого, тело его уже не слушалось.
В это время одна огромная рука листабо держала сына дожа за ноги, а другая — за шею. Чудище растягивало ребенка как игрушку, пока наконец не порвало надвое, разбросав в разные стороны голову и детское тельце.
«Теперь ты умнее…»
Эта мысль вывела дожа из оцепенения — давясь слезами гнева и горести, бросился он на улицу со шпагой, чтобы догнать неуловимых зверей, но те только развернулись и спокойно удалились, все так же не касаясь ногами земли. Глядя им вслед, Скарлатти подумал:
«Надо же… ведь так ходил сам Спаситель…»
Сам же он на спасение не рассчитывал…
Сегодня же ночью вице-дож решил вырваться из города. Он пробирался сквозь толпы людей, которые, словно по приказу, высыпали на улицы из своих домов. Давешнее обращение дожа относительно комендантских часов и рекомендаций как можно больше времени проводить дома сработало совершенно в обратном направлении — люди в таких ситуациях зачастую опасаются оставаться одни в замкнутом пространстве, хотя им и в голову не приходит, как большое скопление людей сможет помочь спастись. Обыкновенная в таких случаях надежда на хаос, в котором удастся затеряться, переключив внимание страшного зверя на своего товарища по несчастью — наверное, единственная причина, по которой они выплеснули на улицы города в такую минуту.
«Они и впрямь похожи на чумных…»
Прекрасные доселе городские пейзажи превратились Бог знает во что. Люди высыпали на улицы как по команде, и оттого казалось, что город вот-вот лопнет, будучи не в состоянии выдерживать пребывание стольких людей в своих пределах. Никогда еще — даже во времена городских праздников и народных гуляний — столько людей не находилось одновременно посреди городских улиц и кварталов, забыв свои дома.
Они, в основной массе своей, пьянствовали — вино помогало справляться с обуревающим их души страхом. Кто-то делал это в одиночку, пытаясь смириться с мыслью о скорой мучительной смерти, кто-то — и таких было большинство — собирался в большие компании, накрывал длинные столы и, забывая о причине сбора, пировал и ликовал что было сил, воображая себя сильнее чудовищ и будучи готовым в минуту наиболее сильного опьянения даже вступить с ними в рукопашную. Вот несправедливость — стоило хмелю едва покинуть головы несчастных, как и без того сильный в душах страх словно овладевал всеми их членами и заставлял буквально трепетать. Что было делать в такую минуту — броситься в канал или продолжить напускное веселье? Основная масса выбирала второе…
А те, кто выбрал первое, тоже сталкивались с трудностями. Красивые и чистые городские каналы стали похожи на притоки реки Стикс, поднявшейся из царства мертвых (хотя, быть может, это Венеция опустилась в преисподнюю за последние дни?). Воды в них было не видно — одна багровая жижа из отходов и крови жертв листабо заменила священную проточную влагу. Да и ту разглядеть было трудно сквозь огромное количество тел и остатков тел, что сплавлялись по городским каналам — тех, что не доели невероятные вызванные воображением и волей дожа чудовища, в которых он и сам временами отказывался верить.
Сквозь всю эту сумятицу на городских улицах Скарлатти насилу к рассвету добрался до леса, где заканчивалась территория республики. Он надеялся спасти хотя бы себя, понимая в глубине души, что пощады от листабо не будет никому — чего стоила хотя бы семья дожа!
Сквозь бурелом деревьев и кустарников пробирался вице-дож к спасительной границе, как вдруг услышал крик вдалеке:
— Стой! Кто идет?
— Вице-дож Скарлатти, — срывающимся от усталости и волнения голосом отвечал беглец.
— Стой где стоишь!
— Я имею право пересекать границу в любое время…
— Нет, у нас новый приказ!
— Что еще за приказ?! — продолжая движение, возмущался синьор Антонио.
— Никого не выпускать из города!
— Но почему? Кто его дал?
— Наши власти! У вас свирепствует чума, и нам не нужно, чтобы она и в наших домах поселилась! Отправляйтесь восвояси, синьор, иначе вас ждет встреча с нашими ружьями и пиками!
— Что еще…
— Мы не шутим! — подойдя ближе, вице-дож увидел едва ли не целый отряд латников, преградивший ему дорогу. Лязг мечей заставил его остановиться.
— Но куда же мне? — пробормотал Скарлатти.
— Идите назад и уповайте на Господа. Если вы не грешили, Он вас не заберет!
Скарлатти вернулся в ратушу. Пьемонкези сидел на троне ни жив, ни мертв.
— И что мы теперь будем делать? — тихим, то ли от усталости, то ли от страха, голосом, спросил он.
— Напишем обо всем Папе…
— Папе? Думаете, он поможет?
— А вы думаете, у нас есть множество вариантов? Ведь человеческие силы иссякли в борьбе с этим… с этими… Но так или иначе, остается уповать лишь на Господа — и, если Он послал листабо на наши несчастные головы, то и сменить свой гнев на милость Он сможет только лично. Повинную голову меч не сечет — а кому еще виниться, как не Его посланнику?
Скарлатти взглянул в глаза своему дуче — и поверил ему как никогда…
Папа Римский Пий Второй не находил себе места. После встречи с кардиналами из Флоренции он как оглашенный носился по дворцу. Одолевавшие его последние месяцы мысли больше не могли томиться у него в голове и нуждались в том, чтобы вырваться наружу.
— О чем вы так беспокоитесь, Ваше святейшество? — спросил кардинал Джованни Медичи.
— А то вы не знаете… Флорентийские послы вновь принесли дурные вести…
— Чума? Черная смерть уже во Флоренции?
— Вы правы, сын мой. Вам как придворному хронографу Ватикана следует знать, что скоро она и сюда доберется — пока мы принимаем людей в масках и колпаках, но однажды перестанут помогать и они…
— А как же вера? Господь не может оставить Папу…
— Ах, оставьте красноречие для аналоя, — отмахнулся Папа. — Подумайте лучше, куда мы с Вами спрячемся, постучись завтра черная смерть в наш дом?
— Как вы совершенно справедливо выразились, я как хронограф веду учет продвижения чумы по Вашим владениям и могу сказать, что одно только место осталось еще не тронутым проклятой заразой. Это — благословенная Венеция!
— Ах, — воздел руки к небу Папа, — я так и думал. Всегда Священная Республика спасала всю христианскую Италию, спасет и на этот раз. И скажите после этого, что этот дивный край, из которого произошли ваши славные предки, не есть седьмое чудо света?
Кардинал смущенно опустил глаза. Разговор двух сановников прервал монах — он принес письмо для Папы.
— От кого это?
— От венецианского дожа Пьемонкези.
— Читайте, читайте скорее…
Медичи развернул пергамент — выражение лица его стало чернее ночи. Понтифик обо всем догадался.
— Что там?
— Боюсь, мессир, у Вашего слуги сегодня появится дополнительная работа — до поздней ночи я буду корпеть над книгой летописи двора, в которой появится еще одна черная страница…
— Неужели и Венеция?
— Увы, — развел руками кардинал. — Позвольте, мессир, коль скоро природа чумы нам еще не до конца известна, я сожгу письмо — мало ли, что в ваш дом пришло с его пылью…
— Конечно, бросайте скорее в камин! Ах, святая Мария Магдалена, молись за нас. Кажется, нам с вами, друг мой, остается уповать только на чудо…
Причитая и молясь, Папа покинул залу, а будущий папа Джованни Медичи еще долго смотрел на то, как корчилось в пламени письмо венецианского дожа.
Аристократы

Февраль 1917 года выдался в столице теплым и снежным. Мело и пуржило как никогда — говорили старожилы, а мне, не бывавшему в Петербурге с далекого 1908 года, и вовсе казалось, что старинные шпили, Адмиралтейство и брусчатку Манежной площади, больше нипочем не увижу, ибо все это будет занесено суровой предвесенней метелью.
Уезжая из Петербурга бедным студентом, я не мог подумать, что сделаю карьеру в Москве, но связана она будет совсем не с моим образованием медика, а с… цирком. Да, именно с цирком. Так случилось, что, единожды посетив в Москве выступление немецкой цирковой труппы, я навсегда влюбился в это искусство, которого, признаюсь, в детстве вовсе не понимал. Поступив сначала гримером, уже через пять лет я стал в труппе канатоходцем — жуткая ирония судьбы, но множественный перелом, полученный моим предшественником, послужил для меня дорогой в жизнь. Да, если не считать моих детских занятий гимнастикой, что позволили быть в сравнительно неплохой форме. А еще спустя три года я собрал собственную труппу, с которой стал гастролировать по городам. Вот этот-то путь и привел меня на мою родину в феврале 1917 года.
Одному Богу известно, что на самом деле творилось там в те злополучные дни. Недовольство властью нарастало, на фронте следовали поражения за поражением, а потому Государь вынужден был отбыть в ставку в Могилев, покинув престол и возложив руководство страной на не пользующегося популярностью Протопопова.
В преддверии выступления в варьете у меня состоялся разговор с руководителем дирекции Императорских театров Владимиром Анатольевичем Теляковским. Про этого человека надо сказать особо — он был великий театральный деятель. При нем оформительское искусство театров стало принадлежать кисти таких великих мастеров как Коровин и Бенуа, свои спектакли стали дарить публике Мейерхольд и Санин, а сам Станиславский создал свою театральную студию именно с его легкой руки. Мне он предоставлял площадку варьете для моего представления. Меня он знал уже как состоявшегося циркового деятеля, хотя для меня, который помнил его еще со времен студенческой юности, Теляковский был и оставался идолом, примером во всем и вся.
— Так уж и в ставу он уехал, как же, войсками руководить… — разброд и шатание в столице коснулись и этого, казалось бы, далекого от политики, человека. — У него для этого есть великий князь Николай Николаевич!
— А почему же тогда?
— От страха.
— Вы полагаете, все настолько серьезно?
— Что тут полагать — революция произойдет не сегодня — завтра. Но, видите ли, для этого нужен толчок. Массы созрели, интеллигенция готова, но нужно нечто вроде детонатора, как бы бикфордов шнур, который можно запалить и потом свалить на него всю ответственность — когда мир повержен в хаос, кто разбирается в причинах?!
— И чью же сторону вы займете во всей этой энтропии?
— Разумеется, обновленческую. Но никакой энтропии не будет — кто нам внушил, что вся власть от Бога да от царя? Ничего подобного, весь мир уже давно управляется законами демократии и конституционализма, и только мы, как справедливо отметил его же дед, живем по пословицам и поговоркам… Ну да, впрочем не об этом я с вами хотел говорить…
— А о чем?
— Сегодня у вас на представлении будет князь Белостоцкий — это вхожий во все театральные круги видный общественный деятель. Уверяю вас, короткое знакомство с ним, даже при его строптивом нраве, откроет для вас запертые доселе двери. Важно, чтобы выступление понравилось старику — обратите на это особое внимание. Поговорите с артистами, устройте все дело наилучшим образом. Уверяю, это пойдет вам на пользу…
Я сделал все, как он велел — в скорую революцию, несмотря на его уверения, я не верил. Может быть, потому, что долго не жил в столице и не знал здешних нравов и настроений, а может, потому что всерьез полагал, что русский народ, привыкший жить для царя и для бога, нипочем не повергнет одного из вас идолов в прах.
Когда князь — облаченный в вицмундир, сияющий орденами святого Владимира и святой Анны, с моноклем в глазу, весь олицетворяющий старый режим и потому служащий как бы живым доказательством этой моей точки зрения — явился со всей семьей и отправился в ложу, Теляковский пошел вслед за ним, не отходил и буквально танцевал вокруг него во время всего представления. Я же лишь наблюдал за его реакцией на выступления артистов. Дрессировщики диковинных животных, шпагоглотатели, эквилибристы, иллюзионисты не вызвали у него, как мне казалось, воодушевления — он сидел с кислой миной. По окончании представления Теляковский подтвердил мои догадки, но велел мне все же пройти в ложу, чтобы лично поговорить с сиятельным театралом. Шло финальное коллективное представление, когда я явился пред ясные очи князя.
— Что же это, молодой человек? — презрительно гнусавя, начал Белостоцкий, подергивая бровью и поправляя монокль.
— Вы чем-то недовольны? Позвольте узнать, чем именно?
— А чем здесь можно быть довольным? Выступление прескверное…
— Простите, но я вас не понимаю. Воля ваша…
— Да полноте! Вы согласитесь со мной, что цирк — это такое же искусство, как театр или живопись?
— Разумеется.
— Отлично. Ответь вы иначе — я разочаровался бы в вас навсегда. А во всяком искусстве главное что? Жизнь. Оно живо, и потому так близко к своему конечному потребителю, к зрителю, к его душе. Все, что я увидел, было сверхпрофессиональным — такого в отечественных цирках давно не увидишь, но — вот беда — не живо.
— Но что означают ваши слова?
— То, что в номерах нет души! Ну что вы, ей-Богу!
Этот гнусавящий сноб с моноклем порядком мне надоел. Его критиканство подходило для пространных салонных бесед, но не для общения с человеком, который создал и поставил для него сегодняшнее представление.
— Быть может, вы имеете, с чем сравнить, и можете показать мне и зрителям лучшее. И тогда зритель решит… — я обычно ставил на место ему подобных именно таким образом. За годы цирковой деятельности я имел в этом кое-какой опыт, потому решил дерзнуть Его Высокопревосходительству.
— С удовольствием, — к удивлению для меня бросил князь. Утаскивая за собой всю семью, он исчез из ложи, и спустя минуту объявился на арене во всей красе, прервав заключительное выступление моей труппы.
Словно по мановению волшебной палочки эти люди, облаченные в строгие одежды, очевидно стесняющие движения, выпорхнули на сцену с легкостью, присущей профессиональным артистам. Они все вместе взялись за руки — как и подобает труппе перед сложным выступлением, поклонились залу и перешли непосредственно к номеру.
Сначала надо сказать о собственно труппе — она состояла из двоих детей мужеского пола лет по 5—7, одного весьма взрослого юноши пубертатного периода, собственно главы семьи и его супруги. В таком составе обычно показываются сложные составные номера, но кем? Очевидно, что не потомственным дворянином, у него-то откуда цирковые таланты?!
Как и все присутствующие, снедаемый любопытством оркестр грянул тушь по взмаху руки нашего нового режиссера и — по совместительству — главного актера. Заиграл вальс Штрауса, «Весенние голоса», который всегда играет перед началом масштабного представления — и откуда только знали это оркестранты?
Отвесив публике земной поклон, словно ожидая от нее оваций и как будто обещая незабываемое представление, труппа разбежалась по углам арены, оставив освещенный светом софитов ее центр. А уже минуту спустя на середине циркового зала появился самый младший член труппы. Снова поклонившись публике, он повернулся к ней спиной и шагнул на лежащие на полу помочи — это были качели, поднимающие канатоходцев к вершине купола, откуда они поражают зрителей своим мастерством. Зал замер — не всякий взрослый артист, имеющий за плечами соответствующий опыт, решится ступить на них и взмыть на неслыханную высоту. Ведь человек так устроен природой — он земное существо, ее силы тянут его вниз, а потому страх высоты, пусть даже и в самой ничтожной доле, присущ каждому из нас.
Мальчик же поразил всех своей смелостью — качели стали подниматься ввысь, у всех присутствующих, казалось, перехватило дыхание, а оркестр стал играть тише, как будто отражая волнение зала (а, может быть, музыканты волновались не меньше нашего?). Когда они сравнялись с куполом цирка, я обратил внимание на пол — внизу не было постелено ни соломы, ни батута, как обычно бывает в таких случаях. Подумать только, жизнь мальчика никто и ничто не страховал, а его отец, исполненный гордости за сына, стоял у рампы и взирал вместе с восхищенными зрителями на проявляемые отпрыском чудеса.
Вверху, у самого купола, был протянут толстый канат. Когда мальчик ступил на него своими детскими ножками и сделал несколько шагов, ловко перебирая пеньку атласными носочками, музыка остановилась. Я был, пожалуй, готов признать, что постановщик представления и впрямь заткнул меня за пояс, но и у меня в этот миг пропал дар речи. Я смотрел, как ловко и проворно маленький артист идет по канату и молился лишь о том, чтобы он поскорее дошел до конца.
Обычно, в таких местах артист старается прыгнуть на стоящий рядом постамент и там уже отвешивать поклоны восхищенной публике — но этот артист был явно не робкого десятка. Он дошел до конца каната, повернулся к нам лицом и поклонился в знак признательности. Зал взорвался аплодисментами, но самое главное было еще впереди — об этом свидетельствовал жест режиссера, рукой остановившего овацию.
Совершив поклон, мальчик на наших глазах ринулся вниз! Вниз, где не было ничего, что смогло бы смягчить его падение!..
Зал был настолько обескуражен самим выступлением, что подобная развязка была если не ожидаемой, то во всяком случае закономерной, но при условии, что все это окажется лишь обычным представлением. Секунды, в которые юный артист летел, без единого звука, на пол цирковой арены, показались нам вечностью. С глухим стуком он упал лицом вниз и лежал не шевелясь, несколько мгновений. Зал все еще думал, что он жив, что все это — лишь мастерская уловка его отца, и он вот-вот встанет. Лишь потекшая по дощатому полу из-под его маленького трупика багровая струйка разрушила все надежды на благополучный исход…
Зал не успел отойти от шока, не успел даже отреагировать на случившееся, когда на сцене показался старший сын режиссера. В руках он держал клинки — игрушки, которыми шпагоглотатели имитируют свое жутковатое представление и повергают тем самым публику в шок. Он стал к зрителям в профиль — так, чтобы было видно, что он делает; именно так стоят его коллеги по жанру — и начал погружать в дыхательное отверстие один клинок за другим. Так было, пока отец не подошел к нему вплотную.
Он протянул ему еще один клинок — но на сей раз уже настоящий. Острием дамасской стали блеснуло ужасающее орудие и ужаснуло зал. Чтобы не порезаться о него, режиссер труппы держал его за конец салфеткой. Посмотрев на сына с уважительным одобрением, он вручил ему сей инструмент.
Приняв клинок, сын в последний раз взглянул в аудиторию и… принялся засовывать его себе в рот. Зал ахнул, музыка давно перестала играть — музыканты забыли о том, что они музыканты, и смотрели на происходящее под куполом с дикими взглядами. Было видно, как мучительно больно инородное тело вмещается в глотку юноши, как слезы брызнули из его глаз, а зрачки стали скрываться под веками — он практически терял сознание. Несколько мгновений спустя изо рта молодого человека хлынула кровь — клинок прорезал артерию, жить ему оставалось меньше минуты. Истекая алой жидкостью, упал юноша на колени рядом с младшим братом. Еще секунда — и глаза его закроются навеки…
Аудитория взирала на происходящее в полном оцепенении. Надо же, никому в голову не приходило встать с места и возопить, закричать. Нет, каждый сидел, словно прибитый к стулу. Я до сих пор мучаюсь поиском ответа на вопрос — почему я, я ничего не сделал?!
Чтобы не дать залу опомниться, этот изувер, этот дьявольский манипулятор человеческими душами дал команду погасить свет. Сопровождаемые обычно шумами из зрительного зала, такие перерывы — не редкость во время представлений. Обычно во время них на сцене устанавливаются декорации или инструментарий для следующего номера. Сейчас же шорохи слышались на самой арене — зал безмолвствовал.
Вскоре свет вспыхнул, рампа вновь засияла огнями. Зрители увидели на сцене большую пушку — такую используют обычно при полетах «человека-ядра». Самые скверные и негативные мысли закрадывались в мою голову, но я отгонял их разумным предположением о том, что в этом-то механизме, который я отлично знаю, уж точно ничего не может быть опасного. Ведь внутри ствола пушки стоит специальное приспособление — нечто вроде катапульты, которая выталкивает человека, придавая ему нужное направление полета, в котором уже подстелена, так сказать, соломка.
Повинуясь законам жанра, «режиссер» повернул дуло пушки в сторону купола — там, где стыкуется стена шатра и основание свода циркового зала. Перед ним появился его последний сын. Он был облачен в длинный плащ до земли — в такой обычно одеваются артисты, чтобы спланировать при неудачном падении. Он, как водится, поклонился публике, которая уже не успевала следить за быстро меняющимися декорациями кровавого цирка, и залез в дуло. И только сейчас присмотрелся я к орудию, которое для нас выдавали за цирковую атрибутику — пушка была настоящей. Я вздрогнул и вскочил с места, воздев руки к небу. Но тут оркестр, словно сошедший с ума, заиграл тушь, перебивая меня — а может, как знать, это я лишился дара речи в эту жуткую минуту.
Так или иначе, секунду спустя звук барабанной дроби сменился шипением зажженного фитиля. Пушка грохнула и окропила первые ряды коктейлем из ошметков и свежей человеческой крови. Жутким ядром полетел в сторону купола последний сын изувера. Пока он летел, я почему-то подумал о том, что они выполняют его маниакальные номера как заведенные. Словно змеи повинуются они играющему на неказистой дудке факиру. Как он умудряется так ими манипулировать?..
Размышления прервал стук — то ударилась о балку перекрытия голова, единственное, что осталось от юного артиста. Хлопнувшись о твердое препятствие, она рухнула прямо на руки сидевшего неподалеку зрителя.
В зале началось смятение, но вновь на арену вышел главный застрельщик представления. Он поднял руку вверх и заговорил звонко, как настоящий шпрехшталмейстер:
— Спокойствие, дамы и господа! Не стоит так огорчаться! Человеческая жизнь подобна фитилю, только что уничтожившему артиста — она сгорает на глазах изумленной публики так быстро, что не всякий успевает это заметить. Но продлить или продолжить ее может только ей подобная. Закон природы таков, что, когда погибает, растворяясь в пене дней, одна жизнь, на смену ей непременно приходит другая, третья. В этом великое правило, заложенное в нас свыше, и задекларированное Дарвином — иначе нас бы давно не было под луной. И потому сейчас я продемонстрирую вам, как именно природа воскрешает самое дорогое, что у нее есть…
После этих слов на сцене появилась его жена. Облаченная в дорогой кринолин, который могла себе позволить не всякая светская модница, подошла она к супругу и сделала реверанс. Отвесив его и зрителям, она протянула руку мужу для поцелуя. Он поцеловал ее, но необычайно страстно. А дальше, пользуясь тем, что она не сопротивляется ему — как не сопротивлялись и другие — стал целовать ее выше и все более горячо. Вскоре уже его алчные руки стали неловко разрывать на спине шикарное платье. Минута — и оно падает бессмысленной тряпкой к ногам изувера, а вскоре за ним следом падает и его хозяйка.
Прямо здесь, где минуту назад лежали истекающие кровью тела их детей, стали они предаваться первородному животному совокуплению. Он таранил ее своим жезлом, а она громко, заглушая взволнованное, тревожное биение зрительских сердец, нечленораздельно кричала, словно бы соглашаясь с его «теорией» о зарождении новой жизни…
Я случайно обвел зал взглядом в эту минуту — все сидели сиднем, по-прежнему. Тот зевака с галерки все еще, казалось, ничего не соображая, держал на руках голову сына режиссера. У многих выступили слюни вожделения на губах… Я едва с ужасом и омерзением успел подумать: «Господи, да люди ли это?!», как акт на арене прервался. Режиссер обвел взглядом зрительный зал — каждый из нас, ощутив на себе его взгляд, невольно вздрогнул.
Он вскочил с пола и тут мы увидели, что позади него стоит колесный катафалк — именно в такой кладут людей во время фокуса с «распиливанием». Не говоря никому ни слова, он уложил свою партнершу, едва успевшую прийти в себя от полученного мгновение назад оргазма, в адскую машину и стал катать ее по арене взад-вперед. По его хитрому прищуру все уже поняли, какой номер последует за этим — игра со зрителем превратилась в захватывающую, увлекательную, манящую за собой уже, казалось, обоих участников представления. Первое оцепенение спало, я лично уже вполне себя контролировал, и только искренний азарт и увлеченность мешали мне прервать этот макабр.
Наконец катафалк остановился чуть поодаль от рампы, прямо под лучом софита. Взмахнув невесть откуда взявшейся гигантской пилой, престидижитатор стал распиливать древесный макинтош, отделявший тело жены от стали столярного орудия. Все смотрели на это представление, с ужасом ловя себя на мысли: «Ну, давай уже, скорее!»
Актер не имел права предать ожидания публики! Не зря он оставил самое «сладкое» место выступления — приходящееся на его конец — на свой собственный номер. И он их не предал!
Минуту спустя истошный вопль, какой, пожалуй, может издать только забиваемый зверь, огласил своды цирковой арены. Кровь вперемешку с опилками хлестала во все стороны, сам режиссер уже был по уши алого цвета. Пила шла с трудом — хоть и нежное, а все же это было тело, сложная субстанция. Он упорствовал, а люди глядели на него, не отводя взоры. И, если уж падение первого ребенка из-под купола показалось мне долгим, то здесь, должно быть, прошла целая вечность. Вечность, в ходе которой я задавал себе только один вопрос: «Почему? Почему, если зарождение всегда сопутствует смерти, мы так боимся умирать?»
…Я пришел в себя, когда в зале уже никого не было. Кровь и кишки валялись по всей арене, а князь, весь в багрянце, сидел на краю рампы и курил папиросу. Как вышли зрители — я не видел и не слышал. Поднимаясь с сиденья, я спросил лишь:
— Как же называется этот номер?
Собеседник взглянул на меня как на умалишенного:
— И вы еще спрашиваете?! Разумеется, «Аристократы»! — ответил он, лихо стукнув каблуками друг о друга.
…Я очнулся очень рано утром, когда первые лучи солнца стали только пробиваться сквозь пелену снежных облаков, снова застивших город. Именно очнулся — казалось, накануне я пребывал не во сне, а в каком-то странном и страшном забытьи. Голова болела, хотелось пить — все симптомы абстиненции, хотя накануне я не взял в рот и капли спиртного. Жутко было даже вспомнить, свидетелем чего я стал вчера вечером, и потому очень хотелось списать все это на больной сон, на жуткое видение, которое исчезло и больше никогда в моей жизни не повторится.
Я метнулся по подушке — даже вращать головой было для меня болезненно. Ощутил сырость на постели — должно быть, холодный пот прошиб меня после тяжелого сновидения. Руку вверх, вторую — нет, это вовсе не испарина. Это кровь. Но чья? Я стал неистово ощупывать себя — и не обнаружил никаких повреждений.
С ужасом я сел на кровати и огляделся — кровь была здесь повсюду. Из меня одного при всем желании не могло столько вытечь. Шикарные ковры «Англетера» были сплошь пропитаны алой жидкостью со специфическим запахом… Даже стены были ею испачканы, да так, что шелковых обоев и изысканных рисунков на них разглядеть за этой пеленой было невозможно.
Бросился в коридор — и там не лучше. Кругом темнота и разруха. Выкрутили все лампы, а под ногами валяются тела носильщиков и метрдотелей. Но кто? Кто это мог сделать?
Начали всплывать картины вчерашнего вечера — правда, смутно и трудно. Мне что-то принесли в номер, где я находился словно в каком-то тумане… Я все время, отчетливо это помню, думал только о том, почему мы так боимся умирать, если за гибелью одной жизни непременно следует зарождение другой?
Мысль эта так прочно засела у меня в мозгу, что я не мог больше ни о чем думать и не в силах был даже переключить на что-то свое внимание. Все, что отвлекало от этой мысли, злило, раздражало, казалось агрессивным и нападающим, от чего надо было защищаться…
Тут этот портье. Что он мне сказал и как — я уже не помнил. Помнил только подсвечник у себя в руке. Тот самый, которым я разбил несчастному голову… А, сделав это, вернулся в свое кресло и снова занял голову этой самой мыслью, само прикосновение к которой казалось мне чем-то вроде падения к живительному источнику — только рядом с ней мне было комфортно и светло…
Я не придал значения тому, что случилось с несчастным гостиничным служкой. Посидев какое-то время в номере и выпив принесенный кофе, я спустился вниз. Там стоял метрдотель, помню, он что-то спросил у меня, но я его уже не слушал — в руках у меня был все тот же подсвечник…
А сейчас я иду по заваленному телами коридору и думаю только о том, что я один не мог всего этого совершить. События вчерашнего вечера жуткой вереницей восстанавливаются в моем воспаленном мозгу, и я уже практически не контролирую ход своих мыслей. Меня гнетет, жутко гнетет случившееся главным образом потому, что я не знаю, что мне теперь делать. Та мысль, что вчера руководила моими действиями, вдруг почему-то оставила меня, и мне теперь срочно надо на улицу, к людям…
А пока внизу я вижу те же самые лужи крови, тела с размозженными головами и обагренные большими мазками какого-то горе-художника стены. Я выскакиваю на улицу, чтобы рассказать о случившемся первому встречному, но что я вижу?..
Огромные массы людей беспорядочно движутся по улицам столицы, держа в руках транспаранты и плакаты. Они идут куда-то словно надвигающаяся волна Невы, сметая все на своем пути и заставляя присоединяться к своему броуновскому движению. Я вспоминаю выражение Сенеки: «Судьба покорных ведет, непокорных — тащит». Я смотрю в глаза этих человеческих масс и вижу там то самое выражение, которое видел вчера во время дьявольского циркового представления — они безумны. У каждого одежда, руки, лица в крови и кажется, будто само небо багряного цвета…
Я толком не понимаю, что именно происходит, свидетелем и безмолвным участником чего я становлюсь. Мои уши глохнут от шума, я пытаюсь что-то кричать, но не могу.
Одновременно я вижу, как вытаскивают лавочников на улицу и разбивают им головы о мостовую, как громят витрины магазинов и окна домов, как помои текут по улицам, превратившимся в какие-то безжизненные каналы.
Я не разбираю лозунгов этих людей и с трудом добираюсь в этом нескончаемом человеческом потоке до набережной Фонтанки, где долго сижу под мостом, прячась то ли от людей, то ли от самого себя и своих мыслей…
Что было дальше? Дальше все было, как описывается в современных учебниках истории — революция и эмиграция. Первая явилась мне вот так — как красная смерть с засученными рукавами, а вторая отравила остаток жизни и превратила его в однообразный серый селевой поток, временами прерываемый запоями и романами с девицами легкого поведения. Нет, правда было еще кое-что. В Германии, где я поселился, я встретил своих давешних знакомых — семья «аристократов» Белостоцких давала представление в Берлинском цирке на Александер-платц. На афише были все те же лица, включая погибших, как я думал, во время представления детей князя. Они выступали под собственной фамилией и, как оказалось, были живы и здоровы — все-таки это было не более, чем представление, но клянусь, я своими глазами видел их смерть!
Проверять, не лгут ли мне мои глаза я уже не пошел — прошлого опыта мне хватило с лихвой. И правильно сделал — следующим днем лучше было отсидеться дома, ибо на улицах стало беспокойно. Кончилось все сожжением здания рейхстага — на этот раз семья циркачей принесла на своих плечах в мир не красную, а уже коричневую чуму. Как знать, погибли ли они на сей раз, но название цирковой программы — «Аристократы» — может прозвучать и еще раз и другой где-то в мире, а может и вовсе стать расхожим цирковым анекдотом. Ведь каждый из нас где-то в душе тонко чувствующий аристократ!
Суккуба
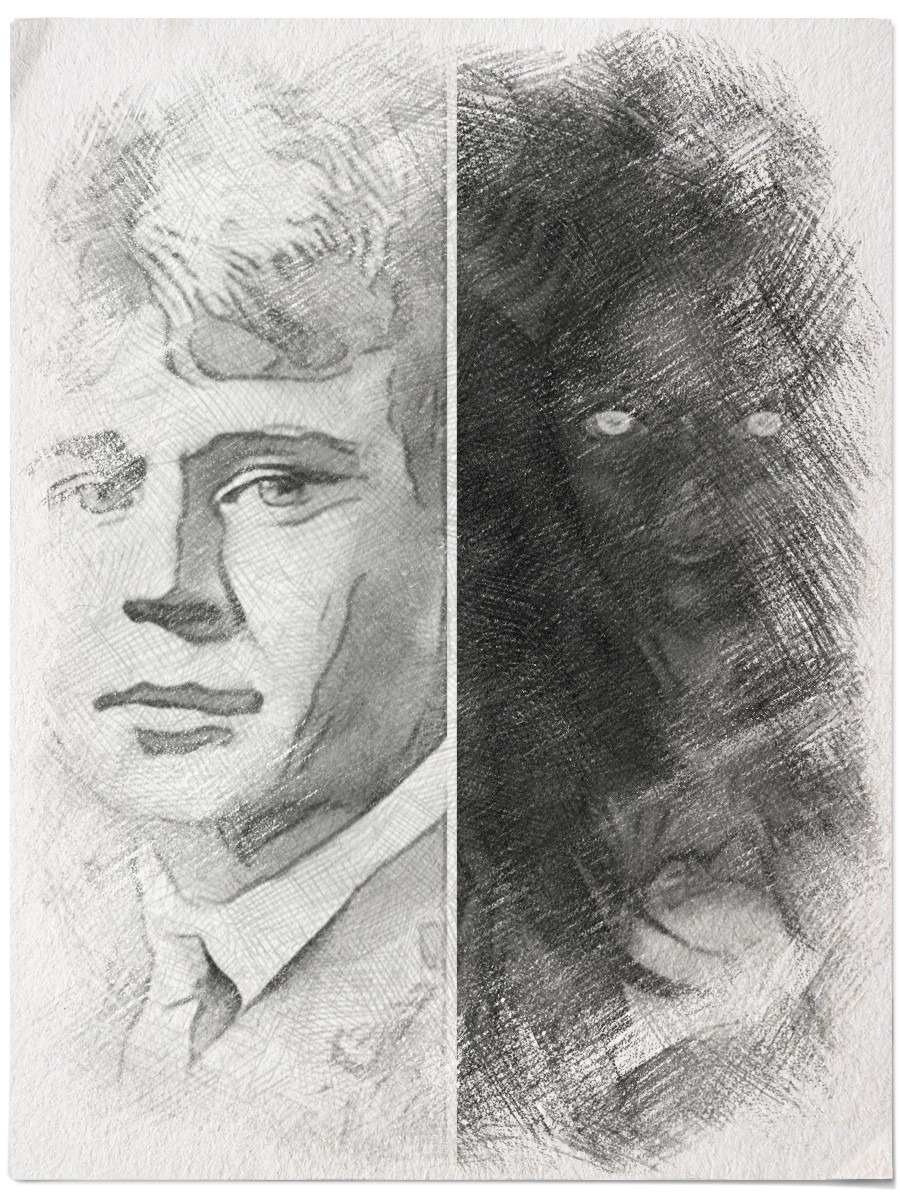
Стояла зима и вообще приближался Новый год, а всем вокруг казалось, что идет лишь поздняя осень. Снега не было практически совсем — если и выпадала на нашу долю какая-нибудь слабенькая метель, то решительным и морозным порывом она же проносилась вскоре мимо. Стылая земля каменных мостовых и грязных сырых дворов делала пребывание в столице еще более отвратительным, чем обычно. По утрам, когда выпадало мне идти на службу, казалось, будто добрый хозяин собаки в такую непогоду на улицу не выпустит, и оттого задумывался я уже о правильности и целесообразности мировой революции. Моя командировка в Ленинград оттого стала более ожидаемой, что накануне оттуда сообщили — выпал снег.
Я опрометью собрался, вскочил на поезд и утром следующего дня прибыл в северную столицу. Но и она, стерва проклятая, приготовилась к моему приезду — снег сдуло в прямом смысле как будто специально. Ругаясь, на чем свет стоит, и проклиная довольные лица сограждан, уже мысленно празднующих Новый год, отправился я к месту командирования.
…«Англетер» как всегда был островком чистоты и счастья посреди замусоренного и холодного города, не видевшего впереди себя решительно никакой перспективы. Иностранцы сновали туда-сюда, озабоченные портье отвешивали поклоны всем без разбору, жужжащими мушками с бельем в руках носились взад-вперед горничные.
— Видите ли, какая неприятность, — охал мне в ухо метрдотель. — У нас как раз люди должны уважаемые приехать, а тут такая… такая неприятность…
Неприятность… Нет, вы только послушайте его! Его же недоработка, халатность, желание поскорее уйти с работы домой и заняться домашними делами привела к такой утрате для всей культуры, а он это все называет ласковым словом «неприятность». Противно, честное слово. Прямо как при царском режиме.
В сопровождении этого малоприятного типа добрался я до второго этажа, где в роскошном двухместном номере, напоминающем мне, парню с рабочей окраины ни много-ни мало Лувр, ждал меня мой ленинградский коллега — Парахненко. Мы были немного знакомы со времен Гражданской, встречались пару раз во время боев за Царицын и знал я его не как толкового сыщика, а скорее, как исполнительного служаку. Что ж, такой он мне и был нужен. Мы поздоровались.
— Вот, значит, товарищ Фейгман, погибший. Есенин Сергей Александрович, 1895 года рождения… — коллега указал мне на лежавший на диване труп.
Поэт лежал передо мной как живой. Казалось, он просто отдыхает. Лицо его было несколько искажено — так бывает с людьми, когда во сне им является дурное видение. Кажется, что оно вот-вот пройдет, и человек снова встанет и вольется в наши дружные ряды строителей коммунизма. Ан, нет. Его нежное, почти юношеское лицо уже подернула мертвенная белизна, а кровоподтек под губой магически застыл и побагровел, несмотря на отлично отапливаемые здешние номера. Рубашка была расстегнута только сверху, брюки помяты. Подтяжечки аккуратненькие такие. На шее красовался огромный продолговатый синяк — во всю ее толщину. На языке сыщиков старого времени, среди которых было немало моих учителей, это называлось «стронгуляционная борозда».
Я обвел взглядом помещение — не было в нем привычного в таких случаях бардака. Стояло лишь несколько початых бутылок, еще несколько — пустых — валялось в корзине под столом. Поэт пил вино. В соседней комнате слышались голоса и шаги — там местные чекисты допрашивали, по словам Парахненко, друзей поэта, что провели с ним последние часы.
— Очень интересно, — протянул я.
— Что?
— Это вот он в таком виде повесился? В рубашке и брюках, попивая вино?
— Поэты… — задумчиво пробубнил Парахненко. — Черт их разберет.
— Черт-то черт, только странно все это. Он, что, на великосветском приеме был? Что это за вид для самоубийцы? А где веревка?
— Пес ее знает.
Ответ Парахненко меня возмутил. Я сдвинул брови и сурово посмотрел на него — ну, как умел, конечно.
— Все обыскали, товарищ комвзвода, — Парахненко припомнил мне Гражданскую, видимо, в качестве заверения в правдивости своих слов. — Гостиницу на уши поставили…
— Это правда, — поспешил кивнуть метрдотель, пережиток буржуйского строя. — Клейма негде ставить, все здесь вывернули, а веревки нет.
— Горничных опрашивали? Выкинули поди?
— Ни одна сюда не входила.
— Медики были?
— А то.
— Что сказали? Вероятность того, что руками удавили, есть?
— Никакой. Веревка и баста.
— А снимал кто? Кто вообще его обнаружил?
Из соседней комнаты вышел невысокий кудреватый типчик — тот самый приятель поэта, которого опрашивал ленинградец.
— Устинов, — он дыхнул на меня перегаром, протягивая руку с наглостью, не присущей даже коротким моим знакомым. — Мы с женой его обнаружили.
— Он висел? Вы снимали его? Зачем?
— Ничуть, товарищ чекист. Лежал как вот сейчас. И пальцем его не тронули. Мы еще тогда с Надей подумали, что он спит просто — накануне вместе… вечерили, вот думали, уснул наш Сережка, а он того…
— Очень интересно, где же тогда веревка. Тут-то все как следует осмотрели? Под ним глядели?
Я сделал шаг вперед и осмотрел письменный стол. На нем лежал листок, исписанный нервным почерком и почему-то красными чернилами. На нем было написано то самое знаменитое «До свидания, друг мой…» Годы спустя я еще расскажу подрастающему поколению, что держал в руках автограф поэта…
— А почему чернила красные?
— А это не чернила, — ответил Устинов.
— А что?
— Кровь.
«Пьяный бред», — подумалось мне, но он все объяснил.
— В номере чернил не было, Сережа нам об этом говорил, вот и вынужден он был писать кровью.
Метрдотель готов был сквозь землю провалиться, но я, при всем неуважении к нему, Устинову не поверил. Во-первых, потому, что про него я тоже кое-что помнил — в частности, то, что в 1921 он был исключен из партии за пьянство, а во-вторых, потому что чего-чего, а чернил в «Англетере» просто не могло не быть. Я велел всем троим тщательно обыскать номер, а сам прошел в соседнюю комнату, где молоденький солдатик из подчинения Парахненко опрашивал второго приятеля усопшего.
— Эрлих, — представился долговязый собеседник солдатика.
— Фейгман, — ответил я.
— Расследовать будете?
— Попытаюсь, — ответил я и подал знак солдату, чтобы оставил нас. — Вы давно с ним были знакомы?
— Всю жизнь.
— Тогда вы и ответите мне, зачем ему понадобилось под новый год все бросать и приезжать в Ленинград? У него здесь должна была быть какая-то встреча?
— Бог с вами, какая встреча. Сережа беспробудно пил последнее время. Часто срывался. Потом — где-то месяц назад — пролечился от алкоголизма, бросил. Слов нет, как мы радовались. Правда, писать стал меньше, все больше времени проводил в своей лавке, но зато не губил себя проклятой горькой. А тут вдруг… я и не знал ничего. Мне Гриша Устинов телеграфировал пару дней назад, что они тут вовсю Сережины деньги пропивают. Надя сказала, что он снял все до копейки со счета и удрал в Ленинград, я рванул было за ним, но… как видите, приехал поздно…
— Надя? Кто это?
— Вольпин. Его… подруга…
— Жена?
— Фактическая.
— Тьфу, пакость какая… А почему он так поступил, она не сказала?
— Нет. Она меня не любит.
— За что же?
— Не знаю. Я был его другом, а не ее, — ответы еврея были заносчивы и резки, но по существу. — Простите, товарищ Фейгман? Разрешите мне стихотворение на столе себе забрать? Последняя память все-таки, а ближе друг друга у нас с ним людей не было.
Я разрешил. Глянул в соседнюю комнату — метрдотель и Устинов под чутким руководством Парахненко рылись в прибранной комнате, взрывая ковры да матрасы, как жуки в навозе. Ни черта они так не найдут, понял я и махнул рукой. Командировку можно было заканчивать.
А эта Вольпин была та еще штучка — взять хотя бы тот факт, что фамилию бывшего мужа она взяла в первозданном виде, не склоняя. Да и внешний вид ее говорил, что она принадлежит к разряду «женщин-вамп». Я имел удовольствие видеть на днях в приемной ФЭДа супругу покойного — Сонечку Толстую. Так вот она являла собой полную противоположность Вольпин. Тихая, скромная, малозаметная, значительно младше своего мужа, она не производила впечатление женщины, за которой можно идти на край света, даже несмотря на то, что была внучкой Льва Толстого. А Вольпин, да. Несмотря на огромное количество браков и детей, длинный шлейф любовных похождений и скоромных историй, она вызывала желание. Даже не внешне — тут она явно уступала юной красоте Сонечки, — а скорее внутренне, подсознательно, что ли.
Она ходила по квартире и курила.
— Да уж, доложу я вам, последние дни он был просто невыносим.
— В чем это проявлялось?..
Она посмотрела мне в глаза:
— Ну как вам сказать… Это очень личное, понимаете… Одно могу сказать — терпеть его становилось все труднее и труднее.
— Что значит личное, товарищ Вольпин? Поэт погиб, и в деле расследования его смерти для нас личного не существует! А кстати, в каких вы состояли с ним отношениях?
— Я была ему фактической женой!
— Вольф Эрлих сказал мне то же самое, забыв только расшифровать, что это значит. Как это понимать — фактическая жена? Его фактической женой была Софья Толстая.
— Это по паспорту. А по жизни он ко мне тянулся. Да что там говорить — у меня от него сын!
— А почему же вы официально не расписались?
— Потому что оба презирали условности. Коммунизм отрицает частную собственность на все, в том числе и на людей. А эти ваши «приписки» в ЗАГСе есть не что иное как старорежимный пережиток, этой самой собственности проявление. Чем, к примеру, отличается крепостная сказка от свидетельства о браке?
Я улыбнулся:
— Интересно смотрите на вещи.
— Это новая линия, товарищ. Вот товарищ Коллонтай тоже так считает.
— Но мы сейчас говорим не про товарища Коллонтай, а про товарища Есенина. В чем проявлялись те странности, о которых вы говорите?
— Это же очень интимные вещи…
Мое терпение лопнуло:
— Вы мне секунду назад твердили о сексуальной свободе и отсутствии предрассудков, а теперь юлить бросились! Отвечайте, как есть!
— Что ж… Понятно, что, если я называю себя его фактической женой, значит, у нас с ним были интимные отношения. И во время них он просил меня о вещах, которые резонируют с традиционными нашими представлениями о любви и сексе…
— Что вы имеете в виду?
— Удушье. Асфиксия.
— Как это?
— Так. Он утверждал, что асфиксия во время совокупления усиливает ощущения. Ну, считал так считал, долгое время я ему ничего не говорила. Потом как-то раз он настоял, чтобы мы с ним это попробовали. Я категорически отказалась, но он был настойчив. Что ж, тогда я взяла шарф и попробовала слегка придушить его. Но потом испугалась и шарф бросила и никогда больше к этому не возвращалась.
— А он?
— А он говорил, что таких чувств как в тот момент никогда ранее не испытывал и вообще что теперь обычные наши акты ему противны. Тогда я велела ему отправляться восвояси и поискать для своих извращенных развлечений кого-нибудь другого. Тогда-то эта ваша Сонечка и появилась на его горизонте. Он думал — вот, молодая, без предрассудков и принципов, сейчас с ней я и реализую свои мечты. Но не тут-то было — внучка Льва Толстого сложно восприняла его идеи. Тогда он снова вернулся ко мне. И снова стал просить об этом… Видите ли, сам секс с ним напоминал чудо. Он был так прекрасен, так молод и силен, что я не могла отказать себе в искушении и снова пошла ему навстречу в этих его навязчивых желаниях. А что было делать? Но в один из дней он буквально как с цепи сорвался — требовал удушения настоящего. Страх боролся внутри меня с диким необузданным желанием. Я снова испугалась того, что эта игра его становится до боли реальной… А потом он сам решил мне продемонстрировать свои ощущения — ну, чтобы успокоить, как он сам говорил… Его молодые, сильные руки схватили меня за шею и стали душить в тот самый момент, в который… ну вы понимаете… Перед моими глазами пронеслась вся моя жизнь, включая первый брак и дореволюционный Петроград… Я поняла, что минута — и я на том свете. С силой я оттолкнула его от себя и стала бить, кричать. Он забился в угол и просидел там до утра. А утром снял со счета все деньги и укатил в Ленинград. Что было потом — вы знаете.
— Скажите, а он пил последнее время?
— Ха. Пил он всегда. Если бы только в этом было дело…
— То есть с водкой эти его выходки не были связаны, вы считаете?
— Конечно нет.
Подобного откровения я явно не ожидал. Сломя голову, бросился я напрямую к ФЭДу — именно его инициативой было скорейшее расследование гибели, которую он втайне списывал на убийство.
— Почему я так считаю? — поглаживая бороду, отвечал Дзержинский. — Да хотя бы потому, что такие люди не погибают просто так, сами. Какова обстановка с нашей культурой после революции? Печальна. Большинство мастеров оказались за рубежом, а пресловутый бухаринский «инкубатор талантов и интеллигенции» не работает. Вот и выходит, что таких талантливых поэтов у нас осталось раз, два и обчелся. И вдруг один из них — наиболее дружественный Советской власти — погибает. Как это понимать? Зачем большевикам убивать своего товарища? Зачем ему, и без того неплохо живущему в нашей стране, сводить счеты с жизнью? Чем он недоволен? Что не так? А теперь посмотри на ситуацию с другой стороны. Вот он умер — и началось на Западе в их либеральных интеллигентских кругах ворчание. Мол, кончают большевики деятелей культуры ни за что, ни про что. Сейчас, когда Горький хочет возвращаться в СССР, это особенно печально и страшно. Смерть Есенина политически очень выгодна нашим врагам и подрывает наш и без того оставляющий желать лучшего облик в глазах Лиги Наций и того же Союза Писателей-Демократов. Понимаешь, кто угодно может умереть просто так — но не поэт…
ФЭД говорил убедительно.
— Раз так, то я тоже кое-что выяснил.
— Что именно?
— Поездка моя в Ленинград никаких результатов не дала…
— Утверждение дилетанта, но не сыщика, — не дал мне договорить Дзержинский. — Любое действие, даже если последствий ты его ты не видишь или видишь не сразу, имеет некий результат. Он выявится чуть позже, — он смотрел на меня с прищуром, словно, о чем-то догадываясь, поэтому спорить с ним я не решился.
— …а вот в Москве я кое-что-таки выяснил. Надежда Вольпин — любовница Есенина и мать его ребенка — показывает, что в последнее время Есенин вел себя странно. Так, во время половых сношений с ним он утверждал, что наиболее сильное чувство испытывает, когда его душат. Просил имитировать асфиксию, сам пытался задушить Вольпин.
— И что? Вольпин же на месте преступления не было!
— Не было, но потихоньку вырисовывается общая картина преступления. Метрдотель и ленинградский чекист Парахненко не могли найти в номере и вообще в здании «Англетера» веревку, с помощью которой явно был задушен Есенин — медики исключили факт удушения вручную. Значит, веревку вынесли за пределы гостиницы, тем более, учитывая тот факт, что его обнаружили уже лежащим на диване, а не висящим в петле. Значит, он мог быть задушен во время секса…
— А что портье показывает? Были у него дамы в эти дни?
— Да там много кто был. Есенин пил, в том числе со своим приятелем Устиновым и его женой. Мало ли…
— Между прочим, кое с чем твоя находка стыкуется.
— С чем же?
— Ты, наверное, знаешь, что незадолго до своего отъезда в Ленинград он запил, причем беспробудно. Тогда к нам обратилась Софья Толстая — так, мол, и так, пропадает пролетарский поэт. Мы организовали ему лечение в профилактории. Он вроде бы подлечился, потом вернулся. И снова Толстая появилась у меня в приемной.
— Да, я видел ее у вас в эти дни.
— Вот. Она рассказала мне то же самое. Пить по возвращении из больницы он стал намного меньше, но вот вести себя стал странно — требовал удушения в постели. Она стала беседовать с его приятелями, и из разговоров с ними узнала, что на Западе давно такой вид совокупления распространен… Тьфу… — ФЭД презрительно сплюнул и закурил. — Как начнешь эдакую пакость пересказывать, с души воротит. Так вот ему эта мерзость откуда-то с Запада прилетела. С тех пор он часто просил своих полюбовниц эдакое с ним проделать. Но чтобы эта идея превратилась в идею-фикс — такое произошло только после его лечения. Толстая ругалась, обвиняла нас во всех смертных грехах, а мы-то тут причем? Короче, хрен редьки не слаще — он либо запоями пьет, либо представляет опасность для себя и других, требуя фантасмагорических удушений в постели…
— Думаю, что именно это чувство заставило его уехать.
— Какое?
— Страх. По рассказу Вольпин, сам Есенин тяготился этих своих выходок. Представьте теперь себе, что, опасаясь, что сможет таким вот образом кого-нибудь задушить, он, в страхе за последствия, уезжает в Ленинград. Там алкоголь снимает последние табу с его поведения, он пускается во все тяжкие — и следствием этого становится не совершенное им, а совершенное в его отношении убийство.
— Очень логично рассуждаешь, — глаза ФЭДа загорелись, он заходил по кабинету из угла в угол. Обычно он так делал, когда готовился явить миру некое свое открытие, которое должно повернуть движение планеты вспять. — А помнишь, я тебе говорил, что не зря, ох не зря ты съездил тогда в Ленинград?
— Да какое там, Феликс Эдмундович, когда ничего, решительно ничего не удалось найти?
— Это тебе так кажется. Ты вот туда съездил, а оттуда следом за тобой приехал человек, который между строк, а много интересного рассказал. Парахненко с людьми работать не умеет, а мы с тобой умеем. Только ты парень нетерпеливый, а черт в деталях. Я вот с ним поговорил — и вуаля.
— Да кто же это?
ФЭД скрылся за дверями кабинета, а после вернулся в сопровождении метрдотеля ленинградской гостиницы — того самого мещанина, который смерть поэта называл «неприятностью» или «недоразуменьицем».
— А, молчаливый свидетель, — скептически протянул я.
— Не такой уж и молчаливый. Гражданин Гилев, расскажите, пожалуйста, что вы слышали в ночь перед обнаружением тела Есенина в его номере?
— Так ведь… разговор…
— Ну, разговор, подумаешь, мало ли с кем Есенин мог там по пьянке разговаривать! Собутыльник поди?
— Нет, в том-то и дело, товарищ Фейгман, — к моему удивлению, метрдотель даже запомнил мою фамилию. — То дама была! И говорили-то по-английски!
— Дама? Какая еще дама в окружении Есенина может знать английский в совершенстве?
— Вот и я подумал. А потом еще удивился — где-то часов до трех проговорили и затихли. И главное — из номера никакая дама потом не выходила.
— Через окно сиганула?
— На 5 этаже?..
— Да нет, — прервал Феликс, — товарищ Гилев, главное не это.
— А что ж?
— Главное то, что в этом самом номере три года назад Есенин жил с Дункан!
Меня как осенило — у Есенина была только одна знакомая, говорившая по-английски. И это была его бывшая жена, легендарная Айседора Дункан. По глазам ФЭДа я понял — наши мысли сошлись. После ухода метрдотеля начальник ОГПУ проинструктировал меня о предстоящей поездке в США в гости к бывшей жене пролетарского поэта, которая, как мы оба тогда считали, вполне могла быть причастна к его гибели, с визитом вежливости от Советского правительства. Знаток деталей, Дзержинский посоветовал мне взять с собой некоторые вещи Есенина, чтобы вручить ей их на память.
Пару дней спустя я отплывал из одесского порта.
Несколько дней на пароходе для человека, который в жизни не имел ни к морю, ни тем более к океану никакого отношения должны были бы войти в жизнь одним из самых ярких воспоминаний, однако, не в моем случае. Не имея в голове ни единой сколько-нибудь содержательной зацепки, я плыл к Дункан в полной уверенности, что разгадка смерти Есенина (а в том, что это было убийство, после разговора с ФЭДом я был уверен) кроется именно в ней. Не знаю, сама ли она присутствовала в гостиничном номере в ночь его смерти (что, конечно же, невозможно), или кого-то подослала, но что без нее там не обошлось — я знал точно.
В пути я вспоминал события, случайным очевидцем которых стал. Тогда, в начале 1920-х капиталистическая танцовщица, которую знает и любит весь мир, вдруг приезжает к поэту из всеми отвергнутой Страны Советов, чтобы доказать там всему миру — с милым рай и в шалаше. Она отвергает стереотипы буржуазного общества и колесит с юным влюбившимся в нее поэтом по миру, а в остальное время живет в его квартире или в ее номере в «Англетере». Эта история поразила всех от мала до велика — советского человека собственной значимостью, а буржуя — силой любви. Классовое общество было шокировано тем, как на самом деле живет и чем на самом деле дышит советский человек!..
Кто знает, что было потом — то ли алкоголизм Есенина, то ли загруженный график Дункан положили конец этой сказке, но воспоминания о ней долго будут жить в сердце каждого советского человека!
На третий или четвертый день пароход прибыл в порт Напа, что в Калифорнии. Оттуда до загородного дома Дункан было порядка двадцати километров, которые я, плохо зная язык и все еще рассматривая здешних жителей в качестве враждебных Советской власти элементов, решил преодолеть пешком. И скажите после этого, что я был неправ, коль скоро на какой-то проселочной дороге, из коих (а вовсе не из сказочных небоскребов), как выяснилась, состояло царство Свободы, какой-то болван на «форде» окатил меня грязью. Пролетарское прошлое позволило мне выдать ему вслед пару-тройку громких тирад, но слезами горю не поможешь. Магазинов поблизости не было, а явиться в качестве посланника СССР к Айседоре Дункан в грязи с головы до ног я не мог. Заглянув в саквояж, я увидел там только костюм покойного Есенина… Делать было нечего, пришлось обрядиться в вещи покойника, начхав на старорежимные предрассудки. Как видно, сделал я это неслучайно и уж точно не зря.
— Поразительно, как вы на него похожи! — всплеснула руками Айседора, увидев меня в таком обмундировании.
— Это вещи, — смутился я. — Пришлось переодеться по вине одного горе-водителя. Но я сейчас сниму…
— Нет-нет, ни в коем случае, — запротестовала мадам Дункан. — Вам они очень идут. И еще… Пока вы так облачены, вы словно бы напоминаете мне его… Я словно бы и не знаю о его смерти…
А спустя десять минут мы сидели на веранде и пили чай.
— Я всегда знала, что в разлуке нам не жить… Я виновата в его смерти… — грустно процедила Дункан, когда я передал ей соболезнования Советского правительства. — Это даже правильно, что ваше ведомство занимается расследованием. Необходимо расставить в этом вопросе все точки над i.
— Вот об этом-то и хотелось бы узнать поподробнее. Были ли у него враги? Вы их знали?
— Вы ждете от меня фамилий? Ну что вы! Его любили все, и я думаю, что именно эта любовь его и сгубила — она может сделать это куда эффективнее любого кинжала…
— Метрдотель гостиницы показал, что как будто слышал ваш голос в ночь смерти Сергея… Я понимаю, что это абсурдно, но все-таки… Кто мог сымитировать для него ваш приход?
— Водка, — абсолютно серьезно отрезала Дункан. — Знаете ли, великая актриса… А теперь серьезно… Разумеется, он убил себя сам, но почему он так сделал?
— И почему же?
— Знаете, что меня в нем подкупило? Когда мы встретились, я была всемирно известной танцовщицей, а он — юным поэтом. Я думала, что меня уже никто и ничто не удивит и не обольстит, уж тем более какой-то сопляк, но… в нем было столько энергии, что я спасовала. Он заряжал ею всех вокруг себя, даже тех, кто явно был этого не достоин. А когда в тебе бушует такое пламя, ты становишься опасен для всех, даже для себя…
Она говорила в общем обычные вещи, которые мы все знали про поэта. Смешно и глупо было думать, что она была в ту ночь в Ленинграде, и потому, проведя с ней в великосветской беседе несколько часов, я сделал попытку прямо сейчас, на ночь глядя отправиться в советское консульство. Дункан остановила меня и предложила провести у нее ночь, чтобы утром заняться делами со спокойной совестью. Вторая уже моя командировка по этому гиблому делу не заканчивалась ничем, а я все еще верил в слова ФЭДа и ждал внезапного открытия.
Так и прождал до ночи. Что ни говори, а спать на новом месте — вечная проблема для меня. А тем более за тысячи километров от родного дома, которые я сам не заметил, как преодолел. Да и преодолел ли? Я ли стою сейчас на балконе этой прекрасной виллы за тридевять земель и курю, вдыхая огромными воздушными мешками этот самый легендарный воздух свободы? А он, оказывается, ничуть не хуже нашего — точно такой же, как под Рязанью, в есенинском родном Константинове (да простит меня ФЭД и все ОГПУ в его лице!). Нет, правда, я стоял здесь, переминаясь с ноги на ногу и все думал о том, что, возможно, понимаю, чем именно видавшая виды американская танцовщица «взяла за бока» пролетарского поэта.
Когда долго не спишь, а потом вдруг засыпаешь, сложно бывает вспомнить, в какой именно момент это произошло, отследить грань между сном и явью…
Развернувшись на каблуках и обозрев вход в свою комнату, я буквально застыл на месте. В дверном проеме, сияющая в ночном коридорном освещении тем более ярком, что кругом царила кромешная тьма, красовалась точеная женская фигура. Днем на вилле было много людей — возможно, это была одна из многочисленных юных визави хозяйки, что томно вздыхали и поклонялись ей словно языческой богине… А, может, служанка — одна из тех крохотных Мери Пикфорд, что, словно бабочки порхали по дому, выполняя любую прихоть этой статной пчеломатки, которой Айседора казалась со стороны. И чего она забыла здесь в глухую калифорнийскую ночь?
— Who are you? — едва ворочая языком, сражающимся с труднопроизносимым pronunciation, крикнул я в темноту. Она ничего не ответила, но сделала шаг навстречу.
С реки подул легкий ветерок, распахивая портьеру, отделяющую балкон от комнаты. В темноте она казалась стройной, словно наша березка и такой желанной — вот то раскаленный воздух способен сделать с усталым путником, преодолевшим за несколько часов расстояние от одного конца света в другой… Мне бы следовало прогнать ее, но я казался себе каким-то ватным — аромат, что исходил от нее, ах, этот аромат… Нет, она не пахла ничем особенным, но мне казалось, что я чувствую свежесть полей, манящую своей чистотой и сладостью, украшенную запахом цветущей яблони. И как же мне, мать его, захотелось окунуться с головой в эти до боли родные запахи и звуки, что лились из-за окна, что я сделал решительный шаг навстречу…
Только приблизившись к ней вплотную, я понял вдруг, то не кто иной, как хозяйка виллы стоит передо мной в той самой ночной красе, что, должно быть, пленила романтика Есенина.
— Но…
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.