
Бесплатный фрагмент - Михаил Лермонтов. Боль и грёзы
Глава I. Странный человек
Как видно из его бумаг и поступков, он имел характер пылкий, душу беспокойную и какая-то глубокая печаль от самого детства его терзала. Бог знает, отчего она произошла! Его сердце созрело раньше ума; он узнал дурную сторону света… Его насмешки не дышали веселостию; в них видна была горькая досада против
всего человечества! Правда, были минуты, когда он предавался всей доброте своей… У него нашли множество тетрадей, где отпечаталось все его сердце; там стихи и проза, есть глубокие мысли и огненные чувства!.. В его опытах виден гений!
«Странный человек».
В «Герое нашего времени» Михаил Лермонтов отмечал, что «история души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа». В этом утверждении поэта отразился его собственный интерес к психологии человека, и не случайно Вадим Вацуро в эссе о последней повести Лермонтова подчеркнул, что здесь «он выступил как психоаналитик… „физиологизм“ его повести имел явственно выраженный психологический уклон и обостренное внимание к тайнам человеческой душевной жизни…» Лермонтов, безусловно, любил разгадывать психологические шарады, проникать в душевные тайны других людей, но вот секреты собственной души он хранил за семью печатями: «Я не хочу, чтоб свет узнал / Мою таинственную повесть; / Как я любил, за что страдал, / Тому судья лишь Бог да совесть!..»
Страстный любитель срывать маски с других людей, Лермонтов сам отнюдь не спешил предстать перед светом в своем истинном обличье, постоянно скрываясь за той или иной маской. Характерно, что «герой нашего времени» Печорин — одна из масок Лермонтова — внутри романа прячется за маской байронического героя. Этот глубоко психологический «маскарад», скрывающийся под видом романтической игры, в чем-то подобен сновиденческой головоломке, описанной Лермонтовым в его визионерском шедевре «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…”): здесь внутри одного сновидения прячется другое, и в этом более глубоком уровне сна уже не различить того, кому видится сон.
Фигура этого сновидца целиком растворена в его сновидениях. Лермонтов не сделал ничего, чтобы приблизить нас к себе, скорее наоборот: он сделал все, чтобы скрыть от нас свою душу в своих загадочных снах (в словах Печорина: «я никогда сам не открываю моих тайн, а ужасно люблю, чтоб их отгадывали, потому что таким образом я всегда могу при случае от них отпереться», — слышится его собственный голос). И в этой связи нельзя не вспомнить Александра Блока: «Почвы для исследования Лермонтова нет — биография нищенская. Остается „провидеть“ Лермонтова. Но еще лик его темен, отдален и жуток».
Лик его все еще темен и жуток именно потому, что отдален. И нет никого, кто мог бы приблизить его к нам, пролить на него свет, сделать его близким и понятным. Оттого остается лишь констатировать, подобно Василию Розанову, размышлявшему о Лермонтове: «Необыкновенный человек», — скажет всякий. «Да, необыкновенный и странный человек», — это, кажется, можно произнести о нем как общий итог сведений и размышлений“. Пусть так, но в чем усматривал Розанов эту необыкновенность поэта? Он сам не отдавал себе отчета в этом и не стал объясняться, отделавшись простой метафорой: „Странное явление. Точно производят обыск в комнате, где что-то необыкновенное случилось. И отходят со словами: «Искали, все перерыли, но ничего не нашли»…
Именно как бы вошли в комнату, где совершилось что-то необыкновенное; осмотрели в ней мебель, заглянули за обивку, пощупали обои, все с ожиданием: вот-вот надавится пружина и откроется таинственный ящик, с таинственными секретными документами, из которых поймем наконец все; но никакой пружины нет или не находится; все обыкновенно, а между тем необыкновенное в этой комнате для всех ощутимо».
Ничуть не прояснило сути дела и розановское сопоставление Лермонтова с Пушкиным: «Пушкин был обыкновенен, достигнув последних граней, последней широты в этом обыкновенном, „нашем“. Лермонтов был совершенно необыкновенен; он был вполне „не наш“, „не мы“. Вот в чем разница. И Пушкин был всеобъемлющ, но стар — „прежний“, как „прежняя русская литература“, от Державина и через Жуковского и Грибоедова — до него. Лермонтов был совершенно нов, неожидан, не предсказан».
Представление о непознаваемости исключительного характера дарования Лермонтова разделял и Сергей Дурылин: «Лермонтов — загадка: никому не дается». Пытаясь осмыслить суть этой необычайности, он нашел ее в удивительной противоречивости, пронизывающей все творчество поэта, его душу и даже сам его облик: «В лице Лермонтова написано: в глазах — „какая грусть!“, в улыбке — „какая скука!“. Так и в поэзии: в глазах — одно, в усмешке — другое. А вместе… что ж вместе? Вместе — самая глубокая, самая прекрасная тайна, которой отаинствована русская поэзия».
Очевидно, что в основе этой глубокой и прекрасной тайны Лермонтова лежит необъяснимая противоречивость — противоречивость, предельно осознанная, но не объясненная им самим, судя по печоринскому признанию: «У меня врожденная страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку», — противоречивость всего его космоса: от его первых детских впечатлений и стихов до высказываний о нем его современников и восприятия его творчества потомками.
Читая разные тексты Лермонтова — скажем, «Молитву» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…”) и «Уланшу», — диву даешься, что они сочинены одним и тем же поэтом. Знакомясь с воспоминаниями о нем его современников, ловишь себя на мысли: а обо дном ли и том же человеке писали они? Кто-то знал его как «доброго малого» — веселого, приятного собеседника, блещущего остроумием. Другие видели перед собой мрачного молчаливого мизантропа, который, если и удостаивал кого своим вниманием, то лишь затем, чтобы сразить несчастного презрительной насмешкой.
Пытаясь объяснить противоречивость высказываний о Лермонтове его современников, один из самых близких друзей поэта Аким Шан-Гирей сводил всю «напускную» лермонтовскую мрачность и желчность к романтическому позерству и байронизму: «Он был характера скорее веселого, любил общество, особенно женское, в котором почти вырос и которому нравился живостию своего остроумия и склонностью к эпиграмме; часто посещал театр, балы, маскарады; в жизни не знал никаких лишений, ни неудач… особенно чувствительных утрат он не терпел; откуда же такая мрачность, такая безнадежность? Не была ли это скорее драпировка, чтобы казаться интереснее, так как байронизм и разочарование были в то время в сильном ходу, или маска, чтобы морочить обворожительных московских львиц?»
С предельной приязнью отзывался о Лермонтове его товарищ по юнкерской школе Афанасий Синицын: «Ленив, пострел, ленив страшно, и что ни напишет, все или прячет куда-то, или жжет на раскурку трубок своих же сорвиголов гусаров. А ведь стихи-то его — это просто музыка! Да и распречестный малый, превосходный товарищ!.. Да и какие прелестные, уверяю вас, стихи пишет он! Такие стихи разве только Пушкину удавались. Стихи этого моего однокашника Лермонтова отличаются необыкновенною музыкальностью и певучестью; они сами собой так и входят в память читающего их. Словно ария или соната!..
Я бешусь на Лермонтова, главное, за то, что он не хочет ничего своего давать в печать, и за то, что он повесничает со своим дивным талантом и, по-моему, просто-напросто оскорбляет божественный свой дар, избирая для своих стихотворений сюжеты совершенно нецензурного характера и вводя в них вечно отвратительную барковщину… И заметьте, что по его нежной природе это вовсе не его жанр; а он себе его напускает, и все из-за какого-то мальчишеского удальства…»

Офицер А. Чарыков, встречавший Лермонтова в Ставрополе в 1840 году, вспоминал о поэте как о «душе компании»: «В один прекрасный день мы, артиллеристы, узнали, что у барона на вечере будет Лермонтов, и, конечно, не могли пропустить случая его видеть… Публики, как мне помнится, было очень много, и, когда солидные посетители уселись за карточными столами, молодежь окружила Лермонтова. Он, казалось, был в самом веселом расположении духа и очаровал нас своею любезностью». Подобным же образом отзывался о Лермонтове Н. П. Раевский, судя по его словам, записанным В. П. Желиховской: «Любили мы его все. У многих сложился такой взгляд, что у него был тяжелый, придирчивый характер. Ну, так это неправда; знать только нужно было, с какой стороны подойти. Особенным неженкой он не был, а пошлости, к которой он был необыкновенно чуток, в людях не терпел, но с людьми простыми и искренними и сам был прост и ласков».
Совершенно иным — «темным и жутким» — Лермонтов предстал в мемуарах людей, видевших его со стороны, никоим образом не причастных его миру, но оставивших нам свои впечатления от общения с ним. Бесконечно далекий от внутреннего мира поэта сокурсник Лермонтова по Московскому университету П. Ф. Вистенгоф вспоминал: «Студент Лермонтов… имел тяжелый, несходчивый характер, держал себя совершенно отдельно от всех своих товарищей, за что, в свою очередь, и ему платили тем же. Его не любили, отдаляясь от него и, не имея с ним ничего общего, не обращали на него никакого внимания.»
Последнее утверждение Вистенгофа противоречит следующему его свидетельству, говорящему о том, что к Лермонтову было обращено всеобщее внимание: «Он даже и садился постоянно на одном месте, отдельно от других, в углу аудитории, у окна, облокотясь по обыкновению на один локоть и углубясь в чтение принесенной книги, не слушал профессорских лекций. Это бросалось всем в глаза… Мы не могли оставаться спокойными зрителями такого изолированного положения его среди нас. Многие обижались, другим стало это надоедать, а некоторые даже и волновались. Каждый хотел его разгадать, узнать затаенные его мысли, заставить его высказаться».
Иван Тургенев, случайно встретивший Лермонтова на одном из светских вечеров, вспоминал: «В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз, Их тяжелый взор странно не согласовался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых, широких плечах, возбуждала ощущение неприятное; но присущую мощь тотчас сознавал всякий».
Объект постоянных насмешек Лермонтова Александр Тиран не остался перед поэтом в долгу: «Лермонтов был чрезвычайно талантлив… Но со всем тем был дурной человек: никогда ни про кого не отзовется хорошо; очернить имя какой-нибудь светской женщины, рассказать про нее небывалую историю, наговорить дерзостей — ему ничего не стоило. Не знаю, был ли он зол или просто забавлялся, как гибнут в омуте его сплетен, но он был умен, и бывало ночью, когда остановится у меня, говорит, говорит — свечку зажгу: не черт ли возле меня? Всегда смеялся над убеждениями, презирал тех, кто верит и способен иметь чувство… Вообще Лермонтов был странный человек: смеялся над чувством, презирал женщин… а дрался за женщину, имя которой было очень уж не светлое».
О строптивости и своеволии Лермонтова ходили легенды. Так, К. А. Бороздин передавал рассказ Н. П. Колюбакина, находившегося в 1837 году в отряде Вельяминова, в то время как туда же был прислан Лермонтов, переведенный из гвардии за стихи на смерть Пушкина: «Колюбакин рассказывал, что их собралось однажды четверо, отпросившихся у Вельяминова недели на две в Георгиевск, они наняли немецкую фуру и ехали в ней при оказии, то есть среди небольшой колонны, периодически ходившей из отряда в Георгиевск и обратно. В числе четверых находился и Лермонтов. Он сумел со всеми тремя своими попутчиками до того перессориться на дороге и каждого оскорбить, что все трое ему сделали вызов, он должен был наконец вылезть из фургона и шел пешком до тех пор, пока не приискали ему казаки верховой лошади, которую он купил. В Георгиевске выбранные секунданты не нашли возможным допустить подобной дуэли: троих против одного, считая ее за смертоубийство, и не без труда уладили дело примирением, впрочем, очень холодным».
Что и говорить, удивительный это был человек. Характерно, что до сих пор о Лермонтове говорят как о бретере, отчаянном дуэлянте и даже, представьте себе, «убийце». И никто не вспоминает, что, всегда мужественно принимая вызов от других, он сам никого не вызывал на дуэль (в отличие от того же А. С. Пушкина). Лермонтов участвовал только в двух дуэлях, и в обоих поединках он не стрелял в своих противников (и совершенно напрасно, положа руку на сердце).

Попытку примирить противоречивые высказывания о Лермонтове его современников предпринял А. В. Дружинин: «Большая часть из современников Лермонтова, даже многие из лиц, связанных с ним родством и приязнью, говорят о поэте как о существе желчном, угловатом, испорченном и предававшемся самым неизвинительным капризам, — но рядом с близорукими взглядами этих очевидцев идут отзывы другого рода, отзывы людей, гордившихся дружбой Лермонтова и выше всех других связей ценивших эту дружбу. По словам их, стоило только раз пробить ледяную оболочку, только раз проникнуть под личину суровости, родившейся в Лермонтове отчасти вследствие огорчений, отчасти просто через прихоть молодости, — для того, чтобы разгадать сокровища любви, таившейся в этой богатой натуре…
Друзей имел он мало и с ними редко бывал сообщителен, может быть, вследствие детской привычки к сосредоточенной мечтательности, может быть, потому, что их интересы совершенно разнились с его собственными… По натуре своей горделивый, сосредоточенный, и сверх того, кроме гения, отличавшийся силой характера, — наш поэт был честолюбив и скрытен. Эти качества с годами нашли себе применение и выяснились бы в нечто стройно-определенное, — но при молодости, горечи изгнания и байроническом влиянии они, естественно, высказывались иногда в капризах, иногда в необузданной насмешливости, иногда в холодной сумрачности нрава».
Александр Дружинин был, видимо, первым мыслителем, который попытался объяснить лермонтовскую противоречивость психологией поэта. Пусть он сделал это весьма прямолинейно и наивно-психологически, но все же это был прорыв в общем потоке перцепций поэта, характеризовавших его то как «мрачного мизантропа», то как избалованного аристократа, слепо подражавшего Байрону. Прорыв этот, впрочем, остался без внимания современников. Внутренний мир поэта тогда никого не интересовал. Куда проще было объяснять личность и творчество Лермонтова байроническим позерством.
Не сложно было искать в поэзии Лермонтова и всевозможные заимствования из русской и европейской лирики, как то делали первые его «профессиональные» читатели. Критики, обнаруживавшие в лермонтовских текстах строки, словосочетания и даже точку с запятой из произведений других поэтов, видели в его лирике Пушкина и Байрона именно потому, что не могли увидеть в ней Лермонтова, ибо «лик его темен, отдален и жуток».
В одной из первых рецензий на «Героя нашего времени» С. О. Бурачок, критик с крайне консервативным мировоззрением, буквально возопил о невозможности такой личности, как Печорин, персонажа, созданного по шаблону героев европейских романов. Почин одного критика был поддержан другим. Позиция С. П. Шевырева была гораздо более аргументирована, чем концепция Бурачка, но и она сводилась к выводу об иллюзорности, чрезмерной литературности фигуры «героя нашего времени»: «Печорин 25-ти лет… Когда он сам смеется, глаза его не смеются… потому что в глазах горит душа, а душа в Печорине уже иссохла. Но что ж это за мертвец 25-летний, увядший прежде срока? Что за мальчик, покрытый морщинами старости? Какая причина такой чудесной метаморфозы? Где внутренний корень болезни, которая иссушила его душу и ослабила тело?»
В статье о поэзии Лермонтова Шевырев адресовал подобные вопросы самому поэту: «Признаемся: среди нашего отечества, мы не можем понять живых мертвецов в 25 лет, от которых веет не свежею надеждою юности, не думою, чреватою грядущим, но каким-то могильным холодом, каким-то тлением преждевременным». Критик считал, что это общественный недуг и «этот недуг века заключается в гордости духа и в низости пресыщенного тела»: «Век гордой философии, которая духом человеческим думает постигнуть все тайны мира, и век суетной промышленности, которая угождает наперерыв всем прихотям истощенного наслаждениями тела, — такой век этими двумя крайностями выражает сам собою недуг, его одолевающий».
По мнению Шевырева, этот недуг западного мира был выражен в фигурах Фауста Гете, Манфреда и Дон-Жуана Байрона. Печорин — лишь слепок с них. «Печорин не имеет в себе ничего существенного относительно к чисто русской жизни, которая из своего прошедшего не могла извергнуть такого характера. Печорин есть один только призрак, отброшенный на нас Западом, тень его недуга, мелькающая в фантазии наших поэтов, западный мираж».
Но, если Печорин — лишь слепок с героев европейской литературы, откуда такой резонанс «Героя нашего времени» в русском обществе? Подобным вопросом задался В. Г. Белинский и попытался объяснить этот лермонтовский образ общественным недугом, развившимся в самой России: «Какой страшный человек этот Печорин!.. «Эгоист, злодей, изверг, безнравственный человек!» — хором закричат, может быть, строгие моралисты… Но этому человеку нечего бояться: в нем есть тайное сознание, что он не то, чем самому себе кажется и что он есть только в настоящую минуту. Да, в этом человеке есть сила духа и могущество воли, которых в вас нет; в самых пороках его проблескивает что-то великое, как молния в черных тучах, и он прекрасен и полон поэзии даже и в те минуты, когда человеческое чувство восстает на него…
Его страсти — бури, очищающие сферу духа; его заблуждения, как ни страшны они, острые болезни в молодом теле, укрепляющие его на долгую и здоровую жизнь». Печорин преисполнен великих сил и весь в предчувствии новых истин и чувств, но окружающая его действительность не дает ему возможности реализовать свои силы и предчувствия. «Тут-то возникает в нем то, что на простом языке называется и «хандрою», и «ипохондриею», и «мнительностью», и «сомнением», и другими словами, далеко не выражающими сущности явления, и что на языке философском называется рефлексиею… Отсюда: томительная бездейственность в действиях, отвращение ко всякому делу, отсутствие всяких интересов в душе, неопределенность желаний и стремлений, безотчетная тоска, болезненная мечтательность при избытке внутренней жизни».
В общественных противоречиях видел причину лермонтовского мироощущения и А. И. Герцен: «Он полностью принадлежит к нашему поколению… Вынужденные молчать, сдерживая слезы, мы научились, замыкаясь в себе, вынашивать свои мысли — и какие мысли! Это уже не были идеи просвещенного либерализма, идеи прогресса, — то были сомнения, отрицания, мысли, полные ярости. Свыкшись с этими чувствами, Лермонтов не мог найти спасения в лиризме, как его находил Пушкин. Он влачил тяжелый груз скептицизма через все свои мечты и наслаждения. Мужественная, печальная мысль всегда лежит на его челе, она сквозит во всех его стихах. Это не отвлеченная мысль, стремящаяся украсить себя цветами поэзии; нет, раздумье Лермонтова — его поэзия, его мученье, его сила».
Н. К. Михайловский усматривал основную причину поэтической тоски Лермонтова не в социальных антагонизмах, а во внутреннем конфликте самого поэта: «Бесспорно, Лермонтову были знакомы муки противоречия между горячностью чувства и холодом разума. Жизнь манила его к себе всею гаммою своих звуков, всем спектром своих цветов, а рано отточившийся нож анализа подрезывал цену всякого наслаждения. Отсюда — беспредметная тоска, проникающая некоторые из его стихотворений, тоска, характер которой иногда ему самому не ясен… Теоретически и в одинокой душе самого поэта решение готово: противоречие разума и чувства зависят от «бездействия», от отсутствия «борьбы». Найдите точку приложения для деятельности, и элементы мятущегося духа перестанут враждовать между собой… И он не переставал искать точки опоры для «действия», для «борьбы с людьми или судьбой», ибо в ней видел высший смысл жизни…
Слепая сила его собственной природы стихийно побуждала его дерзать и владеть где бы то ни было и при каких бы то ни было обстоятельствах, а голос разума и совести клеймил эту жизнь печатью пошлости и пустоты. Но опять, при первом удобном случае, при новой встрече с женщиной, при столкновении с новым обществом, жажда дерзать и владеть выступала вперед и опять голос разума и совести говорил: не то! Не таково должно быть поле деятельности для «необъятных сил»!.. для него самого его время было полным безвременьем. И он был настоящим героем безвременья».
В. О. Ключевский, давший любопытное описание мироощущения поэта — «лермонтовской грусти», — не стал сводить его к модному байронизму. Он противопоставил его поэтическому настроению Байрона и возвел его к традиционному русско-христианскому мироощущению: «Байронизм — это поэзия развалин, песнь о кораблекрушении. На каких развалинах сидел Лермонтов? Какой разрушенный Иерусалим он оплакивал? Ни на каких и никакого… Поэту уже не вернуть своих юных гордых дней; жизнь его пасмурна, как солнце осени суровой; он умер, душа его скорбит о годах развратных: все это пишет не более как пятнадцатилетний мальчик, посвящая друзьям свою поэму, свои «печальные мечты, плоды душевной пустоты». Когда успел пережить все эти нравственные ужасы благовоспитанный и прекрасно учившийся гимназист университетского благородного пансиона?..
Грусть стала звучать в песне Лермонтова, как только он начал петь: «И грусти ранняя на мне печать». Она проходит непрерывающимся мотивом по всей его поэзии… Как и под каким влиянием сложилось такое настроение поэта? Своим происхождением оно тесно соприкасается с нравственной историей нашего общества… Поэтическая грусть Лермонтова была художественным отголоском… русско-христианской грусти… Религиозное воспитание нашего народа придало этому настроению особую окраску, вывело его из области чувства и превратило в нравственное правило, в преданность судьбе, т. е. воле Божией… Народу, которому пришлось стать между безнадежным Востоком и самоуверенным Западом, досталось на долю выработать настроение, проникнутое надеждой, но без самоуверенности, а только с верой».
Религиозно-мистическое постижение творчества Лермонтова было характерно для С. А. Андреевского, уверявшего, что Лермонтов — мистик уже потому, что он «чистокровнейший поэт, „человек не от мира сего“, забросивший к нам откуда-то, с недосягаемой высоты, свои чарующие песни»: «Исключительная особенность Лермонтова состояла в том, что в нем соединялось глубокое понимание жизни с громадным тяготением к сверхчувственному миру. В истории поэзии едва ли сыщется другой подобный темперамент. Нет другого поэта, который так явно считал бы небо своей родиной и землю — своим изгнанием… и потому прирожденная Лермонтову неотразимая потребность в признании иного мира разливает на всю его поэзию обаяние чудной, божественной тайны».
Традицию осмысления тайны Лермонтова как мистической тайны продолжил Вл. С. Соловьев: «Первая, и основная, особенность лермонтовского гения — страшная напряженность и сосредоточенность мысли на себе, на своем „Я“, страшная сила личного чувства… Необычная сосредоточенность Лермонтова в себе давала его взгляду остроту и силу, чтобы иногда разрывать сеть внешней причинности и проникать в другую, более глубокую связь существующего, — это была особенность пророческая; и если Лермонтов не был ни пророком в настоящем смысле этого слова, ни таким прорицателем, как его предок Фома Рифмач, то лишь потому, что он не давал этой своей способности никакого объективного применения. Он не был занят ни мировыми историческими судьбами своего отечества, ни судьбою своих ближних, а единственно только своею собственной судьбой, — и тут он, конечно, был более пророк, чем кто-либо из поэтов». Однако вместо того, чтобы «развить тот задаток, великолепный и божественный, который он получил даром», Лермонтов, по мысли Соловьева, выбрал путь гордыни и эстетизации зла, который в конце концов привел его к физической и духовной гибели.

Развивая представление о мистическом гении Лермонтова, Б. А. Садовский увидел сущность противоречивости лермонтовского космоса в антагонизме идеального и реального миров: «Лермонтов — прирожденный сновидец и мечтатель. Всю жизнь он провел в призрачном мире снов. Это его стихия; в ней он царит, как демон, как божество. В «свете», в «мире» он живет лишь проблесками, минутами сознания — и минуты эти не омрачают его таинственного сна… Мечтательность раздвоила существование Лермонтова. Жизнь ему не в жизнь… Разочарование его неподдельно; нет уж, какой тут байронизм! Слепой подражатель Байрону не вырвал бы никогда из груди своей таких леденящих сердце стонов. Душа Лермонтова действительно увяла; она дышит сыростью могильных цветов. Мысль о любви всегда сочетается у него с мечтами о смерти, о вечности…
Любовь Лермонтова тысячами нитей сплетена со смертью, с гробом, с мертвецами и со всем их кладбищенским обиходом… Он, как Дант, создан был для любви истинной, для любви бессмертной, но в этой жизни не пришлось встретить ему свою Беатриче. Судьба при рождении одарила его нездешним чувством любви, как бы забыв, что ему предназначено жить на земле. Он искал, тоскуя, неземную мечту, а кругом были Лопухины, Сушковы, Смирновы, Щербатовы. Что же оставалось поэту, как не любить «мечты своей созданье»?»
Если Владимир Соловьев усматривал в бесконечной погруженности Лермонтова в свой внутренний мир непременное условие его пророческого дара, первые психологи, обратившиеся к изучению личности и творчества поэта, увидели в ней болезненный симптом, свидетельствовавший о душевном расстройстве. Так, Д. Н. Овсянико-Куликовский констатировал: «… перед нами психологическая картина, свидетельствующая о постоянном и упорном самоуглублении, о вечно бодрствующей рефлексии, даже о раздвоении личности („душа проникается своей собственной жизнью, лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка“). Это уже выходит за пределы нормы — даже и для натур эгоцентрических. Когда человек, которому от роду всего 25—26 лет (в этом возрасте работал Лермонтов над романом), предается столь интенсивному самоанализу и думает, что достиг высшего „самопознания“, — мы вправе видеть здесь симптом болезненного развития души».
Предпосылки анализа психологии Лермонтова, предложенные Овсяннико-Куликовским, были развиты первыми советскими психоаналитиками и психиатрами. Забавно, что при всей чуждости своих методологических подходов все они, как один, в своих опусах цитировали эссе о Лермонтове, сочиненное религиозным мыслителем Соловьевым. Не могу не заметить, что психиатры, аргументирующие свои выводы свидетельствами душевнобольных богословов, вызывают у меня неподдельное восхищение.
В «Клиническом архиве гениальности и одаренности», издававшемся Сегалиным в 1925—1930 годах, поэту была посвящена статья М. Соловьевой «Лермонтов с точки зрения учения Кречмера». Название публикации сразу дает понять в прокрустово ложе какой концепции будет уложен поэт. Задавшись целью «объяснить некоторые особенности его творчества, считающиеся загадочными и спорными», Соловьева начинает с характерного заявления: «Признание Лермонтова поэтом-лириком уже предопределяет его положение в группе шизотимиков». Иными словами, он безумен уже потому, что он поэт (сравните с утверждением С. А. Андреевского, что Лермонтов — мистик уже потому, что он поэт).
Над этим мифопоэтическим тезисом смеялся уже Фридрих Шеллинг в своем ироническом шедевре «Ночные бдения» (1804 г.): «… нынешняя эпоха привыкла вместе с Платоном считать поэзию безумием с той только разницей, что первый возводил ее происхождение к небу, а не к сумасшедшему дому. Что ни говори, поэзия сегодня всюду — дело сомнительное, ибо безумцев осталось слишком мало, а разумных столько развелось, что они своими силами способны заполнить все области деятельности, не исключая поэзии, и настоящему полоумному, как, например, мне, больше некуда податься».
Но в том то и дело, что психиатр Соловьева предельно серьезна, в ее утверждении нет и тени иронии. Мифопоэтическое представление о поэте как о «священном безумце» выражается в ее высказывании совершенно бессознательно. Нельзя не согласиться в этой связи со словами Ирины Сироткиной из ее работы «Классики и психиатры. Психиатрия в российской культуре конца XIX-начала XX века»: «Как это ни странно, медицинские биографии гениев часто исходят из романтической концепции творчества — идеи о том, что творчество по своей иррациональности, спонтанности, стихийности сродни болезни. Это все еще зажигающая воображение читателя идея восходит к древнегреческому мифу об „энтузиазмосе“ — огне, который боги посылают своим избранникам. Те, кого коснулся божественный огонь, становятся пророками и поэтами».
Мифологический характер имеет и воспроизводимая Соловьевой идея Кречмера, что гений рождается от союза большого таланта (по отцовской линии) и безумия (по материнской линии). Эта устойчивая мифопоэтическая связь мужского начала с рациональным, а женского — с иррациональным лишний раз подчеркивает всю спекулятивность психиатрических концепций подобного рода.
Пытаясь обосновать свой диагноз, Соловьева приводит негативные свидетельства современников о Лермонтове, игнорируя противоположные им воспоминания, положительно характеризующие поэта: «С самого раннего детства в нем проявляются черты, которые считаются наиболее характерными при развитии шизоидной личности, как то: жестокость (он любил мучить животных, нередко был груб), наряду с этим необычайная доброта и чувство справедливости, страсть к разрушению, раздражительность, капризность, упрямство, гиперфантазирование, раннее развитие и болезненная чуткость души.
Несмотря на то, что детство Лермонтова протекало в благоприятных условиях (он рос, окруженный любовью, лаской и заботами), в нем рано пробуждается недовольство жизнью, склонность к уединению, чувство одиночества, сознание собственного превосходства и отчужденности. С другой стороны — окружающая обстановка: чрезмерная любовь бабушки, богатство, потворство всяким капризам — способствовали еще большему развитию указанных выше черт.
Жизнь в себе, аутизм, — основная черта для шизоидов — у Лермонтова ярко бросается в глаза чуть не с колыбели. Первый конфликт с жизнью (раздоры между бабушкой и отцом, смерть отца), падающий на период полового созревания, служит толчком к тому, что Лермонтов окончательно замыкается в себе и становится для окружающих человеком непонятным, таинственным, странным, эксцентричным, оставаясь таковым до смерти». Но даже в этих тенденциозно подобранных свидетельствах Соловьева путается и противоречит сама себе.
Ответственный психиатрический подход к личности и творчеству Лермонтова не дает никаких ключей к его тайне. Характерно, что в упоминавшейся выше монографии Ирины Сироткиной отдельные главы посвящены Пушкину, Гоголю, Толстому и Достоевскому, но не Лермонтову. В перечне патографий, включенных в работу В. П. Эфроимсона «Генетика гениальности. Биосоциальные механизмы и факторы наивысшей интеллектуальной активности», Лермонтов не упомянут, хотя А. С. Пушкину здесь посвящены две статьи, продиагностированы Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, Г. И. Успенский, Ф. И. Тютчев, Д. И. Писарев, В. М. Гаршин, А. К. Толстой и даже К. И. Чуковский. Видимо, Эфроимсон вполне отдавал себе отчет в том, что: «При оценке психических состояний, да еще по литературным источникам прошлого века, можно легко зайти в тупик, произвольно подгоняя факты под свою схему». Нет очерка о Лермонтове и в сборнике патографий О. Ф. Ерышева и А. М. Спринца «Личность и болезнь в творчестве гениев», хотя здесь есть статьи о Пушкине, Батюшкове, Гоголе, Достоевском, Некрасове, Хармсе.
И только в энциклопедии патографий «Безумные грани таланта» А. В. Шувалова присутствует очерк о Лермонтове, созданный по лекалам статьи Соловьевой. Психиатр-нарколог приводит ряд негативных свидетельств о поэте его современников и, конечно же, цитирует Вл. Соловьева. Тенденциозно подобранные цитаты завершаются таким вот диагностическим перлом: «Можно согласиться с теми авторами, которые находили у Лермонтова черты шизоидной психопатии. Соматическое неблагополучие, фактическое отсутствие родителей в детстве, гиперопека и уродующее личность воспитание бабушки, усугубленные внешней „некрасивостью“ и обусловили развитие шизоидного расстройства личности. Не только все основные (и лучшие!) произведения Лермонтова овеяны холодным ветром Танатоса, но и вся его жизнь прошла под этим знаком. Поэт искал раннюю смерть и нашел ее».
Разумеется, к свидетельствам, которыми оперирует Шувалов, можно подобрать цитаты из воспоминаний современников поэта, характеризующие его совершенно иначе, но дело даже не в этом. Укладывая Лермонтова в прокрустово ложе своего диагноза, Шувалов забывает об одной из существенных особенностей шизоидов — об отсутствии у них эмпатии. Хрестоматийная истина, удачно высказанная еще Петром Ганнушкиным: «Особенно трудно шизоиду проникнуть в душевный мир других людей, гораздо труднее, чем, наоборот, — быть понятным ими». Лермонтов же был глубоким эмпатом, проницательным психологом, умевшим «читать» людей. В отличие, например, от его британского кумира Джорджа Байрона, не только чуждого сопереживанию, но и бравировавшего своим равнодушием к людям. Байрон мог «переживать» за всех британских ткачей и за весь порабощенный греческий народ, но не за собственную умирающую мать или пятилетнюю дочь Аллегру, скончавшуюся в монастыре, в сущности, от тоски по родителям.
Известно, что Лермонтов был проницательным психологом, любившим анализировать поведение людей. Один из его современников Ю. Ф. Самарин вспоминал: «Я часто видел Лермонтова за все время его пребывания в Москве… Прежде чем вы подошли к нему, он вас уже понял: ничто не ускользает от него; взор его тяжел, и его трудно переносить. Первые мгновенья присутствие этого человека было мне неприятно; я чувствовал, что он наделен большой проницательной силой и читает в моем уме… Этот человек слушает и наблюдает не за тем, что вы ему говорите, а за вами…» Такая проницательность невозможна без глубокой эмпатии.
Психологические познания Лермонтова выражались не в том отвлеченном аутистическом доктринерстве, которое характерно для творчества аналитиков-шизоидов (таких, например, как Людвиг Витгенштейн или Вадим Руднев), а во вполне действенной системе поведения, позволявшей ему манипулировать людьми. Лермонтов делал это настолько блестяще, что О. Г. Егоров, проанализировав поведение поэта в монографии «М. Ю. Лермонтов как психологический тип», отнес его к типу «интуитивного экстраверта». Лермонтов — экстраверт! Казалось бы, к такому выводу не придешь, даже притворившись слепоглухонемым, и тем не менее. «Любил с начала жизни я / Угрюмое уединенье, / Где укрывался весь в себя, / Бояся, грусть не утая, / Будить людское сожаленье», — это, конечно, слова экстраверта. Конечно…
Как и это поведение поэта, описанное А. В. Дружининым: «Во всех (рассказах о детстве Лермонтова — Д. С.) ребенок Лермонтов изображается нам сосредоточенным и мечтательным (мы видим, что у него даже была воображаемая подруга с голубыми глазами и розовой улыбкой!), умеющим находить наслаждение в одиночестве и недовольным, когда что-нибудь отрывало его от уединенных прогулок. Как все дети с подобным развитием, Лермонтов долго был нескладным мальчиком и даже в молодости, выезжая в свет, имея на всем Кавказе славу льва-писателя, не мог отделаться от застенчивости, которую только прикрывал то холодностью, то насмешливой сумрачностью приемов».

Опыт освоения наследия Лермонтова советским литературоведением нашел свое отражение в уникальном для своего времени издании — в «Лермонтовской энциклопедии». Авторами данной энциклопедии была проделана колоссальная работа по воссозданию лермонтовского космоса: были найдены произведения поэта, казавшиеся навсегда утраченными; восстановлены неизвестные эпизоды жизни Лермонтова; досконально изучены его поэтика, философское мировоззрение и социальная позиция. Но вот осмысление всей этой огромной фактографии не отличалось особой глубиной и проницательностью, по сути продолжая критическую линию Белинского и Герцена.
Характерно, что автор предисловия к энциклопедии Ираклий Андроников, констатировав противоречивость личности, творчества и самого облика поэта, ушел от объяснения этой удивительной двойственности, заключив: «И чувство одиночества в царстве произвола и мглы, как назвал николаевскую империю А. И. Герцен, было для него неизбежным и сообщало его поэзии характер трагический. Его жизнь омрачала память о декабрьском дне 1825 года и о судьбах лучших людей. Состоянию общественной жизни отвечала его собственная трагическая судьба: ранняя гибель матери, жизнь вдали от отца, которого ему запрещено было видеть, мучения неразделенной любви в ранней юности, а потом разлука с Варварой Лопухиной, разобщенные судьбы, политические преследования и жизнь изгнанника в последние годы… Все это свершалось словно затем, чтобы усилить трагический характер его поэзии».
Смею вас заверить, что память о восстании декабристов была для Лермонтова не столь значима. Не социальные представления определяли характер его поэзии, но, напротив, обусловленный внутренними причинами лиризм Лермонтова отражался в его общественных взглядах.
Подобная прямолинейная социализация поэзии Лермонтова была характерна, разумеется, не для всех советских литературоведов. Иные из них пытались отыскать причины лермонтовской противоречивости в его собственной судьбе, но объяснение этих причин также не отличалось особой оригинальностью. Просто сказать, что в поэзии Лермонтова нашло отражение детство, лишенное материнской любви и отцовской заботы, опыт первой влюбленности и т. п., значит ничего не сказать. Как именно это произошло? Как конкретно выразилась боль Лермонтова в его поэтических тропах?
Наиболее честные советские исследователи только констатировали эту удивительную неуловимость лермонтовского гения, лишь для проформы снабжая такую констатацию дежурным «социальным» или «психологическим» комментарием. Как Эмма Гернштейн, давшая свое «социальное» толкование «Героя…» лишь за тем, чтобы, не объяснив ничего, на своем опыте показать всю неуловимость глубинного слоя романа: «С каким бы критерием многие авторы ни подходили к «Герою нашего времени», в конце концов они вынуждены были признать, что в этом произведении остается еще что-то не выясненное ими, недосказанное и неуловимое. Говоря об этом явлении, даже самые строгие ученые начинают изъясняться такими неопределенными терминами, как «ощущение», «атмосфера», или что-то «подспудное», «скрытое»…
О «втором смысле» романа, «ощущаемом на всем его протяжении», говорил и Б. М. Эйхенбаум. В. Б. Шкловский дает представление о чем-то ускользающем от определения в словах: «Герой нашего времени» «не хочет нам открыться».
О той же удивительной неуловимости поэзии Лермонтова говорил С. В. Ломинадзе в анализе его лирического чуда «Выхожу один я на дорогу…»: «Больно» и «чудно» одновременно; «больно», даже когда «чудно», — таково внутреннее состояние лермонтовского «я». Таким оно видится читателю — сам «я» … своей раздвоенности не видит… Понятно, когда человеку плохо, оттого что вокруг плохо. Понятно, что ему может быть плохо и тогда, когда вокруг хорошо. Но не странно ли, что человеку «больно», когда и вокруг «торжественно и чудно», и в сердце его (это очевидно) та же чудная торжественность? Не странно ли, что ему плохо, когда ему хорошо?
Перечитывая страницы лермонтовской лирики, убеждаешься, что эта странность в «Выхожу один я на дорогу…» — опять же своего рода кульминация, исподволь назревавшая в ранее написанных вещах. Странные ситуации и положения возникают едва ли не в каждом из тех редких стихотворений, где «я» не пытается прорвать горизонта реальности, где «лирический вектор» направлен к окружающей реальности, а не к грезе… Поистине все не как у людей».
Подобные лермонтовские странности, характерные как для всего его творчества, так и для всей его жизни, побудили в свое время Вадима Вацуро сделать в одном частном письме признание, тождественное высказыванию Блока о непознаваемости поэта: «Лермонтовым заниматься нельзя… Лермонтов — поэт „закрытый“ и с особой спецификой… Специфика — в том, что в силу многих причин он стоит как бы в изоляции: у него нет критических статей, литературных писем (как у Пушкина), самая среда его восстанавливается по крупицам, и почти единственным материальным предметом изучения оказывается его творчество, а методом изучения — внутритекстовое чтение и размышления о прочитанном». Впрочем, самого филолога эта «закрытость» поэта не остановила в исследовании его жизни и творчества, ибо «имя Лермонтова гипнотизирует» и побуждает к новым попыткам понять его.
Работы по Лермонтову последних лет — будь то биографии поэта или герменевтика его творчества — не внесли особого разнообразия в лермонтоведческий дискурс. Мистическая линия в осмыслении поэта, предложенная С. А. Андреевским и Вл. Соловьевым, была репрезентирована в книге Вл. Бондаренко «Лермонтов. Мистический гений». Психоаналитическая — в трудах О. Г. Егорова «М. Ю. Лермонтов как психологический тип» и С. В. Савинкова «Творческая логика М. Ю. Лермонтова».
О сущности первой работы можно судить по тому забавному факту, что глубокого интроверта Лермонтова автор назвал интуитивным экстравертом. Вторая работа, хотя и претендует на раскрытие внутренней логики поэта, является, в сущности, не чем иным, как игрой ассоциациями, причем ассоциациями не столько Лермонтова, сколько самого литературоведа, блуждающего вокруг трех фрейдистских сосен (мать — сын — отец). Круг ассоциаций Савинкова весьма широк — в его эссе представлены и поэтические, и мифологические, и психоаналитические, и метафизические корреляции, — но ни о какой собственно «логике» Лермонтова здесь речи не идет.
И Егоров, и Савинков опираются в своих работах на труды классиков психоанализа, как будто после публикации «Толкования сновидений» и «Психологических типов» психоанализ не претерпел ни малейших изменений. И в этом смысле их исследования лермонтовского наследия мало чем отличаются от подобных штудий по Пушкину, Толстому и Достоевскому первых советских психоаналитиков.
Исходя из всего вышесказанного, можно с сочувствием отнестись к выстраданному признанию Константина Исупова: «Понять личность поэта только из его текстов или мемуаров немногих о нем написавших почти невозможно: душа его столь глубоко упрятана то ли в нисходящей хтонике контекста (подтекста), то ли в восходящей метафизике сверхтекста (метатекста), что даже самые проницательные наши лермонтоведы решались порой лишь зафиксировать самый факт наличия этого не схватываемого такими дефинициями „остатка“ без надежды на последний вывод. Лермонтов оставил своим наследникам не только загадку своей личности, но и секрет той новой „небесной механики“, средствами которой был осуществлен воистину коперниканский перевод отечественной словесности на новую орбиту: с „солнечной“ (Пушкин) на „ночную“».
А Владимиру Марковичу в очерке «Лермонтов и его интерпретаторы», предпосланном антологии «М. Ю. Лермонтов: pro et contra» (2013 г.) оставалось лишь констатировать: «Критика все яснее понимает, что содержание векового (а теперь уже и двухвекового) спора о Лермонтове не укладывается в границы идеологических мифов, что тайна Лермонтова все еще существует и требует разгадки, что спорить нужно не только о нем, но и о том, зачем и как о нем спорить». Воистину «еще лик его темен, отдален и жуток».
Глава II. Потерянный рай
Моей души не понял мир. Ему
Души не надо. Мрак ее глубокой,
Как вечности таинственную тьму,
Ничье живое не проникнет око.
И в ней-то, недоступные уму,
Живут воспоминанья о далекой
Святой земле… ни свет, ни шум земной
Их не убьет… я твой! я всюду твой!..
«Аул Бастунджи».
Погружение в мир чужих сновидений всегда сопряжено со множеством опасностей. И дело здесь даже не в том, что сновиденческий мир по самой своей сути иллюзорен и не определен. Кажется, Вадиму Рудневу принадлежит забавное высказывание, что «сновидение семиотически неопределенно». В действительности, наши сновидения более чем определенны. «Каждый образ, событие сновидения, — справедливо подчеркивал Александр Вейн, — даже если на первый взгляд они необычны и лишены разумной логики, на самом деле пытаются донести до человека информацию о нем самом».
Сновидения значимы и даже сверхзначимы. Если любой другой продукт творчества человека может быть результатом деятельности, безотносительной к личности самого творца, например, следствием подражания или бессознательной имитации, то сновидение всегда личностно обусловлено; оно соткано из образов, ассоциаций и значений самого сновидца. Проблема лишь в том, что эти образы и значения зачастую непонятны человеку, чья психика порождает их в состоянии сна. Что же говорить о другом человеке, посягающем проникнуть в мир грез того или иного сновидца? Тем более, когда речь идет о таком «закрытом» визионере, каким был Михаил Лермонтов?
Мир сновидений Лермонтова, выраженный в его поэзии и прозе, настолько загадочен и неуловим, что большинство не то что читателей, но маститых лермонтоведов просто не подозревало о его существовании. Только психоаналитически подкованные филологи пытались отыскать этот мир. Без руля и без ветрил, вооруженные лишь томом «Толкований сновидений» Фрейда и энциклопедией «Мифы народов мира», они, «словно мореплаватели нубийского географа, вступали в море тьмы, чтобы исследовать, что в нем». И в итоге находили мир грез того же Зигмунда Фрейда и все те же мифы народов мира, но не внутренний космос Михаила Лермонтова. Так же, как в свое время дотошные критики находили в его поэзии Байрона и Пушкина, но не его самого.
Соблазн объяснить неведомое через известное — как и услышать в «белом шуме» знакомые голоса, увидеть в игре теней известные смотрящему образы — сопутствует любому толкованию сновидений. Часто, как в случае с Фрейдом, такое толкование больше говорит о самом толкователе, чем о сновидце. Только с пониманием подобной опасности искажения чужих грез собственными смыслами можно предпринять попытку путешествия в сновидческий мир такого неуловимого визионера, как Михаил Лермонтов.
В драме «Странный человек» Лермонтов создал образ героя, вынужденного нести «тяжелую ношу самопознания, которая с младенчества была моим уделом». Самопознание действительно давалось поэту тяжело, так как он не довольствовался простыми и безболезненными размышлениями о самом себе, но всегда пытался проникнуть в глубину собственной души, ту самую окутанную мраком глубину, что, по его словам, была подобна таинственной тьме вечности. Благодаря этой страсти к глубокой саморефлексии ему удалось отразить в своем творчестве все переломные этапы становления собственной души, все свои потаенные страсти, страхи, надежды и сомнения. Ни один другой поэт не считывается со своих текстов так, как «закрытый» и никем не понятый Лермонтов.

Самое раннее воспоминание Михаила Лермонтова относится к периоду, когда ему еще не исполнилось и трех лет: «Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что если б услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать». В словах старой служанки Аннушки из драмы «Странный человек» это воспоминание выражено следующим образом: «А бывало, помню (ему еще было 3 года), бывало, барыня посадит его на колена к себе и начнет играть на фортепьянах что-нибудь жалкое. Глядь: а у дитяти слезы по щекам так и катятся».
Это воспоминание о матери, поющей ему колыбельную песню, Лермонтов пронес через всю свою жизнь. Характерны в этой связи строки из его «Демона» (1830 г.): «Но прелесть звуков и виденья / Остались на душе его, / И в памяти сего мгновенья / Уж не загладит ничего». То было воспоминание о потерянном рае — времени совершенного счастья, любви и покоя. Воспоминание о рае, потерянном навсегда со смертью матери.
Воспоминание о колыбельной песне матери нашло свое отражение в песне ангела, несущего «душу младую» в «мир печали и слез» (стихотворение «Ангел»):
По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой…
Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез,
И звук его песни в душе молодой
Остался — без слов, но живой.
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.
В «Литвинке» эту ангельскую песню поет возлюбленная героя:
Запела дева!.. этой песни нет
Нигде. — Она мгновенна лишь была,
И в чьей груди родилась — умерла.
И понял, кто внимал! — Не мудрено:
Понятье о небесном нам дано,
Но слишком для земли нас создал Бог,
Чтоб кто-нибудь ее запомнить мог.
Отражения материнской колыбельной песни в любовной лирике Михаила Лермонтова сложны и многогранны. Одно из них видится в его шедевре «Есть речи — значенье / Темно иль ничтожно, / Но им без волненья / Внимать невозможно». Эти строки, безусловно, посвящены некой возлюбленной поэта, возможно, всем его пассиям. Но также очевидно и то, что ни одной из них не удалось отвлечь его от молитвы или вырвать из смертельной битвы. Только один голос был способен это сделать, но этот голос он уже не мог услышать в реальном мире. Строки из первой редакции стихотворения, сохраненные и в третьем варианте, не оставляют сомнений в том, чей это был голос:
Средь шума мирского
И где я ни буду,
Я сердцем то слово
Узнаю повсюду;
Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу,
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.
Надежды в них дышат,
И жизнь в них играет, —
Их многие слышат,
Один понимает.
Лишь сердца родного
Коснутся в дни муки
Волшебного слова
Целебные звуки,
Душа их с моленьем,
Как ангела, встретит,
И долгим биеньем
Им сердце ответит.

Собственно, всю любовную лирику Лермонтова можно рассматривать как вариацию на тему колыбельной песни матери. Речь идет, разумеется, не о стремлении поэта вспомнить текст материнской песни и передать его, но о бессознательном выражении в собственных стихах настроения, некогда пережитого им при прослушивании материнской колыбельной. Он сочиняет свои волшебные вирши с той же целью, с какой героиня поэмы «Измаил-Бей», переодевшись мужчиной, предлагает князю, погруженному в «мечтанье горестное», спеть песню своей матери:
Дай песню я тебе спою;
Нередко дева молодая
Ее поет в моем краю,
На битву друга отпуская!
Она печальна; но другой
Я не слыхал в стране родной.
Ее певала мать родная
Над колыбелию моей,
Ты, слушая, забудешь муки,
И на глаза навеют звуки
Все сновиденья детских лет.
Эту особенность поэзии Лермонтова улавливали, к сожалению, лишь немногие его чуткие читатели. И лучше всех ее выразил, пожалуй, И. Е. Дядьковский, профессор медицинского факультета Московского университета, которому Лермонтов читал свои стихи незадолго до своей гибели. Восторженный как самим поэтом, так и его лирикой он воскликнул: «Что за человек! Экой умница, а стихи его — музыка, но тоскующая».
Проницательный психолог, Михаил Лермонтов безошибочно связывал развитие своей фантазии и творческого воображения со смертью матери (поэма «Сашка»):
Он был дитя, когда в тесовый гроб
Его родную с пеньем уложили.
Он помнил, что над нею черный поп
Читал большую книгу, что кадили,
И прочее… и что, закрыв весь лоб
Большим платком, отец стоял в молчанье.
И что когда последнее лобзанье
Ему велели матери отдать,
То стал он громко плакать и кричать…
Он не имел ни брата, ни сестры,
И тайных мук его никто не ведал.
До времени отвыкнув от игры,
Он жадному сомненью сердце предал
И, презрев детства милые дары,
Он начал думать, строить мир воздушный,
И в нем терялся мыслию послушной.
Невозможность высказать свою боль родственной душе (бабушка — не в счет, душевно ущербный отец — тем более), отвратила его от реального мира и погрузила в мир его фантазии. Здесь он нашел прибежище от собственных душевных и физических (обусловленных «золотухой») мук. Во фрагменте «Я хочу рассказать вам» Лермонтов говорит о себе предельно ясно: «Он разлюбил игрушки и начал мечтать. Шести лет он уже заглядывался на закат, усеянный румяными облаками, и непонятно-сладостное чувство уже волновало его душу, когда полный месяц светил в окно на его детскую кроватку. Ему хотелось, чтоб кто-нибудь его приласкал, поцеловал, приголубил…
(Переболев корью — Д. С.) Целые три года оставался он в самом жалком положении; и если б он не получил от природы железного телосложения, то верно бы отправился на тот свет. Болезнь эта имела важные следствия и странное влияние на ум и характер Саши: он выучился думать. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой. Не даром учат детей, что с огнем играть не должно. Но увы! Никто и не подозревал в Саше этого скрытого огня, а между тем он обхватил все существо бедного ребенка. В продолжение мучительных бессонниц, задыхаясь между горячих подушек, он уже привыкал побеждать страданья тела, увлекаясь грезами души».
Подобным качеством жить в мире своих грез Лермонтов наделил героиню драмы «Странный человек»: «К чему служили мои детские мечты? разве есть необходимость предчувствовать напрасно? будучи ребенком, я часто, под влиянием светлого неба, светлого солнца, веселой природы, создавала себе существа такие, каких требовало мое сердце; они следовали за мною всюду, я разговаривала с ними днем и ночью; они украшали для меня весь мир… Ангелы ли были они? — не знаю, но очень близки к ангелам. А теперь холодная существенность отняла у меня последнее утешение: способность воображать счастие!»
Бог знает, каких ангелов видела героиня «Странного человека», но вот какого ангела лицезрел сам Мишель Лермонтов, можно сказать совершенно определенно. В своих детских грезах он видел образ своей юной матери. Да, в реальном мире его мать умерла, но в мире его воображения она продолжала жить, оставаясь столь же молодой и прекрасной. Мы видим ее в стихотворении «Как часто, пестрою толпою окружен…»:
И если как-нибудь на миг удастся мне
Забыться, — памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные все места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей…
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листы
Шумят под робкими шагами.
И странная тоска теснит уж грудь мою;
Я думаю об ней, я плачу и люблю,
Люблю мечты моей созданье
С глазами, полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня
За рощей первое сиянье.
С этим милым образом Мишель играл в саду, неизменно в одиночестве, ибо никому не доверял он «мечты своей созданье». Он слышал ее голос и смех. В зрелые годы, когда детские мечты уже давно превратились в счастливые «воспоминания», Лермонтов слышал чудесный голос матери в естественном «белом шуме» (стихотворение «Кавказ»): «В младенческих летах я мать потерял. / Но мнилось, что в розовый вечера час / Та степь повторяла мне памятный глас. / За это люблю я вершины тех скал, / Люблю я Кавказ».
Не только в горах Кавказа, но и в шуме родной реки Лермонтов слышал голос своей матери, как о том можно судить по фрагменту из незаконченного им романа «Вадим»: «В шуме родной реки есть что-то схожее с колыбельной песнью, с рассказами старой няни; Вадим это чувствовал и память его невольно переселилась в прошедшее, как в дом, который некогда был нашим, и где теперь мы должны пировать под именем гостя; на дне этого удовольствия шевелится неизъяснимая грусть, как ядовитый крокодил в глубине чистого, прозрачного американского колодца». О какой грусти здесь идет речь? Разумеется, о грусти по рано умершей матери.

Образ его юной матери присутствовал рядом с Лермонтовым всю его жизнь. При засыпании, когда сновидения особенно ярки и реалистичны, он видел ее образ, слышал ее голос и даже чувствовал ее прикосновение. Незадолго до своей гибели в письме Софье Карамзиной от 10 мая 1841 года поэт представил свое стихотворение на французском языке «L’Attente», которое характеризовал следующим образом: «Я дошел до того, что стал сочинять французские стихи, — о падение! Если позволите, я напишу вам их здесь; они очень красивы для первых стихов и в жанре Парни, если вы его знаете». Не стоит придавать значение этому игривому лермонтовскому объяснению. Очевидно, что это типичный маскарад «Лермы», призванный скрыть подлинные причины написания таинственных строк:
«Я жду ее в сумрачной равнине; вдали я вижу белеющую тень — тень, которая тихо подходит… Но нет — обманчивая надежда! — это старая ива, которая покачивает свой ствол, высохший и блестящий.
Я наклоняюсь и долго слушаю: мне кажется, я слышу по дороге звук легких шагов… Нет, не то! Это во мху шорох листа, поднимаемого ароматным ветром ночи.
Полный горькой печали, я ложусь в густую траву и засыпаю глубоким сном… Вдруг я просыпаюсь, дрожа: ее голос шептал мне на ухо, ее губы целовали мой лоб».
Валерий Михайлов, комментируя эти строки, отмечал: «Стихотворение «L’Attente» («Ожидание») напоено в своем французском звучании задумчивой музыкой сгущающихся сумерек, призрачной тишиной… оно воздушно, как легкий наплывающий туман, и в этом воздухе разлита некая тайна, которую поэт предчувствует всем своим существом…
Стихи загадочны и, похоже, эта загадка необъяснима и для самого поэта…
Это еще загадка: кого он ждет на «сумрачной равнине»? Может, «любимую», а, может, и нет. Чья это «белеющая тень», отнюдь не разобрать. Чей голос шепчет ему во сне и чьи уста целуют лоб? Что, наконец, он узнает в этом таинственном шепоте, растаявшем без слов?..»
А между тем, здесь все предельно очевидно. Перед нами характерный для Лермонтова сумрачный мир, полный иллюзий и обмана. И душа его юной матери, шепчущая утомленному засыпающему сыну слова любви и целующая его в лоб на сон грядущий.
Подобным сновиденческим встречам посвящены и следующие строки из поэмы «Боярин Орша»:
Послушай, я забылся сном
Вчера в темнице. Слышу вдруг
Я приближающийся звук,
Знакомый, милый разговор,
И будто вижу ясный взор…
И, пробудясь во тьме, скорей
Ищу тех звуков, тех очей…
Увы! Они в груди моей!
Они на сердце, как печать,
Чтоб я не смел их забывать,
И жгут его, и вновь живят…
Они мой рай, они мой ад!
Характерно, что герои произведений Лермонтова влюбляются в героинь, только услышав их чудесный голос. Как Демон, покоренный голосом Тамары, покоренный настолько, что роняет слезу, заслышав его:
И вот средь общего молчанья
Чингура стройное бряцанье
И звуки песни раздались;
И звуки те лились, лились,
Как слезы, мерно друг за другом;
И эта песнь была нежна,
Как будто для земли она
Была на небе сложена!
Не ангел ли с забытым другом
Вновь повидаться захотел,
Сюда украдкою слетел
И о былом ему пропел,
Чтоб усладить его мученье?..
Тоску любви, ее волненье
Постигнул Демон в первый раз;
Он хочет в страхе удалиться…
Его крыло не шевелится!
И, чудо! из померкших глаз
Слеза тяжелая катится…
В первой редакции «Демона» описание чувств героя пронизано более очевидными личностными аллюзиями и заставляет вспомнить о слезах младенца, слушающего колыбельную песню матери, и о его «потерянном рае»:
Вот тихий и прекрасный звук,
Подобный звуку лютни, внемлет…
И чей-то голос… Жадный слух
Он напрягает. Хлад объемлет
Чело… он хочет прочь тотчас.
Его крыло не шевелится,
И странно — из потухших глаз
Слеза свинцовая катится…
Как много значил этот звук:
Мечты забытых упоений,
Века страдания и мук,
Века бесплотных размышлений,
Все оживилось в нем, и вновь
Погибший ведает любовь.
Герой поэмы «Мцыри» сражен любовью к грузинке молодой, заслышав ее чудный голос:
Вдруг голос — легкий шум шагов…
Мгновенно скрывшись меж кустов,
Невольным трепетом объят,
Я поднял боязливый взгляд,
И жадно вслушиваться стал.
И ближе, ближе все звучал
Грузинки голос молодой,
Так безыскусственно живой,
Так сладко вольный, будто он
Лишь звуки дружеских имен
Произносить был приучен.
Простая песня то была,
Но в мысль она мне залегла,
И мне, лишь сумрак настает,
Незримый дух ее поет.
В «Тамани» «циничный» Печорин увлекается юной девушкой, услышав ее песню, звучавшую с неба: «Волнуемый воспоминаниями, я забылся… Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух. Точно, это была песня, и женский свежий голосок, — но откуда?.. Прислушиваюсь… напев странный, то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь — никого нет кругом; прислушиваюсь снова — звуки как будто падают с неба. Я поднял глаза: на крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье с распущенными косами, настоящая русалка».
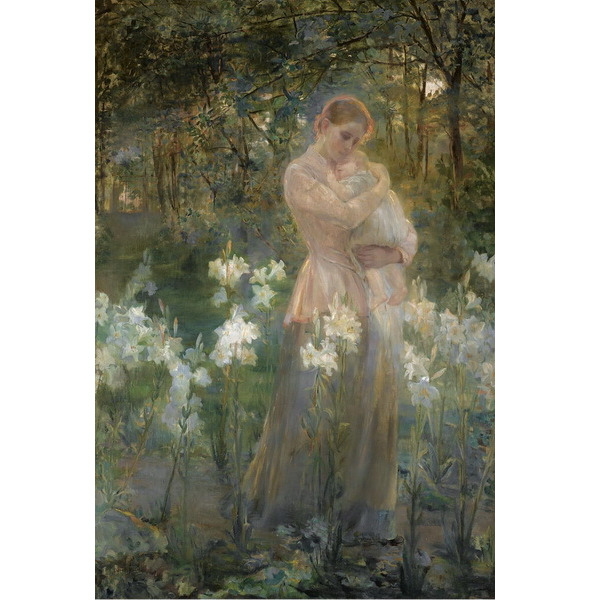
Такое поведение героев Лермонтова отнюдь не случайно. Сознательно или бессознательно поэт ассоциативно связывал свое состояние влюбленности с тем чувством любви и счастья, которые он переживал в младенчестве в объятиях своей матери, слушая ее песни и просто слова любви, обращенные к нему. Фрагмент из стихотворения «Булевар» обнаруживает природу этой аффективно-ассоциативной связи в полной мере: «Сидел я раз случайно под окном, / И вдруг головка вышла из окна, / Незавита, и в чепчике простом — / Но как божественна была она. / Уста и взор — стыжусь! в уме моем / Головка та ничем не изгнана; / Как некий сон младенческих ночей / Или как песня матери моей».
Неудивительно поэтому, что состояние влюбленности Лермонтов воспринимал как возвращение «потерянного рая», как приобщение к небесам и ангельскому миру. Такие ассоциации присутствуют в стихотворении «Измученный тоскою и недугом…»: «Ты для меня была, как счастье рая / Для демона, изгнанника небес». А также в первом стихотворении, обращенном к «бессмертной возлюбленной» Варваре Лопухиной, «Мы случайно сведены судьбою…»: «Будь, о, будь моими небесами…»
Полон подобных ассоциаций и «Демон» Лермонтова. Особенно характерны в этом отношении строки из ереванского списка 1838 года:
Неизъяснимое волненье
В себе почувствовал он вдруг;
Немой души его пустыню
Наполнил благодатный звук…
И вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты!..
В уме холодном и печальном
Воскресли мертвые мечты
О прежних днях, о рае дальном.
Не удивительно и то, что в своих возлюбленных Лермонтов искал черты своей матери. И пусть в поэме «Исповедь» он выражает это свое душевное качество как некую тайну:
Кого любил? Отец святой,
Вот что умрет во мне, со мной;
За жизнь, за мир, за вечность вам
Я тайны этой не продам!
В действительности здесь не было никакой тайны. В любовной лирике Лермонтова рядом с образом его возлюбленных почти всегда присутствует «призрак милый». Как в стихотворении «Звезда»: «Я видел взгляд, исполненный огня / (Уж он давно закрылся для меня), / Но, как к тебе, к нему еще лечу; / И хоть нельзя, — смотреть его хочу…»
Или как в его «Кавказском пленнике»:
Всегда он с думою унылой
В ее блистающих очах
Встречает образ вечно милый.
В ее приветливых речах
Знакомые он слышит звуки…
И к призраку стремятся руки;
Он вспомнил все — ее зовет…
Но вдруг очнулся.
Лермонтов влюбляется в тех своих избранниц, чей голос или взгляд напоминают ему голос и взор его юной матери. В стихотворении «Сентября 28», возможно, посвященном его возлюбленной Наталье Ивановой, он признается предельно честно: «Опять, опять я видел взор твой милый, / Я говорил с тобой, / и мне былое, взятое могилой, / Напомнил голос твой».
О том же свидетельствует стихотворение «Она не гордой красотою…”, посвященное Варваре Лопухиной:
Она не гордой красотою
Прельщает юношей живых,
Она не водит за собою
Толпу вздыхателей немых.
И стан ее — не стан богини,
И грудь волною не встает,
И в ней никто своей святыни,
Припав к земле, не признает.
Однако все ее движенья,
Улыбки, речи и черты
Так полны жизни, вдохновенья,
Так полны чудной простоты.
Но голос душу проникает,
Как вспоминанье лучших дней,
И сердце любит и страдает,
Почти стыдясь любви своей.
Известно, что стихотворение Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я люблю» было посвящено его последней пассии Екатерине Быховец:
Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье:
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.
Когда порой я на тебя смотрю,
В твои глаза вникая долгим взором:
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю.
Я говорю с подругой юных дней;
В твоих чертах ищу черты другие;
В устах живых уста давно немые,
В глазах огонь угаснувших очей.
Предполагалось, что под «подругой юных дней» подразумевалась Варвара Лопухина, тем более, что, по словам Катеньки Быховец, Лермонтов любил ее из-за сходства с m-lle Barbe, ставшей в замужестве Бахметьевой (“…он был страстно влюблен в В. А. Бахметьеву… я думаю, он и меня оттого любил, что находил в нас сходство, и об ней его любимый разговор был»). Но как отнести к Лопухиной «уста давно немые» и «огонь угаснувших очей». Ираклий Андронников видел в этом образе намек поэта на раннее угасание Лопухиной в браке с нелюбимым человеком. Очевидно, что такое предположение не выдерживает никакой критики.
Единственно возможное логическое объяснение этой лермонтовской загадки предложила Эмма Герштейн: «Речь идет, очевидно, о какой-то неизвестной нам юношеской встрече Лермонтова с рано умершей девушкой. Память о ней всплывает в сознании поэта рядом с образом Вареньки Лопухиной — его погубленной любви. Вареньку он вспомнил, когда встретился в Пятигорске с Екатериной Быховец, хотя, в сущности, у юной „креолки“, как ее называли, не было никакого внешнего сходства с блондинкой Лопухиной… Сходство было в душевной чистоте и естественной грации всех трех девушек». Но ни о какой рано умершей возлюбленной Лермонтова из его биографии нам не известно. Более чем очевидно, что и здесь поэт говорил о вечно милом образе своей юной матери.

То, что Лермонтов искал в своих возлюбленных черты своей матери, еще не значит, что он хотел найти девушку, способную заменить ему мать. Он встречал в своей жизни женщин, вполне подходивших на эту роль, но не испытывал к ним никаких чувств, кроме дружеских. Поэт вполне отдавал себе отчет в своих душевных движениях. Душа его матери — Небесная дева, воплощение духовной любви и чистоты, чудесная дева, хранящая его от преступлений. И здесь она подобна Богу в той же мере, что и поющая колыбельную песню мать с гравюры Уильяма Блейка «A Cradle Song». В этом отношении характерны слова из еще одного французского стихотворения Лермонтова: «Потому что без тебя, моего единственного путеводителя, без твоего огненного взора, мое прошлое кажется пустым, как небо без Бога». Сказано: «Бог есть любовь», — и именно в этом контексте «образ вечно милый» — воплощение любви для Лермонтова.
Таким воплощением любви представляется ему образ его матери в стихотворении «Первая любовь»:
На мягком ложе сна не раз во тьме ночной,
При свете трепетном лампады образной,
Воображением, предчувствием томимый,
Я предавал свой ум мечте непобедимой.
Я видел женский лик, он хладен был, как лед,
И очи — этот взор в груди моей живет;
Как совесть, душу он хранит от преступлений;
Он след единственный младенческих видений,
И деву чудную любил я, как любить
Не мог еще с тех пор, не стану, может быть.
Эту свою духовную и потому безмерную и беспрецедентную любовь Лермонтов вполне отличал от любви к своим земным избранницам, как о том можно судить по строкам из стихотворения «К Деве Небесной»:
Спокоен твой лазурный взор,
Как вспоминание об нем;
Как дальний отзыв дальних гор,
Твой голос нравится во всем;
И твой привет, и твой укор,
Все полно, дышит божеством.
Не для земли ты создана,
И я могу ль тебя любить?
Другая женщина должна
Надежды юноши манить;
Ты превосходней, чем она,
Но так мила не можешь быть.
На встречу с ней — Небесной Девой — он надеялся после своей смерти. Но как представлялось ему его посмертное существование? Как безмятежные прогулки в небесах или как невинные игры в озаренном божественным светом саду в компании сияющих ангелочков? Отнюдь нет. Своим потерянным раем Лермонтов видел момент засыпания под колыбельную песню матери — то самое время совершенного счастья, любви и покоя («покоя в смысле полноты жизни, а не ее замирания», как верно подметил В. В. Зеньковский), которое он некогда потерял. Подобным настроением пронизано видение умирающего героя поэмы «Мцыри»:
Казалось мне,
Что я лежу на влажном дне
Глубокой речки — и была
Кругом таинственная мгла…
И я боялся лишь заснуть,
Так было сладко, любо мне…
И рыбок пестрые стада
В лучах играли иногда.
И помню я одну из них…
Она вилась
Над головой моей не раз,
И взор ее зеленых глаз
Был грустно нежен и глубок…
И надивиться я не мог:
Ее сребристый голосок
Мне речи странные шептал,
И пел, и снова замолкал.
Он говорил: «Дитя мое,
Останься здесь, со мной:
В воде привольное житье
И холод, и покой…
Усни, постель твоя мягка,
Прозрачен твой покров,
Пройдут года, пройдут века
Под говор чудных снов.
О, милый мой! не утаю,
Что я тебя люблю,
Люблю как вольную струю,
Люблю как жизнь мою…»
Тем же настроением преисполнены заключительные строки лирической жемчужины Лермонтова «Выхожу один я на дорогу»:
Я б хотел забыться и заснуть!
Но не тем холодным сном могилы…
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел…
Свой посмертный покой он надеялся обрести в безмятежном засыпании под колыбельную своей любящей матери. Но как отразилась его безмерная и беспримерная любовь к вечно милому образу в его реальной жизни? Понимал ли он сам, какой крови стоила она ему? Отдавал ли он себе отчет в том, что эта безграничная любовь, призванная, судя по стихам Лермонтова, его спасти, в действительности обескровливала его и в конце концов привела его к гибели? Я полагаю, что с его глубочайшей саморефлексией он был весьма близок к такому пониманию. И лучшее тому свидетельство — строки из еще одного «Сна» Лермонтова («Я видел сон…”):
Я видел деву; как последний сон
Души, на небо призванной, она
Сидела тут пленительна, грустна;
Хоть, может быть, притворная печаль
Блестела в этом взоре, но едва ль.
Ее рука так трепетна была,
И грудь ее младая так тепла;
У ног ее (ребенок, может быть)
Сидел… ах! рано начал он любить,
Во цвете лет, с привязчивой душой,
Зачем ты здесь, страдалец молодой?
И он сидел, и с страхом руку жал,
И глаз ее движенье провожал.
И не прочел он в них судьбы завет,
Мучение, заботы многих лет,
Болезнь души, потоки горьких слез,
Все, что оставил, все, что перенес;
И дорожил он взглядом тех очей,
Причиною погибели своей…
Каждое слово здесь преисполнено глубокой истиной о нем самом. Остается только удивляться психологической проницательности Лермонтова, позволившей ему написать эти строки.
Глава III. Пророческая тоска
Не смейся над моей пророческой тоскою;
Я знал: удар судьбы меня не обойдет;
Я знал, что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет.
Я говорил тебе: ни счастия, ни славы
Мне в мире не найти; — настанет час кровавый,
И я паду… И я погибну без следа
Моих надежд, моих мучений…
«Не смейся над моей пророческой тоскою…»
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.