
Бесплатный фрагмент - Метафизика возникновения новизны
Творческое искусство… есть всякая способность, которая является причиной возникновения того, чего раньше не было
Платон. Софист
Таким образом, прекрасное следует определить как чувственное явление, чувственную видимость идеи
Гегель. Эстетика
…лишь бесконечное, необозримое разнообразие есть принцип жизни; одинаковость уничтожает необходимость существования
Фейербах. Лекции о сущности религии
Часть 1. Красота как отзвук удовольствия от понимания смысла внове явленной идеи
Предисловие к Части 1
Если мы окинем хотя бы беглым взглядом весь опыт нашего общения с теми или иными произведениями искусства, то не найдем ничего более таинственного и непонятного в нашем психологическом восприятии, чем испытываемое нами чувство удовольствия от созерцания этих произведений.
Отсюда та невообразимая разноголосица по поводу того, обладает ли то или иное произведение искусства красотой и в силу каких причин оно ею обладает, если она ему все же присуща. Данное расхождение проистекает оттого, что оцениваем мы его в категориях, которые не способны охарактеризовать не только степень его совершенства, но и порою даже саму принадлежность к искусству. Спрашивается, что такое прекрасное, что такое эстетическое наслаждение или эстетический вкус, что такое возвышенное? Знаем ли мы это? Отнюдь нет.
Безотносительно к человеку произведение искусства само по себе, будь оно самым распрекрасным, не содержит в себе ни красоты, ни наслаждения, ни возвышенности. Но почему-то все это вдруг ни с того, ни с сего возникает само собой при созерцании и оценке произведения человеком, его воспринимающим. Получается так, что только восприятие человека дает ему основание как наделять произведение искусства эпитетами «прекрасное» и «возвышенное», так и испытывать наслаждение, являющееся результатом данного восприятия.
В связи с этим зададимся вполне естественно возникающими двумя вопросами:
— что, присутствующее в произведении искусства и являющееся его неотъемлемым свойством, способно побудить наше восприятие наслаждаться им и восхищаться;
— каким качеством должно обладать восприятие созерцателя, чтобы суметь обнаружить указанное выше свойство произведения искусства.
Вот этими вопросами мы и займемся на страницах Части 1 данной работы.
Но сначала для того чтобы более конкретно определиться в задаче нашего исследования, приведем три высказывания: Р. Дж. Коллингвуда, Г. Риккерта и Г. Грэма, имеющие самое непосредственное отношение к теме нашей работы и в то же время характеризующие, как нам представляется, современное состояние основного вопроса искусствознания, вопроса психологического восприятия и интеллектуального понимания произведения искусства.
Р. Дж. Коллингвуд в своих «Принципах искусства» писал:
«Психологическая наука фактически ничего не сделала в плане объяснения природы искусства, как бы ни были велики ее заслуги в объяснении некоторых элементов человеческого опыта, которые временами можно связать или спутать с собственно искусством. Вклад психологии в псевдоэстетику огромен, в подлинную эстетику — ничтожен»1.
И в то же время более века назад Г. Риккерт, беспокоясь о том положении, которое сложилось в эстетике к концу XIX в., писал:
«Непостижимо, каким образом можно приступить к эстетическому исследованию без нормативного понятия о прекрасном, содержащего в себе то, что отличает специфически эстетическое наслаждение от прочих видов одобрения, так как без такого понятия совершенно невозможно было каким-либо образом отграничить область эстетического исследования… Нам нужно понятие о том, что вообще должно нравиться как прекрасное…«2.
И совсем уже недавно — конец XX е. — Г. Грэм в «Философии искусства» довольно-таки ясно констатировал современное состояние вопроса самой сущности эстетического удовольствия и той ценности, которая может быть с ним связана:
«…то, что мы ищем в искусстве, не является высшей степенью обычного удовольствия, а представляет собой отдельный тип эстетического удовольствия. Польский философ Роман Ингарден, к примеру, считает, что эстетическое удовольствие «обладает своим собственным, специфическим характером и весьма отличается от тех удовольствий, которые мы получаем от вкусной пищи, свежего воздуха или хорошей ванны»… Существует ли такая вещь, как самостоятельное эстетическое удовольствие, — вопрос сам по себе, несомненно, важный. Но для нас еще более важен другой вопрос. Объясняет ли это понятие, в чем состоит ценность искусства? Обращение к некоему эстетическому удовольствию даст нам очень мало, если мы будем под ним подразумевать всего лишь «особый род удовольствия, доставляемый искусством». Чтобы избежать тавталогии, нужен другой термин, обозначающий эстетическое удовольствие. Затем нам потребуется установить соотношение между этим новым термином и некоторой ценностью, отличной от обычного удовольствия или развлечения»3.
Вот это нормативное «понятие о том, что вообще должно нравиться как прекрасное» мы и попытаемся не столько определить — это было бы слишком самонадеянным с нашей стороны, — сколько хотя бы прозондировать на феноменальном уровне. Это, во-первых. А во-вторых, мы попытаемся предложить и обосновать «другой термин, обозначающий эстетическое удовольствие», термин, характеризующий «отдельный тип эстетического удовольствия» или «самостоятельное эстетическое удовольствие».
А сейчас наметим кратчайший план нашего изложения.
1. Сначала, для того чтобы мы смогли приступить к изложению всего того, что имеет самое непосредственное отношение к искусству, нам необходимо будет (Глава 1) — после небольшого экскурса в философию Платона и в вопрос, о том, как же все-таки осуществляется процесс творческой деятельности — разобраться в следующих немаловажных для понимания искусства вопросах:
— что такое идея (об этом на доскональном уровне смотри Части 11 и 111) и чем она отличается от мысли, поскольку при эстетическом анализе произведения искусства понятие идеи (наряду с чувством) является ключевым понятием, без которого, как мы выясним по ходу текста, существование произведения как такового не имеет смысла;
— что такое в нашем представлении инсайт и интуиция;
— в каких взаимоотношениях находится интуиция и логика;
И, поскольку в процессе созидания произведения искусства художником и восприятия этого произведения созерцателем основное участие принимает наша душа (бессознательное), необходимо будет определиться с тем, какие психические процессы мы относим к душевным процессам, а что является содержанием духовности (духа) и в каких взаимоотношениях они находятся между собой.
2. Затем (см. Главу 2), на примере анекдота и инсайта, мы сделаем попытку понять, откуда возникает чувство наслаждения и почему мы его испытываем при восприятии смысла анекдота и при явлении в наше сознание инсайтной идеи. При этом нам станет более ясной роль бессознательного в самом процессе (акте) понимания смысла последних. Но для того чтобы нам легче было определить, почему мы испытываем удовольствие при созерцании произведения искусства, необходимо будет установить, что собой представляет объективная интеллектуальная новизна. Тем самым мы отграничим ее как от чувственно воспринимаемой нами новизны, так и от новизны (идеи) тоже интеллектуальной, но субъективной. И только после того как мы произведем это разграничение, мы попытаемся уяснить себе причину возникновения чувства удовольствия от созерцания произведения искусства. Но это произойдет только после того как мы разберемся с испытываемыми нами чувствами, а главное, усвоим ту истину, что чувство удовольствия может возникнуть из трех вполне самостоятельных источников: физиологического, душевного и эстетического. Только после этого нам станет вполне прозрачной взаимосвязь так называемого эстетического удовольствия с пониманием идеи произведения. Аргументы в пользу нашей способности понимания идеи произведения искусства будут изложены нами в последней части Главы 2.
3. После того как мы более или менее разберемся во всем этом, нам ничего другого не останется как попытаться понять (Глава 3), что же собой представляет так называемая эстетическая истина и чем она отличается по своей сути от истины научной. Вот здесь-то нам станет более ясной функциональная роль как эстетических истин, так и самого искусства в целом.
4. И в заключение Части 1 было бы любопытным рассмотреть (Глава 4), во-первых, вопрос назначения искусства как природного явления, во-вторых, вопрос сокрытости красоты и двойственности этого понятия, и в-третьих, вопрос, что бы смогла — на более убедительном понятийном уровне — объяснить эстетика, в основу которой положено не понятие прекрасного (красоты), а понятие новизны в своей интеллектуальной форме. Кроме того, не безынтересным было бы, хотя бы в самых общих чертах, подытожить вопрос назначения искусства в развитии человеческого сообщества.
На этом можно было бы закончить Предисловие к Части 1, но тогда возникает вопрос, как возникла идея написания двух других Частей книги?
Все дело в том, что наши размышления над идеальной сущностью произведения искусства и над сущностью самого продуктивного мышления совершенно «случайным» образом натолкнули нас на структурно-функциональный состав идеи. Ведь сама идея исполняет какую-то вполне определенную и важную функцию. А вот как она ее исполняет, то есть, каков механизм исполнения и что должно стать результатом этого исполнения — вот для всего этого и необходимо было увидеть в идее структуру входящих в нее объектов (сущих) и ту функцию, которую каждый из них исполняет. Именно отсюда возникло разделение объектов, входящих в идею, на две категории: одна из них есть готовые для комплектования состава идеи сущие, названные нами исходными сущими, другая же есть то искомое сущее, которое мы должны создать внове. И этим искомым нами сущим (тем сущим, которое мы ищем), может быть все что угодно: предмет, формула, схема, таблица (Менделеева), принцип (физический, моральный) и т. д.
Более того, если возникновение идеи непременным образом связано с возникновением новизны, то тогда спрашивается, в каком виде эта новизна может быть представлена, как она формируется из самого смысла идеи и к каким последствиям ведет ее возникновение. Ведь вся та невнятица и разноголосица относительно сущности (вещи, объекта, явления и т. д.) исходит только из того, что неизвестен конкретный механизм нашего манипулирования объектами как на сознательном, так и, тем более, на бессознательном уровне. Говоря проще, неизвестен механизм возникновения «вещи» из идеи. (И это несмотря на то, что этот механизм осуществляется в процессе нашего, можно сказать, «повседневного» мышления; правда, мышления не совсем обычного, а того, которое добывает новое знание, то есть мышления продуктивного).
А вот разобравшись в том, как появляется новый объект (искомое сущее) и каким образом у него возникает сущность, у нас открылась прямая дорога к рассмотрению вопросов: что есть сущее и что такое Бытие, как они между собой взаимосвязаны и как разделены? Но эта дорога, кроме всего прочего, привела нас к всеобщности рассмотрения идей применительно к разным сферам нашей деятельности: технической, научной, нравственной, общественной, философской и т. д. И это в свою очередь послужило толчком к созданию (вернее: к обнаружению) единой методологии возникновения новизны, рассмотренной нами в рамках Бытия человека как создателя этой новизны. Все выше перечисленное стало предметом рассмотрения в основном в Части 11.
Но замечательным результатом этой Части явилось понимание того, что Бытие человека, создающего (обнаруживающего) новизну, является всего лишь промежуточным звеном в единой цепи Бытия, включающей и социум и человека. Вот здесь человек рассмотрен уже не как главное действующее лицо, а как Подручное Средство социума, то есть лицо, исполняющее волю последнего. Причем, исполняющего ее тем, что он создает механизм (идею), разрешающий проблемную ситуацию, в то время как «заказ» на новизну определенного вида человеку выдает сам социум.
Поэтому нашу методологию возникновения новизны мы расширили, то есть распространили и на социум, который является и заказчиком новизны и ее потребителем. Вот почему нам пришлось рассматривать не только Бытие такого сущего как человек, который создает новое сущее, но и Бытие само по себе, Бытие, не определяемое через сущее (Хайдеггер), то есть Бытие социума, в котором происходят невидимые нами — до поры до времени — процессы зарождения и созревания потребностей в том, что в первую очередь необходимо самому социуму для полноценного его функционирования. А вот каким образом осуществляется взаимодействие человека с социумом, каковы этапы (События) единой цепи Бытия, что происходит на каждом из них и что является результатом — все это нами рассмотрено в Части 111. Более того, в этой же Части нами предложено рассмотрение процесса Бытия как термодинамического процесса и одновременно как процесса неравновесной динамики, в котором (последнем) происходит самоорганизация «ментальной» (нейронной) материи с образованием комплексных «диссипативных структур» (И. Пригожин) в виде идей.
Итак, перед нами стоит нелегкая задача, а потому наберемся терпения и попытаемся все же разобраться не только в сути вопроса, который мы ставим, но и в сущности того ответа, который собираемся предложить. А наградой нам станет понимание новизны взгляда, во-первых, на причину получаемого нами удовольствия от созерцания произведения искусства и на ту роль искусства, к которой оно призвано самим существованием разумного и духовного творения Природы, именуемого человеком (Часть 1); во-вторых, на нерасторжимую взаимосвязь идеи — как структурированного комплекса — с Бытием (Часть 11); и в-третьих, на методологию возникновения новизны и ту роль, которую выполняет продуктивно мыслящий человек в структуре самого социума, осуществляющего «заказ» на новизну того или иного вида (Часть 111).
Глава 1. Продуктивное мышление
Предваряя изложение данного вопроса, нам бы хотелось отметить те мотивы, в соответствии с которыми мы собираемся уделить достаточно много внимания, казалось бы, мало относящемуся к нашей теме вопросу разграничения понятий: идея и мысль, интуиция и логика, иррациональное и рациональное, душевное и духовное.
Во-первых, понятие идеи имеет самое непосредственное отношение не только к гносеологии (а через нее и к онтологии), но и к эстетике, поскольку любое произведение искусства является, в первую очередь, плодом деятельности нашей души, этого основного источника и генератора идей. Только идеи, несущие в себе Новизну, преобразуют наш Мир в направлении его развития и пополнения новыми мыслями, понятиями, представлениями и т. д., являющимися фундаментом нашей материальной, морально-общественной, научной, психической, эстетической и духовной деятельности.
Во-вторых, четкое разделение вышеназванных понятий необходимо нам для того, чтобы избежать — хотя бы на страницах данной работы — той путаницы в терминах, которая сопровождает нашу культуру по сути дела с момента их возникновения. Так, например, найдется не так много слов, с которыми бы так вольно обращались, как со словами дух и духовность. Это относится как к художественной литературе, так и к литературе специальной, в том числе и философской. Что только не подразумевается под этими словами: это и проявления душевной жизни, и результаты деятельности разума, и сознание, и общий фон интеллектуальной деятельности (мировой дух), и нечто нас вдохновляющее, и сущность Бога и мн. мн. др.
И, в-третьих, хотелось бы акцентировать внимание на следующем не всегда нами осознаваемом факте: не разум и не сверхчувственное, прежде всего, являются источником и орудием познания — будь оно научным, эстетическим или философским — таким источником и орудием является принадлежащая нам, самая что ни на и есть близкая нам, наша земная душа, а не какая-либо занебесная или потусторонняя. Только душа с ее природной (то есть бессознательной) способностью испытывать чувства и генерировать идеи, может претендовать на пальму первенства в познании окружающего нас Мира и расширении наших представлений о нем. Низведение роли души до ничтожной доли случилось только потому, что творческая ее роль должным образом не оценивалась ввиду той легкости и неприметности продуктивной деятельности души, — которая только ей и свойственна, — по сравнению с более замечаемой, а потому и более запоминаемой «тяжеловесностью» и трудоемкостью работы сознательного (логического) мышления. Привлекая аналогию, можно сказать: мышление это спектакль с весьма забывчивыми актерами и суфлером, выручающим их в нужную минуту. И мы как зрители театрального представления видим и слышим слаженную игру актеров на сцене, но не видим суфлера и не слышим его подсказок, без которых невозможна была бы слаженность и цельность спектакля. Так и без незаметных, а порою и весьма заметных, подсказок нашего бессознательного не возможна сама слаженность и цельность процесса мышления. Разум всего лишь необходимое подспорье в продуктивной деятельности интеллекта, которую выполняет душа (бессознательное).
Наша культура нуждается в реабилитации статуса и понятия души. И не только в реабилитации, но и в наполнении этого понятая новым содержанием. (На дворе ведь XXI век, а не 1У в. до н. э., и тем более не XI в. н. э.). Необходимо признание продуктивности ее деятельности в сфере познания Мира и сотворения Новизны в нем. Нужно помнить одно: только душе свойственна креативная способность человеческой деятельности. Так неужели данная способность не заслуживает того, чтобы уделить ей (душе) должное внимание? А ведь ей свойственны и многие другие не менее замечательные качества.
1.1. Платон как открыватель «технологии» интуитивного мышления
Как это ни звучит парадоксально, но только простительное, ввиду крайней сложности и завуалированности, незнание того факта, что наша психика разделена на бессознательную и сознательную части и только вытекающее отсюда отсутствие четкого понимания того, какие функции выполняет каждая из частей, послужило отправной точкой для многочисленных плодотворных, а порою и бредовых спекуляций в области зарождающейся науки, религиозной веры, философии, эстетики и теории познания как окружающего нас мира, так и самого человека. Только в последние два столетия мы стали едва-едва прощупывать пульс «сознательного — бессознательного», благодаря работам А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, А. Бергсона, 3. Фрейда, К. Г. Юнга и др., опирающимся, в свою очередь, на великолепные интуиции и прозрения Гераклита, Платона, Аристотеля, Сенеки, Марка Аврелия, Августина, Паскаля, Декарта и многих других мыслителей.
Античные мыслители, и особенно Платон с его мифологией души и связанной с ней идеей знания как «припоминания» того, что созерцала душа, будучи приобщенной к «подлинному бытию» («Пир», 247д,е) 4, (Платон. Сочинения в трех томах. — М.: «Мысль». 1970. Все цитаты из Платона даны по этому изданию) пытались доступным им способом объяснить, откуда рождаются идеи, мысли, обобщения, категории, произведения искусства и т. д., то есть, все то новое, чего раньше не было в доступном им знании.
А поскольку рождение всего нового немыслимо без вдохновения и одержимости, то Платон (в лице Сократа), сомневаясь в качестве знания добытого рассудочным путем, предпочитает ему знание, полученное путем «неистовства, посланного Музами» («Федр», 245а). При этом он заключает: «творения здравомыслящих затмятся творениями неистовых» (245а), исходя из чего можно заключить, что, несмотря на то, что «кормчим души» (247с) все же является разум, решающий фактор в приобретении нового знания принадлежит не ему, а душе, частью которой он является. Его роль, как видно из последующего текста, заключается в сведении воедино истинного образа постигнутого душой «в соответствии с идеей, исходящей от многих чувственных восприятий» (249в). То есть новое знание приобретается все же не посредством «чистого» припоминания «того, что некогда видела наша душа, когда сопутствовала Богу» (249с), а посредством припоминания того, «что там, на основании того, что есть здесь» (250а). Таким образом, можно сказать, что чувственное восприятие как бы «намекает» на целостный образ, виденный душой; остается только одно — припомнить его в момент вдохновения, озарения.
Так что Платон поразительно верно уловил «технологию» интуитивного (иррационального) мышления, когда на основе нашего опыта чувственного восприятия поставленная разумом («кормчим души») задача решается нашим бессознательным, роль которого у Платона выполняет предварительное созерцание душой чистых идей истинного бытия, и результат выдается в момент озарения, который, в свою очередь, фигурирует у Платона как момент припоминания якобы уже ранее виденных идей.
И что могло быть прозрачнее намека Платона на существование бессознательного, чем идея получения нового знания посредством работы нашей души за пределами сознания. Тем более, что Платоном даже были отмечены две существенные подробности интуитивного мышления. Во-первых, внезапность постижения нового знания, полученного нами из сферы «подлинного бытия»: мантинеянка Диотима, рассуждая о восхождении от прекрасного в чувственных объектах к прекрасному самому по себе, употребляет слово «вдруг» («Пир», 210е), к тому моменту, когда перед нами открывается истина, в стремлении к которой мы способны «обильно рождать великолепные речи и мысли» (210д). Во-вторых, способность земного бытия содействовать забвению «истинного мнения» («Менон», 97е, 98а), что весьма характерно для инсайтных мыслей, когда пришедшая нам в голову идея, будучи невербализованной, быстро забывается под натиском внешних обстоятельств, отвлекающих нас от фиксации этой мысли, положим, на бумаге.
Причем, припоминание введено Платоном, скорее всего, по аналогии с воспоминанием, то есть извлечением из нашей памяти фактов, уже побывавших в нашем сознании. Аналогия сработала, во-первых, потому, что греками не осознавался механизм рождения новых идей посредством участия нашего бессознательного, а во-вторых, потому, что механизм воспоминания ранее уже известного нашему сознанию факта и механизм рождения в нашем сознании новой для нас идеи в чем-то сходны: они характеризуются предварительным размышлением или попыткой вспомнить забытое и последующей внезапностью появления новой мысли или забытого нами факта в тот момент, когда мы уже, казалось бы, перестали об этом думать. Вспомним хотя бы Чеховский рассказ «Лошадиная фамилия» или частые случаи воспоминания нами забытых имен, и других фактов нашей жизни и тогда нам станет ясно, что окажись мы на месте древнего грека, не имеющего представления о роли нашего бессознательного в творческом процессе, но прекрасно знакомого с опытом собственного воспоминания и «припоминания», да к тому же свято верящего в потусторонний мир, мы бы тоже приняли процесс рождения нового для нас знания за «припоминание» якобы когда-то уже известного нашему сознанию факта.
А все потому, что связь накопляемого нами жизненного опыта и знания с нашим разумом и с бессознательной работой нашей души в процессе рождения какой-либо идеи, эта связь не явная: она не только не всегда прослеживается, но и порою вовсе не улавливается нашим сознанием. Здесь — святая-святых природы мышления.
И не исключено, что быть может развитие понятия души в направлении выявления ее творческих способностей было предпринято Платоном потому, что должна же иметься в человеческой психике какая-то инстанция, откуда «присылаются» в наше сознание новые знания не только в данный момент в нем не пребывающие, но и доселе ему вовсе неизвестные, и должен же существовать механизм, благодаря которому это новое знание «транспортируется» из этой инстанции в наше сознание. И этой инстанцией у Платона стала приобщенная к истинному знанию душа, а механизм извлечения нового знания (идей) из души и отсылки его в сознание, по аналогии с воспоминанием, был назван Платоном «припоминанием».
Следует иметь ввиду, что в гомеровской психологии душа как дыхание жизни еще лишена сознания и не способна к познанию; в орфизме, согласно которому душа, обладающая неким божественным происхождением, отбывает наказание в теле из-за своего падения, так же нет еще связи души с разумом и познанием; и только начиная с Фалеса намечается (через одушевленность, божественность и разумность природы, Вселенной) связь души с разумом, связь, которая через Платона прослеживается уже у всех мыслителей вплоть до Декарта и Лейбница. Идея принадлежности разума душе, сформулированная Платоном в виде трехчастного состава, где разуму принадлежит главенство («кормчий души») в дальнейшем была подхвачена Сенекой, для которого ум
«слит с душой воедино, ею создается, ей повинуется, от нее получает закон»5.
а затем была воспринята Декартом, но уже также с оттенком главенства души, которое выражено им во фразе из «Страстей души»:
«У нас есть основания полагать, что все имеющиеся у нас мысли принадлежат душе»6.
То есть, если для Платона ум был «кормчим души», то уже для Сенеки он занимает подчиненное положение, а для Декарта купелью мысли является сама душа. Так постепенно, хотя и не столь отчетливо, вышелушивалась идея непосредственного рождения новых мыслей из нашего бессознательного (души). Но эта идея, будучи подавленной рационализмом Нового времени, так и не стала главенствующей в теории познания. И только начиная с работ А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, А. Бергсона, X. Ортеги-и-Гассета и других мыслителей иррациональному (интуитивному) познанию уделяется должное внимание.
Для меня, по крайней мере, нет никакого сомнения в том, что побудительным мотивом создания Платоном теории «припоминания» «истинного знания» и теории эйдосов, являющихся порождающими моделями объектов чувственного мира, послужил довольно-таки тривиальный факт, сопровождающий обыденную умственную жизнь почти каждого из нас. И таким фактом является периодическое и спонтанное рождение нашим бессознательным инсайтных мыслей, послуживших Платону образом «истинного знания» как бы припоминаемого нашей душой из другой жизни, где она прежде созерцала «подлинное бытие». Эти мысли, как правило, всплывают в нашем сознании из бездны бессознательного в те моменты, когда мы, казалось бы, уже перестали думать над каким-либо занимавшим нас вопросом, Внезапность явления этих мыслей в наше сознание, четкость их очертаний в самый первый момент и способность быстро забываться при малейшем отвлечении нашего внимания от них — вот «внешние» признаки инсайта. Требуется своевременная фиксация их на бумаге в тот момент, когда кто-то как будто бы свыше нашептывает их нам на ухо. Разве мы не можем припомнить хотя бы из собственной практики, когда вдруг явившаяся из бессознательного инсайтная идея, не будучи зафиксированной нами на бумаге, при малейшем отвлечении нашего сознания от нее, так же внезапно, а порою и бесследно исчезает из нашей памяти и никакие усилия нашего разума не способны вернуть ее обратно. Остается только память о чем-то весьма важном для нас, но никак не суть только что посетившей нас идеи.
Познание истины с помощью вдохновения, одержимости или посредством явления инсайтных мыслей обладает несомненным преимуществом по сравнению с познанием мира органами достаточно невразумительных чувств или в общем-то сбивчивым логическим мышлением. Познание чувствами и логикой не только длительно по времени, не только трудоемко и не только смутно и неустойчиво, но и способно вовсе ввести нас в заблуждение, в то время как постижение истины посредством инсайта, интуиции, вдохновения и т. д. представляется нам и мгновенным, и легким, и четким, и верным. Да к тому же оно сопровождается спонтанным возникновением интеллектуального чувства удовольствия. И как тут было не соблазниться и не очароваться идеей «припоминания» «истинного знания».
В античные времена, как мы уже указывали, вряд ли четко осознавалась связь между интенсивной сознательной мыслительной работой нашего разума и возможностью внезапного явления результата подобной работы из бессознательного в сознание в виде инсайта, озарения, интуиции. Нашему сознанию и невдомек, что инсайтная мысль может явиться в наше сознание только тогда, когда мы предварительно, долго и мучительно изучали данный вопрос и много о нем думали. Тяжелое, длительное, обыденное не поражает наше сознание и не запоминается; поражает и запоминается внезапное и яркое. Таково свойство нашей памяти.
И все же у Платона в «Меноне» есть одно место, где прямо и недвусмысленно указывается на существование инсайтных мыслей. Сократ, рассуждая с Меноном о двух видах знания — об устойчивом знании и истинном мнении — подразумевает под последним именно инсайтные мысли, которые уподобляются им дедаловым статуям, имеющим свойство убегать, когда они не связаны. Позвлю себе привести данный отрывок:
«…владеть этими творениями, если они свободны, мало проку; как и владеть человеком, склонным к побегам: все равно они на месте не останутся. А вот иметь их, если они связаны, весьма ценно: уж очень хороши эти изваяния. Для чего я это говорю? Я имею в виду истинные мнения: истинные мнения тоже, пока они остаются при нас, вещь очень неплохая и делают немало добра; но только они не хотят долго оставаться при нас, они улетучиваются из души человека и потому не так ценны, пока он их не свяжет суждением о причинах. А оно и есть, друг мой Менон, припоминание, как мы с тобой недавно установили. Будучи связанными, мнения становятся, во-первых, знаниями и, во-вторых, устойчивыми. Потому-то знание ценнее правильного мнения и отличается от правильного мнения тем, что оно связано». (97е — 98а).
Под связыванием «суждением о причинах», скорее всего, имеется в виду последующее логическое обоснование явившейся неизвестно откуда мысли, что наряду с внезапностью ее явления и способностью забываться характеризует как раз основные моменты появления и обработки инсайтных идей.
И не исключено, что орфико-пифагорейские идеи души как движущей силы жизни и переселения душ, возможно, были бы со временем преданы забвению, не окажись Платона с его важнейшим дополнением знания как «припоминания» душой того, что она видела, когда сопутствовала Богу. На самом же деле, восходящая к орфизму и пифагореизму идея бессмертия души и ее метемпсихоза, а вместе с ней идея припоминания эйдосов, послужили всего лишь «логическим» оправданием и обрамлением того, что Платон проницал своей мощной интуицией и того, что так и не смогли понять и развить христианские мыслители, наглухо и на многие века замуровавшие проблему иррационального познания тяжеленной плитой с тайнственной надписью «Божественное Откровение». Цивилизации понадобилось два с лишним тысячелетия, чтобы подхватить и развить интуиции и прозрения Платона.
1.2. «Бессловесность» потребности, чувства, идеи, мысли и языки их выражения
Для того чтобы нам стала более понятной общая картина творческой деятельности человека, рассмотрим последовательно каждое из ее звеньев. Но начнем мы не с самого начала, не с потребности, а с чувства, фиксирующего сам факт возникновения потребности. Дело в том что «чистое» чувство по своей природе «бессловесно», поскольку оно есть внутреннее движение нашей психики, еще не нашедшее своего выражения в любом внешнем проявлении, каковым может быть непроизвольный жест, мимика, краска стыда, эмоциональная речь и т. д. «Чистое» чувство еще не имеет «выхода» за границы нашего тела, оно никаким образом не может быть обнаружено посторонним наблюдателем, поскольку не имеет семиотического оформления. Это чувство, которое «проявляется» пока что на уровне физиологического функционирования органов и систем нашего тела. Но оно может быть оформлено либо указанными выше спонтанными внешними проявлениями, либо сознательной работой нашего мышления, планирующего вполне конкретные действия в ответ на наше «чистое» чувство, за спиной которого всегда стоит какая-либо потребность нашего организма: физиологическая, психическая, духовная. Чувство просто не может возникнуть без причины и такой причиной является потребность в чем-либо.
Таким образом, перед нами вырисовывается в общих чертах система человеческой деятельности. Если чувству предшествует потребность, а воспоследует мысль и деятельность по удовлетворению возникшей потребности, и если учесть тот факт, что в основе и начале любой мысли, либо имеющей знаковое оформление, либо его не имеющей, — то есть выступающей как внутренняя речь, — лежит идея, то вся цепочка деятельности будет выглядеть достаточно незамысловатым образом: потребность — чувство — идея — мысль — деятельность. Изобразим ее в виде замкнутой схемы.

Таким образом, всякое человеческое влечение (потребность), поскольку оно, как правило, не может быть немедленно удовлетворено, сопряжено со страданием и переживанием, результатом которых является чувство неудовлетворенности (дискомфорта) и стремление избавиться от него посредством деятельности, направленной, в конечном счете, на удовлетворение влечения. И эта деятельность может быть осуществлена как через спонтанный инстинктивно-рефлекторный механизм функционирования тела, — столь свойственный животному миру, — в котором отсутствует процесс разумного мышления, так и через создание мысли и последующие наши действия в соответствии с нею.
Причем следует отметить одно немаловажное обстоятельство. Чувство неудовлетворенности может исходить из двух источников. Во-первых, это, если можно так выразиться, «внешний» источник, когда наша неудовлетворенность исходит от окружающей нас действительности, которая ставит нас в положения, никак нас не устраивающие. Сюда в основном относятся зависящие от внешней среды наши физиологические потребности и потребности, связанные с функционированием нашей психики, нашей души, наших чувств, положим, таких как зависть, ненависть, страх, ностальгия, обида и т. д. И, во-вторых, чувство неудовлетворенности может исходить из «внутреннего» источника, связанного с исконной, духовной сущностью нашей души, наделенной, положим, от природы какими-либо талантами и способностями. Невозможность их реализации в той или иной степени вызывает неудовлетворенность, побуждающую искать пути к реализации наших творческих способностей в области искусства, науки, общественной деятельности, техники и т. д.
Кроме отмеченного выше различения наших чувств по источникам их возникновения — физиологические потребности, психические взаимоотношения и духовные склонности — приведем еще одно различение, различение по степени, так сказать, ясности и определенности чувств. Дело в том что самый беглый взгляд на человеческие чувства дает основание предположить, что чем древнее, чем «физиологичнее» чувство, тем оно определеннее указывает, во-первых, на ту потребность, которая его породила, а, во-вторых, на то, что нужно предпринять, чтобы его удовлетворить; и наоборот, чем оно дальше от физиологии, чем «цивильнее», тем оно более неопределенно и более «размыто» в возможности своей идентификации по части породившей его потребности и по части способа его удовлетворения. Так витальные чувства, связанные с инстинктом самосохранения и продолжения рода, достаточно определенны с точки зрения причины своего возникновения и способа удовлетворения. Нам не нужно гадать, какая потребность их вызвала и что нам нужно делать. Примерно то же самое можно сказать о таких достаточно древних чувствах как чувство страха, гнева, ненависти, мести и т. д. Здесь нам так же ясна и причина, и предмет нашего чувства, и цель наших действий.
Другое дело, когда нами овладевают чувства, которые мы не можем соотнести с какой-либо нашей потребностью. Не в этом ли заключается одна из причин, почему нам бывает так трудно разобраться в наших цивилизованных отношениях (и чувствах) с окружающими нас людьми. И не потому ли нас ставят в затруднение чувства, вызываемые в нас тем или иным произведением искусства. В данном случае задача чувства не столько в том, чтобы обратить наше внимание на что-то для нас достаточно важное и не столько в том, чтобы «выпалить» ту энергию, что накопила наша психика, сколько в том, чтобы подвигнуть наш интеллект к рефлексии с целью разгадать «потребность» чувства, а вместе с нею и нашу потребность. И разве не в этом причина зарождения разума?
Эмоция, чувство — в данной работе мы не будем их различать — это сигнал нашей потребности. У потребности нет какой-либо другой инстанции — кроме чувства, — через которую она могла бы побудить нас к мышлению и деятельности. Но потребность сама по себе (так же как и эмоция) «бессловесна» (безмолвна). Так что «языком» выражения потребности является чувство, как «языком» выражения чувства является мысль. Безэмоционального мышления, то есть мышления, которому бы не предшествовало и не сопутствовало чувство, в принципе быть не может, поскольку нет импульса (интенции) к мышлению, который бы побудил последнее сначала к концентрации внимания, а затем к функционированию мышления в определенном направлении.
Чувство — это вектор, который задает как силовой импульс, так и направление мышления. Скорее всего, интенционально не сознание, а бессознательное, которое является сосредоточением всех наших чувств. Мышление, вместе с сознанием и разумом, получая импульс из бессознательного, всего лишь выполняет волю (А. Шопенгауэр) последнего. Но и мысль сама по себе — как доведенная до логического конца внутренняя речь — также «бессловесна» и может быть освобождена из одиночной камеры безмолвия и забвения только в том случае, если мы либо оформим ее в словах или знаках, либо сопроводим наглядным действием, иллюстрирующим нашу мысль.
И если учесть, что между чувством и мыслью может быть явившаяся в наше сознание идея (как начало и основа мысли), которая сама по себе также безмолвна вплоть до момента оформления ее в мысль (оречевления или изложения в письменном виде), то можно сказать, что язык, на котором мы общаемся — это язык, посредством которого мы «озвучиваем» наши мысли по поводу того, чего «хотят» наши чувства, побуждаемые к своему проявлению какой-либо потребностью. Понять «мысль» чувства, а вместе с нею и потребность, главная задача мышления.
Так что, если в начальный период становления человека всякая эмоция, судя по поведению приматов, сопровождалась непосредственно следующим за нею действием, то с последующим развитием сознания (мышления, разума) человекоподобного существа в промежуток между эмоцией и действием постепенно стало «вклиниваться» мышление в виде, скорее всего, «мелькавших» идей. А поскольку мысль как результат мышления безмолвна, потребовалось развитие языка и речи для «озвучивания» мысли. (Более подробно обо всем этом смотри Раздел 5.6. «„Одновременность“ возникновения интуиции, логики и языка»).
Таким образом, процесс человеческой деятельности начинается с потребности и заканчивается деятельностью по удовлетворению потребности. А осуществляется он только в указанной нами выше последовательности (см. схему) и то только потому, что «языком» потребности является безмолвное чувство, «языком» чувства — безмолвная идея, «языком» идеи — безмолвная мысль и лишь только мысль может быть выражена в словах, схеме, символе, знаке и т. д., понимаемых всеми членами данного сообщества.
Выпадение какого-либо звена из данной последовательности невозможно в принципе, поскольку оно разрывает цепь действий и делает невыполнимым сам процесс мышления. Пример тому — приматы: эмоция, и сразу же следующее за нею действие, исключает саму почву для возникновения идеи и мысли. Животное не в состоянии отрешиться от спонтанно текущего и несущего его потока воспринимаемых ощущений и чувств, оно его пленник. У него нет времени освободиться от этого потока и выбраться на твердую и устойчивую почву сосредоточенного внимания на чем-либо, помимо охватившего его процесса. (Более подробно об этом мы будем говорить в Части 11, когда речь у нас будет идти о Событиях-1, -11, -111, об Онтологическом круге и Методологии возникновения Новизны).
1.3. Идея и мысль
Для того чтобы нам легче было понять разницу между идеей и мыслью задумаемся о том, какой смысл заложен в словосочетании «продуктивное мышление» (М. Вертгеймер) 7.
Скорее всего, оно подразумевает мышление, результатом которого является мысль, во-первых, обладающая определенной новизной для нашего сознания, во-вторых, разрешающая какую-либо возникшую перед нами проблему и, в-третьих, имеющая в своей сердцевине идею, предоставляющую возможность осуществиться первым двум вышеназванным качествам мысли. В прилагательном «продуктивное» в основе лежит существительное «продукт», то есть вещь, которой свойственна определенная ценность присущая только ей одной. Так слиток драгоценного сплава, кусок мыла или масла — это продукты, соответственно, обладающие конкретными физико-химическими, моющими, вкусовыми и питательными свойствами. Чтобы пользоваться этими свойствами нам не обязательно знать точный химический состав этих продуктов — достаточно того, что мы знаем их ценность. Так и иррациональная (интуитивная или инсайтная) идея — это тот же продукт, состав которого мы не знаем, поскольку не знаем, из каких элементов нашего знания и опыта и в каких «пропорциях» он изготовлен в результате работы нашего интеллекта (сознания и бессознательного). Но мы знаем ее ценность, поскольку эта идея способна разрешить какую-либо задачу. (В Части 11 книги мы раскроем структурно-функциональный состав идеи, — а именно, в Разделах 5.1, 6.1 и других — покажем роль каждого из ее элементов в формировании самой ценности и укажем конкретно, в чем именно заключается эта ценность).
А теперь, чтобы подойти к рациональному оформлению идеи в мысль, продолжим наши рассуждения по поводу дальнейшей судьбы перечисленных нами продуктов. Для того чтобы довести их до покупателя, необходимо весогабаритное, эстетическое, гигиеническое, рекламное и т. п. оформление данных продуктов, завернутых в бумагу, уложенных в упаковку, снабженных соответствующими характеристиками, надписями и рисунками. Так и идея, согласно нашей аналогии, должна быть оформлена до такого состояния, чтобы ее можно было применить для разрешения какой-либо ситуации. Несомненным является то, что и эстетическое, и гигиеническое, и рекламное, и весогабаритное оформление и все то, что способствует доставке продукта потребителю, все это увеличивает ценность (продажную стоимость) продукта, но несомненным является и то, что не будь самого продукта у нас не было бы и надобности хлопотать о каком-либо оформлении. Точно так же при наличии идеи возникает потребность в оформлении ее в мысль; при отсутствии оной нет самой базы, над чем бы работала наша логика.
К сожалению, — и в этом сразу же надо сознаться — мы на доскональном уровне не знаем, как, откуда и почему к нам приходят новые идеи. Мы можем только предполагать, что они исходят из нашего бессознательного, но мы знаем условия, при которых возможно их возникновение. И этими условиями являются, во-первых, обладание определенным набором знаний в интересующей нас области, во-вторых, способность размышлять над данными вопросами, и, в-третьих, способность ставить правильные вопросы. Только при осуществлении указанных условий и только при благоприятном стечении обстоятельств, сопровождающих эти условия, наиболее вероятно явление идеи в наше сознание. Идея — это проблеск мысли и прежде чем расшифровать мы должны осветить ее светом разума и зафиксировать эту новую звезду на небосклоне нашего сознания. Последующая же наша задача будет заключаться только в том, чтобы не упустить эту идею в начальной фазе ее появления и посредством, положим, вербальной обработки довести ее до состояния всеми понимаемой мысли.
Но здесь нам сразу же следует отметить одну характерную для нашего сознания и нашей памяти особенность, которая создает основную трудность в восприятии идеи: ни сознание, ни память по своей природе не способны закрепить в себе — по крайней мере, на какое-то достаточно длительное время — этот проблеск мысли (идеи) в «чистом» виде. Но он может быть зафиксирован в них опосредствованно, то есть, с помощью вторичных средств: языка, символа, метафоры или образа уже знакомого нашему сознанию. Если ни память, ни сознание не могут длительно его хранить, то можно сказать, что идеям (проблескам мысли) нет места в нашей памяти: сфера их явления — это наличное сознание и то только на ничтожно короткое время. И если мы не успели связать их с чем-то уже знакомым, то считайте, что мы их упустили, да к тому же, чем слабее мы их «заневолили», тем легче и быстрее они исчезают из сознания. Идея — как «падающая» звезда — является только однажды, на мгновение и в неизвестной нам точке пространства-времени.
«Чистый» образ идеи — это создание практически мало способное к самостоятельной жизни, а потому, мы постоянно должны держать его в поле «зрения» нашего сознания, направив на него луч разума, который, подбирая необходимые слова и выражения, способен одеть это амебоподобное существо в хитиновый покров слов и предложений. Чтобы не быть голословным, вспомним хотя бы из собственной практики, как часто случается так, что явившуюся в наше сознание идею мы вспоминаем по тому слову, с которым успели ее связать. Но не менее редко случается и противное: когда мы, утеряв в памяти слова, связанные с новой идеей, теряем и саму идею. Как метко выразился 0. Мандельштам в одном из вариантов стихотворения «Ласточка»:
«Я слово позабыл, что я хотел сказать, ….
И мысль бесплотная в чертог теней вернется»8.
Причем, при явлении идеи в наше сознание последнее оказывается, выражаясь образным языком, в незавидном положении «косоглазости»: одним «глазом» оно должно постоянно удерживать в поле своего внимания образ еще обнаженной незнакомки — не дай Бог, он ускользнет! — а другим лихорадочно шарить в кладовых нашей памяти, подыскивая подходящее одеяние и украшения из слов и предложений. (Вот и попробуй осуществить эту задачу в том случае, если следом друг за другом являются несколько слабо между собою связанных идей, как это может произойти при «потоке сознания»). Не в этом ли причина доходящей до анекдотичности житейской рассеянности людей творчески мыслящих, сознание которых сосредоточено на решении извечной задачи: чтобы «и волки были сыты и овцы целы».
На самом же деле «косоглазость» сознания мнимая. Нормальное сознание в подобной ситуации вынуждено попеременно видеть то найденные слова и фразы, то сам призрачный образ. Так что наша способность продуцировать мысли в немалой степени зависит от способности зафиксировать явившийся в сознание образ хотя бы минимальными вторичными средствами. А вот вторичные средства мы уже в состоянии, во-первых, поместить в память, а, во-вторых, вспомнить по ним саму идею, но уже не в столь «чистом» виде, в каком она явилась нам в первый раз.
Причем, с течением определенного и достаточно короткого времени мы уже не только не в состоянии вспомнить саму идею, не «зацепившись» за слова, которыми мы попытались ее прояснить, но и не можем ее «увидеть» даже за этими словами. Мимолетность явления идеи гарантирует ей легкость забвения. Только фиксация идеи в словах, знаках, образах, символах и т. д. продлевает и тем самым сохраняет жизнь идеи, превращая ее в мысль. Так что идея и мысль — это сообщающиеся сосуды: сколько в одном убыло смысла, столько в другом прибыло.
Можно сказать, что по мере «перетекания» идеи в мысль, идею в ее «чистом» виде (то есть в виде «сгустка» смысла) уже невозможно увидеть ни в том, ни в другом сосуде: в первом ее уже нет «физически», а во втором — она завуалирована теми образами, посредством которых мы пытались ее зафиксировать, поскольку за каждым вторичным средством — словом языка, метафорой, образом, символом, аллегорией, — в свою очередь, скрываются свои образы и эти образы, заслоняя первичный образ, уже мешают нам вспомнить идею в «чистом» виде: за лесом мы уже не видим того дерева, описание которого было нашей целью — оно просто исчезло за частоколом других деревьев.
Но здесь надо признаться в том, что наше только что изложенное образное представление не корректно в следующем самом загадочном и темном пункте. Когда мы отождествляем явившуюся нам идею с образом, который мы расшифровываем посредством других знакомых нам образов, то это не совсем верно, поскольку мы не можем с уверенностью сказать, что идея явилась в виде какого-либо образа — это всегда «НЕЧТО», что мы не можем определить нашим сознанием. Если бы это действительно был образ из числа многих других, то нашему сознанию и нашей памяти не составляло бы труда удержать его и запомнить. И в то же время мы не можем сказать, что идея — это мысль, поскольку то, что является из нашего бессознательного в сознание это скорее проблеск мысли, а не сама мысль. (В Частях 11 и 111 этот проблеск мысли мы будем именовать как «сгусток» смысла. Там же будет показано, каким образом этот «сгусток» смысла раскрывается в мысль — Истину и что именно является целью данной операции развертывания смысла).
Именно проблеск мысли может быть мгновенно запечатлен нашим сознанием. Если бы идея являлась в какой-либо знаковой, положим, вербальной оболочке, то ни о какой мгновенности не могло быть и речи, так как восприятие идеи было бы растянуто во времени, поскольку этот вербальный комплекс в принципе не может «вместиться» в столь короткий промежуток времени явления идеи — буквально какие-то доли секунды. Единственно что мы можем сказать с уверенностью так это то, что спонтанная (иррациональная) идея, явившаяся в наше сознание, это достаточно целостное, достаточно четкое и одномоментное представление, выразить и сохранить которое мы можем посредством образов уже наличествующих в нашем сознании.
Учитывая сказанное выше, можно понять, откуда та многоголосица в вопросе о том, как мы мыслим и в каком виде к нам приходят эти мысли. Достаточно только напомнить, что А. Шопенгауэр считал, что
«Всякое исконное мышление происходит в образах»9.
Этого же мнения придерживались Л. Фейербах и К. Г. Юнг; Ален полагал, что мышление осуществляется
«…благодаря родственной близости слов»10.
Р. Барт склонялся к тому, что
«Мифический голос музы нашептывает писателю не образы, не идеи и не стихотворные строки, а великую логику символов, необъятные полые формы, позволяющие ему говорить и действовать»11.
По сведениям того же Р. Барта, П. Валери говорил:
«Думают не словами, думают только фразами». (Там же, стр. 504).
И это становится вполне понятным, когда мы читаем «Тетради» последнего, состоящие из емких законченных фраз, каждая из которых несет в себе идею-мысль, побуждающую нас догадываться о более развернутом смысле, заложенном в этой фразе.
Таким образом, вся путаница в вопросе, мыслим ли мы словами, образами, фразами или чем бы то ни было другим проистекает, во-первых, от того, что мы и в самом деле не знаем в каком же все-таки виде является в наше сознание только что родившаяся мысль (идея). Единственное что мы можем сделать, так это охарактеризовать его с точки зрения внезапности явления, назвав момент рождения идеи инсайтом, озарением, интуицией и т. д. Это «нечто» до сих пор даже не имеет названия. А во-вторых, причина путаницы возникает вследствие того, что первое, за что мы хватаемся при явлении идеи, — чтобы не забыть ее — так это за слова и за образы: слова, которыми мы пытаемся выразить и тем самым зафиксировать идею, и образы, которые либо стоят за этими словами, либо самостоятельны, но требуют, в свою очередь, словесного оформления. В нашем сознании эти первые слова и образы мы отождествляем с самим проблеском мысли, с самой идеей, в то время как на самом деле проблеск мысли не только предшествует по времени этим словам и образам, но и в корне отличается формой своего представления в нашем сознании. (Об этом более подробно во второй части книги).
Проблеск новой идеи первичен, в то время как слова, фразы, образы, вторичны — они выполняют «технологическую» функцию выявления смысла этого проблеска с целью фиксации и логического оформления. И еще раз подчеркнем: явление идеи в наше сознание носит дискретный, «квантовый» характер, оформление же ее в какую-либо знаковую (вербальную, музыкальную, поэтическую, живописную) оболочку растянуто во времени.
Идея является на пороге сознания как скачок из области нерефлексивного мышления в область рефлексивную. Можно сказать, что проблеск идеи — это квант накопившегося возбуждения в нашем бессознательном и этот квант интеллектуальной энергии, переходя с «орбиты» бессознательного на «орбиту» сознания, приносит с собой как саму идею в вид проблеска, так и эмоцию удовольствия, на волне которой эта идея способна преодолеть барьер между бессознательным и сознанием и закрепиться в сознании хотя бы на короткое время.
Эмоция удовольствия фиксирует наше внимание и наше сознание на только что явившейся идее, она подвигает нас к тому, чтобы мы ее не забыли и постарались зафиксировать в какой-либо знаковой системе. Не испытывая удовольствия от новизны явленной нам идеи, человек вряд ли бы согласился запомнить ее. Вот почему идея сама по себе, кроме понятийной своей ценности, обладает физиологической ценностью, и эта ценность заключается в том чувстве удовольствия, которое сопровождает ее явление из бессознательного в наше сознание и в том удовольствии, которое мы испытываем в последующем, неоднократно «воспроизводя» ее в нашем сознании с целью зафиксировать и запомнить ее.
Не будь чувства удовольствия, эти идеи, внезапно являясь в наше сознание, так же внезапно бы из него исчезали. Новую идею мы забыть можем — и достаточно легко, как о том свидетельствует наш опыт, — а вот чувство удовольствия, которое сопровождает ее явление, «забыть» гораздо труднее. Удовольствие это тот «поплавок», к которому, хотя бы на некоторое время, «прикреплена» наша идея, пока еще не имеющая какого-либо знакового оформления.
Так что благодаря чувству удовольствия мы легче запоминаем идею, нам проще удержать ее в поле видения нашего разума. И если в течение какого-то времени мы не смогли зафиксировать ее, то она «тонет» в пучине нашего бессознательного, поскольку у сознания нет «памяти» для хранения «чистой» идеи (или эта память слишком короткая).
В дописьменную, а тем более в доречевую эпоху, чувство удовольствия, возможно, играло решающую роль в запоминании, фиксировании и претворении в жизнь каких-либо новых идей. И я сильно сомневаюсь в том, что наш далекий предок, живший в основном сиюминутными и будничными заботами, был настолько умен и прозорлив, что способен был соблазниться теми проблематичными выгодами, которые сулило бы ему исполнение (внедрение) идеи, не сопровождаемой чувством удовольствия. Ведь для этого ему нужно было, во-первых, испробовать идею на практике и, во-вторых, прочувствовать выгоды ее применения для себя лично и для своего сообщества. А, как известно, путь от идеи до ее внедрения даже в наши дни весьма долог, не говоря уже о временах доисторических.
Так что даже если мы сделаем скидку на «примитивность» идей-мыслей, которые бродили в голове нашего предка, то весьма сомнительно, что он мог бы запоминать идеи без этой приманки, то есть без чувства удовольствия, которое сопровождало явление их в наше сознание. Можно сказать, что чувство удовольствия — это «первородное» средство, с помощью которого на какое-то непродолжительное время продлевается жизнь самой идеи, чтобы успеть быть зафиксированной в каких-либо знаках. И только спустя некоторое время, в дополнение к нему приходят вторичные средства. Удовольствие недолговечно, а вот образом или словом можно зафиксировать мысль и поместить ее в память.
И если учесть тот факт, что приблизительно 50 — 40 тыс. лет назад наблюдался скачок в развитии материальной культуры (и особенно в технологии изготовления орудий охоты и труда), то совсем не исключено, что формирование речи и письменности — по крайней мере, в ее примитивных формах (использование определенных знаков в целях коммуникации) — побуждалось именно тем, что на этом этапе эволюции человечества возникла настоятельная потребность в фиксации и оформлении идей, вдруг ставших являться в наше сознание по непонятной пока что нам причине.
И не с этим ли связано относящееся примерно к этому же времени зарождение искусства? Ведь если животное существо (в том числе и человекоподобное) все же не обладает способностью к интуитивному «схватыванию» и пониманию в естественных условиях какой-либо важной для него ситуации, то эта способность должна иметь исходную «точку» в развитии человека разумного, поскольку к началу исторических времен эта способность уже функционировала в человеческом сообществе, о чем свидетельствует не только творчество таких мыслителей как Гераклит и Платон, но и все древнегреческое и архаическое искусство.
О чувстве удовольствия у нас еще речь впереди, а сейчас, возвращаясь к вопросу продуктивности мышления, скажем следующее. Вербальная оболочка, как и любая другая знаковая оболочка — это уже не продукт творческого мышления, а продукт фиксирования, оформления, «раскрашивания» смыслового представления. Но нашему сознанию процесс мышления представляется вербальным или образным постольку, поскольку вербализация смыслового образа занимает достаточно много времени, в то время как сам смысловой образ, то есть то новое, что мелькнуло в нашем сознании, появляется всего лишь на мгновение ока и память о нем достаточно быстро тает по мере перетекания его в словесную оболочку мысли. Таким образом, логическое оформление идеи, по сути дела, это уже технологический процесс, а не оригинальный, каким представляется явление образа (или сгустка смысла) новой идеи в наше сознание.
И одна из основных обязанностей логики — для этого она и зародилась — это развитие идеи и оформление последней в мысль. Логика не создает новизны (идеи), она подготавливает ее приход и делает ее доступной для понимания и усвоения. (Об этом в Части 11, когда речь будет о рефлексии-1 и рефлексии-11 в Разделе 5.4. ««Двойная рефлексия» Г. Марселя…»). Не будь логики, новую идею никто, кроме разве что автора, не мог бы воспринять, поскольку она в фазе своего зарождения еще непредставима в каких-либо известных нам знаках, а потому и не может быть передана кому-либо. Задача творца состоит не только в том, чтобы родить саму идею, но и в том, чтобы поставить ее на устойчивые рельсы мысли, где бы она смогла начать самостоятельное существование.
В конечном счете, все новое и ранее неизвестное — это результат спонтанной душевной деятельности. Логика — всего лишь инструментарий для обработки нашим разумом когда-то добытого душой знания и опыта. С этой точки зрения творческая роль рационального мышления заключается в правильной постановке вопроса перед нашей душой в том случае, если мы не в состоянии решить ее рационально, то есть в том случае, когда мы зашли в тупик. Вот здесь-то, как за забором сверхсекретного и особо важного предприятия, и начинается работа нашего бессознательного (души) по «добыче» нового знания и опыта. И осуществляется она уже без участия логики. Последняя потребуется нам снова на стадии развертывания, фиксации и оформления идеи до состояния мысли.
В подтверждении того, что логическое мышление в принципе не способно непосредственно зародить иррациональную идею, свидетельствует хотя бы то обстоятельство, что инсайты и интуиции никогда не приходят в самом процессе логического мышления. Они могут возникнуть когда угодно, но только не в процессе последнего. Получается так что либо логическое мышление как бы «отпугивает» приход иррациональных идей, либо оно принципиально несовместимо с ними по времени, либо оно вовсе не способно к их рождению. (Я, по крайней мере, ни разу не встречал в литературе описания прихода инсайтной идеи в процессе дискурсивного решения какой-либо задачи, да и сам не могу упомнить ни одного случая, когда бы подобные идеи являлись в процессе такой работы).
Отсюда вывод: принципиальная разница между логикой и интуицией (инсайтом) в том, что логика не способна самостоятельно «зачать» идею, интуиция же не способна ее «выносить». У них совершенно разные функции в решении одной и той же задачи, задачи созидания новой мысли, которая бы послужила разрешению какой-либо проблемы. Но, несмотря на различие своих функций, они подчинены основному принципу, благодаря которому только и возможно создание новой мысли — принципу дополнительности.
Поэтому, как бы мы себя ни любили, как бы ни уважали, но, если быть честным до конца перед самими собой, нужно признать следующий печальный для нашего самолюбия факт: новые идеи приходят в наше сознание сами собой, помимо нашей воли и почти что помимо наших умственных усилий. Оно и не может быть по другому, потому что новую идею «придумать» на логическом уровне невозможно, поскольку наше сознание (логика) oпeрирует только тем, что ему известно, оно ходит только торными тропами, так как не знает других дорог. И проницательный Ницше словами
«…мысль приходит, когда «она» хочет, а не когда «я» хочу…«12.
верно уловил и спонтанность рождения мыслей, и независимость их возникновения от нашей воли. Для сравнения приведем аналогичное высказывание А. Шопенгауэра:
«Причем мысли приходят не тогда, когда мы пожелаем, а когда они сами того захотят»13.
Можно предположить, что Ницше настолько был очарован соответствием данной фразы характеру собственного мышления, что не мог отказать себе в удовольствии повторить эту мысль в своем произведении, даже не упомянув ее автора. Впрочем, нельзя отрицать и того, что данная мысль могла зародиться в голове Ницше и без подсказки Шопенгауэра — настолько близки они были стилем своего мышления.
То есть, мысли приходят к нам не тогда, когда мы их «думаем», но тогда, когда нашей душе заблагорассудится подарить их нашему сознанию. Разум задает всего лишь стратегию мышления, но конкретную тактику решения задачи претворяет в жизнь душа. Причем, часто случается так, что тактические решения души (бессознательного) совсем не совпадают со стратегическим направлением, определяемым нашим разумом. Если бы душа всегда строго следовала указаниям разума, тогда не было бы «побочных» открытий и изобретений, когда, думая об одном, мы получаем вовсе другие и неожиданные даже для нас самих результаты. Так что душа довольно-таки своевольная дама, нрав у нее не только спонтанный, но и норовистый: она не выносит принуждения и свою благосклонность дарит только тому, кто с искренней заинтересованностью и любовью занимается своим делом.
Рациональное же мышление, с точки зрения ожидаемого конечного результата, можно уподобить взаимодействию известных нам веществ, вступающих в химическую реакцию по определенным правилам и законам: результат подобного взаимодействия нам известен и не нов. Так и при логическом мышлении, оперируя известным нам знанием в соответствии с определенными правилами логики, вряд ли можно получить что-либо новое и доселе нам неизвестное. Вот почему так бесплодны наши потуги создать нечто новое на рациональном уровне, оперируя только фактами известными нашему сознанию на данный момент.
В противовес логике, для случая иррационального (инсайт, интуиция) мышления характерными являются следующие моменты:
— новизна представления (проблеска мысли), проникшего в наше сознание,
— отсутствие логики его явления,
— внезапность его появления,
— сопутствие вновь явленному представлению эйфорического состояния нашей психики, сопровождаемого удовольствием-удивлением.
Одновременное наличие этих четырех факторов и оказывает такое ошеломляющее воздействие на наше сознание: явившееся нам и ново, и не логично, и внезапно, да к тому же все это сопровождается спонтанно возникающим чувством удовольствия–удивления. Наличие или отсутствие вышеперечисленного в полном комплекте могло бы послужить критерием подразделения процессов мышления на чисто иррациональные и чисто рациональные, на продуктивные и обычные, на душевные и духовные. (Но об этом мы еще будем говорить в Разделе 1.6. «Душевное и духовное»).
Кстати сказать, одним из первых, кто предпринял успешную попытку разделить понятия идеи и мысли, был Ж. Жубер. Приведем цитату из его дневников:
«Идея и мысль. Идея — сама ясность, мысль — сама устойчивость. Мысль устрояет, идея созидает, творит. Одна — сочетание уже известных элементов; другая — озарение, открытие, выявление неведомых доселе свойств и качеств. Плод мысли — произведение, плод идеи — творение»14.
И если мы проследим по известной нам многочисленной литературе (А. Пуанкаре, Ж. Адамар, И. Лапшин и т. д.) историю возникновения многих теорий, научных открытий и изобретений, то нам станет ясно, что обязаны они своим непосредственным явлением на свет Божий не сознанию, а бессознательному, поскольку возникли они не в самом процессе рационального мышления, а помимо него и, как правило, внезапно, когда даже нет мыслей по данному вопросу15.
Это, конечно, не говорит о том, что наше сознание, наше рациональное мышление не участвует в процессе созидания новых мыслей. Наоборот, процесс мышления без него был бы совсем невозможен. И здесь нам необходимо для представления общей картины хотя бы зафиксировать неоднократно описанные в научной литературе этапы процесса продуктивного мышления:
— дорациональный этап: склонность к какому-либо роду деятельности, увлеченность данным вопросом, самозабвенность интереса к нему;
— рациональный этап: постановка задачи исследования, изучение вопроса, попытки рационального решения методом проб и ошибок;
— продуктивный иррациональный этап: отвлечение от проблемы, инкубационный период, инсайт, рождение идеи;
— рациональный этап: оформление идеи в мысль, ее развитие и дополнение.
Так что и наука, и искусство, и вообще вся духовная культура — это результат совместной деятельности души и разума: роль души (чувства, бессознательное, инстинкты и т. д.), как видим, творческая, поскольку она непосредственно связана с рождением нового знания и опыта, а роль разума не менее созидательна, потому что она заключается не только в собирании и подготовке необходимого материала для решения задачи, не только в развитии и оформлении того, что выдала душа, но и, самое главное, в постановке самой задачи, без чего и вовсе было бы невозможно подступиться к решению какой-либо задачи. (Более подробно об этом в следующем Разделе 1.5. «Диалог логики и интуиции»).
Продолжая наш разговор о первостепенной важности явления идеи в наше сознание, отметим следующее. Проблеск мысли — это момент, который на обыденном языке характеризуется, казалось бы, незаметным и мало чего стоящим словосочетанием «мелькнула мысль». На самом же деле, это скачок из области нашей души в сферу духа. Это самое ценное на что расщедрилась, хотя и не столь скупая, но и не такая уж расточительная Природа.
Мы почему-то даже не задумываемся над тем, что все что ни создано ценного в этом Мире во всех сферах человеческой деятельности — будь то наука, техника, технология, искусство, нравственность, культура и т. д. — все это создано в результате бесконечного количества инсайтов, интуиций, прозрений, озарений. И у нас нет четкого осознания столь удивительного феномена только потому, что мы мало ценим то, что досталось нам как бы задаром и без особого напряжения наших интеллектуальных усилий. Иллюзия легкости и даже незаметности явления интуитивных идей сыграла злую шутку с иррациональным мышлением: вот откуда тот столь запоздалый интерес (научный) к нему по сравнению с интересом к логике.
Так что трудно себе даже представить, во что бы вылилось развитие человечества, не будь у него этих проблесков мысли. Скорее всего, оно бы так и осталось в животном состоянии. На этих бесчисленных как звезды в ночи мерцаниях мысли покоились и продолжают покоиться Цивилизации, и без этого мерцания идей невозможна была бы ни культура, ни наука, ни, тем более, искусство.
Кстати сказать, выражение «мелькнула мысль» — хотя мы четко себе представляем, что оно обозначает — неверно в своей формулировке: мелькнуть может только идея, так как мысль требует времени для своего оформления, осмысления, «охвата» ее нашим сознанием, понимания ее. Мысль в готовом и сформулированном виде принципиально не может явиться в наше сознание одномоментно, как является, положим, инсайтная или интуитивная идея. И не может она этого сделать по очень простой причине: наше сознание единовременно (сразу и целиком) не может вместить в себя всю мысль, так как последняя есть весьма сложный агрегат из слов, образов, понятий, сравнений, рассуждений, умозаключений и т. д. И все это не может быть представлено на «экране» нашего сознания в один момент, как это происходит с явлением инсайтной или интуитивной идеи.
И в заключение, если мы все же согласимся с тем, что продуктивное мышление представляет собой процесс получения «абсолютно» нового для нас знания, то вряд ли можно назвать продуктивным дискурсивный процесс перевода явившегося нам «нечто» на язык знакомых нам слов, выражений, образов и т. д. Наоборот, момент рождения этого «нечто», этого нового для нас целостного представления, не имеющего пока что ни словесного, ни образного оформления, как раз и является продуктивным мышлением. (Более подробно об этом в Главе 2 и в Части 11).
Учитывая изложенное, я бы позволил себе назвать этот проблеск новой для нас идеи сокращенно словом «пробновид» В этом слове в полускрытом виде были бы запечатлены и инсайтный характер явления идеи (проб-леск), и необычность ее для нашего сознания (нов-изна), и знакомая нам по культуре, начиная с платоновских времен, форма представления (ид-ея).
1.4. Инсайт (интуиция), логика и язык
А теперь, поскольку порождение идеи самым непосредственным образом связано с такими иррациональными актами как инсайт и интуиция, нам все же придется, во-первых, разъяснить, что именно мы имеем в виду, когда употребляем эти термины, а во-вторых, показать, чем же все-таки понятия инсайта и интуиции, по нашему мнению отличаются друг от друга и как они взаимосвязаны с процессом логического мышления.
И для того чтобы сначала в более наглядном виде понять место и функциональную роль инсайта, интуиции и логики в процессе продуктивного мышления представим себе мысль в виде площади окружности, в центре которой находится точка, представляющая саму идею. Причем сама площадь как мозаичная картина заполнена многочисленными образами, представлениями, понятиями и т. д., являющимися составными частями той мысли, которая разрешила бы нашу задачу. Так вот, в случае инсайта, благодаря предварительной работе бессознательного, мы сразу же попадаем — как отличный стрелок на стрельбище — в центр мысли, то есть, «схватываем» саму суть мысли, ее идею. И эту идею мы способны раскрыть и оформить в мысль, поскольку с «высоты» обозрения идеи нам понятна не только сама ее суть, но и достаточно отчетливо видны пути ее оформления в мысль. Вот почему при инсайте (озарении) мы даже не сомневаемся не только в истинности идеи, но и в тех средствах, с помощью которых мы можем достаточно быстро и уверенно облечь ее в мысль, будь то идея научного открытия или технического изобретения. Если можно так выразиться, то инсайтная идея «приносит» с собой и те средства (образы, слова, выражения, фразы и т. д.), благодаря которым она облекается нами в мысль. Отсюда же эйфорическое состояние нашей психики: мы не только узрели саму Новизну явленной нам идеи, но и поняли весь ее смысл. Вдохновение в творческом процессе — это как раз и есть взаимосочетание приподнятости нашего психического состояния и способности — как бы неизвестно откуда вдруг взявшейся, — находить достаточно верные средства выражения («переложения») идеи в мысль.
Инсайт предъявляет нам общую, но мимолетную картину интересующего нас явления, прежде погруженную во тьму, но однажды на мгновение ока озаренную внезапным ударом молнии прозрения. И как при ударе молнии в ночной мгле мы различаем наиболее примечательные и наиболее освещенные объекты увиденной нами местности — изгиб полоски реки, замок, возвышение местности и т. д., — так и при инсайте в поле нашего «зрения» попадает, в первую очередь, наиболее значительный и наиболее примечательный объект мысли, каковым является идея. Последующая задача логики будет заключаться только в том, чтобы, взяв за основу этот объект, по мере наших сил, «восстановить» по нему всю остальную картину нами «увиденного», но не запечатленного нашим сознанием.
Так что явление инсайтной идеи в наше сознание — это, по сути дела, акт мгновенного понимания нашим бессознательным ответа на тот вопрос, которым мы так долго были озабочены на сознательном уровне.
Что же касается интуиции то это тоже одномоментный акт усмотрения некой истины или какой-либо прежде нам неизвестной взаимосвязи интересующих нас явлений или объектов. Но принципиальное отличие интуиции от инсайта состоит в том, что в результате данного акта мы попадаем не в центр мысли, сразу же разрешающей важную для нас проблему, а в одну из ее мозаичных областей, в результате чего нами понимается не сама суть мысли, а какой-нибудь из ее фрагментов, к ней относящихся или с ней связанных непосредственно. С накоплением интуиций мы постепенно, даже порою не сознавая того, познаем содержание составных частей главной мысли, но никак не смысл всего комплекса целиком.
Отсюда менее заметная реакция нашей психики на данную интуицию: хотя мы и испытываем в некоторой степени чувство удовольствия от явления интуитивной мысли, но нет того эйфорического состояния, которое характерно для явления инсайтной идеи. (Скорее всего, наше бессознательное знает, как отметить ценность «схваченного» им смысла истины: чем она точнее, чем больше «площадь» знания, охваченного нашей интуицией и чем ближе мы подступили к центру самой идеи, тем сильнее дает о себе знать чувство удовольствия от данного иррационального акта. И максимум удовольствия мы получаем при мгновенном, инсайтном постижении всей сути мысли, то есть, ее идеи).
Отсюда же вытекают те затруднения в выражении и оформлении той интуиции, что явилась в наше сознание. Так называемая интуитивная мысль, ввиду своей фрагментарности и отсутствия (видимых нами) связей с другими частями мысли, более расплывчата и неопределенна, а потому и не может быть выражена на достаточно четком языке (или для ее выражения мы должны затратить гораздо больше усилий, чем при выражении инсайтной идеи). Так, если бы мы попытались дать описание какого-либо сохранившегося фрагмента культового сооружения исчезнувшей цивилизации, то это, несомненно, вызвало бы в нас определенные затруднения, поскольку нам неизвестен ни вид всего сооружения, ни связи данного фрагмента с частями к нему примыкающими.
Другое дело, когда фрагменты, относящиеся к данной главной мысли постепенно накапливаются. Вот тогда мы уже можем путем инсайтного «схватывания» составить из знакомых нам фрагментов, — может быть и не представленных в полном объеме (составе), — всю мозаичную картину мысли, домыслив на логическом уровне недостающие фрагменты и связи их с компонентами уже нам известными. О том, что это действительно происходит именно так, говорит хотя бы тот факт, что в том случае, когда мы приходим наконец-то к основной (инсайтной) идее, мы видим, что многие ранее нами уже обдуманные интуитивные мысли вдруг каким-то «счастливым» образом укладываются в эту идею как фрагменты, будто бы принадлежащие этой главной картине.
Развитая интуиция, скорее всего, является не только природным даром, но и результатом нашего жизненного опыта и уже наработанных навыков продуктивного мышления, в то время как инсайт это завершающая стадия интенсивного и более кратковременного процесса решения какой-либо насущной для нас проблемы. Не потому ли наши интуиции довольно часто бывают связаны не только с теми вопросами, которыми мы заняты на данное время, но и теми, которые занимали нас прежде, но о которых мы, казалось бы, уже перестали думать.
Причем следует заметить, что интуиция часто бывает сопряжена с ассоциативными механизмами перескакивания с одной темы размышления на другую. Например, при чтении какой-либо книги или при наблюдении некого явления мы вдруг безо всякой на то причины возвращаемся к мысли, связанной с той темой, которая ранее нас занимала. Создается такое впечатление, что чтение (наблюдение) каким-то непонятным образом натолкнуло нас на отдаленный — или еще не созревший в нашей душе — образ, который уже присутствовал на бессознательном уровне. В связи с этим можно предположить, что, чем большим опытом, наработанным в различных сферах знания, мы обладаем, тем больше возможности нашей ассоциативной памяти и тем чаще и плодотворнее наши интуиции. Ассоциации в данном случае служат своеобразными прообразами наших интуитивных представлений.
А сейчас, принимая во внимание образ мысли в виде площади окружности с центром-идеей посредине, попытаемся понять место и роль логики в процессе продуктивного мышления. Представим себе, положим, одну из многих предпринятых нами попыток последовательного логического решения какой-либо творческой задачи. Во-первых, следует иметь ввиду, что мысль (или комплекс мыслей), которая способна разрешить данную задачу, нами пока не «видима», то есть, не видима нашим сознанием, а потому — и это, во-вторых, — в процессе логического мышления мы «подходим» к ней всегда как бы со стороны, то есть, со стороны некоторого удаления. О чем это говорит? Да о том, что в процессе попытки решить задачу логическим путем мы, по сути дела, даже не знаем, в правильном ли направлении мы движемся. Получается так, что мы продвигаемся либо в направлении ее центра-идеи, либо в направлении какого-либо фрагмента площади окружности-мысли, либо «промахиваемся» мимо мысли, то есть, мимо того содержания, из которого она состоит, либо вовсе идем не в том направлении. Отбрасывая два последних варианта, как заведомо нам непригодные, посмотрим, чему могут содействовать наши попытки сходу решить задачу логическим путем. Во-первых, те познания, которые нами привлечены, могут быть использованы нашим бессознательным для «составления» интуитивной мысли или инсайтной идеи. Во-вторых, чем больше накопили мы подобных интуитивных мыслей, тем больше вероятность явления инсайтной идеи, окончательно разрешающей поставленную нами задачу.
Кстати сказать, учитывая тот очевидный факт, что наше бессознательное способно самостоятельно не только формировать интуитивные мысли, но и «отмечать» их явление чувством интеллектуального удовольствия, из всего нами вышеизложенного можно извлечь один из методологических (эвристических) приемов продуктивного мышления: пытаясь решить какую-либо задачу, необходимо сначала накопить, обдумать и оформить как можно больше интуитивных мыслей, а затем посредством манипулирования — как в детской игре в кубики — этими мыслями постараться «схватить» саму инсайтную идею, заложенную в этом, казалось бы, хаотическом комплексе. (Другим методологическим приемом является общеизвестный способ эффективного решения задачи посредством подхода к ней с разных направлений, в том числе и междисциплинарных).
И было бы неправильным думать, что только возникновение языка (речи) и способности логически мыслить само по себе содействовало ускоренному развитию человеческого сообщества, начавшемуся на рубеже 50 — 40 тыс. лет назад. Скорее всего, наоборот, появлению человека разумного с его способностью использовать речь и продуктивно мыслить (изобретать) предшествовало и содействовало возникновение неизвестно откуда взявшейся способности спонтанно рождать идеи на иррациональном (бессознательном, душевном) уровне. (А другого уровня и не было, так как человеческое существо не было еще способно достаточно эффективно рассуждать на сознательном уровне).
И в то же время в противовес этому можно сказать: если иррациональное мышление поначалу было всецело бессознательным, то только с явлением способности к логическому мышлению и речи стал возможен «выход» иррациональных актов (инсайт, интуиция) на уровень сознания. Поэтому, логика ли с языком спровоцировали возникновение инсайтов и интуиций — и проникновение их в сознание — или последние побудили к развитию логику и язык, этот вопрос подобен вопросу о курице и яйце — что было вначале, — который вряд ли можно разгадать. Сказать можно одно: эффективность функционирования и совершенствование способности иррационально мыслить были возможны только при содействии двух вышеуказанных условий: при развитии логического мышления и при возникновении языка (речи), посредством которого можно было зафиксировать, оформить и передать другим суть той мысли, что родилась в виде продуктивной идеи в голове ее творца.
Поэтому с достаточной долей уверенности можно сказать, что интуиция (инсайт), логика и язык появились «одновременно», поскольку возникновение и существование даже двух элементов данной триады без третьего (а тем более одного без двух остальных) было бы бессмысленным для успешного культурного развития сообщества первых людей, так как функционирование их (в усеченном виде) не смогло бы привести, в конечном счете, к практике внедрения в жизнь новых идей. Так логика с языком, — но без интуиции — были бы бесполезны, так как для них нет самого предмета размышления (новая идея), создать который может только интуиция (инсайт). Интуиция и язык, — но без логики — не смогли бы «развернуть» идею в мысль (как можно развернуть свиток в лист бумаги с текстом на нем). (Об «одновременности» см. также Раздел 5.6. «„Одновременность“ возникновения интуиции, логики и языка» Части 11).
Да и интуиция с логикой, — но без языка — хотя и способны изобрести новую идею и «развернуть» ее в мысль, но эту мысль невозможно было ни зафиксировать, ни передать другим членам сообщества. Творец идеи-мысли должен был бы хранить ее в своей памяти вплоть до того момента, когда он сам же смог внедрить ее в практику и получить тем самым пользу от внедрения. Такой вариант, возможно, осуществим, но только для идей достаточно легких для запоминания, для идей сиюминутного внедрения, в то время как идеи-мысли более сложные по своей структуре требовали — во избежание забвения — фиксации в какой-либо всеми понимаемой знаковой системе. Кроме того, следует иметь ввиду следующие два фактора, ставящие под сомнение возможность внедрения идей подобного типа. Во-первых, это указанная нами выше («Идея и мысль») легкость забывания идей, проникших в сознание, но им еще не зафиксированных в каких-либо знаках. А во-вторых, при отсутствии языка выражения идеи едва ли была бы возможна так называемая «внутренняя речь» (Л. Выготский), посредством которой происходит развертывание идеи в мысль. Для понимания сути вопроса приведем некоторые высказывания Л. Выготского о том, что собой представляет внутренняя речь.
«Во внутренней речи нам никогда нет надобности называть то, о чем идет речь, т. е. подлежащее. Мы всегда ограничиваемся только тем, что говорится об этом подлежащем, т. е. сказуемым. Но это и приводит к господству чистой предикативности во внутренней речи. (343). Внутренняя речь есть в точном смысле речь почти без слов. (345). На первый план выступает значение слова. Внутренняя речь оперирует преимущественно семантикой, но не фонетикой речи. (346). Во внутренней речи слово гораздо более нагружено смыслом, чем во внешней. (350). Опыты показывают, что словесные значения во внутренней речи являются всегда идиомами, непереводимыми на язык внешней речи. Это всегда индивидуальные значения, понятные только в плане внутренней речи… (351). Если внешняя речь есть превращение мысли в слова, материализация и объективация мысли, то здесь мы наблюдаем обратный по направлению процесс, процесс, как бы идущий извне внутрь, процесс испарения речи в мысль. Но речь вовсе не исчезает и в своей внутренней форме. Сознание не испаряется вовсе и не растворяется в чистом духе. Внутренняя речь есть все же речь, т. е. мысль, связанная со словом. Но если мысль воплощается в слове во внешней речи, то слово умирает во внутренней речи рождая мысль. Внутренняя речь есть в значительной мере мышление чистыми значениями, но, как говорит поэт, мы „в небе скоро устаем“. Внутренняя речь оказывается динамическим, неустойчивым, текучим моментом, мелькающим между более оформленными и стойкими крайними полюсами изучаемого нами речевого мышления; между словом и мыслью». (353) 16. (Страницы указаны в скобках).
Другими словами, при отсутствии «внутренней речи», — все же опирающейся на какой-то минимум ключевых (предикативных) слов, — невозможна была бы сама логика, оперирующая смысловыми образованиями (понятиями, представлениями, мыслями и т. д.), за которыми скрываются их знаковые «эквиваленты», «подпирающие», фиксирующие и сохраняющие эти образования. Данное обстоятельство лишний раз свидетельствует в пользу «одновременности» возникновения интуиции (инсайта), логики и языка (речи). Не обладай мы способностью генерировать спонтанные проблески мысли и не возникни у нас потребности в фиксировании, оформлении и передаче смысла этих проблесков, вряд ли бы мы стали развивать свою речь. Наши предшественники-приматы, не владеющие способностью мыслить как мы, прекрасно обходятся в своем общении богатейшим арсеналом мимики, звуков и жестов. (Эта же участь была уготована и нам, не появись у нас способности к инсайтам и интуициям). У них нет необходимости ни в логике, ни в речи, поскольку нет того предмета (новая идея), который бы потребовал их развития. Можно сказать, что обходятся они «старыми» идеями, то есть наработанными в поколениях жизненными навыками.
Так что вначале было не слово в прямом смысле, а слово в смысле переносном, исконном, древнегреческом — λογοσ. Только идея, предшественниками и инициаторами которой являются потребность и чувство, способна была родить как мысль (посредством логики), так и слово.
Вполне уверенно можно сказать, что логика и язык возникли с единственной целью — «разузнать» у чувства его потребность и удовлетворить последнюю в процессе деятельности в соответствии с данной мыслью. Вот почему новая идея — это обязательное звено между чувством, вызванном какой-либо (физиологической, материальной, душевной, духовной и т. д.) потребностью, и новой мыслью, призванной эту потребность удовлетворить (хотя бы пока что в «теоретическом» плане, предшествующем деятельности). Новая мысль сама по себе возникнуть не может: ей — как исток реке — предшествует идея, из которой она развивается. Это «старая мысль», мысль, мысль уже придуманная, может обойтись без идеи, поскольку в ней уже нет необходимости после того как эта мысль сформулирована. Новая же мысль возникает только через идею. (Методологию возникновения мысли-Истины из идеи и все, что этому сопутствует, смотри разделы Части 11).
Теперь нам понятно, что «одновременность» возникновения интуиции (инсайта), логики и языка (речи) необходимо обусловлена взаимодополнительностью их функционирования.
Таким образом, если мы примем (как непреложный факт) возникновение — на каком-то этапе эволюции человекоподобного существа — способности рождать иррациональные идеи, — а уж этого отрицать мы никак не можем, — то представим себе, что бы мы сделали в первую очередь, окажись на месте нашего древнего предка — претендента на роль обладателя λογος! ом. Первое, что бы мы попытались предпринять так это сначала раскрыть новую для нас идею (в процессе «внутренней речи»), затем зафиксировать и оформить ее, а уже потом запомнить ее или поделиться ею с другими. А посредством чего все это можно было бы проделать? Только посредством последовательного (логического) оформления идеи в мысль в какой-либо знаковой системе, которая бы всеми понималась.
Вот для чего нужно было развитие логического мышления и языка: логика — для развертывания идеи в мысль, язык — для фиксации, оформления и передачи сути последней. Логика и язык — вторичные образования: они появились как «подсобные рабочие» на подхвате у иррационального мышления, которое само по себе не способно ни к раскрытию новой идеи в мысль, ни к ее фиксации, оформлению и передаче кому-либо. Так что способность логически мыслить и выражать свои мысли посредством языка — это уже «вынужденная» мера нашей психики и нашего мозга, это следствие настоятельной необходимости зафиксировать явившуюся в наше сознание идею в форме мысли, — ибо сама идея как проблеск мысли не может быть воспринята кем-либо, кроме своего творца, — и передать ее другим членам данного сообщества способным ее понять. Как видно, развитие человеческой цивилизации с момента ее зарождения изначально предопределено спонтанной способностью человека к иррациональным актам мышления.
Автор, конечно, не настаивает на безусловной вторичности логического мышления, поскольку оно все же поставщик знания (фактов и явлений им добытых) как для себя самого, так и для иррационального мышления, но на чем он настаивает так это на том, что не будь иррационального мышления, логика сама по себе не способна была бы «подняться» до продуцирования идей, сравнимых по своей ценности и эффективности с идеями иррациональными. В связи с этим возникает и другой вопрос, на котором, ввиду его открытости, не хотелось бы настаивать — это вопрос безусловного участия инсайта (интуиции) в представлении всех совершенно новых идей нашему сознанию. Проще говоря, только ли инсайт (интуиция) способен представить новую идею? И не способна ли логика за предварительно явленными нашему сознанию (и накопленными в нем) интуициями, а также за добытыми собственным трудом знаниями «увидеть» общую картину новой (главной) мысли. Многократно описанный в литературе инсайтный характер явления новых идей, сыгравших ключевую роль в развитии цивилизации, для нас вполне очевиден. (Подозреваю, что засвидетельствованное в литературе — всего лишь выступающая из воды вершина айсберга). Но является ли он единственным в деле созидания новых идей? Не способна ли логика кроме функции «подмастерья» у инсайта и интуиции выполнять — хотя бы иногда — еще и роль мастера? Другими словами, не способна ли она в предъявленной сознанию беспорядочной и фрагментарной мозаике мыслей, понятий, представлений и т. д. увидеть истинную картину взыскуемой нами идеи (мысли), на что так горазды и инсайт, и интуиция.
И если мы посмотрим на данный вопрос немного пристальнее, то увидим, что заключает он в себе два аспекта.
1. Во-первых, способно ли логическое мышление — наподобие мышления иррационального — создать совершенно новую идею, но только без участия инсайтов и интуиций? Но здесь сразу же возникает вопрос: что в первую очередь создает логика — идею или мысль? Судя по тому, что логика постигает какой-либо вопрос постепенно, последовательно накопляя материал для формирования ответа на заданный вопрос, то создает она не идею, а мысль, поскольку сначала мы должны сформировать саму мысль, а уже потом, если такая необходимость возникнет, «увидеть» в (за) ней идею, то есть наикратчайшее содержание мысли. Но в то же время, если, положим, новая мысль сформирована и сформулирована, то у нас даже нет необходимости знать ее идею, так как нашей целью было создание мысли, а не идеи как таковой. (Идея была вынужденным промежуточным звеном на пути инсайтного или интуитивного способа формирования мысли). Но если при логическом способе составления мысли путь к ней лежит помимо идеи, то может быть и не удивительно, что так называемое логическое постижение истины не сопровождается возникновением чувства удовольствия, являющимся следствием спонтанного понимания идеи.
Итак, с одной стороны, отсутствие факта спонтанного восприятия идеи свидетельствует об отсутствии новизны в предлагаемой нашей логикой мысли; с другой же стороны, может ли указанное отсутствие спонтанного восприятия идеи быть гарантией того, что данная мысль лишена новизны, а, следовательно, и идеи. Другими словами, может ли логика, не опираясь на интуиции и инсайты, а исходя только из тех познаний, которыми она оперирует на сознательном уровне, создать мысль, обладающую новизной? У нас нет оснований отрицать это, но в то же время вся практика продуктивного мышления свидетельствует о том, что логика, опираясь на известное и не новое знание, создать новое и доселе нам неизвестное знание не способна.
2. И, во-вторых, можем ли мы быть уверены в том, что в процесс логического мышления не «вклинены» и не «вплетены» не замечаемые нашим сознанием интуитивные подсказки нашего бессознательного? Против того что логическое мышление абсолютно «чисто» от интуитивных подсказок свидетельствует хотя бы тот факт, что после наших, казалось бы, бесплодных попыток решить какую-либо творческую задачу и после того, как мы временно прекращаем наши попытки, у нас через некоторое время вдруг возникает некоторое прояснение данного вопроса, способствующее дальнейшему продвижению. И так происходит, по сути дела, всякий раз, когда мы оставляем наши попытки логического решения задачи. Что это как не срабатывание нашего бессознательного, проявляющееся в виде интуитивных подсказок, ошибочно принимаемых нами за очередной этап логического продвижения в данном вопросе.
В том-то и заключается парадокс творческого мышления: когда мы думаем, то оперируем известными нам, а потому и не новыми для нас фактами нашего знания и опыта, но то новое и нам еще неизвестное, что спонтанно является в наше сознание, рождается именно тогда, когда мы не думаем.
Исходя из этого, в дальнейшем мы будем опираться на следующую мысль: если логическое мышление — в отличие от мышления иррационального — не сопровождается интуитивными подсказками (или остается «глухим» к ним), то оно не способно само по себе создать новую мысль. И это мы попытаемся подтвердить в процессе последующего изложения текста.
1.5. Диалог логики с интуицией
Странная это вещь — логическое мышление: как только мы начинаем усиленно и целенаправленно думать, мы сразу же будто бы натыкаемся на непреодолимую преграду; но стоит нам только ослабить наши усилия, как к нам сами собой приходят мысли как бы просачивающиеся сквозь нее. Так что же в нас все-таки мыслит: логика или интуиция? Может быть, логика всего лишь задается вопросами, а разрешают их наши интуиции и инсайты?
Скорее всего, разум наш, задаваясь последовательно возникающими вопросами, создает иллюзию логического мышления. Логика только озадачивает интуицию вопросом и тем самым продвигает вперед решение какой-либо задачи, в то время как интуиция отыскивает и выдает ответ сознанию, после чего логика задается следующим вопросом, но уже с учетом ответа на предыдущий. Это зачастую и называется логическим мышлением.
Таким образом, если под продуктивным мышлением иметь в виду процесс получения нового для нас знания, то этим как раз и занимаются интуиция, инсайт и озарение, обнаруживающие это самое новое знание. Логика же, осуществляя поиск в сфере сознания, то есть в сфере известного и старого, и, не найдя нужного ответа (что вполне естественно — можно ли найти нечто новое среди старого «хлама»? ), провоцирует бессознательное к поиску ответа на заданный вопрос.
Но поскольку логика задается не бессмысленными, а вполне осознанными вопросами, то сам процесс продуктивного мышления, — несмотря на то, что основная его часть (поиск ответа и выдача его сознанию) осуществляется не сознанием, а бессознательным — относится к области сознания и называется логическим мышлением, молчаливо подразумевая тем самым, что весь процесс получения нового для нас знания будто бы осуществляется разумом и в области сознания. Бессознательное тем самым выпадает из рассмотрения самого процесса продуктивного мышления, частично из-за того, что наши интуиции, как правило, за исключением моментов инсайта, менее заметны на фоне наших сознательных усилий решить задачу.
Вот откуда вполне естественно возникающее подозрение, что продуктивно мыслит бессознательное, в то время как логика своими вопросами побуждает его к деятельности, результатом которой может быть инсайт, интуиция, озарение, вдохновение, наитие. (Последние — это названия разных стадий и разных форм одного и того же иррационального процесса рождения из нашего бессознательного нового для нашего сознания знания. Логика же — всего лишь методология мышления по определенным правилам, которые, в свою очередь, были некогда усмотрены на интуитивном уровне и внедрены в практику дискурсивного мышления, как и все иррациональное, доведенное до понятийной формы).
Таким образом, не будь мы способны задаваться вопросами, у нас не было бы потребности отвечать на них, а не имей мы способности отвечать на них, у нас не было бы надобности их задавать. Так что логика как способность задаваться вопросами и интуиция как способность на них отвечать, взаимосвязаны и взаимодополнительны между собой в едином процессе рационально-иррационального мышления. Продуктивного мышления как такового, отдельно логического и отдельно интуитивного не существует в природе нашего интеллекта. Это из области нашей мифологии, как из области мифологии было бы родить ребенка без участия либо женской яйцеклетки, либо мужского сперматозоида.
Да к тому же мы почему-то упускаем из виду, что не только умственное решение какой-либо проблемы, но и вся жизнь, в том числе и животная, имеет в своей основе вопросно-ответный характер деятельности, поскольку даже самые элементарные природные потребности организма (положим, потребности выживания, питания, половой и т. д.), — это вопросы, которые ставит сама Природа перед живым организмом, ответы на которые должно найти, в первую очередь, наше мышление (будь оно сознательным или бессознательным) для того, чтобы вызволить организм из сложившейся для него неблагоприятной ситуации. Так что любая наша потребность, имей она физиологический, психический или духовный характер — это и есть вызванный обстоятельствами нашей жизни, вопрос нашего тела (души, интеллекта), который побуждает нас к деятельности, призванной дать на него ответ. Как писал Ж. Бодрийяр,
«Ибо ничего не существует просто так, от природы, все вещи существуют только от вызова, который им бросается и на который они вынуждены ответить»17.
Для того чтобы нам понятнее была как роль логики, так и роль интуиции в процессе продуктивного мышления, следовало бы попытаться как можно лучше разобраться в вопросе перехода живого организма от животного состояния к состоянию разумному и духовному. «Накануне» очеловечивания человекоподобного существа бессознательное, скорее всего, выполняло роль разума, который пока что не имел выход на уровень рассудка, поскольку еще не было сознательного разума. (Во избежание недоразумений напомним, что под рассудком нами понимается способность разума оперировать на уровне нами понимаемого и осознаваемого опыта. Рассудком осуществляются логические операции над теми фактами и явлениями, которые нами либо осознаются, либо могут быть осознаны путем предварительного извлечения из нашей памяти).
Итак, до начала очеловечивания, то есть до появления способности рассуждать (сравнивать, выносить суждения, умозаключать и т. д.) на сознательном уровне, жизнь и поведение животного организма всецело определялись бессознательным, этим умом до разума. Бессознательное, побуждаемое инстинктом, миллионолетиями отрабатывало стратегию и тактику выживания в жестких условиях природного существования. И не инстинкт руководил действиями животного, а бессознательное. Инстинкт — всего лишь побуждение к действию, стратегию и тактику самого действия вырабатывает бессознательное.
Причем, вопросы задавала сама Природа, ставя животный организм в условия неблагополучного существования. Так, например, деятельность организма, вызванная, положим, определенными изменениями в окружающей среде, это и есть ответ организма, управляемого своим бессознательным на вопрос, заданный Природой в виде, допустим, сезонной засухи или всемирного оледенения. Выход же из этих тяжелых ситуаций всегда искало бессознательное, накопившее к началу разумного существования громадный опыт выживания и «анализа» самых парадоксальных жизненных положений. Иначе, животный организм, руководимый бессознательным, просто не способен был бы выжить в условиях жесткой конкуренции и суровых испытаний, предъявляемых Природой.
Таким образом, наше бессознательное, вплоть до зарождения сознательного разума, только тем и занималось, что приспосабливало организм к условиям весьма суровой действительности, а тем самым оно занималось продуктивным, хотя и бессознательным мышлением. Ему и «карты в руки» в деле созидания новизны приспособительных реакций. Это для него повседневная и, можно сказать, рутинная работа, которую оно выполняло в течение долгих тысячелетий своего до разумного развития.
Пожалуй, мы уже понимаем одну достаточно простую и самоочевидную истину: не столько зарождение сознательного разума самого по себе явилось одной из причин (вторую мы укажем ниже) возникновения способности продуктивно мыслить — так как эта способность уже имела место в лице бессознательного и до его появления, — сколько присоединение к бессознательной способности сознательной способности накапливать в памяти опыт собственного существования организма и использовать его как для анализа неблагополучных ситуаций, так и для постановки вопросов перед бессознательным. Но поскольку бессознательное уже обладало большим опытом приспособления к постоянно изменяющимся условиям существования, то соединение этих опытов — в форме обмена информацией и, если можно так выразиться, обмену опытом между сознанием и бессознательным — это соединение опытов и привело к дополнительной и притом, отчасти, разумной способности продуктивно мыслить в направлении более эффективного и более комфортного приспособления к окружающей среде.
Так что функцию органа, ставящего задачи перед бессознательным, постепенно, наряду с Природой, стал брать на себя формирующийся сознательный разум. Анализируя свой опыт общения с окружающей действительностью, он стал предвосхищать вопросы, задаваемые ею и частично брать эту задачу на себя. Бессознательное же попрежнему продолжало «анализировать» и искать, но уже совместно с разумом, пути наиболее оптимального решения задач, поставленных как самой Природой, так и набирающим свою силу разумом.
Но здесь произошло еще одно существенное и долго остававшееся незамеченным нашим предком изменение в функционировании бессознательного. Если раньше оно все свои решения и команды выдавало непосредственно самому организму (телу) — в форме действий по удовлетворению инстинктов и рефлексов, — то теперь, частично, оно стало их выдавать еще и нашему сознанию в виде спонтанных интуитивных подсказок, инсайтов, озарений. Можно сказать, что инсайт (интуиция) — это инстинкт, свернувший с проторенной дороги еще не запущенных в ход физиологических реакций и заглянувший в дверь сознания. Но этого оказалось вполне достаточным для того, чтобы наш разум успел перехватить его и преобразовать энергию его перехода с «орбиты» бессознательного на «орбиту» сознания во вполне оформленную и доступную пониманию мысль. Разум же, руководствуясь этими подсказками, принимал окончательное решение и составлял план последующих действий по выходу организма из неблагоприятных ситуаций. Так что разрыв цепи между инстинктивным побуждением животного организма и непосредственно следующим за ним спонтанным действием произошел в «точке» осмысления инсайтной (интуитивной) идеи и превращения ее в мысль, планирующую характер этого действия и осуществляющую данное действие, но уже не на уровне спонтанности и бессознательности, а на уровне осмысленности. Данный разрыв «функционального круга» (Икскюль), в конце концов, и привел к рождению человека разумного.
Таким образом, если до зарождения разума вопросы нашему бессознательному задавала сама Природа, ставя животный организм в такие условия, к которым он вынужден был приспосабливаться, изменяя что-то в самом себе, — то есть находя какие-то новые решения, как в обустройстве собственного организма, так и в приспособлении его к окружающей среде — то с развитием разума эти вопросы бессознательному частично стал задавать сам разум. И человекоподобное существо вместо того чтобы обустраивать собственный организм постепенно переключилось на обустройство внешней среды под условия собственного относительно неизменного существования. С этого «момента» развитие приспособительных биологических функций организма к окружающей среде стало замедляться и компенсироваться развитием разумного мышления с той целью, чтобы приспособить окружающую среду к условиям малоизменного и более комфортного существования своего организма. Так функция продуктивного мышления была «поделена» между бессознательным и сознанием, между интуицией (инсайтом) и логикой, между иррациональным и рациональным.
При этом следует отметить, что Природа поступила бы крайне неразумно, если бы она сняла функцию продуктивного мышления с бессознательного и полностью передала бы ее сознанию, так как это было бы связано, скорее всего, с коренной перестройкой функциональной деятельности всего мозга, потому что, начиная с его зарождения, вся его деятельность была деятельностью бессознательной. Перевод же этой функции с бессознательного на сознание и переориентация наработанных навыков продуктивного, но бессознательного, мышления на рельсы сознания были бы энергетически (психически) нецелесообразны, поскольку связаны они с нагружением сознания психической работой, в то время как бессознательное проводит свою работу — кроме завершающего этапа выдачи решения в виде идеи (да к тому же сопровождаемого чувством удовольствия) — скрыто от сознания, не нагружая его негативными факторами, наверняка, трудоемкой «черновой» работой поиска самого решения.
Итак, выводы, которые мы можем сделать из сказанного выше следующие. Во-первых, продуктивным мышлением занимается бессознательное, использующее к тому же материал познаний и опыта, накопленный нашим сознанием. Во-вторых, скачок в эволюции человека как разумного и творческого существа является следствием возникновения способности бессознательного к спонтанным подсказкам нашему сознанию в форме интуиций и инсайтов. И, в-третьих, логическое мышление, поскольку оно оперирует уже известными нам факторами и явлениями, не обладает способностью продуктивно мыслить; продуктивность его заключается в извлечении из памяти, подборе и анализе (сравнение, суждение, умозаключение) материала необходимого для того, чтобы сформулировать вопрос, на который способна дать ответ интуиция. (То, что мы называем логическим мышлением, всего лишь силлогистика). Прежде чем решить какую-нибудь задачу у нас должен возникнуть вполне соответствующий этой задаче вопрос. Но этот вопрос зарождается не сам собой, не из воздуха: он возникает как результат анализа тех материалов, которыми располагает наше сознание и которые имеют достаточно близкое отношение к нашей задаче.
Конечно, анализируя какую-либо ситуацию на сознательном уровне, у нас создается впечатление, что мы ищем решение. Но на самом деле анализ способствует всего лишь уяснению самой задачи, которая перед нами стоит, исходя из тех познаний, какими мы располагаем. И этот анализ способствует постановке корректного вопроса, вопроса, который наиболее адекватен сложившейся ситуации в данной области познания. Чем не правильнее наш вопрос, тем меньше у нас шансов получить на него правильный ответ, так как неверно поставленный вопрос опирается на достаточно ненадежную массу наших познаний, то есть вопрос либо «висит в воздухе», либо находится на обочине тех фактов и явлений, из которых он (вопрос) мог бы добыть ответ. Вопрос как магнит: чем дальше он от массы разнородных материалов, тем менее он способен выполнит свою функцию, то есть притянуть из груды этих материалов только то, что имеет непосредственное к нему отношение, сродственное ему самому.
И не сознание с его рассудочной способностью в состоянии, как мы иногда ошибочно думаем, найти ответ на вопрос: оно способно только на то, чтобы поставить вопрос, а уже затем развить и оформить найденный бессознательным ответ. Так что логическое мышление — когда оно задействовано — ищет не ответ на вопрос; нет, оно среди гущи известных ему фактов и явлений ищет вопрос, на который могла бы дать ответ интуиция.
И если бы мы задались последним вопросом, что находится в зоне между обоснованным нами вопросом и ответом, который мы можем на него получить, то ответом было бы — terra incognita. Чем больше адекватного ответу материала задействовано в постановке вопроса, тем ближе мы будем к тому, чтобы дать правильный ответ. Факты и явления нашего знания и опыта причастные к постановке данного вопроса, и ответ на этот вопрос — это две «матрицы» зеркальные друг другу. Логическое обоснование наших интуиций и инсайтов — это и есть «пошаговое» прохождение этой «неизвестной земли» и этого преобразования «матрицы» вопроса в «матрицу» ответа.
Но это все же идеальное представление: в реальности бессознательное «сглаживает» как все «неправильности» поставленного вопроса, так и все «неправильности» ожидаемого ответа. Интуиция мудрее логики в силу обладания громадным опытом продуктивного функционирования на бессознательном уровне. И наше преклонение перед логикой всего лишь заблуждение, основывающееся, во-первых, на иллюзии будто бы мы продуктивно мыслим, оперируя только доступным нашему сознанию материалом, а во-вторых, на незаметности интуитивных актов как бы вплетенных в так называемое логическое мышление, а потому и принимаемых, в силу своей малой различимости, за сам процесс логического мышления. Как есть видимая нашим зрением шерсть, а есть невидимый, но от этого не менее ценный подшерсток, так и есть не только «видимое» нашим сознанием логическое мышление, но и не замечаемое им, хотя и более продуктивное, иррациональное мышление.
Рационализм эпохи Просвещения только потому взял верх над иррационализмом, что, эксплуатируя малозаметные иррациональные (интуитивные) акты, он скрывал их тем, что подменял более заметными рациональными актами. И только более пристальное внимание к процессу собственного мышления и творчества таких ученых и философов как Шопенгауэр, Ницше, Бергсон, Пуанкаре, Вертгеймер, Пойа и др., а также многочисленных открывателей законов и изобретателей технических устройств позволило вскрыть подмену и, хотя бы в некоторой степени, развенчать рациональное и тем самым поставить иррациональное на то место, которое оно заслужило и которое по праву ему принадлежит.
1.6. Душевное и духовное
Раз уж мы сплошь и рядом употребляем слова душа (душевный) и дух (духовный) и оперируем понятиями, которые скрываются за этими словами, то не лишним было попытаться на более четком уровне определить, что же все-таки было бы более правильным понимать под этими терминами. И в этом нам поможет уже произведенное нами выше разделение понятий идея и мысль, интуиция и логика.
Но сначала приведем несколько примеров, как нам представляется, не вполне корректного употребления этих слов. И первым примером является выражение «пасть духом». «Падение духом» относится не к нашему сознанию, не к тому, что мы сознаем, а, именно, к тому, что нами не осознаваемо, что мы не в силах преодолеть усилием нашей воли. И даже осознав разумом причину нашего «падения духом», мы не в состоянии превозмочь это «падение» потому что относится оно к тому, что связано с нашим бессознательным, с нашей душевной жизнью, которая мало подвластна велениям нашего разума и нашей воли. Так что выражение «пасть духом» некорректно в силу того, что имеется ввиду «атрофия» чувственного восприятия нашей души в результате, положим, девальвирования каких-либо ранее значимых для нас ценностей. Над нашими чувствами нет власти духа: мы причастны к духовному только в силу владения познаниями в духовной сфере и в силу способности переработать духовное знание в наш собственный душевный опыт. И не духовное господствует над нашими чувствами, нашим психическим состоянием владеет душа. Она есть нечто вышестоящее и разума и наших волевых потуг. Поэтому «пасть» можно только душой, но не духом.
Вторым примером путаницы в употреблении понятий душа и дух можно привести евангельское:
«Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда он приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от духа». (Иоанн, 3, 8).
Данное выражение также относится, скорее всего, не к духу, а к душе. Вездесущей и всепроникающей является, именно, душа, которая выдает результаты своей деятельности в виде проблесков мысли в самые неожиданные моменты нашей жизни: во сне и в бодрствовании, при чтении какого-либо текста и во время прогулки, при эмоциональном подъеме и при отвлечении от всяких чувств и дел. И не к душе ли и отдельным проявлениям ее деятельности — в виде иррациональных актов интуиции и инсайта — относится голос, который «слышишь, а не знаешь, откуда он приходит и уходит».
Приведем еще одно достаточно противоречивое словосочетание: «Холодный разум». «Холодный разум» — всего лишь метафора, характеризующая нашу внешнюю невозмутимость, но за которой, если хорошенько разобраться, может быть скрыт обширный комплекс наших чувств и эмоций: это и вовлеченность на душевном уровне, и заинтересованность в решении какой-либо проблемы, и тщеславие, и чувство соперничества, и стремление к самоактуализации, и способ решения каких-то душевных комплексов. Не думаю, чтобы великие творения Платона, Ньютона, Декарта, Канта, Шопенгауэра, Эйнштейна и многих других создавались холодным разумом. Эти философы и ученые, как и великие поэты и писатели, при создании своих творений, без сомнения, были обуреваемы страстью, быть может, не всегда заметной для близкого их окружения. И еще не известно, как влияет внешнее проявление наших чувств на страсти, которые бушуют в нашей душе: совсем не исключено, что «выплескивание» чувств наружу ослабляет накал внутренних страстей и тем самым снижает наш творческий потенциал. Но что можно сказать с уверенностью, так это то, что к продуктивному мышлению применима формула: думается только о том, о чем волнуется душа. Душа — это чутчайший орган и мы, быть может, даже не подозреваем, насколько зависима наша способность продуктивно мыслить от взволнованности нашей души. Безэмоциональное мышление вряд ли способно быть продуктивным. Нужны душевная «выгода» и польза, нужна заинтересованность и вовлеченность на чувственном уровне для того, чтобы создать что-либо новое на сознательном уровне.
То, что чувства, будто бы, мешают рациональному мышлению — выдумка тех, кто не способен мыслить, то есть, ставить задачи, привлекать необходимые знания и обрабатывать появившиеся идеи до логического конца; волнение их души не «подхватывается» разумом, а бесцельно выплескивается наружу, во внешнюю деятельность, а эта, последняя, как раз и отвлекает разум от процесса мышления. И на своем опыте мы постоянно убеждаемся в том, что делать что-либо и одновременно сосредоточенно думать крайне трудно. Так что не чувства являются отвлекающим и мешающим фактором, а спонтанная и необдуманная деятельность под воздействием чувств, в которую уходит вся энергия волнения души. И есть своя доля правды в словах Сенеки:
«Чтобы держать в узде душу, сперва останови бег тела»18.
Так что же мы все-таки относим к душевным проявлениям нашей психики и в чем их отличие от духовной субстанции. Во-первых, сразу же следует сказать следующее: понятия душевное и духовное относятся к совершенно разным, но взаимосвязанным между собою категориям. Если душевное — это спонтанные процессы и акты нашей психики, то духовное — это осмысленный результат, в первую очередь, творческой деятельности души. Как есть процессы химического взаимодействия каких-либо веществ и есть результат, полученный в ходе реакции (в виде новых веществ), так есть душевные процессы и есть духовные результаты совместной деятельности души и разума: в форме мысли, закономерности, произведения искусства и т. д. Различие только в том, что результат химического взаимодействия получается автоматически, он обусловлен природой вступающих в реакцию веществ, тогда как духовный результат душевного процесса, — так же протекающего «автоматически», — может быть получен только под воздействием сознательной и целенаправленной обработки разумом каких-либо уже произошедших душевных процессов.
Таким образом, понятие «душевные процессы» уже понятия «психические процессы»: не всякий психический процесс является процессом душевным. Статус душевности психическому процессу могут придать только два обстоятельства:
— во-первых, обращенность данного акта к другим людям данного сообщества (или к природе, Богам, животным и т. д.);
— во-вторых, потенциальная «способность» или предрасположенность данного душевного процесса — или акта, каковым может быть инсайт, интуиция — быть обработанным нашим разумом и представленным в качестве духовного результата.
Так процесс чихания это, конечно, психический процесс, имеющий: и причину своего возникновения, и кинесическое действие, и испытанное чувство, и результат, — но отнести его к категории душевных процессов вряд ли было бы обоснованным. А вот непроизвольное, положим, воспоминание прочитанной книги, просмотренного спектакля или какого-либо события нашей собственной жизни — это уже душевное явление, которое может быть сообщено другим людям или описано нами в устном или письменном виде. То же самое можно отнести к испытанному нами чувству или «схваченной» нашим сознанием интуиции, с содержанием которых (после соответствующей обработки) мы можем поделиться с кем-либо.
Итак, нам уже понятно, что к душевным процессам и актам можно отнести, в основном, следующие спонтанные проявления психической деятельности:
— чувства и эмоции;
— инстинкты, влечения, комплексы, способности, таланты и т. д.;
— интуиции, инсайты, озарения, вдохновения, наития и т. д.;
— сны и грезы наяву, непроизвольные фантазии и воспоминания, ощущения и представления, впечатления и галлюцинации.
Душевные процессы — это процессы иррациональные. Они не требуют предварительного сосредоточений нашего сознания на каком-либо предмете или проявления волевых усилий для вызывания данного процесса. Мы не в состоянии, например, усилием воли испытать естественное чувство страха или горя; мы не можем заставить себя кому-либо завидовать, кого-либо любить или ненавидеть, не испытывая желания к тому; мы не в состоянии настроить себя на творческий лад и т. д.
Таким образом, условная граница между «чисто» душевными процессами и «чисто» духовными результатами проходит по разделяющей их полосе, ограниченной с одной стороны чертой, за которой находятся спонтанные душевные процессы, еще не подвергнутые обработке нашим разумом на сознательном уровне, а с другой стороны, чертой, за которой находится духовное знание, уже не требующее такой обработки. Вот в этой пограничной — и даже приграничной — полосе и осуществляется процесс творчества, то есть процесс перевода спонтанных движений нашей души, — мало понятных поначалу даже нам самим, — на язык духовного знания понятного не только нам, но и всему человеческому сообществу. Так что при пересечении указанной полосы от одного края к другому осуществляется трансформация наших душевных «знаний» и потенций (чувств, страданий, переживаний, представлений, впечатлений, способностей, дарований, опыта и т. д.) и знаний, уже приобретенных в жизни (мысли, понятия, законы, восприятие произведений искусства и т. д.), в новое духовное знание, поначалу принадлежащее только нам самим (личное духовное), а уже потом и всем остальным (коллективное духовное). Последнее как раз становится достоянием Культуры.
И если мы осмелимся дать определение души, то можно сказать, что душа — это целостное и комплексное состояние психических процессов (эмоции, чувства, интуиции и т. д.) и потенций (влечения, страсти, способности, дарования и т. д.) нашего организма, которые при желании могут быть использованы и обработаны нашим разумом до культурного состояния, то есть до состояния духовного знания, в том числе и знания нового не только для нас самих, но и для всех остальных.
Результатом душевной и разумной деятельности (вкупе с уже приобретенным духовным знанием) может стать новый душевный опыт и новое духовное знание. Логика и интуиция, воображение и представление, вдохновение и наитие — все это может найти свой выход у художника (мыслителя, ученого, писателя, архитектора, композитора, режиссера и т. д.) в духовную сферу в виде трактата, теории, книги, сооружения, музыкального произведения, картины и т. д. То есть духовное знание может быть получено не только в акте рождения новой для нас идеи, но и в результате воплощения в произведение искусства или науки нашей способности к воображению, представлению, фантазированию. Но как показывает весь опыт творчества, наиболее значимое и наиболее художественное является нам через инсайт, интуицию, озарение, вдохновение, то есть через непосредственное рождение нового знания в бессознательном, с последующим внезапным (спонтанным) явлением этой Новизны в наше сознание.
Таким образом, основное отличие душевного от духовного в том, что душевное всегда имеет спонтанное происхождение. Это, во-первых, а, во-вторых, оно сугубо индивидуально, так как принадлежит только данному индивиду и может быть передано кому-либо другому только в том случае, если оно будет доведено им — единственным обладателем этого душевного — до духовного знания, каким, например, является мысль, в которую превращена идея. Духовное — это результат разумного «изображения» либо идеи, либо чувства, либо представления и т. д. Оно, будучи представленным как итог индивидуального творчества, может стать предметом восприятия, усвоения, анализа и т. д. любого, кто пожелает с ним познакомиться. Душевное же доступно только нашему интеллекту; в него не способны проникнуть другие, и мы сами еще не способны передать его другим вплоть до момента окончательного его оформления в духовное знание. Только после этого наше личное духовное знание становится достоянием Культуры. Оно уже — предмет массового потребления.
Но не надо думать, что какое-либо духовное знание, положим, произведение искусства, является предметом только душевного или только духовного восприятия. Оно может быть воспринято нами не только душой (бессознательным), но и разумом (сознанием). Так чувства и эмоции актера могут быть восприняты, во-первых, непосредственно зрителем в зале как душевное переживание по поводу представленного на сцене, а, во-вторых, опосредовано как духовное явление, но только в том случае, если мы способны размышлять по поводу увиденного и пережитого и можем поделиться с кем-либо результатами своих размышлений.
В связи с этим следует заметить следующее: в данной работе в основном освещен вопрос трансформации душевного опыта и духовного знания в новое для нас духовное знание (мысль, теория, произведение искусства и т. д.). Но нами подробно не рассматривается не менее интересный обратный процесс, процесс трансформации и усвоения не только этого нового духовного знания, но и того душевного опыта, который заложен, положим, в произведении искусства.
Если можно так выразиться, духовное знание заключено в «строках» художественного произведения, душевное — между «строк», в душе автора произведения и душе читателя (созерцателя). Казалось бы, сколько души вложено автором в произведение, столько душевного опыта и воспринимает читатель. Однако это не совсем так: все зависит от душевной культуры читателя, который может вообще не воспринять этот опыт, а может воспринять, да еще и приумножить его рождением в своем сознании новых идей и мыслей по поводу прочитанного, что нередко случается при восприятии произведения искусства. То есть, усвоенное духовное знание и душевное переживание может натолкнуть его на новые мысли по поводу прочитанного, совсем не относящегося, порою, к содержанию произведения. Как верно заметил Р. Барт:
«…читать — это значит; кроме всего прочего, домысливать все то, о чем автор умолчал…«19.
Мастерство писателя не только в новизне и качестве запечатленного в строках духовного знания, но и в новизне и качестве потенциально заложенного в произведении душевного опыта. «Мастерство» же читателя не только в его способности понять своим разумом и воспринять духовное знание, но и в способности воспринять душой этот потенциально заложенный автором душевный опыт. Нам нужно понять одно: воспринимая произведение искуства как духовное явление (знание), мы или способны ощутить и воспринять потенциально заложенное в нем душевное «знание» автора, или не способны — все зависит от нашей внутренней культуры: в самом произведении душевного «знания» как такового в явном виде не заложено, оно в нем — в скрытом виде («между строк»).
Для нас, по крайней мере, теперь ясно, что, если духовное произведение искусства имеет в себе душевное содержание, то оно (произведение) может быть нами воспринято в полном объеме только в том случае, если мы, во-первых, усвоили своим разумом духовное знание произведения, во-вторых, восприняли своими чувствами (душой) душевное содержание данного духовного произведения и, в-третьих, если мы сами размышляли по поводу чувств нами испытанных через текст, речь, мелодию и т. д. Вот именно ради этих целей и существует Искусство: приобретение нами еще неизвестного духовного знания и душевного опыта и сотворение совершенно нового духовного знания.
Правда, следует заметить, что некоторым исключением, возможно, является музыка. Если, положим, в прозаическом или поэтическом произведении мы воспринимаем душевное через духовное — текст, стих, — то музыкальное произведение воздействует на нас сразу же на душевном уровне. У нас нет необходимости — да и возможности — «вчитываться» или вдумываться в духовную часть музыкального произведения, которая, в виде нотной записи, нужна только композитору (или исполнителю) для того чтобы оформить и запечатлеть сотворенное им. Слушатель, даже не зная нотной грамоты, способен воспринять и почувствовать красоту мелодии — было бы к этому дарование. Так что, если для душевного восприятия литературного (живописного, архитектурного, скульптурного, сценического и т. д.) произведения мы сначала должны затратить «работу» на понимание и усвоение духовной его части (текста, композиции, формы, сюжета), то музыкальное произведение освобождает нас от данного этапа и посредством звуков непосредственно воздействует на нашу душу — лишь бы она была «открыта» им (звукам).
(Читатель, наверное, уже почувствовал и понял, насколько сложны взаимоотношения нашей души и разума (интеллекта) не только в процессе генерирования духовного из душевного, но и в процессе усвоения и переработки духовной культуры нашей душой и интеллектом).
Итак, мы уже зафиксировали следующие характерные особенности душевных процессов и актов. Это:
— обращенность душевного процесса вовне: к людям, природе, богам фетишам, животным и т. д.;
— потенциальная «способность» душевного процесса быть осмысленным разумом и обработанным им до состояния духовного знания: мысли, понятия, произведения искусства и т. д.;
— спонтанность протекания душевного процесса или акта;
— сугубая индивидуальность душевной деятельности.
Теперь же отметим еще одну особенность душевных процессов (души), совершенно не свойственную духу. Это способность души переживать и страдать. То есть, душевные процессы имеют свойство сопровождаться страданием и переживанием — неважно каким: негативным или позитивным. Для человеческой психики душевное переживание и страдание реально и ощутимо на уровне плоти. Разум способен лишь осознать и понять какой-либо негативный или позитивный факт нашей жизни, но страдать и переживать от этого может только душа. На уровне духа и относящихся к нему разума и сознания, нет «органа» переживания и страдания, каким является душа на уровне плоти, эмоций и чувств человека. Интеллект — орудие трансформации душевного опыта и старого знания в новое духовное знание. Сознание — сфера, в пределах которой эта трансформация осуществляется. Бессознательное же — всецело вотчина душевных процессов. Поэтому разумом (интеллектом) и сознанием невозможно ни переживать, ни страдать. И прав был Л. Клагес («Дух как противник души»), когда, согласно В. Брюнингу, утверждал:
«…ни одно переживание не является сознательным, и ни одно сознание не может что-либо пережить в подлинном смысле слова»20.
Таким образом, духовное знание само по себе это пассивная субстанция. И она может быть активизирована только в той мере, в какой может быть нами воспринята и усвоена на сознательном уровне и переработана на уровне душевном.
Так что как переживание (страдание) само по себе, не будучи активной и деятельной субстанцией, «уполномочивает» неудовлетворенность действовать, так и дух (разум, сознание) «уполномочивает» душу переживать (страдать). И уже только потом, исходящая от переживания (страдания) неудовлетворенность побуждает нас действовать в какой-либо сфере.
Вот почему не может быть духовного страдания и переживания, страдание и переживание может быть только душевным. Духовное (культура), в конечном счете, это сублимированная часть совокупной душевной деятельности человеческого сообщества, в то время как генератором этой духовности всегда является определенный индивидуум и глашатаем духа всегда выступает конкретная душа. Как обладающая твердостью углекислота при нагревании превращается в пар, лишенный твердости, так и наделенные способностью страдать и переживать душевные процессы, сублимируясь (в процессе творчества) в дух, теряют свою способность переживать и страдать.
Таким образом, духовное — это то, что «отлетело», отделилось от души для самостоятельного и уже независимого от нас существования. Поэтому у нас нет духовных сил, есть только душевные. То есть, энергией и креативной способностью обладает только душа с ее способностью переживать и страдать. И именно в этой способности заключена вся ее энергия. Другими словами, наша творческая способность заключена в спонтанной энергии нашей души, в «калориях» ее чувств (М. Кундера).
Душевное — это эмоционально-чувственное реагирование на то, как окружающий нас мир и, в первую очередь, наше социальное окружение, относится к нам. Это отклик нашей психики на воздействие как объективного мира, существующего вне нас, так и субъективного мира, рожденного нашей фантазией, нашим воображением и представлением. Это многоголосое и многогранное эхо нашей души на то, что воздействует на нее как извне, так и изнутри ее самой. И, в конечном счете, это голос окружающего нас Мира, отраженный специфическим, то есть спонтанным, образом опять же в окружающий нас Мир. Не будь спонтанного отклика нашей души, сознание и разум не были бы способны должным (то есть эффективным) образом реагировать на любое воздействие. Сама спонтанность душевных процессов автоматически выбирает и обозначает приоритетные направления, в которых необходима деятельность нашего разума и сознания. Душа прозорливее разума, она работает на перспективу, опережая тем самым текущую реальную жизнь. (Более подробно обо всем этом в Статье «Откуда ты родом, душа?»).
Но все же не следует умалять роли разума как орудия, способствующего сотворению нового духовного знания. И эта роль заключается как в проработке материала и постановке задачи (в Частях 11 и 111 данная операция будет у нас фигурировать как рефлексия-1), так и в развертывании (разработке) и оформлении в мысль (рефлексия-11), добытой нашим бессознательным идеи. Если бы не было разума с его способностью сосредоточения внимания, суждения, умозаключения и т. д. и если бы не было языка как подсобного орудия, посредством которого разум себя обнаруживает (манифестирует) и проявляет, то большинство новых идей, являющихся в наше сознание, тут же бы забывалось и человечество было бы обречено на бездуховное и немое — в лучшем случае подражательное — существование, поскольку не было бы выхода на уровень Культуры. Поначалу, возможно, так оно и было, но человек постепенно стал понимать, что ускользание из нашей памяти незафиксированных спонтанных идеи и неоформленных мыслей делает нашу жизнь менее эффективной в плане приспособления к окружающей среде и сообществу себе подобных.
Культура начинается там, где есть обмен не столько чувствами — на это способны и животные, — сколько мыслями, а любой подобный обмен способствует развитию Культуры и наращиванию объема ее «мускулатуры». А, как мы уже теперь знаем, обменяться можно только духовным знанием. Душевное «знание», еще не заключенное в логическую конструкцию и не облаченное в одеяние слов, предложений, знаков, символов и т. д., не может быть передано и остается только достоянием самого творца. Так что в контексте изложенного вполне оправдано известное положение: Культура и духовность — синонимы.
Глава 2. Объективная интеллектуальная новизна как предмет удовольствия
Предметом рассмотрения данной главы будет интеллектуальное чувство удовольствия от понимания толи смысла анекдота, толи инсайтной идеи, толи идеи произведения искусства.
2.1. Анекдот, инсайт, произведение искусства: откуда удовольствие? Теория смеха А. Бергсона
Для того чтобы определиться с причиной возникновения интеллектуального чувства удовольствия при созерцании произведения искусства нам придется сначала рассмотреть вопрос: что же все-таки происходит с нами в следующих достаточно обыденных ситуациях:
— когда нам рассказывают анекдот,
— когда в наше сознание является инсайтная идея,
— когда мы созерцаем произведение искусства.
Общим для этих трех случаев является то, что в момент понимания смысла анекдота, в момент прихода новой для нас идеи в наше сознание и в процессе созерцания понравившегося нам произведения искусства, мы испытываем, хотя и в разной степени, чувство интеллектуального удовольствия.
В случае с анекдотом и инсайтом общим является:
— мгновенность понимания ситуации или идеи и
— спонтанность возникновения чувства удовольствия, выраженного в первом случае приступом смеха, а во втором — чувством эйфории.
Разница только в том, что в случае с анекдотом мгновенное понимание парадоксальности ситуации связано с тем, что понятая нами мысль оказывается к тому же облеченной рассказчиком анекдота в соответствующие слова и чем талантливее изложена ситуация, тем понятнее и интереснее анекдот. То есть неожиданная и новая для нас мысль является в наше сознание не в виде идеи, требующей определенного домысливания и вербального оформления — на что нужно время и интеллектуальное усилие, — а в готовом виде. Именно отсюда мгновенная и бурная реакция нашей психики в форме приступа смеха: мы «увидели» новую для нас мысль в полном, завешенном виде.
Напомним еще раз: без понимания смысла анекдота у нас нет ответной реакции возникновения чувства удовольствия — отчего бы ей вдруг появиться? И удовольствие мы получаем не от смеха как такового, а от понимания смысла, которое сопровождается чувством удовольствия. Попробуйте симитировать смех, положим, посредством щекотки — и никакого удовольствия вы не получите, уверяю вас. Смех всего лишь реакция на острое чувство удовольствия. И здесь сразу же следует заметить, что в зависимости от остроты чувства удовольствия, в зависимости от степени его воздействия на нашу психику может возникнуть реакция либо смеха, либо улыбки, либо просто приподнятого настроения нашей психики, как это зачастую случается, например, и при интуитивном усмотрении какой-либо мысли, и при инсайте. Смех, улыбка, приподнятое настроение от понимания смысла — это формы облечения возникшего чувства удовольствия. И эти формы отработаны всей эволюцией становления человека в течение, по крайней мере, тысячелетий его развития.
Интеллектуальное понимание какой-либо важной, — а тем более новой — ситуации (идеи, мысли) было жизненно необходимым для выживания человека в процессе его борьбы за жизнь. Вот почему Природа сопроводила понимание чувством удовольствия. И не испытывай мы наслаждения от понимания новизны, у нас не было бы стимула развивать в себе саму способность понимания. Да к тому же мы бы не замечали и не выделяли новизну, если бы ее понимание не сопровождалось чувством удовольствия. А это самым пагубным образом могло бы сказаться на духовном становлении человека. Так что только понимание парадоксальности и новизны сложившейся ситуации (идеи, мысли) способно поразить наше сознание и подвигнуть к ответной реакции спонтанного возникновения чувства удовольствия, сопровождаемого, в свою очередь, смехом или какой-либо другой реакцией нашего организма. (В дальнейшем мы более подробно остановимся на вопросе о том, понимание какой новизны способно возбудить наше чувство удовольствия).
В подтверждение мысли о непосредственной связи понимания и смеха вспомним одно тонкое наблюдение А. Бергсона из его работы «Смех» по поводу того, что
«…комическое для полноты своего действия требует как бы кратковременной анестезии сердца. Оно обращается к чистому разуму»21.
То есть оно
«…может возыметь воздействие, только если коснется совершенно спокойной, уравновешенной поверхности души. Равнодушие — его естественная среда. У смеха нет более сильного врага, чем переживание». (Там же).
Спрашивается, почему комическое взывает к разуму, а не к чувству? (Казалось бы должно быть наоборот, так как при смехе мы испытываем острое чувство удовольствия и не обладая чувством юмора мы бы не испытывали и удовольствия). А обращается оно к разуму потому, что только разум может обеспечить нам понимание комической ситуации, которое (понимание), в свою очередь, способно вызвать чувство удовольствия, сопровождаемое смехом.
Таким образом, обоснование обнаруженного Бергсоном феномена можно найти только в том, что человек, в данный момент переживающий, не способен к мыслительной деятельности. А понимание чего-либо нового — в том числе и комического — это и есть квинтэссенция мышления. Чувствование и мышление не могут быть параллельно друг другу протекающими процессами, они — процессы попеременно чередующиеся, поскольку чувствование — это спонтанный и не зависящий от нашей воли процесс. В то время как непременным условием начала процесса мышления является сосредоточение усилием нашей воли на самом процессе мышления и автоматическое отрешение от какого-либо переживания. (Не отсюда ли столько нареканий в адрес чувств, мешающих процессу мышления и искажающих его?).
Так что Бергсон был совершенно прав в том, что комическое взывает к нашему разуму, поскольку понимание сути комической ситуации осуществляется нашим интеллектом. Удовольствие же и смех всего лишь спонтанно возникающие производные от интеллектуального понимания открывшейся нам Новизны смысла.
Несколько иная по сравнению с анекдотом, но достаточно схожая ситуация наблюдается в случае с инсайтом. Как правило, новая для нас идея приходит в наше сознание не в готовом вербальном или каком-либо другом знаковом оформлении (как, например, в виде формулы или схемы), а в виде идеи, проблеска мысли, то есть в виде зачатка («сгустка» смысла) мысли, еще не оформленного словесной оболочкой, но уже сопровождаемого чувством удовольствия. И нам еще требуется приложить определенные умственные усилия для того чтобы превратить порою для нас самих еще не вполне ясную идею в мысль понятную не только нам самим, но и всем остальным членам сообщества. Отсюда, вероятно, и более «скромная» — с точки зрения своего внешнего проявления — реакция психики на внезапное явление в наше сознание новой идеи. (Эта реакция оказывается как бы растянутой во времени от момента явления самой идеи до «момента» оформления ее в мысль).
Но прежде чем перейти к анализу нашего душевного состояния при общении с понравившимся нам произведением искусства, постараемся ответить на один, как нам кажется, не только достаточно важный, но и ключевой вопрос: на каком уровне, сознательном или бессознательном, приходит к нам понимание смысла парадоксальной ситуации или идеи в случае, соответственно, с анекдотом и инсайтом. Казалось бы, у нас даже нет оснований ставить вопрос в данной плоскости: если процесс понимания осуществляется нашим сознанием, то и происходит он в сфере сознания. Но на самом деле ситуация не так проста как кажется. Конечно, для нас вполне ясно, что не усвоив слов рассказчика анекдота, мы не можем понять его. Да к тому же мы понимаем нашим сознанием смысл ситуации постольку, поскольку можем изложить его на вербальном уровне. Но для нас все же пока не понятно, где зарождается и где формируется это «первичное», спонтанное и мгновенное понимание до того момента, как оно внезапно является в наше сознание и притом уже в готовом и целостном виде. Ведь не может же быть такого, чтобы нечто новое и «осязаемое» нашим сознанием вдруг зародилось бы в нем мгновенно. Мысля на уровне (посредством) сознания, то есть логически, мы на собственном опыте знаем, что какое-либо решение или какая-нибудь мысль созревают в нашем сознании постепенно, посредством последовательного накопления соответствующего знания в данном вопросе. Сознание — на уровнен логики, а другого уровня у него нет — работает только с уже известным нам материалом. Да к тому же оно не способно в мгновение ока «сгруппировать» этот материал и представить нечто для него самого новое в уже готовом и логически оформленном виде. Так что весьма маловероятно чтобы сознание являлось тем местом, где формируется сама «мгновенность» понимания. Спонтанность сознанию (логике) не свойственна от природы. Это не его прерогатива.
Мысль, — то есть развернутый из идеи смысл, — одномоментно и в готовом виде принципиально не может ни зародиться в самом сознании, ни явиться в него, как, положим, является из бессознательного в сознание инсайтная идея. Она (мысль) — не Афина-Паллада, рождающаяся из головы Зевса в полном и боевом облачении. И не может она сразу и в целостном виде явиться по очень простой причине: наше сознание одномоментно не может вместить в себя всю мысль, так как последняя, как правило, есть весьма сложный агрегат из образов, представлений, сравнений, определений, понятий, рассуждений, умозаключений и т. д. А все это не может быть представлено на «экране» нашего сознания в один момент, как это происходит в случае инсайтной идеи. (В качестве примера попробуем представить себе самую простую и уже известную нам идею, положим, идею электрического тока. И для того чтобы это представить мы должны будем вообразить себе и атомную решетку металла, и свободные электроны, и сопротивление этой решетки, и сам провод, и напряжение, приложенное на его концах. Представить все это одномоментно у нас вряд ли получится).
Так что сознание не резиновый надувной шарик, в который одновременно можно было бы «закачать» большой объем информации, все элементы которого могли бы в одно и то же время соседствовать друг с другом. Логическое мышление — это оперирование «текущей» информацией, находящейся в данный момент в нашем сознании и информацией, попеременно извлекаемой из различных ячеек памяти. По сути дела, логическое мышление — всего лишь оформление мысли в соответствии с той идеей, которая либо внезапно явилась в наше сознание, либо давно уже находится на «прицеле» нашего сознания, но пока что в достаточно призрачном виде.
Поэтому нам ничего другого не остается, как предположить: спонтанное и мгновенное понимание зарождается и формируется в нашем бессознательном. В случае инсайта в пользу нашего предположения говорит следующая цепочка фактов:
I. Для рождения, положим, научной (или технической) идеи необходим предварительный и упорный сознательный поиск материалов, относящихся к данному вопросу.
2. На сознательном уровне мы оказываемся в тупике, выхода из которого, вплоть до момента наступления инсайта, мы не видим.
3. Решение приходит в наше сознание внезапно и мгновенно и как бы уже в готовом виде.
Что же касается анекдота, то в пользу того, что понимание парадоксальности ситуации возникает на бессознательном уровне, опять же говорит то, что улавливание смысла приходит к нам внезапно и мгновенно.
Но здесь, во избежание недоразумений, мы сразу же должны внести одно предварительное разъяснение по поводу того, о каком понимании у нас идет речь. (И об этом подробнее мы будем говорить в следующем разделе, поскольку от предмета нашего понимания будет зависеть, является ли данное произведение произведением искусства). Конечно всем ясно, что для того чтобы понять смысл анекдота, мы сначала должны на сознательном уровне понять все те слова и предложения, которые высказал нам рассказчик. И только после этого мы способны на «схватывание» сути анекдота. Почти то же самое происходит и при инсайте: рождению идеи и ее пониманию, как правило, предшествует изучение и понимание на сознательном уровне той ситуации, которая сложилась на данное время в том вопросе, который мы намерены разрешить.
Так что речь в рассмотренных нами случаях идет не о постепенном и сознательном понимании, а о понимании иррациональном, понимании целостном, спонтанном и мгновенном, том понимании, которое приходит к нам не в результате постепенного осмысления какой-либо идеи, не через сознание, а через наше собственное бессознательное. Последний род понимания, понимание иррациональное (инсайтное, интуитивное), как показывает весь опыт не только научно-технического, но и гуманитарного творчества, является наиболее продуктивным и решающим моментом — именно, моментом! — всего процесса творчества. Логика к нему не причастна. Она нужна нам при анализе ситуации и постановке вопроса. И она же станет нам снова необходимой при сознательном оформлении того, что мы поняли на иррациональном уровне. Именно об этом спонтанном и мгновенном роде понимания у нас в основном и пойдет речь в дальнейшем. (Потому мы его и выделяем кавычками («понимание»), чтобы отграничить от понимания, осуществляемого посредством логических операций на сознательном уровне).
Итак, мы установили, что в случае инсайта и анекдота, понимание новой для нас идеи и мысли происходит на бессознательном уровне и это понимание в последний момент «выталкивается» в готовом виде из бессознательного в сознание.
Теперь же мы постепенно приступаем к анализу нашего душевного состояния при общении с понравившимся произведением искусства. Первое что следует отметить так это то, что созерцание произведения искусства доставляет нам удовольствие и это роднит его с анекдотом и инсайтом; а второе — это то, что для нас пока не ясна причина возникновения нашего удовольствия, поскольку мы не можем похвастаться тем, что на сознательном уровне поняли идею произведения. Более того, мы даже не можем — как это часто бывает — сформулировать, что же все-таки нам нравится в произведении искусства. А это как раз способствовало бы не только «идентификации» объекта нашего внимания под названием «произведение искусства», но и выявлению смысла, который скрывается за таким ласкающим нашу душу, но все же маловразумительным эпитетом «прекрасное». Все согласны в том, что это есть нечто приносящее удовольствие, но мало кто способен разъяснить, что это такое и почему оно способно возбуждать наши чувства и доставлять удовольствие.
Но в случае с анекдотом и инсайтом мы уже установили, что удовольствие возникает как следствие мгновенного понимания новой для нас мысли или идеи, явившейся из бессознательного. Таким образом, и невооруженным глазом видна причинно-следственная связь между пониманием того, что неожиданно и ново для нашего сознания и удовольствием, возникшим в результате подобного понимания. Нами также установлено, что понимание формируется в нашем бессознательном и уже потом в спонтанном акте выплескивается в сознание в целостном виде и мгновенно. Бессознательное сделало «черновую» работу по формированию идеи и преподнесло ее нашему сознанию. Но все это относилось к случаю с анекдотом и инсайтом. А какова же причина нашего удовольствия при созерцании понравившегося нам произведения искусства? Но об этом мы уже будем говорить в разделах, посвященных интеллектуальной новизне (2.4, 2.5, 2.6). А пока остановимся на чувственной новизне.
2.2. Чувственная форма новизны
Как известно, человек, как живое существо, испытывает пассивное или активное воздействие окружающей среды и внутренней среды собственного организма, которое посредством органов чувств и нервной системы передается в мозг. Но эти воздействия могут быть для нас либо привычными и повторяющимися изо дня в день, либо необычными и новыми. К воздействию привычных импульсов наш организм успел адаптироваться и отвечает определенным набором действий или вовсе ничем не отвечает. Другое дело, если мы, положим, увидели нечто для нас новое, никогда ранее нами не виданное. Первое что мы делаем в этом случае, это фиксируем наше внимание на данном явлении, а затем уже пытаемся — хотя бы мысленно — разобраться в нем. Главная цель органолептического восприятия, то есть ощущения, сместить акцент нашего внимания и сосредоточить его на причине возникновения ощущения и наших дальнейших действиях.
Таким образом, органолептическая новизна приковывает наше внимание и заставляет нас либо переживать по данному поводу, либо задуматься о характере нового для нас явления, либо предпринять какие-либо действия. Данный вид новизны может стать поводом для возникновения чувственной новизны и новизны интеллектуальной.
Кроме того новизна может быть представлена и в чувственной форме. Любое движение души — это всегда переживание, которое нельзя не заметить. А любое переживание, будь оно даже негативным, доставляет удовольствие и удовольствие тем более острое, чем оно для нас новее, неожиданнее и чем сильнее оно затрагивает наши чувства и нашу внутреннюю психическую сущность.
Так называемая негативность нашего переживания связана не с тем, что мы испытываем какие-то «отрицательные» эмоции, а с тем, что данное переживание сопряжено с потерей неких значимых для нас ценностей. Так что любое переживание, будь оно позитивным или негативным, всегда сопровождается чувством удовольствия. А вот объект нашего переживания может иметь для нас позитивную или негативную окраску (моральную, социальную, ценностную и т. д.). О том, что даже негативное переживание способно доставить нам наслаждение знали уже древние греки. Так Одиссей у Гомера, встретив свою мать в Аиде, находит сладость даже в скорбном плаче («скорбною сладостью плача с тобой поделиться?«22), а «Пелид благородный» (Ахиллес) наслаждается слезами, вспоминая отца и Патрокла23. Да и мы с вами на собственном опыте прекрасно знаем, какое облегчение доставляют нам подобные негативные переживания.
Если бы человек испытывал удовольствие при переживании позитивных чувств и не испытывал бы его при переживании негативных чувств, то это обернулось бы катастрофой как для развития его психики, так и для выживания в окружающей среде, поскольку положительные чувства замечались бы и развивались, а вот отрицательные — атрофировались. Но к счастью, самой Природой нам уготовано испытывать удовольствие при протекании как отрицательных, так и положительных переживаний, поскольку негативная сторона жизни имеет такую же, если не большую, ценность что и позитивная.
Наиболее яркими примерами искусств, обладающих способностью побуждать нас к переживанию сильных чувств, является сценическое искусство, искусство поэзии, литературное и музыкальное искусство. Посещая заповедные зоны этих искусств — на фоне в общем-то достаточно серой, обыденной жизни — мы ищем, сознательно или бессознательно, новизны и глубины переживания и впечатления. Напомним: переживание — это процесс протекания чувства, а впечатление — это память об этом переживании. Может быть, поэтому слову «впечатление» часто сопутствует прилагательное «неизгладимое» или «глубокое». Да к тому же само слово «впечатление» напоминает об оттиске, который оставляет переживание, а оттиск можно оставить только в памяти или в бессознательном.
При этом следует также отметить, что глубина переживания или впечатления означает, в первую очередь, степень воздействия произведения на нашу психику. В связи с чем одной из причин, почему фактор новизны редко когда фигурировал при анализе искусства, является то, что вместо слова «новизна» достаточно часто использовалось слово «глубина», относящееся скорее всего не к характеристике произведения, а к характеру нашего переживания и впечатления от него. Можно сказать, что понятие глубины затушевывало понятие новизны. Может быть, в этом и был свой резон, поскольку любое чувство, которое мы переживаем, является для нас новым, а характеризовать его можно тогда по степени его воздействия на нас, то есть по степени его глубины и новизны, так как нет «старых» переживаний, чувство всегда ново: даже тогда, когда мы испытываем его многократно, например, при чтении время от времени одного и того же понравившегося нам стихотворения или при прослушивании одного и того же музыкального произведения. Надоевшее или не понравившееся нам произведение просто не вызовет потребности обратиться к нему в очередной раз.
2.3. Ощущение и чувство
А теперь нам необходимо хотя бы вкратце определиться в том, что мы вкладываем в понятие ощущения и чем оно отличается от чувства. Причем, рассмотрим мы это различение преимущественно в контексте отношения ощущений и чувств к искусству и культуре. И, чтобы не утруждать себя логичностью изложения, представим наше понимание данного вопроса в тезисно-фрагментарной форме.
Ощущение — это то, с чего начинается любое чувство, но не всякое ощущение переходит в чувство. Поэтому ощущение — это чувство, не затронувшее глубин нашей души.
Человек ощущающий живет не столько душой, сколько плотью, он живет на периферии своих чувств. Душа его, подобно девственнице, остается невинной, но эта невинность — порок, потому что нет в ней ни чувства, ни душевности, ни духовности.
Ощущение физиологично, это первая реакция нашего организма на воздействие внешней среды или среды самого организма, чувство — вторая реакция, рефлексия — третья, а действие — четвертая. Так что ощущение — это чувство, так и не перешедшее в стадию переживания и размышления; однако ощущение, минуя две последние стадии, может вылиться непосредственно в действие.
Жизнь жизнью ощущений отбирает энергию чувствования, а без последней невозможна ни душевная, ни духовная жизнь.
Человек ощущающий стремится получить как можно больше сильных, но не глубоких, впечатлений из окружающей действительности. Человек же чувствующий стремится получить впечатления из «самого себя».
Существо ощущающее — всего лишь животное, чувствующее — уже человек.
Современный человек, человек технократического общества и массовой культуры, скорее всего, лишь скользит на «водных лыжах» ощущений по поверхности своих чувств. Оh жаждет сильных ощущений, а не чувств, потому что последние, как правило, нагружены переживаниями и размышлениями несовместимыми по своей природе с переменчивостью ощущений и их мимолетностью.
Различие между ощущением и чувством в том, что ощущение возникает под воздействием внешних и внутренних обстоятельств на наши органы чувств, на наше тело и психику; чувство же, имея инициирующим началом ощущение, возникает и развивается уже внутри самой психики. Оно «подхватывает» ощущение, но для того чтобы чувство могло поддержать и развить ощущение оно должно иметь под собой базу в виде жизненного опыта, культуры чувств и интеллекта. Ощущение всего лишь центр кристаллизации, чувство же — сам процесс кристаллизации-переживания. Переживание должно иметь своим предметом нечто ценное для души — иначе, у него нет почвы для собственного развития. В качестве иллюстрации возьмем, например, чувство возмущения. Возникает оно, как правило, под воздействием какого-либо внешнего порою достаточно незначительного обстоятельства — положим, ощущения, что тебя обманули, оскорбили, недооценили и т. д., — но развивается оно и достигает своего апогея за счет привлечения всех наших душевных, интеллектуальных, а порою даже и физических сил.
Можно, наверное, с полным правом сказать, что ощущение для своего проявления использует в основном нашу соматику (кинестетику, физиологию), в то время как чувство привлекает и психику, и интеллект и весь наш культурно-мировоззренческий багаж. Человек тем и отличается от животного, что, помимо ощущения, ему дано чувствование как культурно-интеллектуальное проявление души.
Но часто случается так — и наше время тому свидетельство, — что человек живет в основном только ощущениями и чем сильнее они его оглушают, тем большее удовольствие он получает и тем сильнее к ним стремится. Он живет поверхностью своих чувств, у него нет самой культуры чувств, которая зависит не только от нашей психической конституции, но и от культурного и интеллектуального развития. Отсюда античное «Хлеба и зрелищ», отсюда же такое обилие разного рода увеселительных заведений, душещипательного чтива и демонстрации криминальных историй; отсюда же совсем лаконичное и современное:
«Чтобы выразить все сразу,
Кулаком я бью по тазу»24.
И не столь важно, что понимать под тазом: барабан ли это, литавры, мощные усилители или это одуряющее количество повторений какой-либо строки песни. Если за душой нет ничего дельного, что можно было бы сказать чтобы себя выразить, — а выразить себя очень хочется! — то наиболее доступным и достаточно эффективным способом хотя бы обратить внимание на собственную персону, является способ оглушить слушателя (читателя, зрителя), подсадить его на «иглу» все новых и новых ощущений и не дать ему даже возможности о чем-либо задуматься. А быстрая смена ощущений не только гарантирует саму захваченность нашего внимания, но и создает иллюзию полноты и богатства душевной жизни. Таков стиль современной массовой культуры.
Ощущение — это чувство, не опыленное, а потому и не оплодотворенное ни разумом, ни культурой, ни опытом. Оно мимолетно, бесплодно и умирает само в себе, не оставляя следа и не наполняя нашу душу каким-либо ценным и ощутимым содержанием. Поэтому насытиться ощущениями невозможно: отсюда жажда все новых и новых ощущений, сменяющих, подобно в калейдоскопе, одно другое. Чувство, наоборот, самодостаточно: оно развивается и подпитывает само себя из трех источников — культуры, интеллекта и опыта.
Чувство — окультуренное, облагороженное ощущение, ощущение, которому интеллектом придано культурно-ценностное выражение, как необработанному алмазу огранкой и шлифовкой придано эстетико-ценностное значение. Культура — это способность трансформировать ощущение в чувство, она не позволяет ощущению стать самоценным.
Современное искусство как искусство выражения ощущения — это, в конце концов, попытка глубинного познания души человека, попытка прозондировать, пускай даже на бессознательном уровне, что находится в основе чувствования. Другое дело, что художник использует ощущения как тонкий и деликатный инструмент познания собственной психики, в то время как в массовом сознании современного общества ощущение — это единственный «продукт питания» души.
Психология общества потребления и массовой культуры не поднимается до уровня испытания чувства, она довольствуется более доступным, в силу своей «дешевизны», и более ошарашивающим, в силу эффективности воздействия на инстинкты, средством — ощущением. Для того чтобы дорасти до способности и до потребности испытания чувств необходимо изрядно трудиться как в сфере познания души, духа и самой жизни, так и в сфере собственного воспитания души.
Коварство ощущений заключается в том, что потребность и способность испытания ощущений находится в русле удовлетворения наших природных инстинктов. Ощущение более доступно и более эффективно в смысле удовлетворения потребностей соматики, но, как это ни печально, пагубно как для души, так и для интеллекта — сама доступность ощущения способна затормозить развитие чувства и интеллекта. Опасность «голых» ощущений заключена не в испытании ощущений самих по себе, а в стремлении к культивированию ощущений, не обремененных ни интеллектом, ни культурой, ни жизненным опытом.
Человек как существо чувствующее и разумное начался с ощущений, которые постепенно стали подвергаться «интерпретации» в соответствии с приобретаемым нами жизненным опытом и интеллектом. Сами ощущения нейрофизиологичны и только психологическая и интеллектуальная «интерпретация» переводит их в статус чувств.
Если бы мы попытались проиллюстрировать переход ощущения в чувства и мысли, то нам ничего лучшего не пришло бы в голову, как пример прустовского героя, испытавшего гамму чувств, воспоминаний и мыслей в процессе ощущения вкуса печенья размоченного в чашке чая. Будучи маленьким, герой повествования не раз испытывал данное ощущение вне связи его с какими-либо чувствами и мыслями. Для него данное ощущение оставалось всего лишь «голым» ощущением. Но вот, будучи уже взрослым, набравшимся жизненного опыта и повзрослевшим в интеллектуальном отношении, он уже испытывает от того же самого ощущения целую гамму воспоминаний, чувств и мыслей.
Ощущения — это струны нашей души и будут ли они «дребезжать», пассивно отражая воздействие, оказываемое на них со всех сторон, или они будут издавать приятные слуху мелодии, это зависит от того, как они взаимосвязаны — и взаимосвязаны ли — с нашим интеллектом и жизненным опытом. Только эта взаимосвязь способна трансформировать ощущение в чувство.
Умиротворенность нашей души, положим, после просмотра спектакля или чтения книги — это не результат разрядки наших чувств, а следствие возникновения новых чувств и мыслей, навеянных игрой актеров или повествованием писателя. И эти новые чувства и мысли дают нам новое понимание какого-либо не безразличного нам вопроса или новый взгляд на некий кусочек действительности. Так что катарсис достигается не разрядкой чувств, а нагружением нашей души и нашего интеллекта новыми чувствами и мыслями.
2.4. Интеллектуальная форма новизны
Для начала зададимся самым простым и достаточна очевидным вопросом: почему, постигая нечто новое для нашего интеллекта в процессе обучения, мы не испытываем наслаждение, а вот — судя по известной нам многочисленной литературе и исходя из собственного опыта мышления — открывая новизну, которой раньше не было (идеи, открытия, изобретения), мы это наслаждение испытываем? Значит существует какая-то принципиальная разница между этими двумя видами новизны. Попытаемся ее понять.
На первый взгляд, кажется, что и там и там мы стремимся к новому, и там и там исходным пунктом нашего стремления является нежелание пребывать в болоте обыденного и привычного. Но разница в том, что в первом случае мы постигаем суррогаты новизны, потому что взыскуемая нами новизна уже находится в окружающем нас мире в готовом к «употреблению» виде, в то время как во втором случае мы ищем новизну «в самом себе», что является уже гарантией ее уникальности, объективности и истинности. Вот уж воистину есть новизна, а есть Новизна. Для усвоения первой необходимо всего лишь понимание преподнесенного (преподанного) нам «старого» знания, для открытия второй — наше собственное погружение в неизведанную ни нами самими, ни кем-либо другим глубину.
А теперь для того чтобы нам проще было понять, что из себя представляет интеллектуальная новизна сама по себе, рассмотрим как сам феномен удивления, так и то, каким образом он связан с интеллектуальной новизной. Как известно, классики древнегреческой мысли — Платон и Аристотель — уловили, что
«… изумление. Оно и есть начало философии…«25.
и что
«…и прежде и теперь удивление побуждает людей философствовать…«26.
Но что же все-таки вызывало удивление греков, соприкосновение с каким фактором изумляло их? Приведем высказывание Г. — Г. Гадамера по поводу его понимания самого феномена удивления.
«У греков было прекрасное слово для обозначения ситуации, когда в понимании мы наталкиваемся на препятствие, они называли ее atopon. Это значит, собственно, «лишенное места», то есть то, что не укладывается в схемы наших ожиданий и потому озадачивает. В знаменитом Платоновом утверждении о том, что философствование начинается с удивления, имеется в виду именно эта озадаченность, эта побуждающая нас к размышлению невозможность продвинуться вперед, исходя из начальных ожиданий и первичных схем нашей мироориентации… Очевидно, что и озадаченность, и удивление, и приостановка в понимании напрямую связаны с дальнейшим продвижением к истине, с упорным стремлением к ее познанию»27.
Судя по данному тексту, наше удивление возникает от озадаченности, от невозможности понять то препятствие, до которого мы дошли в нашем размышлении. Но так ли это на самом деле? И чтобы убедиться в том, что это не совсем так, рассмотрим выборочно результаты опроса, приведенные в монографии К. Изарда «Эмоции человека». Согласно данному опросу причинами удивления могут быть: чувство неожиданности, неожиданное осознание чего-то, оригинальная творческая мысль или оригинальное творческое действие28. Таким образом, если мы возьмем философию, предметом рассмотрения которой служит не столько мир вещей и явлений самих по себе — это скорее предмет психологического восприятия и рассмотрения — сколько мир идей, мыслей и понятий по поводу этих вещей и явлений, то вполне резонно предположить, что предметом философского удивления является не наша озабоченность каким-либо вопросом, а новизна внезапно возникших в нашем сознании идей и мыслей по поводу этих вещей и явлений.
К сожалению, древнегреческие мыслители не усмотрели — и Боже упаси нас ставить им это в вину — в самом психологическом факте удивления его связи с явлением нашему сознанию чего-либо нового для нас и неожиданного. То, на чем сосредоточилось их внимание, был сам процесс познавания и различения истинного и мнимого знания, а не то, в каком виде нашему сознанию представляется то, о чем мы только что додумались, то, что мы только что поняли и то, что нас так сильно удивило. Неуловимый процесс, — а скорее всего миг, если говорить о рождении иррациональной (интуитивной, инсайтной) идеи — явления новизны загадочным образом ускользнул от внимания греков. Не случись этого и догадайся они об истинной причине своего удивления, европейской эстетике, возможно, не пришлось бы более двух тысячелетий топтаться вокруг определения прекрасного и разукрашивать место своего вынужденного томления хотя и великолепными, но все же искусственными цветами различного рода дефиниций весьма далеких от истины, а потому и мало что говорящих уму и сердцу.
Конечно, в реальной действительности удивление греков вызывала сама новизна, но они, не зная такой категории, относили удивление к тому, что непосредственно предшествовало ее открытию, то есть относили к той ситуации, препятствующей пониманию, которой они были озабочены, и которая была поводом для мышления и открытия самой новизны. Тем более что всего лишь тончайшая грань отделяет философскую озабоченность каким-либо новым вопросом от проблеска мысли, разрешающего данный вопрос и вызывающего наше удивление. В древнегреческой идее происхождения философии из удивления был дан достаточно прозрачный намек на то, что удивление представляет собой не что иное, как реакцию нашей психики на явление интеллектуальной новизны (идеи) в наше сознание.
Итак, не удивление побуждает нас философствовать; побуждает размышлять новизна взгляда на вещи и явления, потому что удивляться можно только тому, что ново и неожиданно для нашего чувственного восприятия и сознания. И если только новизна способна вызвать удивление, то последнее всего лишь эмоциональная реакция психики на явление в наше сознание чего-то ранее нам неизвестного.
Так что философствуем мы не вследствие удивления самого по себе, а по поводу того, что его вызвало. А вызывает его, как известно, всегда нечто для нас новое и поражающее наше сознание. И в первую очередь поражает сознание внове нами созданная и спонтанно явленная — из бессознательного в наше сознание — интеллектуальная идея.
Удивление вызывает как раз то обстоятельство, что категория новизны не стала предметом пристального внимания ни в Античности, ни в Средние века, ни даже в Новое время. Казалось бы, то, что удивляет в категориальном отношении, то и должно стать предметом исследования. Ан нет. Предметом рассмотрения становились новые факты и явления, вызывавшие удивление, но только не сама категория новизны. Просматривая учебники, книги и монографии по эстетике, мы вряд ли где встретим не только обстоятельное описание, но даже — за редким исключением — упоминание о категории новизны. Почему-то категории прекрасного, возвышенного, трагического и т. д., мало что говорящие нашему чувству и разуму, удостоены были вниманием, а вот категория новизны странным образом была обойдена и лишь некоторые мыслители как бы вскользь упоминали о ней.
Но все же справедливости ради следует заметить, что категория новизны уже фигурировала у самого Платона. Так, характеризуя деятельную природу мышления, он пишет:
«И если угодно, «понимание»…, судя по всему, означает рассмотрение возникновения (вещей) …, поскольку «рассматривать» и «понимать» — одно и то же. Если же угодно, и самое имя «мышление»….означает улавливание нового…., а новое….означает вечное возникновение; так вот, знаком того, что душа вылавливает это вечное изменение, или возникновение нового, и установил законодатель имя «меноловление»«29.
Как видно из этого отрывка, Платоном не только выявлена сама категория новизны, но и отмечена причастность души к обнаружению и «пониманию» того, что ею уловлено. К сожалению, в последующие времена идея «понимания» интеллектуальной новизны, по сути дела была предана забвению.
В дополнение к этому приведем отдельные высказывания некоторых авторов о новизне. Так Вольтер, заканчивая статью «Новое, новизна» для своего «Философского словаря», пишет:
«Это всеобщее пристрастие к новизне, пожалуй, — благодеяние природы. Нас увещевают: довольствуйтесь тем, что имеете, не желайте ничего лучшего, обуздайте ваше любопытство, смиряйте ваш беспокойный дух. Это прекрасные поучения, но если бы мы всегда следовали им, мы до сих пор питались бы желудями, спали под открытым небом, и у нас не было бы ни Корнеля, ни Расина, ни Мольера, ни Пуссена, ни Лебрена, ни Лемуана, ни Пигаля»30.
О несовместимости мышления и повторения говорил и П. Валери:
«Разум повторения не выносит. Кажется, что он создан для неповторимого. Раз навсегда. Как только он встречает закономерность, однообразие, возобновление — он отворачивается»31.
Р. Барт связывал явление новизны с наслаждением, приводя в подтверждение аналогичную мысль 3. Фрейда:
«В противоположность стереотипу все Новое явлено как воплощенное наслаждение (Фрейд: «Для взрослого человека новизна является необходимым условием наслаждения») 32.
Об удовольствии от восприятия новизны писал и А. Джерард в статье «Опыт о вкусе»33.
Причина столь скромного внимания к новизне, как нам представляется, имеет двойственный характер. Во-первых, человеческая жизнь от начала и до конца протекает в постоянном соприкосновении с новыми для нас фактами и явлениями и мы за деревьями (этими фактами и явлениями) уже не способны увидеть самого леса (категорию новизны). Как глаз наш постепенно адаптируется к темноте и различает находящиеся в помещении предметы, но уже не «замечает» самой темноты, так и сознание способно зафиксировать нечто новое и единичное, но малоспособно «увидеть» саму категорию новизны. Мы видим сначала лишь то, что в действительности нас окружает и только много времени спустя способны абстрагироваться от близкой нам реальности и «втиснуть» некоторые из объектов этой реальности в какую-либо из абстрактных категорий, объединяющих эти объекты по какому-либо признаку. Взять хотя бы в качестве примера экзистенциализм с его пограничными ситуациями отчуждения, страдания, вины, смерти и т. д., среди которых человек испокон веков жил и воздействие которых постоянно испытывал на себе. Но вот оформление этих ситуаций в соответствующие категории произошло лишь в последние полтора века (Кьеркегор, Достоевский, Маркс, Шестов, Камю, Сартр и т. д.). Так что между тем, что мы заметили какие-то отдельные объекты и явления и тем, что мы объединили их в некую абстрактную категорию воистину «дистанция огромного размера».
И во-вторых, следует иметь в виду одно весьма существенное обстоятельство, которое мы частично уже затрагивали и на котором остановимся более подробно, потому что оно, скорее всего, и явилось одной из главных причин того, что категория новизны так поздно была замечена эстетикой и философией. И обстоятельство это заключается в том, что имеется два вида интеллектуальной новизны: «старая» новизна и новизна «новая». Первую мы назовем субъективной новизной, а вторую объективной. Дело в том, что открываемые лично нами какие-либо новые для нас идеи, мысли, понятия могут быть уже известны Миру — просто мы о них ранее ничего не знали. То есть для нас они будут новыми, а для Мира старыми. И эти новые для данного субъекта идеи, открытия, законы и т. д. мы отнесли к разряду субъективной новизны. Но эти же идеи, открытия и законы для другого человека могут быть уже известны, а потому и не обладать свойством новизны. Так что субъективная новизна — это интеллектуальная новизна некогда кем-либо уже открытая, но не всем еще известная. Эта новизна уже внесла свой вклад в приумножение многообразия Мира.
Но есть и другой вид новизны, новизны, которая еще никем не открыта, никем пока не познана и которая только еще «готовится» приумножить это указанное выше многообразие. Ее-то мы и назвали объективной интеллектуальной новизной, поскольку только она одна является объектом продуктивного творческого процесса; процесса озарения, открытия и изобретения всего того нового, что еще неизвестно Миру.
Если воду в глубоком водоеме, питаемом от бьющего со дна родника, можно представить в виде субъективной новизны некогда уже излитой из источника новизны, то саму невидимую нами струйку воды родника, постоянно фонтанирующую на дне водоема, можно уподобить объективной интеллектуальной новизне, непрерывно пополняющей наш Мир новыми идеями, понятиями, произведениями искусства, открытиями и т. д. (Аналогия была бы совсем прозрачной, если бьющая со дна родника струйка воды была бы окрашена в какой-либо цвет, но по мере смешивания с основной массой теряла бы свою окраску как в реакции нейтрализации).
Таким образом, объективная интеллектуальная новизна — это новизна ранее никому не известная, но открываемая однажды человеком-творцом, который додумался до этой новизны и сделал ее доступной либо пониманию, либо чувствованию любого члена данного сообщества, заинтересовавшегося этой новизной, в то время как субъективная новизна — это новизна познаваемая каждым из нас в процессе нашего воспитания, обучения, образования и приобретения жизненного опыта, это новизна уже известная Миру и некогда уже бывшая объективной новизной, поскольку у нее был свой автор, творец, открыватель.
Итак, после того как мы отграничили новизну объективную от новизны субъективной для нас понятно, что объективная интеллектуальная новизна является основным предметом и главным продуктом творческого процесса, в том числе и процесса эстетического творчества. Это во-первых, а во-вторых, эта новизна как бы смешана в нашем обыденном представлении с новизной субъективной, новизной, которая нам еще не известна, но уже известна всем остальным или большинству из нас.
Так что одна из причин, почему категория новизны не была замечена ранее, заключается в том, что различение объективной и субъективной интеллектуальной новизны замаскировано, затушевано отсутствием четкой границы между ними, поскольку объективная творческая новизна — то есть идея творца, доведенная им до мысли или до произведения искусства, — став известной и общедоступной для понимания нашим сознанием и чувствования нашей душой, постепенно переходит в разряд субъективной новизны, овладеть которой каждый из нас может уже посредством, положим, банального обучения, в то время как объективная новизна открывается только единичной личности, творцу, художнику. Эта новизна (в виде идеи) на стадии своего зарождения, развития и оформления — сугубо оригинальный штучный продукт. И только усвоение его другими, его «тиражирование», переводит этот продукт творческого процесса в разряд субъективной новизны. Объективная интеллектуальная новизна — это результат индивидуального творчества, субъективная новизна — продукт массового потребления.
Таким образом, для нас понятно, что объективная интеллектуальная новизна — это новизна (истина, идея), которая либо находится в потенции и еще не определена даже в своих наиболее вероятных проявлениях, либо является уже — здесь и сейчас — предметом творчества, в процессе которого она приобретает свои более или менее определенные формы, становящиеся в дальнейшем субъективным знанием.
Но здесь, во избежание недоразумений при понимании как предыдущего, так и последующего текста, мы должны остановиться и уяснить себе, в какой мере — полностью или частично — осуществляется переход объективной интеллектуальной новизны в новизну субъективную:
— отдельно для случая научной новизны (истины, идеи),
— и отдельно для случая эстетической новизны (истины, идеи).
Все дело в том, что научные истины мы можем понять нашим сознанием только после того как идея ученого будет оформлена им до состояния всеми понимаемой мысли. И именно эту мысль, а вместе с ней и идею, мы можем понять и усвоить на сознательном уровне. Будучи обнаруженной ученым, научная истина лишается как своей таинственности, так и новизны, поскольку она становится предметом массового понимания и манипулирования в части своего претворения в жизнь. Новизна ее кратковременна, так как, став достоянием, положим, научного сообщества, мысль ученого начинает свое самостоятельное существование как одно из явлений духовной жизни. Таким образом, в данном случае объективная научная истина, став доступной пониманию, полностью переходит в разряд субъективной новизны (мысли, понятия).
Но что же происходит в том случае, если нам представлено для созерцания произведение искусства? Первое что мы можем сказать так это то, что мы испытываем чувство удовольствия. Но в то же время мы не можем объяснить причину его возникновения. Кроме того, мы не можем сказать, что на сознательном уровне мы понимаем идею произведения, которую, как мы полагаем, заложил туда автор.
В связи с этим можно предположить следующее: сам факт испытания нами чувства удовольствия свидетельствует не только о том, что в произведении искусства наличествует идея, но и о том, что мы все же «понимаем» эту идею, правда, всего лишь на иррациональном уровне, а не на рациональном. Чувству удовольствия просто неоткуда деться как от «понимания» идеи, понимания, уловленного (или «схваченного») нашим бессознательным.
Что же тогда получается? С одной стороны, — в противоположность научной истине — мы не способны нашим сознанием понять эстетическую истину (то есть объективную интеллектуальную новизну произведения искусства), но с другой стороны, наше чувство удовольствия свидетельствует о том, что мы ее «понимаем», но только на бессознательном уровне. Таким образом, если переход объективной научной истины в субъективное знание осуществляется полностью, то переход объективной эстетической истины (идеи) в субъективное знание не происходит или, если сказать точнее, он происходит лишь «наполовину», так как нет сознательного понимания идеи произведения, но есть, как мы полагаем, бессознательное «понимание», обнаруживаемое спонтанно возникающим чувством удовольствия.
Вот откуда «живучесть» искусства. Оно не обладает способностью «немедленно» — на манер научных или технических идей — приносить пользу и тем самым со временем терять свою актуальность и привлекательность. Его польза растянута во времени. (И об этом более подробно мы будем говорить в Главах 3 и 4: «Назад, к грекам!» и «Для чего искусство»). Обоснованием же того, что именно на бессознательном уровне приходит к нам «понимание» идеи произведения искусства, мы займемся в последней части данного раздела.
Если природа в чем-то и любит скрываться, то скрывается она в части раскрытия своей новизны. Именно по этой причине новизна так долго не была обнаружена в качестве основного фактора, определяющего сущность искусства. И, конечно же, основную роль в завуалированности новизны сыграло то обстоятельство, что сценой, на которой зарождается и разыгрывает свою роль новизна, является наше бессознательное. Главная сложность обнаружения идеи-новизны состоит не только в том, что художник не способен выразить ее в «чистом» виде и не только в том, что она «заложена» им на бессознательном уровне, но и в том, что она может быть обнаружена созерцателем только при посредничестве собственного бессознательного, но никак не сознанием, которое для этого принципиально не приспособлено.
Вот в чем идущая с древности популярность в эстетике пропорции, симметрии, «золотого сечения», меры и т. д. в характеристике и оценке произведения искусства: они видимы и могут быть рационально определены и даже измерены (вспомним «Канон» Поликлета), в то время как новизна «невидима» нашим сознанием. Можно сказать, что симметрия, пропорция, мера и т. д., как более доступные пониманию рациональные категории, затмили своим «телом» иррациональную новизну, как порою холодная Луна затмевает раскаленное Солнце.
Таким образом, если наша органолептика воспринимает все что ни попадает в поле ее зрения, то только наш интеллект (сознание+бессознательное), принимает решение, что из воспринятого является новым, а что старым. В пользу того, что только бессознательное способно «узнавать» и представлять сознанию новое, говорит хотя бы тот факт, что такие формы возникновения новизны, как посетившее нас озарение (инсайт) или рождение интуитивной мысли, являются, хотя бы отчасти, плодом деятельности нашего бессознательного. К тому же, бессознательное всем ходом эволюции более приспособлено к обнаружению новизны, поскольку только оно одно и было вынуждено «сортировать» новое и старое, пока не появилось и пока не развилось ему в подмогу сознание. На бессознательном уровне человеческий интеллект, как продукт биологического развития, вплоть до появления разума, только тем и занимался что выявлял, «анализировал» и приспособлял для собственных нужд и развития своего организма новые формы воздействия на него условий существования в окружающей среде.
Так что удивляться тому, что наше бессознательное способно обнаружить и «понять» нечто новое для нашей психики, не стоит. Наоборот, учитывая тот факт, что бессознательное является основой нашей психики, вполне уверенно можно сказать: только оно способно более эффективно, более «рационально» и в более сжатый срок выявить то новое, что попало в поле его зрения. Сознанию для выполнения подобной задачи, — если бы оно было способно к этому — потребовалось бы более длительное время для того чтобы вспомнить и «перелопатить» большое количество материала, находящегося в его памяти. И даже в этом случае оно хуже бы справилось со своей задачей, поскольку часть материала недоступна ему, так как находится в бессознательном.
Объективная интеллектуальная новизна — в силу своей природной необходимости! — по сути дела, самый дорогой «товар», если мы хотя бы вспомним, сколько усилий нам необходимо затратить в течение нашей жизни только для того чтобы выйти на тот определенный уровень развития, умения, опыта и познаний, который позволил бы нам создать нечто новое в выбранной нами сфере деятельности: будь то наука, техника, искусство и т. д. Да к тому же выйти на этот заветный уровень можно лишь только в том случае, если Природа наградила тебя дарованием, ограничив при этом творческую активность и восприимчивость человеческого рода всего лишь узкой прослойкой людей творчески одаренных к тому или иному роду деятельности.
Искусство — элитное «предприятие» Природы. И вряд ли стоит думать, что оно когда-нибудь может стать массовым. Талант созидать (художник), обнаруживать (ученый) и понимать (созерцатель) новизну или хотя бы чувствовать ее присутствие — это уже сам по себе дар Природы. И дается он лишь немногим. Все мы рождаемся с достаточно развитой (животной) способностью чувствовать и переживать нечто для нас новое, но вот способность понимать, что именно скрывается за нашим чувствованием и переживанием дается далеко не каждому. Да к тому же, если чувствовать мы все горазды, то для понимания предмета нашего чувствования и переживания необходима не только указанная природная способность, но и культура восприятия всего того что относится к искусству и культура оперирования тем, что мы восприняли. Приобретение данной культуры зачастую является основным препятствием в раскрытии собственного дарования. Дар он и есть дар, но вот огранка его и оформление в соответствующую, только ему одному присущую, оправу требует достаточно больших усилий, с которыми не каждый способен справиться.
Таким образом, резюмируя изложенное выше, можно сказать, что наше чувство удовольствия при созерцании произведения искусства возникает от «понимания» нашим бессознательным идеи (новизны) произведения. Если подобного «понимания» не происходит, то не возникает и чувства наслаждения, а потому у нас и не может возникнуть желания снова и снова видеть полотна того или иного художника, слушать те или иные музыкальные произведения, читать до заучивания наизусть стихотворения какого-либо поэта.
И в продолжение данного раздела, чтобы нам лучше понять, что собой представляет новизна в отношении к произведению искусства, необходимо хотя бы в общих чертах рассмотреть два вопроса:
1. Какое «место» занимает новизна в произведении искусства.
2. В какой форме она в нем может быть представлена.
1. Что касается первого вопроса, то рассмотрим его на двух примерах:
а/- из сферы физических представлений,
б/- из сферы литературно-художественного творчества,
а/. Если бы мы попытались подыскать нечто наглядное и аналогичное произведению искусства и той новизне, которую оно в себе заключает, то, наверное, ничего бы лучшего не смогли найти, как сравнив его с атомом. Как в ядре атома, занимающем минимум его «объема», заключена почти вся его масса, так и в новизне-идее произведения искусства, занимающей минимум его «содержания», заключена почти вся его ценность. Приходится только удивляться, как много надо творцу изложить содержания, чтобы можно было с одной стороны — со стороны творца — внести в это содержание некий новый смысл, а с другой стороны — со стороны созерцателя произведения — этот новый смысл усмотреть в этом содержании. В дополнение к этому приведем высказывание Г. Зедльмайра:
«… ценность художественного произведения всегда заключена в малом, в почти неприметных нюансах, от которых получает свою жизнь все великое в произведении — «идея», композиция и т. д. Изменив это малое, можно уничтожить ценность произведения»34.
Об этом же писал и У. Блейк в своих «Маргиналиях»:
«Тончайшие оттенки в произведениях искусства никогда не бывают случайными. Все великое строится на тончайших оттенках»35.
У. Гомбрих же полагал:
«Самая красота — часть содержания картины»36.
б/. Подобно тому, как Кьеркегор в «Дневнике обольстителя» приводит описание многообразия отдельных прелестей женской красоты, вокруг которых гармонически группируется все остальное содержание существа женщины, подобно этому искусство дает описание бесконечного многообразия новизны вокруг которой сосредотачиваются остальные характеристики произведения: сюжетика, композиция, живописность и т. д. Не откажем себе в удовольствии привести текст Кьеркегора, иллюстрирующий приведенную нами аналогию.
«Божественное преимущество эстетики именно в том, что предмет ее исключительно прекрасное: изящная литература и прекрасный пол. Я восхищаюсь, видя как солнце женственности и красоты, сияя бесконечным разнообразием переливов, разбрасывает свои лучи во все уголки мира. Каждая отдельная женщина носит в себе частицу этого всемирного богатства, причем все остальное содержание ее существа гармонически группируется около этой блестящей точки. В этом смысле женская красота бесконечно делима, но каждая отдельная частица ее непременно должна находиться… в гармоническом сочетании с внутренним содержанием женщины…. У каждой женщины есть нечто свое собственное, принадлежащее одной ей; например, веселая улыбка, лукавый взгляд, поклон, шаловливый нрав, пылкое волнение, тихая грусть, глубокая меланхолия, земное вожделение, повелительное мановение бровей, тоскливый взор, манящие уста, загадочное чело, длинные ресницы, небесная гордость, земная стыдливость, ангельская чистота, мгновенный румянец, легкая походка, грация движений, мечтательность, стройный стан, мягкие формы, пышная грудь, тонкая талия, маленькая ножка, прелестная ручка… — у каждой свое, не похожее на то, чем обладает другая»37.
Так что новизна — это тот невидимый нами центр кристаллообразования, в соседстве с которым формируется непредсказуемо-замысловатый рисунок на морозном стекле произведения искусства. Нет такого центра — нет и самого произведения.
Таким образом, как это ни звучит парадоксально, сущностное ядро любого произведения искусства всегда константно, но эта константность заключена в постоянно изменчивой — от произведения к произведению, от одного стиля к другому, от одного направления к другому — новизне, являющейся самой сутью идеи. Но сама новизна непередаваема в «чистом» виде, как непередаваема только что родившаяся в голове творца инсайтная идея. Для того чтобы эта новизна смогла зажить самостоятельной жизнью, она должна быть оформлена своим творцом в произведение искусства, как инсайтная идея должна быть раскрыта (на логическом уровне) и оформлена до состояния мысли, чтобы быть всеми понимаемой.
2. Что касается формы представления новизны в произведении искусства — о сущности ее у нас речь в следующих разделах, — то из предшествующего текста нам уже ясно, что основная форма выражения объективной интеллектуальной новизны это идея, будь она представлена в научной (технической), социально-культурной или художественной сфере. Но нам необходимо проверить, не сопутствуют ли идейной форме представления новизны какие-либо другие формы, ее подменяющие, рядящиеся в то же время в самостоятельные одежды.
Для того чтобы в более наглядном виде представить себе те формы, в которых может явиться нашему взору новизна, попытаемся разобраться, в каких взаимоотношениях находятся между собой члены триады: истина, идея, красота — и есть ли между ними нечто их объединяющее. Зададимся сначала вопросом, почему, согласно Гегелю,
«…красота есть сама идея, реализованная в чувственном и действительном мире…«38.
Да потому, что идея это и есть сама новизна, а единственно что мы ценим и что нас интересует так это только новизна, которая раздвигает горизонты нашего понимания, нашего познания и нашей деятельности. В необновляемости Мира его погибель. И только искусству под силу задача — порою не замечаемая нами, а порою ханжески игнорируемая — перманентного обновления всего того, с чем оно соприкасается. Итак, красота, идея и новизна — понятия эквивалентные между собой. Согласно же другому утверждению, разделяемому многими мыслителями
«Всякая красота всегда есть откровение»39.
А если всякое откровение есть открытие внове явленной нам новизны, то естественно предположить, что красота это и есть истина, — а в тоже время и новизна: то ли в виде новой для нас идеи, то ли в форме целостного образа или произведения искусства, то ли в виде поразившего нас чувства. И недаром ведь истину часто отождествляли с прекрасным, потому что истина всегда обладает новизной, а значит и красотой. Новизна — ее неотъемлемое качество, являемое в событии возникновения новой идеи. Как утверждал Хайдеггер
«Прекрасное принадлежит событию разверзания истины»40.
Вот и Д. де Микеле, характеризуя классическое и романтическое соотношение Красоты и Истины, пишет:
«Красота выступает как синоним Истины, но традиционные отношения между этими понятиями в корне пересматриваются. Для греков (и всей последующей традиции, которую в этой связи можно определить как классическую) Красота совпадала с истиной, потому что в некотором смысле истина порождала Красоту; у романтиков же наоборот, Красота производит на свет истину. Красота не сопричастна истине, она ее творец»41.
Таким образом, получается, что и истина, и идея, и красота, и новизна — понятия эквивалентные. В новизне заключена суть идеи. В ней же — и красота и истина, потому что истинность есть та индивидуальность и неповторимость, которая, являясь самой новизной, представляет ядро, суть идеи. Но ни истину, ни идею, ни красоту произведения искусства мы принципиально не можем уловить нашим сознанием хотя бы по той простой причине, что это всего лишь исторически сложившиеся умозрительные понятия, не обремененные каким-либо ощутимым нами психофизиологическим содержанием. Но мы все же способны воспринять их через новизну и прежде всего через чувство наслаждения, являющееся и «языком», и «глашатаем» объективной интеллектуальной новизны. Так что триада истина, идея, красота замыкаются между собой в произведении искусства через новизну посредством нашего чувства удовольствия, эту новизну обнаруживающего.
Поэтому, истина, идея и красота есть не что иное, как условные категории (формы) представления новизны в произведении искусства. Онтологическая новизна представлена истиной, гносеологическая — идеей, эстетическая — красотой. Но «главная» новизна, являющаяся основой наших, в общем-то, конвенциональных суждений онтологического, гносеологического и эстетического плана, представлена вполне ощутимым чувством удовольствия, испытываемым нами на уровне физиологии. Вот почему новизна не только может, но и должна стать основой эстетики как науки о прекрасном.
2.5. Понимание субъективной интеллектуальной новизны и новизны объективной
А теперь, коль скоро мы все же разобрались в вопросе о том, что собой представляет объективная интеллектуальная новизна, нам необходимо уяснить, как происходит «понимание» этой новизны и что, по нашему мнению, является критерием «понимания» или хотя бы чувствования идеи произведения.
Но для того чтобы нам легче было представить, в каком виде и каким образом осуществляется это «понимание», необходимо сначала уяснить себе, как происходит понимание какой-либо новой для нас идеи в нашей обыденной жизни, не связанной с искусством.
Для начала еще раз напомним одну не всегда осознаваемую нами истину, которая заключается в том, что некая новая для нас идея может прийти в наше сознание с двух «противоположных» сторон: либо из нашего собственного бессознательного (то есть в акте иррационального мышления-творения), либо из окружающей нас действительности, положим, в процессе обучения, чтения и т. д. По поводу иррациональной идеи мы много говорили выше и уяснили себе следующее: идея, явившаяся в наше сознание из бессознательного, может быть увидена, понята нашим сознанием и оформлена нами в какую-либо общеизвестную знаковую систему.
Что же касается тех идей, которые приходят в наше сознание из внешних источников, то эти идеи, представляющие субъективно-интеллектуальное знание, в одном случае могут быть замечены и поняты нашим сознанием, а в другом — не только не поняты, но и не замечены им. Поясним данное положение на достаточно простом примере. Имеется Закон Ома, о котором мы пока что не имеем никакого представления. Всю новизну, всю суть этого закона — то есть его идею — мы можем понять нашим сознанием только в том случае, если нам объяснят, положим, в процессе обучения, что такое сила тока, напряжение, сопротивление и т. д. Если же нам неизвестно хотя бы одно из этих понятий — допустим, сила тока, — то мы не сможем «увидеть» этого закона в целостном виде. То есть, не зная даже самой «малой» идеи, идеи силы тока, мы не в состоянии увидеть и понять «большую» идею, идею закона Ома. Ведь что собой представляет, хотя бы в общем виде, нечто для нас новое (идея, понятие, положим). Оно, как правило, состоит из определенного набора известных нам предметов или явлений, соединенных либо таким образом, каким они не соединялись прежде, либо соединенных известным образом, но с внесением изменений в количественный или качественный состав соединяемых элементов. (Вопрос о том, как образуется идея и что она собой представляет, будет нами рассмотрен в основном в Разделах 5.1. «Структурно-функциональный состав идеи» и 6.1. «Где… прячется бытие?»).
Таким образом, в любом случае элемент новизны, присутствующий наряду с известными нам элементами, но не разъясненный нам (или не уясненный нами), не может быть узнан нашим сознанием, поскольку сознание может обнаружить только то, что ему уже известно и с чем оно встречалось ранее. В том же случае, если нечто новое для нашего сознания — положим, формула или формулировка все того же закона Ома — будет представлено нашему сознанию, но не будет разъяснено, сознание даже не поймет этого нового и не заметит его присутствия, так как оно может увидеть и понять только те элементы и те связи между ними, которые для него уже знакомы. Как верно заметил кто-то из видных ученых: мы не знаем, на что мы смотрим, до тех пор, пока нам не скажут, что мы видим.
В связи с изложенным выше, любопытно было бы задаться вопросом: можно ли посредством логического мышления самого по себе, то есть без содействия интуиции, инсайта и т. д., создать или понять (что тоже самое, поскольку понимание это и есть созидание) объективную интеллектуальную новизну. Другими словами, если логика оперирует только известным нам знанием — будь то владение методологическими приемами или знание самих фактов, — то можно ли, манипулируя известным знанием, добыть новое и еще неизвестное знание. Казалось бы, положительный ответ на поставленный вопрос напрашивается сам собой, если учесть тот факт, что любую иррацианальную мысль можно обосновать логически постфактум. Но так ли это на самом деле? Способно ли логическое мышление учесть не только все многообразие известных нам фактов, но и всю паутину многочисленных — порою даже не осязаемых нашим сознанием — связей между этими фактами; способно ли оно не только соответствующим образом скомпоновать эти факты, но и свести их друг с другом в таких временных соотношениях, чтобы они, в конечном счете, произвели на свет единственно возможный вариант решения при данном стечении всех перечисленных — а возможно и неизвестных нам — обстоятельств. Не слишком ли фантастической была бы работоспособность и универсальность логической машины мышления? И не слишком ли переоцениваем мы логическое мышление, награждая его способностью рождать совершенно новые истины? Да к тому же логика, родившаяся последней по времени общего формирования интеллекта на Земле, вряд ли способна решать задачи, которые были под силу только иррациональному способу выживания и успешного развития в среде обитания в течение многих тысячелетий до становления логического мышления.
Оставляя в стороне нашу риторику, попытаемся все же еще раз понять, почему логика не способна своими силами ни создать, ни «понять» объективную интеллектуальную идею произведения искусства, почему она «призывает» на помощь интуицию? Памятуя о том, что под любую иррациональную идею (мысль) можно подвести логическое обоснование, подойдем к данному вопросу несколько с другой стороны. Если мы можем изложить эту идею посредством логики, то получается, что все то наше знание, которое вместилось и выстроилось в логическую цепь наших рассуждений, все это знание — каждое по отдельности — знакомо нашему сознанию, то есть не является для него новым. Так что же все-таки есть то трудное, что не смогла одолеть логика и что смогла «схватить» наша интуиция. Скорее всего, наша интуиция, во-первых, из всего хаоса наших познаний отобрала только то, что является составными частями как бы предназначенными для вновь рождаемой идеи, а во-вторых, она соединила эти в общем-то разрозненные факты и явления нашего знания в определенную последовательность и взаимозависимость друг от друга. (Как и для чего образуется идея, нами будет изложено в Части 11).
Поясним нашу мысль достаточно наглядным примером из области строительных сооружений. Положим, нам известны детали разного рода сооружений: фундаменты, колонны, балки, блоки, «быки», перегородки, стяжки, подвески, арки, купола, нефы, капители и мн. другое. И известно примерное их назначение. Но из определенного набора этих деталей можно построить в одном случае православный храм, в другом — мост, в третьем — пирамиду Хеопса, в четвертом — Останкинскую башню, в пятом — шлюз, в шестом — юрту кочевника, в седьмом — подземный бункер. И чтобы соорудить эти строения наши детали должны быть сочленены в определенной последовательности и в соответствии с тем функциональным назначением, которое они должны выполнять именно в этой конструкции.
Та же ситуация, по сути дела, наблюдается и в процессе логического мышления, если мы уподобим наши познания отдельных объектов и явлений блокам и деталям строительных сооружений. Логически мысля, мы должны, во-первых, максимально сузить круг тех вещей и явлений, который необходим для «строительства» именно этой мысли, а во-вторых, расположить их в определенной последовательности способной привести нас к той кульминационной точке, которая бы завершила мысль и одновременно определила конкретную функциональную роль каждого звена в общем строе мысли. Если логика не справилась с этой задачей и призвала себе на помощь интуицию (инсайт), то тогда получается, что интуиция, во-первых, в тайне от нашего сознания производит отбор фактов и явлений, необходимых для нашей идеи-мысли, а во-вторых, связывает их в единое целое, способное стать мыслью, понятием, закономерностью и т. д. Последующая логическая обработка лишь завершает то, что «схватила» наша интуиция.
Какие же выводы из вышеизложенного можем мы сделать:
— во-первых, оба способа мышления (логического и иррационального) оперируют знанием известным нашему сознанию — не важно, помнится ли оно нами на данный момент или нет. Поэтому отсутствие в нашем познании какого-либо элемента, необходимого для составления идеи-мысли является принципиальным препятствием формирования или понимания объективной интеллектуальной идеи произведения искусства.
— во-вторых, логическое мышление, скорее всего, не находит в себе «силы» собрать в единое целое определенную группировку наших познаний, относящихся к тому или иному интересующему нас вопросу: возможно ему не хватает проницательности для того, чтобы увидеть не совсем очевидные связи между отдельными частями наших разрозненных познаний, а возможно ему не достает широты «мировоззрения», чтобы окинуть своим взглядом необходимые объекты и малозаметные на первый взгляд связи между ними. (То есть познаний хватает — не хватает широты взгляда и проницательности, чтобы овладеть материалом; так что логика только первая ступень постижения проблемы).
— и, в-третьих, иррациональное мышление, скорее всего, способно к синтетическому видению, то есть оно способно не только произвести отбор конкретного количества наших познаний в данной сфере, но и связать их между собой в определенной смысловой последовательности. Если бы оно не было способно на это, то оно и не выдало бы нашему сознанию данную идею (в случае, положим, научного открытия) или не позволило бы нам «понять» идею произведения искусства.
Так что логика лишь дает нам возможность лучше узнать то, что мы уже знаем: лучше узнать то место, где расположено то, что мы знаем и лучше узнать связи известного нам явления с другими, тоже известными нам явлениями. Но она не может самостоятельно создать (или «понять») объективную интеллектуальную новизну (идею), поскольку, даже случайно наткнувшись на нее, наше сознание не заметит ее и пройдет мимо. Поэтому нечто новое для нашего сознания,
— если оно не представлено нам нашим собственным бессознательным,
— или, если оно не разъяснено нам кем-либо посторонним,
всегда, если можно так выразиться, фигурирует в «шапке-невидимке», оно проходит мимо сознания «неузнанным». И об этом всегда нужно помнить, так как все истины нами еще не открытые бродят вокруг нас именно в этих «шапках-невидимках».
И для того чтобы окончательно определиться в вопросе о том, способно ли логическое мышление оказать нам помощь в разгадке, то есть в понимании идеи произведения искусства, нужно вспомнить одну характерную особенность логического мышления, которая заключается в том, что вначале процесса мышления мы ставим вопрос и задаемся целью получить более или менее определенный результат, который бы в дальнейшем выполнял определенные функции. И вот, получив посредством логических операций некий результат, мы сравниваем его с тем, что намеревались получить. Если данный результат отвечает на наш вопрос и выполняет намеченные функции, то цель наша достигнута и мы не напрасно думали.
А что же получается, когда мы оказываемся один на один перед произведением искусства, которое волнует наши чувства и доставляет удовольствие. Как мы уже намекнули ранее, волнение наших чувств способно спровоцировать к действию нашу рефлексию, которая попытается логическим путем разведать у чувства причину его волнения — а причиной, напомним, является встреча с той новизной, которая и есть сама идея, — а затем вызнать смысл той новизны, которая заключена в произведении. Но наша логика бессильна добиться своей цели, потому что ни художник не намекнул нам «на yxo», какой же цели он добивался, создавая картину — да он и сам не всегда об этом знает — ни сами мы, тем более, не знаем идеи данного произведения. Получается так, что, даже сделав какое-либо предположение по поводу смысла произведения, созерцатель не сможет сверить его с образцом, которого у него нет и в помине. Таким образом, логика (в представленном выше понимании), сама по себе бессильна сходу помочь нам в раскрытии идеи и смысла произведения искусства.
Тогда возникает вопрос, на что же мы все-таки способны при восприятии и анализе понравившегося нам произведения. А способны мы, во-первых, волнением наших чувств зафиксировать наличие новизны (идеи) произведения: есть новизна — значит, есть и чувство; нет новизны — нет и чувства удовольствия. Но если есть новизна, которую мы не замечаем, значит у нас нет эстетического чувства, то есть, нет природной способности новизну эту обнаружить.
Во-вторых, мы способны подключить рефлексию к разгадыванию тайны нашего чувства, то есть к тому, чтобы попытаться понять, в чем смысл той новизны, которая возбудила наше чувство удовольствия.
И в-третьих, мы можем с помощью подключенной рефлексии все же попытаться сформулировать те смыслы, которые покажутся нам наиболее вероятными, а из них выбрать наиболее правдоподобный.
Но здесь в разъяснение слова «правдоподобный» все же следует заметить, что художник добивается не столько правдоподобия — его можно достигнуть талантливым копированием, — сколько новизны взгляда на окружающий нас мир, на вещи и явления, которые с нами соседствуют, той новизны, которая удивляла бы нас, волновала наши чувства и побуждала к собственным размышлениям и собственному творчеству. Вспомним хотя бы «муки творчества» художника (писателя, поэта, композитора и т. д.), который способен бесчисленное количество раз переделывать, переписывать отдельные фрагменты своего произведения, добиваясь совершенства, которое является не чем иным, как максимальным соответствием того, что им создается тому новому, что маячит и светит в голове художника в виде идеи-идеала. Так что правдоподобие в данном контексте означает, скорее всего, не подобие уже существующей «правде жизни», а подобие тому оригинальному и новому, которое привносится самим художником и которое отличает его от всех остальных. (А привносится не что иное, как идея).
Так что сознанию (логике) свойственно только постепенное понимание, при котором мы оперируем частично (частями) преподносимом нам знании. И поскольку нет целостного понимания, которое способно осуществить только бессознательное, то нет и чувства удовольствия от постижения чего-то нам нового на сознательном уровне. Не возникает же у нас спонтанного чувства удовольствия от понимания на сознательном уровне каких-либо идей, мыслей, теорий и т. д., которые уже обнаружены — но не нами — и которые мы постигаем в процессе обучения.
Интеллектуальное удовольствие нам может доставить только та новизна (идея), что явилась из нашего бессознательного в спонтанном акте инсайта или интуиции. Новость, сообщенная нам кем-либо другим — будь она даже только что сделанным сенсационным открытием — может быть и способна нас удивить, но не способна возбудить наше интеллектуальное чувство удовольствия. Удовольствие — критерий оригинальности открытой нами самими идеи-новизны.
Доразумная эволюция человекоподобного существа не предполагала, что он станет существом сознательным, а потому все его природное (животное) развитие было основано на функционировании бессознательного и на том чувстве удовольствия, которое он получал от «понимания» и успешного разрешения тех новых ситуаций, в которые ставила его Природа.
Итак, наши выводы из изложенного:
I. Сознание оперирует только тем, что ему известно. Оно ни само из себя (положим, в результате логического мышления), ни само по себе (положим, на основе собственного опыта) не может представить нечто новое в интеллектуальном отношении, поскольку оно не способно его увидеть. У него нет «глаз» на видение новизны. И что-либо новое для него оно может увидеть только в том случае, если это новое будет ему преподнесено в разъясненном виде. Но это будет новизна субъективно-интеллектуальная (то есть некогда уже открытая Миру), а потому, если можно так сказать, новизна «второго» сорта.
2. «Первосортную» же и еще никем не открытую новизну, новизну объективно-интеллектуальную мы можем познать только через собственное бессознательное, потому что только бессознательное может представить новую идею нашему сознанию в таком «удобопонимаемом» виде, в котором сознание не только способно понять, но и развить эту идею до состояния всеми понимаемой мысли. Но этот вывод целиком и полностью относится только к объективно-интеллектуальной новизне, представленной научной или технической идеей-истиной. Что же касается эстетической истины, то, как мы уже знаем из предыдущего раздела, «понимание» последней осуществляется на бессознательном уровне, в то время как на уровне сознания возможно только рефлексивное угадывание смысла посредством интерпретации тех чувств, которые вызывает в нас данное произведение искусства.
А теперь несколько слов о том, к чему бы привело сознательное понимание идеи произведения искусства. То есть, что бы — гипотетически — случилось с искусством, обладай мы способностью понимать точный смысл произведения, уже не допускающий какого-либо толкования. Сразу же следует сказать: в некотором смысле каждая новая мысль — это уже надгробие над некогда бывшей живой жизнью души, создавшей, сотворившей эту мысль. Произведение искусства тем только и живо, что оно, будучи своеобразным духовным монументом (памятником), не поддается монументализации. Из него нельзя извлечь однозначно понимаемую мысль. Извлечение последней повлекло бы за собой потерю интереса к данному произведению после первого же знакомства с ним. А это бы привело, в конце концов, к обесцениванию самого Искусства. Оно перестало бы тянуть нас к себе и сделалось одной из отраслей науки.
Но мы, к нашему счастью, не можем понять на сознательном уровне идею произведения искусства. И происходит это только потому, что воздействует оно не столько на разум, сколько на душу, живущую самой что ни на и есть живой жизнью. Получается так, что в искусстве живая жизнь созданного художником произведения воздействует на живую жизнь души созерцателя. Можно ли из этого спонтанного взаимодействия извлечь мысль, отражающую саму суть этого взаимодействия? Конечно, нет! Как нельзя извлечь из аромата духов ту компоненту, которая нам нравится. Да мы и не знаем, что именно нам нравится, поскольку не можем объяснить, что же и как воздействует на наш интеллект и наши органы чувств. К тому же мы даже не понимаем, что значит само понятие «нравится». Если имеется в виду доставляемое удовольствие, то опять-таки возникает вопрос, почему одно нравится, а другое нет, почему одним нравится, а другим нет? В чем специфика произведения искусства или нашего восприятия этого произведения? (Подробнее об этом далее).
Само встречное спонтанное движение указанных выше живых жизней друг к другу и само взаимодействие этих достаточно различных и в то же время достаточно схожих потенций-интенций является достаточно загадочным феноменом Природы. И настолько загадочным и уникальным, что вот уже третье тысячелетие мы не способны разгадать причину как влечения к Искусству, так и существования самого Искусства.
Но здесь в качестве отступления от нашей темы, но все же для полноты общей картины процесса не только созидания (творцом-художником), но и понимания (созерцателем) объективной интеллектуальной новизны нам необходимо уяснить себе, какое касательство к данной новизне имеет новизна чувственная. А имеет она, в конечном счете, самое непосредственное отношение, несмотря на то, что чувственное восприятие как таковое не входит в «состав» идеи, как в нее входят, положим наши познания каких-либо фактов или явлений. Чувственная новизна сама по себе, то есть новизна, представшая нашим органам чувств и ими воспринятая — всего лишь экзотика. Мы можем только воспринять и ощутить ее, но не можем понять интеллектом, как мы понимаем новую для нас объективную интеллектуальную идею в спонтанном акте инсайта или интуиции. А как же, спрашивается тогда, может быть представлена в мыслительном процессе создания идеи чувственная новизна? Восприятие экзотической новизны остается только чувственным восприятием до тех пор, пока мы не включим его в какой-либо мыслительный процесс, то есть пока не сделаем его одним из объектов — наравне с другими — интеллектуального оперирования.
Идея, — а вслед за нею и мысль — это интеллектуальный отпечаток той многочисленной и многогранной новизны которая, в виде экзотики, не однажды являлась нашему чувственному восприятию и представлению, а затем была подвергнута обработке нашим интеллектом в каком-либо символическом виде. Вот из этого множества интеллектуально обработанных чувственных восприятий и представлений, а так же из добытых нами готовых духовных знаний, в конце концов, и рождаются новые идеи.
По сути дела, в процессе онтогененетического познания мира мы идем от восприятия чувственной новизны — поначалу для нас все ново, все экзотика и наше сознание совершенно чисто от идей, мыслей, понятий и т. д. — к новизне интеллектуальной, когда на основе воспринятой нами чувственной новизны, посредством осмысления и включения ее в мыслительные операции нашего интеллекта, мы либо просто постигаем субъективную интеллектуальную новизну-идею (в процессе обучения, чтения и т. д.), либо получаем совершенно новое для нас самих духовное знание в виде объективной интеллектуальной новизны — идеи (в процессе собственного творчества).
2.6. Откуда желание многократного общения с произведением искусства?
А теперь мы подходим к более детальному рассмотрению основных положений, выдвинутых нами ранее. Нам необходимо будет (в данном и следующем разделах) выяснить роль самого чувства удовольствия в познании идеи произведения искусства, а также раскрыть двойственную природу этого чувства, непонимание которой, как нам представляется, вносит основную путаницу в вопрос о роли чувств при восприятии и «понимании» идеи произведения. Выяснив это, нам более прозрачными станут такие понятия, как «эстетическое чувство» и «чувственное познание».
А начнем мы с «благотворной» роли для искусства нашей неспособности понять идею произведения на сознательном уровне (о чем речь шла в разделе выше). Для нас, слава Богу, совершенно ясно, что основной «нагрузкой» произведения искусства — наряду с чувством — является идея произведения, обладающая сама по себе таким неотъемлемым атрибутом как новизна. Что же касается чувства, то можно сказать следующее: поскольку любое движение нашей души (то есть чувство) имеет в своем зародыше либо стремление произвести спонтанное действие, либо породить мысль, началом которой является идея, то вполне допустимо согласиться с тем, что произведение искусства — это попытка выразить идею в нем заключенную или выразить мысль, проясняющую эту идею, а вместе с ней и чувство.
Таким образом, чтобы ни стремился выразить художник своим произведением, в основе последнего будет «маячить» идея, обладающая свойством новизны. А как мы ранее установили, встреча нашей психики и нашего интеллекта с объективной новизной сопровождается чувством удовольствия. В конце концов, искусство — это способ запечатления того, что мы любим, а любим мы в искусстве (и в творчестве любого рода) всего лишь одну вещь — Новизну.
И не столь важно, в каком виде она будет представлена: в виде ли нового взгляда на окружающую нас действительность, в виде ли мелькнувшей в нашем сознании инсайтной идеи (или интуитивной мысли) или в виде всколыхнувшего нашу душу чувства. Запечатлеть новизну в произведении искусства это все равно что попытаться сохранить ее, сделав всеобщим достоянием. И счастье искусства заключается в том, что на сознательном уровне мы не в состоянии постигнуть всю новизну идеи, заключенной в произведении искусства.
Но прежде чем попытаться еще раз понять, почему наше сознание не способно разгадать суть идеи произведения, попробуем сначала ответить на следующий, казалось бы, достаточно самоочевидный, но редко когда задаваемый вопрос: почему нас так тянет многократно испытывать наслаждение от, положим, чтения поэтического произведения, слушания музыкального сочинения, созерцания живописного полотна и т. д. (Для обоснования правомерности нашего вопроса следует заметить, что большинство понравившихся стихотворений мы знаем наизусть только благодаря нашей потребности многократно обращаться к этим произведениям).
Рассмотрим данный вопрос на примере все той же внезапно пришедшей в нашу голову научной (или технической) идеи и на примере созерцания понравившегося нам произведения искусства. (Отсюда нам, кстати, станет ясным одно из принципиальных различий между научной идеей и идеей эстетической). В первом случае, как мы уже установили ранее, наслаждение (можно даже сказать эйфорическое состояние) возникает от встречи нашего сознания с новой для нас идеей, понимание которой и является инициатором раздражения соответствующего центра удовольствия. То есть удовольствие мы получаем от понимания новой и как бы «случайно» и неизвестно откуда пришедшей счастливой идеи. И эту идею мы можем, во-первых, довести до состояния логически оформленной мысли понятной нашему сознанию, а во-вторых, поместить в нашу память и при желании извлечь ее оттуда. Она уже наша и за сохранность ее мы можем не беспокоиться. Ценность, бывшая некогда новой, через некоторое время стала для нас обыденной: померкла новизна, померкла и ценность. Как сказал бы М. Сиоран:
«Предмет, который досконально осмотрели, лишается своей ценности»42.
Во втором случае, то есть при созерцании понравившегося нам произведения искусства, картина, изложенная в предыдущем абзаце, кардинально меняется. Во-первых, наше общение с произведением искусства происходит большей частью на бессознательном уровне, а потому — и это, во-вторых, — мы не можем, как в предыдущем случае, выделить идею произведения, довести ее до состояния всем понятной мысли, удостовериться в ее истинности и ценности, запомнить ее, то есть, в случае необходимости, поместить в память. Взамен всего этого наше сознание воспринимает всего лишь смешанный с нашими чувствами неуловимый образ идеи, составленный как бы из множества идей неизвестного нам достоинства. Можно сказать, что, общаясь с произведением искусства, мы находимся в положении буриданова осла, окруженного несколькими одинаково привлекательными охапками сена. Новизна ценной для нас идеи, воспринимаемой на бессознательном уровне, ускользает от нашего сознания, оно не в состоянии заполучить ее в свои сети: зафиксировать, оформить и тем самым сделать ее понятной для нашего сознания.
Вот почему нас так влечет к неоднократному общению с произведением искусства, общению, которое делает близким для нас не идею произведения, не выжимку из последнего — хотя и наиболее ценную, — а все произведение в целом. А чем еще, спрашивается, отличается эстетическая идея от научной кроме как тем, что первую наше сознание не способно понять, но способно интерпретировать? Да, собственно, ничем: как первая, так и вторая блещут своей новизной, своей изюминкой, своей идеей; как первая, так и вторая, будучи нами воспринятыми, доставляют нам удовольствие.
Таким образом, понять и запомнить научную идею мы можем, но нам не дано понять эстетическую идею в ее «чистом» виде. Напомним, что научная идея в ее «чистом» виде заключается в той новизне, которая отличает данное открытие от всех предшествующих открытий. Эстетическая же идея, то есть новизна, заложенная в произведении искусства, сродни той новизне, которая является сутью какого-либо научного открытия. Разница только в том, что идея открытия стала для нас уже постижимой, а вот идея эстетическая пока что не поддается познанию и нам даже неизвестно, когда она созреет настолько, чтобы мы смогли ее познать в каких-либо аспектах. Но об этом потом.
Можно сказать, что научная истина поддается логической обработке до состояния одной единственной мысли, но не поддается интерпретации. Истина же эстетическая, наоборот, не поддается логической обработке в одну единственную мысль, зато поддается интерпретации. Интерпретация — это и способ и попытка раскрытия смысла идеи, то есть постижения той новизны, понимание которой пока что не «по зубам» нашему сознанию. (Почему «пока что» нам станет ясным дальше). Посредством интерпретации мы пытаемся со всех сторон рассмотреть неуловимый образ идеи, как в голографии пытаемся со всех сторон рассмотреть эфемерный образ. Попытка понять эстетическую идею в ее «чистом» виде оплачивается множественностью ее интерпретаций. Но как за деревьями исчезает то дерево, которое нас интересует, так и за интерпретациями исчезает та идея, которую мы стремились постичь. (Напрашивается вполне определенная аналогия с принципом неопределенности из квантовой механики: чем точнее мы собираемся определить, положим, координату элементарной частицы, тем неопределеннее будет проекция импульса на эту координату).
Принципиальная невозможность понимания на сознательном уровне всей глубины идеи произведения искусства — характерная черта искусства. В противном случае, как это ни звучит парадоксально, в процессе запечатления понятной нам идеи и последующего раскрытия ее смысла мы бы ее убили, поскольку из разряда уникальных явлений она бы перешла в разряд явлений обыденных и старых. Как заметил В. Беньямин:
«Ценность информации кончается в тот момент, когда она теряет новизну. Она живет один момент»43.
Так что произведение искусства — это своеобразный способ «консервирования» новизны посредством нашей неспособности однозначного ее понимания. Понятную новизну постигла бы та же участь, которая случается с любой идеей, оформленной в мысль и ставшей достоянием всех членов сообщества. Ее в таком случае можно было бы приравнять всего лишь к научной мысли: она нова, но со временем успела уже поблекнуть от множества взглядов на нее обращенных. Законы Архимеда, Ньютона, Кеплера, Эйнштейна, когда-то блиставшие новизной — где их сияние?
Они пережили свою молодость, а кого может волновать старое и уже набившее оскомину. Так устроен Мир. Он стремится к приумножению многообразия за счет культивирования новизны. И эту новизну «коллекционирует», накапливает и сохраняет — все время свежей! — искусство, так и не утратившее своей молодости со времен палеолита. Можно сказать, что научно-технические идеи по мере возникновения «расходуются» и достаточно быстро становятся «старыми», в то время как эстетические истины накапливаются в поколениях и сохраняются все время новыми, поскольку они пока что не могут быть ассимилированы нашим сознанием и «утилизированы» во всем понятные мысли и в нашу деятельность в соответствии с этими мыслями.
Таким образом, поскольку на сознательном уровне понимания идеи произведения не происходит, то нас снова и снова привлекает то, что нами не понято, что допускает толкования и интерпретации, так как последние несут в себе все ту же новизну (или возможность встретиться с ней), которая и есть то прекрасное, что так волнует нашу душу и доставляет наслаждение. Вновь и вновь обращаясь к произведению искусства, мы через стремление получить удовольствие от его созерцания соприкасаемся на бессознательном уровне с идеей-новизной и тем самым «познаем» ее.
Итак, главный наш вывод из предыдущего: Новизна, как форма представления так называемого прекрасного, всегда чувственно воспринимаема, потому она и доставляет удовольствие. Чувство удовольствия — это первое, что встречает объективную интеллектуальную новизну (идею), как заря — это первое, что встречает каждый новый день.
И неспроста А. Шопенгауэр определил красоту объекта как
«свойство, облегчающее познание его идеи»44.
Облегчение познания происходит вследствие того, что явление красоты — то есть новизны — сопровождается чувством наслаждения, которое «подключает» к восприятию произведения искусства наши чувства, которые, в свою очередь, привлекают рефлексию к разгадыванию смысла, идеи произведения.
Таким образом, на сознательном уровне посредством интерпретации наших чувств, возбуждаемых произведением искусства, мы как бы приближаемся к раскрытию идеи, которая уже «понята» нашим бессознательным, о чем уже засвидетельствовало наше чувство удовольствия.
2.7. Интеллектуальное чувство удовольствия как фиксатор наличия идеи-новизны
Итак, мы рассмотрели вопрос, почему нас так влечет к многократному общению с произведением искусства и установили, что привлекает нас не только удовольствие общения само по себе, но и неспособность сходу понять нашим сознанием суть идеи этого произведения.
Но здесь нам впору было бы задаться одним само собой разумеющимся вопросом, поскольку мы почему-то в конце предыдущего раздела отдельно говорили об эстетическом удовольствии, удовольствии от понимания («понимания») идеи интеллектуальной новизны и ни слова не сказали об удовольствии, которое мы испытываем от движения (переживания) наших чувств, возбуждаемых тем или иным произведением искусства (положим, чувство сострадания, симпатии, возмущения, ненависти и т. д.). Хотя из ранее изложенного нам ясно, что сам процесс переживания чувств (пример с героями Гомера) — будь они позитивными или негативными — так же сопровождается чувством удовольствия. Но можно ли это удовольствие отнести к разряду эстетического удовольствия и что такое эстетическое удовольствие само по себе, это тот вопрос, ответ на который мы должны дать в данном разделе. А потому для начала спросим самих себя, есть ли какая-нибудь принципиальная разница между эстетическим удовольствием и удовольствием от переживания чувств, возбуждаемых произведением искусства в нашей душе? Разрешение этого вопроса способствовало бы более глубокому пониманию причины нашего наслаждения от общения с произведением искусства.
Если мы вспомним о том удовольствии, которое испытываем от рассказанного анекдота и от пришедшей в наше сознание инсайтной идеи (Раздел 2.1) и если мы свяжем это удовольствие с пониманием смысла анекдота и самой сути инсайтной идеи, то можно прийти к следующему выводу. Конечно, разница между этими двумя видами удовольствия есть и заключается она в функциональной роли, выполняемой отдельно эстетическим чувством удовольствия и отдельно всеми остальными чувствами, возбуждаемыми произведением искусства и сопровождаемыми, в свою очередь, чувством удовольствия. Эстетическое чувство удовольствия фиксирует наличие объективной интеллектуальной новизны. А что же делают остальные чувства? Они задают нам вектор размышления по поводу идеи произведения. (Всем ясно: чувство, положим, симпатии к героям произведения вызывает в нас одни размышления, чувство же негодования их поступками — совсем другие. Отсюда разница в интерпретации идеи произведения).
Итак, если мы примем в расчет не только душевные и эстетические потребности, но и потребности физиологические, то все чувства, нами испытываемые, можно подразделить на три категории:
— физиологические, связанные с удовлетворением витальных потребностей нашего организма (потребность в питании, продолжении рода и т. д.)
— душевные, сопряженные с нашими переживаниями и возбужденные органами чувств;
— эстетические, связанные с пониманием художественных или научных (технических) истин (изобретений).
Но прежде чем перейти к классификации чувства удовольствия в зависимости от характера испытываемых нами чувств, сделаем небольшое отступление. Автор, конечно, понимает, что к эстетическому чувству можно было бы отнести чувства, связанные с потребностью в познании и необходимостью выражения собственных природных способностей и дарований в сфере искусства или науки. Положим, такими чувствами могли бы быть увлеченность предметом творчества, страсть к какому-либо виду творческой деятельности или просто повышенный интерес к некой области искусства, науки или техники.
И эти чувства можно было бы выделить в отдельную категорию, категорию духовных чувств, поскольку они связаны в большой степени не только с нашим природным дарованием, но и с переработкой духовного знания, способствующей успешной реализации этого дарования. Но мы не пошли на это потому, что эти чувства в принципиальном смысле не отличаются от чувств душевных. У них, если можно так выразиться, всего лишь более «высокий» уровень происхождения по сравнению с душевными чувствами. В то время как эстетическое чувство имеет совсем иную природу возникновения: оно связано не с обычным душевным движением (переживанием) наших чувств, а с интеллектуальным «пониманием» идеи произведения искусства или пониманием, положим, инсайтной идеи открытой нами научной истины.
В связи с этим, чувство удовольствия, которое мы можем испытывать от удовлетворения потребностей, также можно разделить на три категории:
— физиологическое чувство удовольствия от утоления голода, жажды сексуальной потребности и т. д.;
— удовольствие от переживания наших чувств, возбуждаемых тем или иным произведением искусства, а также от переживаний, испытываемых нами в повседневной жизни;
— удовольствие от «понимания» на бессознательном уровне объективной интеллектуальной идеи-новизны произведения искусства, а также удовольствие от понимания на сознательном уровне объективной интеллектуальной инсайтной идеи (научной или технической).
И для того чтобы отделить удовольствие при движения наших чувств от удовольствия при понимании идеи, назовем первое удовольствием от переживания или чувственным удовольствием, а второе — интеллектуальным чувством удовольствия или интеллектуальным удовольствием, или удовольствием от понимания (как в кавычках, так и без кавычек). Именно последний тип удовольствия — и это мы покажем ниже — фигурирует в эстетике как эстетическое наслаждение (удовольствие).
Таким образом, интеллектуальное удовольствие — это удовольствие от понимания не какой-либо идеи, а только той, которая или зародилась в нашем собственном бессознательном (и была передана в сознание) или воспринята нашим бессознательным через произведение искусства и воспринята нами как своя, несмотря на то, что заложена она туда автором произведения, а не нами.
Таким образом, эстетическое чувство созерцателя, сопровождаемое интеллектуальным удовольствием, фиксирует наличие новизны взгляда художника на Мир, сознание же созерцателя вольно интерпретировать эту новизну, эту идею. Одна из задач интеллектуального чувства удовольствия только в том и состоит чтобы обратить наше внимание на то, что идея присутствует в произведении искусства и мы почувствовали ее наличие, но не в том чтобы разгадать эту новизну: чувство удовольствия не устанавливает, в чем она заключается, это уже дело рефлексии и тех переживаний, которые возбуждает в нашей душе само произведение.
Как по возмущению водной поверхности озера трудно угадать, что же все-таки в толще воды явилось причиной данного возмущения, так и на основе чувства удовольствия трудно определить, что же из нами воспринятого в произведении искусства «заставило» нас испытать именно эти чувства. Но возникновение интеллектуального чувства удовольствия не может быть беспричинным. В основе его возникновения — понимание («понимание»). Не было бы понимания («понимания») — не было бы и удовольствия, как и не было бы познания. И не будь удовольствия от понимания («понимания»), мы бы не смогли отличить новое от старого, что не способствовало усвоению и внедрению новизны.
Если бы мы теперь задались вопросом, почему наше сознание берет на себя столь ограниченную функцию, функцию интерпретации чувства и почему бы ему самому не попытаться разгадать саму по себе идею (то есть идею в ее «чистом» виде), то ответ бы заключался в следующем: как мы установили ранее, сознание (логическое мышление) не способно самостоятельно отыскать, заметить и понять новое, оно доверяет и поручает эту задачу интеллектуальному чувству удовольствия, которое имеет «нюх» на новое в силу того, что явление нового сопровождается удовольствием. Интеллектуальное удовольствие фиксирует наличие новизны с той целью, чтобы нашему мышлению сподобнее было сосредоточиться и попытаться разобраться, в чем она заключается. А иначе и быть не могло: случись явиться пред очи нашего интеллекта новизне, не сопровождаемой интеллектуальным удовольствием, эта новизна нами бы не замечалась и забывалась.
И совсем не удивительно, а вполне закономерно, что Природа наградила нашу психику возникновением чувства удовольствия, если какой-либо орган чувств замечал и сообщал нашему мозгу нечто новое и важное для него. Стандартные и обыденные ситуации не требовали сами по себе какого-либо внимания и поощрения, а вот ситуации, выпадающие из повседневной жизни, ситуации угрожающие (или способствующие) жизнедеятельности организма, ситуации для него новые и неожиданные, вот эти ситуации должны быть замечены и деятельность органа — в том числе и мозга, — заметившего новизну, должна быть подкреплена и поощрена в виде чувства удовольствия. Вот откуда, в конечном счете, берет свое начало не только биологическая эволюция человека, но и эволюция духовная.
Так что мы получаем удовольствие не только от движения наших чувств, но и от эффективной работы нашего мышления, этого концентрированного сосредоточения всех наших чувств. Организм малоспособный на реагирование окружающей среды или среды самого организма был бы не способен к выживанию.
И если животный мир своими силами не способен культивировать многообразие своих форм и видов, то функцию эту за него выполняет Природа, как Природа посредством природного дарования культивирует многообразие форм материально-духовной жизни человеческого сообщества. Отсюда понятно, что животный мир и мир человека разумного имеют один источник — Природу, которая на ступени духовного существования проявляется в человеке в виде природного дарования. Природное дарование в человеке — это источник, из которого формируется новизна, являющаяся единственным фактором приумножения многообразия материально-духовного мира человека.
Но для того чтобы человек «захотел» культивировать новизну — не надо забывать того, что без желания человек как существо животное и притом эгоистическое и пальцем не пошевельнет — так вот, для того чтобы он захотел приобщиться к новизне, Природа наградила его чувством удовольствия, которое он способен испытывать при встрече с новизной, будь она в чувственном или интеллектуальном виде. Отсутствие данного природного дарования самым катастрофическим образом сказалось бы на человеческом сообществе. Оно бы до сих пор пребывало в виде отделенных друг от друга орд или прайдов, и мало что способно было бы изменить эту унылую и повторяющуюся из века в век картину. Пример тому, наш прекрасный, но достаточно мало изменчивый во времени животный мир.
Чувство — это посредник между нашим бессознательным и сознанием. На сознательном уровне мы вполне ясно отдаем себе отчет в том, какие чувства мы испытываем; мы даже можем усилием воли сдержать внешнее их проявление, но мы не в состоянии искоренить из своей души то или иное чувство (в том числе и чувство удовольствия от созерцания произведения искусства). В основе чувства спонтанность его проявления и не мы им владеем, оно овладевает нами, потому что истоки его в бессознательном, которое недоступно нашему сознанию. В связи с этим, чувство можно представить в виде дерева, имеющего корни в бессознательном, а все остальное — ствол и крону — в сознании.
Таким образом, мы уже понимаем, что новизна, заложенная художником в произведение искусства, присутствует в нем в скрытом виде. И смысл той новизны созерцатель произведения принципиально не может понять своим сознанием, поскольку последнее может узнать только то — и оперировать только тем, — что ему знакомо и с чем оно встречалось ранее. Так, например, оно может «узнать» сюжетику той или иной картины, поскольку ему известны, положим, из той же Библии, персонажи и символика им соответствующая; оно может догадаться по изображенной на полотне архитектуре и одежде действующих лиц о той или иной эпохе, к которой относится действие, поскольку оно уже встречалось со стилем архитектуры и одежды, положим, при чтении художественных или исторических произведений. Так вот, встретив известное и знакомое ему, сознание узнает его, встретив же нечто принципиально для него новое, оно не узнает его и пройдет мимо, даже не заметив.
Казалось бы, мы оказываемся в безвыходном положении: мы не в состоянии узнать что-либо о самом главном, что нас интересует в произведении искусства — о его идее и новизне. Но ситуация не столь уж безнадежна, как это представляется на первый взгляд. Созерцатель произведения, кроме сознания, обладает, как и творец, собственным бессознательным, в том числе и чувствами, которые, как мы уже заметили выше, имеют «двойственную» природу: корни чувств заложены в бессознательном, но волнение их отзывается в нашем сознании.
Истоки чувств потому в бессознательном, что в основе чувства нейрофизиологические процессы, которые дают о себе знать нашему сознанию только через бессознательное. Бессознательное — порог между физиологией и сознанием, а чувства — посредственное звено между потребностями, которые заявляют о себе на физиологическом уровне и нашим интеллектом (сознание плюс бессознательное), который призван удовлетворять эти потребности, какими бы они не были: физиологическими, душевными или духовными. Только посредством чувств можно подвигнуть наш разум к мышлению. (Не обладай мы чувствами, у нас не было бы нужды и в разуме, поскольку у последнего не было бы причины функционировать и развиваться).
Вот почему, рассматривая (слушая, читая) произведение искусства и испытывая при этом различные чувства, — в том числе и чувство удовольствия — мы через эти чувства все же познаем идею произведения, поскольку корни и наших чувств и чувств творца данного произведения находятся в бессознательном, то есть там же, где художником «запрятана» сама новизна. Получается так, что в своем интересе к искусству нас — и созерцателя и творца — больше объединяет бессознательное, чем сознание, поскольку оно и «фундаментальнее», и старше, и мудрее. Сознание (логика) — всего лишь «мальчик на побегушках», роль которого — повиноваться, несмотря на весь свой апломб и дутый авторитет. Оно только опосредованным образом может судить о тех чувствах, которые попали в него из бессознательного, как опосредованно можно судить о тех кометах, астероидах, метеоритах, которые залетели в зону видимости земных приборов наблюдения. И если сознание действует опосредованно, то бессознательное непосредственно «понимает» идею произведения, о чем оно и заявляет спонтанным возникновением интеллектуального чувства удовольствия.
Таким образом, если только посредством чувств можно «заставить» наш разум мыслить, то только посредством бессознательного «понимания» объективной интеллектуальной новизны можно «заставить» интеллектуальное чувство удовольствия проявить себя. И если наши чувства — это причина нашего, по крайней мере, сознательного мышления, то наше интеллектуальное чувство удовольствия — это следствие мышления, случившегося на бессознательном уровне. Вот откуда принципиальное отличие интеллектуального чувства удовольствия от тех чувств, которые возбуждает в нас произведение искусства.
Итак, если в случае с анекдотом и инсайтом понимание идеи, родившееся в бессознательном, достигает сознания, то в случае с произведением искусства этого не происходит, поскольку «понимание» «застревает» в нашем бессознательном. Оно, так и не преодолев барьера между бессознательным и сознанием, остается замурованным в нем. (Причины «замурованности» будут нами рассмотрены в следующем разделе). И единственным признаком того, что на бессознательном уровне нами все же достигнуто «понимание» идеи произведения, является то, что мы способны испытывать интеллектуальное чувство наслаждения при многократном соприкосновении с данным произведением.
Поэтому можно предположить, что наше бессознательное — это хранилище тех идей и того опыта, которые мы почерпнули в том числе и из общения с искусством, как сознание и память есть хранилище тех идей, мыслей, понятий, которые мы добыли трудом дискурсивного мышления и усвоения нашего знания.
А теперь, после того как мы уяснили себе причину возникновения интеллектуального чувства удовольствия и ту роль, которую оно призвано выполнять в процессе восприятия произведения искусства, нам необходимо понять, что собой представляет такое таинственное в своей неуловимости и трудноопределимое понятие эстетики — понятие эстетического чувства.
Сразу же оговоримся: чувства, возбуждаемые произведением искусства (сострадания, симпатии, возмущения и т. д.), не имеют никакого отношения к эстетическому чувству. Более того, так называемое эстетическое чувство — это вовсе никакое не чувство. Наоборот, это интеллектуальная способность «понимания» идеи-новизны произведения искусства на бессознательном уровне. И чувством мы его называем только потому, что само «понимание» объективной интеллектуальной новизны сопровождается спонтанно возникающим интеллектуальным чувством удовольствия. Не будь мы наделены этой способностью, у нас не возникло бы и интеллектуального чувства удовольствия.
Таким образом, если интеллектуальное чувство удовольствия мы еще можем отнести к эстетическому чувству, то наша способность «понимания» объективной интеллектуальной новизны произведения искусства вряд ли может быть отнесена к области каких-либо чувств. Это, именно, способность интеллектуальная, а не чувственная.
И если мы все же зададимся вопросом, почему закрепилось словосочетание «эстетическое чувство», а не, казалось бы, более соответствующее смыслу и более правильное: «эстетическая мысль», «эстетический интеллект», или «эстетическое сознание», то на это можно было бы ответить тем, что только чувство — именно, интеллектуальное чувство удовольствия — способно уловить то новое (идею), которое заключено в произведении искусства. В этом словосочетании сама мудрость языка, вопреки нашим понятийным заблуждениям, намекает нам на то направление, в котором надо искать развязку гордиева узла взаимосвязанных понятий эстетического (красота), гносеологического (идея) и онтологического (истина) плана.
Итак, у нас появились три новых понятия, оформленных в следующие термины:
— «Объективная интеллектуальная новизна-идея».
— «Интеллектуальная способность понимания» этой новизны.
— «Интеллектуальное чувство удовольствия» от «понимания» этой идеи-новизны произведения искусства.
Для того чтобы в дальнейшем нам не запутаться в употреблении старых и новых терминов, установим эквивалентность их применения:
— термин «эстетическая идея (или истина)» произведения искусства соответствует термину «объективная интеллектуальная новизна» произведения искусства,
— термин «эстетическое чувство» эквивалентен термину «интеллектуальная способность «понимания» этой новизны,
— термин «эстетическое удовольствие» эквивалентен термину «интеллектуальное чувство удовольствия» от созерцания произведения искусства.
Следует сразу же заметить: мы вводим новые термины и соответствующие им понятия не для того, чтобы блеснуть каким-то превосходством над старыми терминами и понятиями, а ради того, чтобы лучше уяснить себе не только сущностную основу произведения искусства, которая заключается в наличии объективной интеллектуальной новизны, но и причину нашего интеллектуально-психологического восприятия этого произведения которое (восприятие) заключается в способности адекватного «понимания» идеи произведения и испытания чувства удовольствия от его созерцания. Так, например, во избежание путаницы, мы ушли от обычного понятия «эстетическая идея» только потому, что идея как интеллектуальная новизна может быть как субъективной, так и объективной. Субъективная идея, как мы показали ранее, уже находится в «обращении» в Мире в виде известных нам — или еще не известных — идей, понятий, законов и других духовных знаний, уже ставших предметом нашей культурной деятельности. И она (субъективная идея) не причастна к искусству как таковому. Что же касается объективной интеллектуальной новизны, заложенной художником в произведение искусства, то она имеет самое непосредственное отношение к искусству, но она неизвестна нашему сознанию, поскольку мы не в состоянии понять ее на сознательном уровне, но можем «схватить» или «понять» на уровне бессознательном, о чем нам «докладывает» факт спонтанного возникновения интеллектуального чувства удовольствия как удостоверения в том, что в какой-то степени смысл идеи воспринят нашим интеллектом.
И от термина «эстетическое чувство» мы вынуждены были уйти, так как неизвестно, что надо было понимать: то ли это какое-то чувство, то ли это способность улавливания некой ценности или сущности произведения. Да и в термине «эстетическое удовольствие» была заключена неопределенность: по крайней мере, в нем не было смысла, сопряженного с «пониманием» идеи произведения искусства.
И коль скоро мы изложили основные аспекты нашей концепции, попытаемся дать определение эстетического чувства, исходя из всего того, что мы сказали об объективной интеллектуальной новизне и интеллектуальном чувстве удовольствия. Это определение, конечно, будет несколько отличаться для творца произведения и для созерцателя. Итак, определение для художника: эстетическое чувство художника — это способность выразить в произведении искусства такую объективно-интеллектуальную новизну взгляда на окружающие нас вещи и явления, которая была бы способна вызвать у созерцателя данного произведения интеллектуальное чувство удовольствия, а вместе с ним и желание определить суть этой новизны (идеи) посредством интерпретации представленного художником материала. То же самое для созерцателя: эстетическое чувство созерцателя заключается в способности разглядеть в произведении искусства интеллектуальную новизну взгляда художника на окружающие нас вещи и явления, которая (идея-новизна) способна вызвать в его душе интеллектуальное чувство удовольствия и возбудить желание при помощи собственной рефлексии определить суть этой новизны посредством интерпретации представленного художником материала.
Кроме того, нам следует сделать одно весьма существенное замечание по поводу роли чувств в процессе познания — имеется ввиду так называемое чувственное познание, — поскольку неправильное понимание того вклада, который они вносят, не только сослужило плохую услугу самим чувствам, но и внесло невообразимую путаницу в вопрос о том, как же все-таки осуществляется процесс познания. Поэтому необходимо иметь ввиду, что чувства сами по себе — не орган познания, а орган реагирования нашей психики на воздействие, осуществляемое из трех источников:
— из внутренней среды собственного организма (то есть, воздействие наших физиологических потребностей);
— из внешней среды, воспринимаемой нашими органами чувств;
— из ментальной среды, воздействие которой способно затронуть наши чувства, которые, в свою очередь, побуждают к мышлению.
Так что чувственного познания как такового не существует в природе и чувства сами по себе ничего не познают. Они запускают в действие сам механизм познания, осуществляемый как нашим сознанием (разумом, рассудком), так и нашим бессознательным (интуиции, инсайты, озарения и т. д.), поскольку все эти воздействия проходят, как через центральный диспетчерский пункт, через наш мозг.
После того как мы разобрались в той функциональной роли, которую выполняют:
— интеллектуальное чувство удовольствия (обнаружение, фиксирование новизны),
— чувства, возбуждаемые произведением искусства (направление рефлексии по поводу его идеи),
— эстетическое чувство («понимание» идейной новизны),
нам необходимо, хотя бы вкратце, остановиться на так называемых «новых» чувствах. Как известно, некоторые философы и эстетики полагают, что причиной удовольствия при созерцании произведения искусства является то обстоятельство, что данное произведение возбуждает в нас некие новые чувства, якобы ранее нами не испытанные. На самом же деле «новизна» чувства заключается не в том, что произведение искусства побудило нашу психику к переживанию каких-то особых и еще не изведанных нами чувств, а в том, что на бессознательном уровне мы встретили в произведении нечто для нас удивительное и почувствовали некое новое содержание (идею) доселе нам не знакомое.
Дело в том, что наше субъективное переживание старо как мир. Испокон веков оно находится в русле испытываемых нами чувств: любви и ненависти, обиды и зависти, страха и отчаяния, восхищения и презрения. Так что удивить его чем-либо вряд ли возможно, кроме разве что той объективно-интеллектуальной новизной, с которой мы соприкасаемся, которую переживаем и которую познаем. Другими словами, новизна в объекте нашего восприятия и переживания, а не в субъекте. «Новизна» субъективного переживания только в том, испытываем ли мы его или нет. Если испытываем, значит в объекте нашего восприятия есть нечто новое для нашего интеллекта, если не испытываем — значит либо в нем нет ничего нового, либо мы еще не «доросли» до того, чтобы увидеть это новое.
Но здесь нам необходимо отметить одно весьма существенное обстоятельство, которое вносит путаницу в старый вопрос о субъективности или объективности красоты. Когда мы сказали, что «новизна в объекте нашего восприятия», а не в субъекте, то мы не совсем были правы. И вот почему. Объектом нашего восприятия может быть не только то «внешнее» познание, которым обладает наше сознание, но и наше «внутреннее» дарование, то есть наша собственная природная и бессознательная способность творить нечто новое и еще не знакомое для нашего интеллекта. В данном случае наше дарование представляется как бы чем-то внешним и притом новым для нашего сознания.
Как это ни парадоксально, плоды нашего творчества новы в первую очередь для нас самих. В данном случае наш интеллект выступает как в роли субъекта, воспринимающего то новое, что родилось из его недр, так и в роли объекта, над которым он сам же и трудился для того чтобы сотворить из самого же себя нечто новое. (Да, забавная ситуация, забавнее не придумаешь: интеллект — некий уборорос, поглощающий собственный же хвост). Хотя в этом и нет ничего удивительного, если принять во внимание тот факт, что объектом нашего мышления все же являются наши «внешние» познания, которые мы когда-то приобрели, которыми мы обладаем и которыми оперирует наш интеллект. Другое дело, что продукт данного творчества может родиться только в том случае, если мы обладаем особым даром оперирования известными нам познаниями.
Конечно, все зависит от того, как смотреть на дарование: что это? — наша особая, оригинальная способность оперировать приобретенными нами опытом и познанием, или само дарование это нечто оригинальное, что наш интеллект способен извлечь из нашей души, обработать соответствующим образом и представить в уже готовом виде этот дар как объект субъективного созерцания, понимания, переживания и размышления. Но тогда получается, что природное дарование либо не является составной частью нашего интеллекта и интеллект выступает в роли субъекта, оперирующего как самим дарованием, так и нашими «внешними» познаниями, либо оно входит в «состав» нашего интеллекта и тогда последний попеременно является как объектом оперирования самого же интеллекта, так и субъектом, выявляющим нечто новое и воспринимающим это новое. Отсюда понятны разногласия между объективистами и субъективистами по вопросу «размещения» красоты — в объекте созерцания или в самом субъекте. Все зависит от точки зрения.
А теперь, возвращаясь к нашим цитатам из работ Г. Риккерта и Г. Грэма (см. Предисловие к Части 1), мы можем вполне определенно сказать, что то нормативное «понятие о том, что вообще должно нравиться как прекрасное» (Г. Риккерт) — это и есть новизна нашего взгляда на окружающий нас Мир. И эта новизна представлена в произведении искусства в форме заложенной в него объективной интеллектуальной идеи-новизны, которая обнаруживается нашим интеллектуальным чувством удовольствия. Но для того чтобы ее обнаружить необходимо обладать способностью «понимания» этой идеи-новизны.
Таким образом, только наличие двух указанных нами причинно обусловленных факторов — способности «понимания» объективной интеллектуальной новизны и спонтанного возникновения интеллектуального чувства удовольствия от самого акта (или процесса) «понимания» — гарантирует нам как то, что мы восприняли красоту (идею-новизну) произведения искусства, так и то, что эта красота наличествует в нем, являясь его содержанием. Это та «норма», которая характеризует саму возможность взаимоотношения созерцателя с настоящим произведением искусства. Нет таких взаимоотношений — значит либо в произведении нет красоты, либо созерцатель не наделен природным дарованием эту красоту воспринять и «понять» на бессознательном уровне.
Поэтому следует иметь ввиду: никакое сознание и никакой разум не могут «увидеть» красоту, ее может обнаружить только наша душа (бессознательное), наделенная природным даром к этому. Сознание и разум способны видеть только внешнюю оболочку красоты, душа — внутреннюю ее сущность.
Отсюда ясно, почему искусство привлекает и волнует всего лишь ничтожную долю человеческого рода. Дарование — слишком большая ценность Природы, чтобы расточать ее направо и налево, и слишком ответственна и важна функциональная роль дарования, — а вместе с ним и искусства — в творческом развитии человеческого сообщества. Доверить ее можно лишь немногим.
Уяснив себе суть «нормативного понятия», нам стало ясно и то, что «отдельный тип эстетического удовольствия» или «самостоятельное эстетическое удовольствие» (Г. Грэм) есть не что иное, как интеллектуальное чувство удовольствия от «понимания» идеи-новизны, заложенной автором в произведение искусства. Это и есть тот «другой термин, обозначающий эстетическое удовольствие» (Г. Грэм).
Что же касается вопроса, «Объясняет ли это понятие, в чем состоит ценность искусства» (Г. Грэм), скажем так: интеллектуальное чувство удовольствия, конечно, не объясняет эту ценность, более того, оно к этому не призвано, потому что призвано совсем к другому — к обнаружению и к фиксации наличия объективной интеллектуальной идеи-новизны.
Но интеллектуальное чувство удовольствия кардинальным образом отличается по своей функциональной роли от чувства удовольствия, положим, физиологического или удовольствия чувственного. Если последнее это просто реагирование психики на движение наших чувств, то интеллектуальное чувство удовольствия это свидетельство того, что мы восприняли, «поняли» на бессознательном уровне идею произведения искусства. Именно в этом заключается и отличие, и ценность интеллектуального чувства удовольствия от обычного чувства удовольствия. Оно связано с интеллектуальным «пониманием» идеи открытой нами новизны, в то время как обычное чувство удовольствия еще не «доросло» до того, чтобы быть объясненным нашим интеллектом, оно еще не нашло той символической формы, в которую оно могло бы вылиться и запечатлеться на каком-либо понятийном уровне: сознательном или бессознательном.
Вопрос же о том:
— в чем заключается функциональная роль объективных интеллектуальных идей, предлагаемых искусством человеческому сообществу,
— чем эти идеи отличаются от идей научных
— и каким образом они воздействуют на общество,
будет нами освещен в разделах Глав 3 и 4: «Назад, к грекам» и «Для чего искусство».
2.8. Созвучье душ
А теперь вернемся несколько назад. Когда мы говорили о причине нашей тяги к многократному общению с тем или иным произведением искусства, мы ни слова не сказали о том, почему вообще нас влечет к искусству, какой магнит нас к нему притягивает. Неоднократность наших попыток приобщиться к произведению это, скорее всего, не столько следствие нашей неспособности сходу понять идею произведения, сколько следствие нашей природной тяги к искусству. Принципиальная неспособность понять сознанием идею произведения как раз и вызывает потребность многократного созерцания самого произведения в надежде все же постичь его идею в «чистом» виде. А «принуждает» нас к этому интеллектуальное чувство удовольствия.
Отсюда ясно: природная тяга к искусству первична в нас, невозможность понять многогранную идею произведения (на логическом уровне) — вторична, а потребность многократного созерцания — третична. Не имей мы природной тяги к искусству или обладай мы способностью с первого раза постигать идею произведения, у нас не было бы потребности снова и снова созерцать это произведение.
Что же касается нашей природной тяги к искусству, то следует сделать одно, как нам кажется, достаточно важное дополнение по поводу созвучья душ художника и созерцателя. Дело в том, что предметом нашего удовольствия может стать не только то новое, что мы обнаружили в окружающей нас действительности, но и то новое, что мы выявили на душевном уровне в нашем собственном бессознательном, то есть то новое, которое присутствует в нас в потенциальном виде, в виде природного дарования. Созерцание понравившегося нам произведения искусства индуцирует и тем самым выявляет в нашей душе нечто для нас самих новое и притом созвучное тому, что мы обнаружили в произведении искусства. Как писал Ш. Бодлер в своих «Салонах»,
«… поэтическое чувство дремлет в душе зрителя, и гений художника состоит в способности разбудить его»45.
Не встретившись с этим произведением, мы бы так и не раскрыли ту склонность, которой наградила нас Природа. Искусство расширило сферу нашего познания в том числе и за счет познания нашей собственной уникальности, которая так и осталась бы не раскрытой, не будь у нас искусства, потому что ни сами мы своим сознанием до этого бы не дошли, ни кто-либо другой — кроме художника — не «указал» бы нам на то, что характеризует нас и нас отличает от всех остальных.
Отсюда разница между художником и созерцателем заключается «всего лишь» в том, что художник воплощает свое природное дарование в действительность, то есть в произведение искусства, в то время как истинный любитель искусства «претворяет» потенциально заложенные в нем склонности в то удовольствие произведением искусства, которое дает ему возможность лучше узнать себя, обогатить себя новым познанием и тем самым приобрести индивидуальный опыт бытия как за счет бессознательного «понимания» идеи, так и за счет попытки рефлексивного ее понимания.
Таким образом, обогащение нашего опыта происходит не только за счет познания окружающей нас действительности — общей для всех индивидуумов, — но и за счет познания собственной уникальности принципиально не доступной пониманию других индивидуальностей. Кроме того, общаясь с произведением искусства, мы познаем не только свою индивидуальность, но и индивидуальность художника, представленную им в произведении в обобщенном, абстрактном виде. И познаем мы все это только при наличии собственной скрытой в нас природной уникальности в чем-то созвучной уникальности художника. Причем, созвучье душ является одним из решающих факторов как «понимания» идеи-истины произведения искусства, так и получения удовольствия от созерцания последнего. Если нет хотя бы отдаленного сродства душ художника и созерцателя, то нет и «общения» на уровне идеи произведения искусства. Остается только «глас, вопиющего в пустыне» художника.
И последнее. Наличие созвучья душ художника-творца и любителя-созерцателя свидетельствует, скорее всего, о том, что есть в бессознательной природе человека нечто общее, значимое и архетипическое — на чем так настаивал К. Г. Юнг, — которое, с одной стороны, побуждает художника высказать его и выставить на всеобщее обозрение, а с другой стороны, побуждает созерцателя отыскать его в произведении искусства и сделать спутником своей жизни.
2.9. Как мы понимаем произведение искусства
А теперь, когда мы знаем:
— что собой представляет объективно-интеллектуальная новизна,
— какова причина возникновения интеллектуального чувства удовольствия
— и почему у нас возникает желание многократного общения с произведением искусства,
нам необходимо убедиться в том, что на бессознательном уровне все же происходит «понимание» идеи-новизны произведения. Нам нужно, хотя бы на косвенных данных, удостовериться в том, что мы не только на чувственном уровне способны воспринять произведение искусства и отреагировать на это движением своих чувств, но и в интеллектуальном отношении «понять» идею произведения (правда, всего лишь посредством иррациональной части нашего интеллекта).
Наша уверенность в том, что идея, заложенная в произведении искусства, может быть «понята» нашим бессознательным основывается на том, что достаточно много опосредованных обстоятельств говорит в пользу этой уверенности, хотя — и в этом надо сознаться — нельзя привести ни одного сколько-нибудь прямого доказательства. (И это не удивительно, поскольку парадоксальность существования феномена искусства, как нам представляется, допускает существование необъяснимых нашим сознанием процессов восприятия прекрасного нашими чувствами и интеллектом. И с этим надо только смириться).
Но начнем мы с того, что еще раз обратимся к вопросу, откуда наша уверенность в том, что в произведении искусства обязательно заложена какая-либо идея? Может быть, там и вовсе нет никакой идеи: просто художник изобразил то, что изобразил, безо всякой оглядки на что-либо подобное идее (или безо всякого намерения заложить в нем некий новый элемент нашего понимания действительности). Если мы зададимся подобным вопросом, то вынуждены будем в очередной раз ответить, что такого не может быть в принципе. Всем ходом эволюции человек призван испытывать потребности, «языком» которых являются разнообразные чувства (об этом см. Раздел 1.2). Проявления чувств, в свою очередь, могут найти свой выход как в спонтанно-рефлекторном действии, так и в рефлексии, началом которой является идея, а концом — оформленная в семиотическую форму мысль. И только последняя способна «овеществиться» в осмысленную деятельность, результатом которой может быть все что угодно: новое орудие труда, изделие, сооружение, техническое устройство, формула, произведение искусства, общественное образование (институт) и т. д.
Так что ни в коем случае нельзя упускать из виду тот факт, что все что ни создано в этом Мире — от колеса до ускорителя и от элементов общественного устройства до произведений искусства — все это создано благотворя претворению в жизнь бесконечного многообразия мыслей, исходным центром каждой из которых была новая идея. Мысль в своем зародыше — это никому не понятная — даже порою самому творцу — идея, оформленная, в конце концов, до удобопонимаемого всеми вида мысли, (то есть до смысла развернутого из идеи). Поэтому формой рождения объективной интеллектуальной новизны всегда является сугубо индивидуальная идея, доведенная своим творцом до мысли, произведения искусства, понятия, закономерности и т. д.
Идея — это скелет (остов, «сгусток») мысли. И как каждому скелету соответствует только ему одному присущий вид индивидуального живого существа, так и каждой идее соответствует только ей одной присущая мысль. Язык же, на котором мы общаемся и мыслим — в том числе и язык искусства — это та символика, в которую мы одеваем наши еще никому не понятные идеи и благодаря которой эти идеи становятся «узнаваемыми» всеми остальными людьми, понимающими эту символику.
Но здесь следует иметь ввиду, что идея только тогда рождается в голове творца, когда последний созревает до овладения такой символикой, которая способна «нарядить» идею в мысль. Способность «нарядить» идею уже предполагает способность ее родить. Вот почему превалирующую роль в развитии таланта играет трудолюбие: только посредством трудолюбия мы можем овладеть той символикой, которая уже сложилась на данном уровне развития той или иной сферы деятельности. И вот почему дилетантизм никогда не способствовал покорению новых вершин в этих сферах. Как настаивал С. Дали:
«Для начала научитесь рисовать и писать как старые мастера, а уж потом действуйте по своему усмотрению — и вас всегда будут уважать»46.
Не владея символикой, нельзя и надеяться на то, чтобы родить идею или создать то или иное произведение искусства. Идея и символика, в которую она облачается, взаимодополнительны друг другу, потому что взаимодополнительны друг другу интуиция и логика, иррациональное и рациональное, бессознательное и сознание.
Так что в основе любого произведения искусства в том или ином виде (вербальном, живописном, музыкальном и т. д.) всегда присутствует идея. Идея просто должна быть заложена в произведении, потому что она следствие заложенного в нем чувства, а в конечном счете, потребности, будь она физиологической, психической или духовной в виде, положим, природного дарования, которое во что бы то ни стало необходимо реализовать. Идея как прообраз мысли — это попытка интерпретации и удовлетворения чувства, а вместе с тем и попытка удовлетворения возникшей потребности, следствием которой и является чувство. (Вспомним хотя бы из собственного опыта, насколько обильно и плодотворно наше мышление, побуждаемое каким-либо сильным чувством. Нас буквально распирают идеи, если мы захвачены какой-либо задачей, в основе которой насущная потребность. Увлеченность проблемой — первое условие продуктивного мышления).
Итак, мы утвердились в том, что идея это неизменный атрибут произведения искусства, но перед тем как перейти к аргументации того положения, что на бессознательном уровне мы способны «понять» идею произведения, нам необходимо сначала выяснить некоторые новые аспекты вопроса, почему наше сознание на это не способно.
На страницах данной главы мы уже неоднократно говорили о том, что наше сознание в принципе не способно самостоятельно понять интеллектуальную новизну. Оно может ее понять только в двух случаях:
— во-первых, если она разъяснена нам кем-либо или уяснена нами самими в процессе обучения, чтения и т. д.
— и, во-вторых, если она предъявлена нашему сознанию нашим же бессознательным в акте инсайта, озарения, вдохновения и т. д.
Первый случай касается субъективно-интеллектуальной новизны, не имеющей отношения к нашему вопросу. Второй же случай, касающийся объективно-интеллектуальной новизны, имеет непосредственное отношение как к научно-техническому, так и к художественному творчеству. Но мы не станем задаваться вопросом — это было бы слишком самонадеянным с нашей стороны, — что и как понимает или не понимает сам художник в процессе создания своего эстетического произведения. На это должен ответить сам творец. Наша задача, задача созерцателя гораздо скромнее: нам необходимо выяснить, почему созерцатель произведения искусства не способен уловить своим сознанием суть той идеи-новизны (в ее однозначно понимаемом виде), присутствие которой он обнаруживает своими чувствами и, как мы полагаем, «понимает» на бессознательном уровне.
Все дело в том, что «понимание» идеи нашим собственным бессознательным не «сообщается» сознанию. И не доводится оно до сознания только потому, что последнее еще не может понять суть этой новизны. Вот чем произведение искусства отличается от прочих результатов творческой деятельности, в том числе и деятельности научной. Тех познаний, того опыта и той символики, которыми оно (сознание) владеет, недостаточно чтобы ее (идею) понять, как невозможно понять какую-либо закономерность, не имея представления о тех или иных понятиях, составляющих основу или тот или иной элемент этой закономерности. Можно ли, положим, понять формулу Эйнштейна Е = м с2, не имея никакого представления о скорости света? Конечно, нет. Вот также невозможно понять нашим сознанием ту идею-новизну, которую открыло наше более мудрое бессознательное и которую наше менее мудрое сознание еще не способно «узнать». Поэтому бессознательное может выдать сознанию какую-либо истину — положим, научную или техническую — только тогда, когда оно «уверено» в том, что сознание способно ее усвоить, то есть оформить идею до состояния всеми понимаемой мысли. Оно, как опытный учитель, который только тогда выдает новый материал, когда его ученик достаточно хорошо усвоил старый и на его основе уже способен понять и обработать это новое.
Таким образом, в отношении произведения искусства сознание и бессознательное обладают разной способностью восприятия объективной интеллектуальной новизны. Если бессознательное может ее и «понять» и обнаружить посредством спонтанно возникающего чувства удовольствия, то сознание на это не способно, поскольку оно вообще не способно самостоятельно уловить нечто новое в интеллектуальном отношении. Оно только и может что воспринять, тот «отголосок» интеллектуального чувства удовольствия, который возник в бессознательном.
Данное принципиальное различие в восприятии объективной интеллектуальной новизны проистекает, скорее всего, как оттого, что сознание и бессознательное имеют разный объем познаний, так и оттого, что они обладают разной эффективностью манипулирования этим познанием. В пользу того что они владеют разным объемом познаний говорит хотя бы то, что в распоряжении бессознательного находятся не только те познания, которыми оно владеет единолично и «тайно» от сознания, но и те необходимые ему знания, которые оно без церемоний заимствует у сознания в процессе своей бессознательной работы. Что касается разной эффективности работы сознания и бессознательного в деле восприятия новизны, то она принципиально различна в том, что только бессознательное может «самостоятельно» эту новизну обнаружить. Данное обстоятельство скорее всего свидетельствует о том, что процесс обнаружения и фиксации идеи бессознательным обусловлен всей до разумной эволюцией человекоподобного существа. Не обладай оно этим наиважнейшим качеством — да к тому же в превосходной степени по сравнению с остальным животным миром — вряд ли оно преодолело бы барьер своего неразумного существования.
Итак, выяснив причину нашей неспособности понять идею произведения искусства на сознательном уровне, нам остается только привести аргументы в пользу того, что на бессознательном уровне мы все же «понимаем» эту идею. Но это скрытое от нашего сознания «понимание» возможно только в одном случае — когда общение с данным произведением искусства доставляет нам интеллектуальное чувство удовольствия. В отсутствии удовольствия одно лишь рассудочное понимание «внешней» стороны произведения вряд ли будет содействовать пониманию внутренней его сущности. Так вкушение обеда при отсутствии аппетита (или на полный желудок) вряд ли будет способствовать истинной оценке его вкусовых качеств.
Так какие же аргументы мы собираемся привести в подтверждение нашей гипотезы по поводу того, что наше бессознательное обладает способностью «понимать» идею-новизну произведения искусства?
А. Первый наш аргумент относится к взаимосвязи между продуктивным мышлением в различных сферах деятельности и степенью нашего интереса к искусству (объемом наших познаний в нем). В пользу указанной взаимосвязи говорит следующее обстоятельство. По крайней мере подавляющее большинство продуктивных мыслей исходит из нашего бессознательного. Значит, оно обладает таким арсеналом идей, мыслей, знаний, опыта, который позволяет ему намного превосходить продуктивность сознания, эффективность работы которого также в немалой степени зависит от накопленных познаний в какой-либо области. И если учесть тот факт, что наш интеллект в значительной степени опирается на бессознательное (как фундамент психики), то совсем не исключено, что черпает он эти идеи, «заготовки», материалы и т. д. не только из сознания — что вполне естественно, — но и из бессознательного — этого хранилища неосознаваемых нами идей и познаний, а источником пополнения последнего в немалой степени может быть наше интенсивное общение с искусством.
Конечно, не следует думать, что в процессе иррационального мышления некие идеи изымаются из бессознательного и в неизменном виде переносятся в наше сознание. Скорее всего, формированию наших идей способствует сам опыт нашего общения с искусством, который, несомненно, расширяет сферу наших — пускай и неосознаваемых — познаний в различных сферах жизни. Важна многогранность нашего взляда на какой-либо предмет нашего интереса. А искусство как раз этому способствует.
Да к тому же общеизвестен факт: продуктивными мыслителями в любой области познания являются люди как любящие и знающие искусство, так и не обделенные талантом к нему. На этом положении мы остановимся более подробно, поскольку рассмотрение данного вопроса позволит нам определить функциональную роль любителей искусства в генерировании идей и претворении их в жизнь, в культуру, в цивилизацию.
0ртега-и-1'ассет, быть может, только отчасти был прав в том, что современное искусство разделило общество на два лагеря: понимающих его и не понимающих47. Да, это так, но общество всегда — по крайней мере со времен Античности — было разделено на две категории: людей, любящих искусство и людей к нему в общем-то равнодушных. И это разделение есть разделение не столько по воспитательно-образовательному принципу, сколько по принципу душевному: если в душе есть природное влечение к искусству, то оно в чем-нибудь да и проявится, если такого влечения нет, то никакие соблазны не притянут нас к нему. (Спрашивается, многие ли, даже в наше время, имея все возможности ознакомиться как со старым, так и с новым искусством, осуществляют эти возможности? Отнюдь нет. Искусство не нужно им, они не испытывают в нем надобности, оно для них ненужный груз. И все потому, что они не испытывают неудовлетворенности в атмосфере, лишенной аромата искусства, их душевно-дыхательный аппарат вполне способен обойтись без этого аромата).
Как нам представляется, разделение общества по степени причастности к искусству на три категории:
1. творцов (художников) искусства,
2. любителей (созерцателей) искусства
3. и людей к нему равнодушных
природно обусловлено самой функцией искусства, которая заключается в том, чтобы способствовать материально-духовному многообразию этого Мира посредством привнесения в него новизны и, в первую очередь, новизны объективно-интеллектуальной.
1. Творец искусства не только создает произведение в той или иной степени обладающее органолептической (чувственной) новизной, но и закладывает в него ту или иную новую идею или идею хотя и старую, но достаточно важную для поддержания и развития общества. (Последнее по большей части относится к нравственным идеям, о чем речь в Части 11).
2. Любитель же искусства, воспринимая произведение, «распространяет» тем самым это произведение. Он — питательная среда «размножения» произведения искусства. Если бы не было любителей искусства, то не было бы необходимости в создании произведения. Прослойка любителей искусства — самая благодатная и самая плодородная почва как для восприятия, так и для извлечения «пользы» из него. К этой прослойке в большинстве своем относятся созидатели материально-общественных ценностей. Это люди, создающие Культуру и Цивилизацию. Творцы Искусства напрямую не являются созидателями Культуры (Цивилизации), они — побудители к ней, в то время как любители, не будучи творцами, а всего лишь потребителями искусства, являются создателями Культуры, поскольку идеи Искусства стимулируют генерирование материально-общественных и научно-технических идей.
Таким образом, категория любителей искусства, не обладая ярко выраженным природным талантом к какому-либо роду искусства, реализует свою творческую (мыслительную) способность в сфере науки, культуры, общественной жизни, техники и т. д. И любовь к искусству, расширяя их кругозор, обогащая их жизненный душевно-духовный опыт, будируя и тренируя их сознание и бессознательное, помогает им в их интеллектуальной деятельности. И ведь недаром люди этой категории в большинстве своем являются не только любителями, собирателями и коллекционерами произведений искусства, но и знатоками этих произведений. И не они ли, работая научными сотрудниками и «технарями», являются в то же время — при всей увлеченности своей профессией — завсегдатаями театров, музеев, картинных галерей и филармоний. Другое дело, что за профессиональной деятельностью не всегда видна порою скрытая от посторонних глаз любовь к искусству. И не исключено, что иногда всепоглощающая страсть, положим, к той же науке является в некоторой степени компенсацией невозможности в полной мере приобщиться к самому искусству.
Поэтому вполне определенно можно сказать, что деятельность по непосредственному преобразованию этого Мира посредством «внедрения» в него новизны возложена Природой в основном на любителей искусства способных генерировать научные, общественные, технические и т. д. идеи, доводить их до мысли и претворять эти мысли в реальную жизнь. Можно сказать, что
Так что Искусство «само по себе» (прекрасное «само по себе») не преобразует Мир, оно создает атмосферу, в которой становятся возможными преобразования. А, как и всякая атмосфера не замечается нами, поскольку мы в ней как рыба в воде постоянно пребываем, так не замечается нами и роль Искусства. Отсюда, из непонимания той цели, к которой предназначено Искусство (приумножение многообразия) и той функции, которую оно призвано выполнять в обществе (создание творческой атмосферы), вероятно, проистекают все сомнения и подозрения по поводу необходимости искусства. (Вспомним хотя бы Платоново «Государство»).
И здесь, хотя бы в качестве отступления, следует отметить один общеизвестный факт, касающийся темы «физиков и лириков». Физики всегда дружили с лирикой и не скрывали своей привязанности к ней, а порою и бравировали ею. Лирики же, наоборот, частенько чурались связей с физикой. И причиной тому, скорее всего, была боязнь изменить своему призванию, растратить себя на «мелочи», «расплескать» свой талант. В этом, может быть, и есть свой резон, потому что у художника, кроме таланта, нет ничего, в то время как у простого смертного любителя искусства достаточно широкий выбор: можно любить искусство, можно любить свою профессию, можно любить друзей, семью, детей и т. д. И все это можно делать одновременно, да к тому же потеря одного увлечения, как правило, компенсируется усилением интереса в другом направлении. Для художника же невозможность реализации своего природного дара равносильна краху всей жизни. В этом отношении художник — несчастное существо. У него нет выбора. Но зато он «законодатель моды» жизни, он стимулирует и в какой-то степени формирует направление интеллектуальной, морально-общественной и материальной жизни.
А сейчас, поскольку сама категория любителей искусства достаточно неоднородна, нам сразу же следует сказать о влиянии искусства на различные группы любителей искусства. Для первой части «любителей» искусства встреча с произведением заканчивается тем же, чем она и начинается: они просто не замечают новизну произведения своим интеллектуальным чувством удовольствия. Это группа людей, скорее всего, равнодушных к искусству, но, в силу сложившегося общественного мнения, интересующихся искусством, чтобы «не отстать от моды». Для другой части встреча с искусством заканчивается интеллектуальным удовольствием и не идет дальше последнего, так как у них нет в данной области искусства ни навыка, ни опыта, ни познаний, которые могли бы подвигнуть к рефлексии по поводу идеи произведения. Третья группа любителей, обладающая эстетическим чувством, способна к рефлексии по поводу того, что они увидели, услышали или прочитали. К этой группе относится основная масса любителей искусства, тех любителей, которые искренне и всей душой любят искусство и которым искусство платит как удовольствием общения с ним, так и теми познаниями, которые они способны из него почерпнуть. И лишь небольшая — четвертая — часть истинных любителей искусства в состоянии оформить свои размышления в мысль; в мысль, которая понятна не только самому себе, но и может быть воспринята всеми остальными любителями искусства. Гегель, Винкельман, Лессинг, Шиллер, Вёльфлин, Бодлер, Панофский, Фор, Зедльмайр, Маритен и мн. мн. др. — классические представители последней группы.
3. Что касается нашей третьей категории, то есть людей равнодушных к искусству, то они-то как раз и участвуют на завершающих стадиях внедрения новизны в жизнь, в непосредственном создании ценностей, едва обозначенных творцами и «запроектированных» любителями. Это, во-первых, а во-вторых, нельзя с уверенностью утверждать, что искусство не оказывает на них никакого воздействия. Это воздействие, — если не непосредственное, то опосредованное в той или иной степени самой обстановкой жизни, в которую искусство может быть вплетено самым неожиданным образом. А потом, и это, в-третьих, можем ли мы быть уверены в том, что к категории так называемых равнодушных мы не относим людей неравнодушных к искусству, людей, имеющих в душе позыв любви к искусству, но так еще и не сумевших осуществить этот позыв, наполнив его соответствующим содержанием.
Но здесь нам следует снова вернуться к нашей первой категории и отметить одну характерную особенность общества в отношении его к творцам искусства. К сожалению, следует признать одну глубочайшую несправедливость: роль искусства как бы не замечается и замалчивается, а порою и игнорируется нашим ханжеским обществом. Игнорирование творческой и, по сути дела, всеопределящей роли искусства в развитии Культуры и Цивилизации является, скорее всего, психологической компенсацией неспособности основной массы общества участвовать в указанном развитии не столько на уровне создания самих произведений искусства, сколько на уровне генерирования идей и мыслей в сферах, относящихся к научной, социальной, моральной, культурной и т. д. жизни общества.
Получив, благодаря воздействию искусства, — и непосредственному и опосредованному — множество материальных, душевных и духовных благ, мы закрываем глаза на то, что эти блага были бы невозможны без искусства. Более того, наша наглость простирается так далеко, что мы только самим себе приписываем и инициативу, и творческую роль, и привилегию создания этих благ. Происходит это, скорее всего, потому, что обыкновенному человеку, не увлеченному искусством, — а таких подавляющее большинство — свойственно преувеличивать роль собственной персоны в обустройстве общества, а без этого преувеличения он может быть и не согласился бы участвовать в столь хлопотливом проекте под названием жизнь. Но Природа-то знает, кому и какая роль отведена в этом проекте и даже на разных стадиях его осуществления. И от этого никуда не уйдешь и ничего не поменяешь. Творец закладывает свои эстетические идеи в произведения искусства, созерцатель обнаруживает эти идеи и «материализует» (то есть трансформирует) их в идеи, мысли, парадигмы, концепции и т. д. в сфере науки, техники, моральной и общественной жизни, люди же «непричастные» тем или иным образом к искусству внедряют идеи созерцателей, а, следовательно, и творцов, в жизнь. Искусство, как и всякое природное явление, строго иерархично в своем влиянии на человеческое сообщество, как строго иерархично, положим, построена система естественного отбора в животном мире.
Итак, мы показали, что интерес к искусству и знакомство с ним опосредованным образом влияет на продуктивность нашего мышления в различных сферах деятельности, что свидетельствует, скорее всего, о том, что идеи искусства каким-то непонятным нам образом усваиваются и понимаются нами, хотя и не на сознательном уровне.
Б. Второй наш аргумент в пользу «понимания» идеи произведения основан на экстраполяции на случай с произведением искусства засвидетельствованной нами — в случае с анекдотом и инсайтом — причинно-следственной связи между достижением понимания и возникновением интеллектуального чувства удовольствия
Мы уже указали на принципиальное сходство процессов восприятия анекдота и инсайта с процессом восприятия произведения искусства. И это убедило нас в том, что наличие указанной причинно-следственной связи в первом случае вполне обоснованно можно распространить на второй случай. А потому, если мы не отрицаем того, что произведение искусства все же воздействует на нас посредством как бы непонятно откуда возникающего интеллектуального удовольствия, то имеем ли мы основание отрицать, что это чувство является следствием «понимания» той идеи-новизны, которая заложена творцом произведения?
Чувству интеллектуального удовольствия просто неоткуда больше взяться как от «понимания» объективно-интеллектуальной новизны. Как мы показали ранее, субъективная интеллектуальная новизна не способна возбудить наше интеллектуальное чувство удовольствия. Что же касается чувственной новизны, новизны от движения (переживания) наших чувств, положим, в процессе восприятия спектакля, книги, поэтического или музыкального произведения, то она также связана — через чувства — с «пониманием» объективно-интеллектуальной новизны, то есть идеи воспринимаемого нами произведения искусства.
Но здесь нам придется отметить еще одну отличительную особенность анекдота и инсайта в дополнение к тем, что нами даны в Разделе 2.1.
И сделаем мы это не столько для того, чтобы нам легче было понять отличие их воздействия на нашу психику и интеллект от воздействия, оказываемого произведением искусства, сколько для того, чтобы увидеть то положение, в котором мы оказались в конце (на пределе) нашего анализа произведения искусства. И особенность эта заключается в следующем. Понимание смысла анекдота или оформленной инсайтной идеи уже через некоторое время отбивает у нас всякую охоту повторно услышать этот понятый и усвоенный нами на сознательном уровне анекдот или снова обратиться к той мысли, которую мы получили в результате обработки инсайтной идеи. О чем это говорит? А говорит это о том, что понимание и усвоение сознанием встреченной нами новизны (идеи, мысли) в сильной степени снижает нашу потребность в повторном общении с тем новым, что мы недавно усвоили и, наверняка, заложили в память в результате некоторого общения с уже понятой нами идеей, мыслью.
Таким образом, усвоение сознанием идеи является достаточным основанием для того, чтобы не испытывать удовольствия от того, что мы уже поняли. Поэтому вполне естественно, что мы не испытываем желания вновь к ней вернуться. Чувство удовольствия было приманкой к тому, чтобы мы усвоили нечто для нас новое и необходимое для расширения наших познаний в интересующей нас области. Итак, понимание сформировавшееся в бессознательном и вытесненное в сознание, усвоено последним, в связи с чем отпадает необходимость в желании снова к нему вернуться. С этой точки зрения интеллектуальное чувство удовольствия достаточно прагматично: оно выполнило свою роль и удалилось со сцены нашей психики. И никаким усилием воли мы уже не способны вернуть его обратно (хотя бы только для того, чтобы его испытать).
Удовольствие это монета, которой заплачено за понимание идеи (смысла) на сознательном уровне. Не плати нам Природа (физиология) такой монетой, вряд ли мы согласились бы развивать в себе способность понимания объективной интеллектуальной новизны.
Но что же с нами происходит в случае общения с понравившемся произведением искусства? Почему Природа так много нам платит, если принять во внимание тот неоспоримый факт, что мы способны достаточно долго испытывать притяжение того или иного произведения искусства, ощущая неизменным чувство наслаждения, но все же не достигая при этом понимания сути произведения на сознательном уровне?
Можно было бы, конечно, предположить, что достаточно частое и длительное общение с произведением сопровождается постепенным и достаточно незаметным пониманием его идеи на уровне сознания. Но это маловероятно, поскольку, как мы ранее показали, сознание способно постигнуть только ту объективно-интеллектуальную новизну, которая представляется ему в целостном и готовом виде, в виде однозначно понимаемой идеи. А потом, как бы долго мы не узнавали произведение искусства, мы не можем сказать, что степень нашего сознательного понимания идеи зависит от длительности и частоты нашего с ним общения. Мы можем лучше узнать его «внешнюю» сторону, сторону доступную как восприятию наших чувств, так и пониманию нашим сознанием (например, сюжетика, символика и т. д.), но внутренняя его сущность, его идея и новизна в «чистом» виде остается загадкой для нашего сознания. Другое дело, если постепенное постижение «внешней» атрибутики произведения искусства способствует постепенному узнаванию его внутренней сущности, как, положим, накопление наших познаний в какой-либо сфере способствует интенсификации иррациональной деятельности нашего интеллекта.
Учитывая последнее замечание, у нас остается только два варианта объяснения причины такого длительного и такого насладительного воздействия произведения искусства на нашу психику:
— либо мы сразу, что называется с первого взгляда, не только чувствуем, но и «понимаем» идею произведения и наслаждаемся последним,
— либо, просто-напросто, бессознательное берет «измором» и воздействует на нас чувством удовольствия до тех пор, пока само оно окончательно не «поймет» на иррациональном уровне всей той идеи-новизны, что заложена художником в произведении искусства.
В пользу любви «с первого взгляда» к произведению искусства говорит, во-первых, наш собственный опыт общения с ним: уж если что-то нам сразу понравилось в произведении искусства, то, уж будьте уверены, гарантия нашей любви к нему будет достаточно длительной; а во-вторых, наша «изначальная» любовь к искусству может определяться природной — в виде дарования — способностью «схватывать» идею произведения. А. Ф. Лосев, анализируя понятие эстетического сознания применительно к Платону, пишет:
«Последнее (эстетическое сознание — И. Ф.), фиксируя эстетический предмет, находится в таких близких и интимных отношениях к этому предмету, что оно всегда переживает себя как подлинного создателя и творца этого предмета. Красота всегда такова, что если она кому-нибудь дана для восприятия, то это значит что воспринимающий ее обладает ею как своим собственным детищем»48.
Но не стоит сбрасывать со счетов и вариант с «измором», то есть вариант постепенного постижения произведения искусства. Если понимание научной инсайтной идеи и ее оформление в мысль на сознательном уровне требует порою достаточно длительного времени, то почему бы нам не предположить, что «понимание» идеи произведения искусства нашим бессознательным так же требует определенного периода времени. Тем более что оформлением научной идеи в мысль, как правило, мы занимаемся достаточно интенсивно, а вот на поиск сущности произведения искусства мы как-то не очень много прилагаем усилий, а довольствуемся всего лишь доставляемым им удовольствием. Поэтому, скорее всего, оба варианта не взаимоисключают, а взаимодополняют друг друга, они всего лишь разные формы сознательно-бессознательного постижения новизны, неразличимые нашим сознанием.
Итак, каким бы не было по форме наше понимание идеи произведения и как бы оно не было растянуто по времени, мы полагаем, что нами все же достигается «понимание». И связали мы его с возникновением интеллектуального чувства удовольствия.
Но не заблуждаемся ли мы в том, что в случае с произведением искусства причиной возникновения самого интеллектуального чувства удовольствия является именно «понимание», а не какой-либо другой фактор. И, как мы уже догадываемся, таким фактором, «конкурирующим» с «пониманием» в части генерирования чувства удовольствия, может быть не что иное как душевное движение наших чувств, возбуждаемых произведением искусства: сострадания, возмущения, любви и т. д. Тогда у нас естественно возникает вопрос: что именно провоцирует возникновение интеллектуального чувства удовольствия:
— просто ли движение испытываемых нами чувств сострадания, любви, ненависти и т. д.
— или все же «понимание» идеи, которую заложил автор в свое произведение.
1. Что касается ответа на первый вопрос, то мы не можем сказать, что именно испытываемые нами чувства могут быть приняты за интеллектуальное чувство удовольствия (удовольствие от «понимания»). Против этого говорит хотя бы общеизвестное обстоятельство: посещая картинные галереи и концертные залы, мы ведь не охаем и не ахаем, не возмущаемся и не умиляемся, не страдаем и не переживаем ни тоски, ни злобы, ни любви, ни ненависти. Мы просто испытываем интеллектуальное чувство удовольствия.
Получается так, что в процессе созерцания произведения искусства наше интеллектуальное чувство удовольствия способно как бы «перешагнуть» через все те чувства, которые может возбудить данное произведение. И, несмотря на то, что чувство удовольствия само по себе непременно связано с движением наших чувств, возбуждаемых произведением, само созерцание произведений искусства может не сопровождаться одновременно возбуждением этих чувств, но оно непременно сопровождается возникновением интеллектуального чувства удовольствия.
Вот почему чувство удовольствия от «понимания» объективной интеллектуальной новизны (то есть идеи произведения) и чувство удовольствия от переживания наших чувств, возбуждаемых этим произведением искусства, это совершенно разные по своему функциональному назначению чувства (о чем у нас уже шла речь ранее): первое фиксирует наличие идеи и свидетельствует о ее «понимании», второе же, вкупе с теми чувствами, которые оно сопровождает, служит вектором наших размышлений и способствует интерпретации идеи произведения на уровне логического, сознательного мышления. И вот почему мы не можем принять возникновение чувственного удовольствия за критерий «понимания» идеи произведения. Таким критерием является интеллектуальное чувство удовольствия, а не то, которое «омрачено» чувственным волнением. (Вспомним еще раз теорию смеха Бергсона, изложенную в Разделе 2.1). Очевидно, вся сложность заключается в том, что интеллектуальное чувство удовольствия не только является следствием «понимания» интеллектуальной новизны, но оно еще и переплетено непонятным нам образом с удовольствием от непосредственного движения самых разнообразных наших чувств.
2. Итак, разобравшись с первым вопросом и дав на него отрицательный ответ, нам ничего другого не остается, как согласиться с тем, что возникновение интеллектуального чувства удовольствия при созерцании произведения искусства свидетельствует о «понимании» идеи на бессознательном уровне. И это «понимание» принципиально не может быть передано на уровень сознания только потому, что последнее не в состоянии понять посредством логики ту многогранную идею, которую «поняло» наше бессознательное. Причина же указанной несостоятельности кроется только в том, что наше сознание не обладает ни соответствующими познаниями, ни надлежащим опытом, посредством которых оно могло бы понять эту идею и оформить ее в однозначно воспринимаемую всеми мысль. Идеи анекдота и даже инсайта приближены к нашей земной жизни, а потому и могут быть поняты сознанием, в то время как идеи искусства — в силу своей неопределенности и многогранности — достаточно далеки от нашей сиюминутной прагматики и сознание не успевает в течение нашей короткой жизни накопить те познания, посредством которых оно могло бы понять идеи искусства. В жизнь вступает новое поколение и все повторяется снова и снова.
Идеи искусства подобны маякам, выступающим в миражном изображении: сколько бы мы к ним ни приближались, они не только от нас отдаляются, но и меняют свои очертания.
Вообще говоря, функция искусства потенциально вариативна по своей природе: те или иные идеи искусства могут быть воплощены в жизнь, а могут быть и не воплощены в обозримом нами будущем. Искусство предоставляет поле возможных направлений, в которых может быть осуществлено развитие Культуры. А когда и в каком виде будет освоено то или иное направление или оно освоено не будет — это уже забота не искусства, а той Культуры, в которую брошены семена искусства. Главное то, что то или иное произведение искусства — это тот светлячок, который своим мерцанием, своей новизной не дает забыть о себе; он — постоянное напоминание о тех возможностях, которые могут быть извлечены и использованы в каком-либо направлении развития общества. Идеи космоса, Природы, атома, души, прекрасного, истины, бытия, сущего, блага, добра, любви, ковра-самолета и т. д., — не они ли являются теми путеводными звездами, в направлении которых человечество осуществляет свое движение-развитие?
Так что Художник закладывает идеи в ту часть нашей жизни, которая именуется идеальной, но которая на самом деле наиболее «материальна», поскольку не живи мы этой идеальной жизнью, у нас не было бы и жизни материальной, так как отсутствовали бы те идеи, которые, внедряясь в нее, создают все многообразие жизни, наблюдаемое вокруг нас. Только многообразие идей способно создать многообразие жизни. И я убежден в том, что существует минимальная «критическая масса» генерируемых идей, при достижении которой развитие общества деградирует, поскольку материально-общественная жизнь «задыхается» в испарениях необновляемой духовной жизни и деятельности. (Не эта ли ситуация наблюдается нами в сфере нравственности, где со времен начала Христианства отсутствует приток каких-либо новых нравственных идей? Об этом же см. Раздел 9.4. «Идеи технические, научные, нравственные…», п. 3).
Итак, усмотрев причиной столь длительного нашего интереса к произведению искусства тот факт, что мы «понимаем» его идею на иррациональном уровне, не понимая ее на уровне рациональном, у нас снова возникает ряд вопросов, разрешение которых могло бы способствовать уяснению нашей позиции по вопросу понимания. Так, например, мы ничего определенного не можем сказать по поводу того, когда мы перестаем — и перестаем ли — испытывать чувство удовольствия от общения с тем или иным произведением и что именно является причиной «увядания» нашего интереса к нему: то ли таковой является «понимание» его сути на бессознательном уровне, то ли наша усталость от постоянной неспособности уяснить ее на сознательном уровне.
Другими словами, можем ли мы сказать, что наше желание общаться с произведением происходит до тех пор, пока мы окончательно не «поймем», не усвоим заложенную в нем идею? Является ли, положим, запоминание (наизусть) понравившегося нам стихотворения основанием нашей уверенности в том, что мы познали его идею? Но как быть тогда с живописным или музыкальным произведением: что мы там понимаем и запоминаем?
Окружив произведение искусства множеством подобных вопросов, мы, по сути дела, оказываемся перед наглухо запертой дверью: ни сознание — с этой стороны — уже ничем нам не может помочь, поскольку, как нам представляется, оно использовало все свои логические возможности; ни бессознательное — с другой стороны — не способно подать нам руки, так как оно исчерпало возможности языков своего общения с нашим сознанием, каковыми были:
— язык интуиции, инсайта, вдохновения и т. д.,
— язык самого интеллектуального чувства наслаждения,
— и язык спонтанно возникающих чувств и желаний (сострадания, ненависти и т. д.).
Что касается языка интуиции, инсайта и т. д., то на этом языке искусство общается с самим художником, но никак не с созерцателем произведения искусства. С нами, с созерцателями, на этом языке оно говорит только в случае, связанном с открытием (или изобретением) новизны научного (или технического) содержания.
Язык же самого интеллектуального чувства наслаждения не раскрывает сути самой новизны, он только фиксирует ее наличие.
И только язык спонтанно возникающих чувств способен подвигнуть нас к рефлексии по поводу их возникновения, а также к интерпретации этих чувств в форме тех или иных идей, но никак не к раскрытию идеи в «чистом» виде. Сама суть произведения искусства доступна «пониманию» только иррациональной частью нашего интеллекта.
Итак, засвидельствованная нами причинно-следственная связь между сознательным пониманием объективно-интеллектуальной новизны и спонтанным возникновением чувства удовольствия была распространена нами с случая инсайта и анекдота на случай с произведением искусства, когда возникновение интеллектуального удовольствия от его созерцания было нами связано с «пониманием» его идеи. И мы, как нам представляется, достаточно обосновано показали как правомерность подобной экстраполяции, так и возможность «понимания» идеи произведения.
С. А теперь нам предстоит привести еще один аргумент в пользу возможности подобного «понимания». И будет он касаться такого феномена творческого процесса, каким является вдохновение.
Вдохновение — это радостное осознание того, что мы все же восприняли нашей душой нечто родившееся в нашем бессознательном и можем принять в наше сознание это созревшее и готовое излиться из нас новое знание, что и случается как в самом состоянии вдохновения, так и в последующее ему время. Сам феномен вдохновения это, скорее всего, некое среднее состояние нашей творческой активности, по одну сторону которого может быть высшее состояние озарения (у художника), а по другую сторону, состояние, когда мы просто осознаем, что нечто в произведении нам нравится, но все же не знаем, что именно (у созерцателя).
Можно сказать, что при вдохновении происходит процесс непосредственной трансляции сути внезапно возникшей идеи произведения с бессознательного уровня на уровень сознания. Если бы у художника не было «понимания» идеи на бессознательном уровне, он бы не мог с такой лихорадочной поспешностью и убежденностью записывать то, что ему вещают Музы. Он даже не допускает каких-либо сомнений по поводу не только истинности и ценности возникшей идеи, но и правильности собственного ее «перевода» с языка бессознательного на язык сознания. Ну, а если художник способен «понять» и даже зафиксировать свою идею в произведение искусства в сознательно-бессознательном акте творения, то почему мы должны отказывать созерцателю в возможности «понимания» этой идеи хотя бы на бессознательном уровне. Ведь чувство удовольствия, как фиксатор наличия идеи, присуще не только художнику в состоянии вдохновения, но и созерцателю в состоянии восприятия произведения искусства.
И вообще, вдохновение, наитие, озарение, интуиция, инсайт и т. д. — это своеобразные «чуствилищные» состояния и акты по обнаружению объективно-интеллектуальной новизны, то есть идей. И наша творческая деятельность по раскрытию этих идей — это и есть процесс понимания, оформляемый либо ученым в новую для нас мысль (научное открытие или изобретение), либо художником — в произведение искусства, либо любителем — в рефлексию по поводу идеи произведения искусства, воздействующего на него возбуждением как интеллектуального чувства удовольствия, так и остальных чувств.
Д. И последний наш аргумент в пользу «понимания» идеи-новизны произведения искусства мы назовем аргументом от мудрости Природы. И построим мы его на одном из различий между научными и эстетическими истинами.
Дело в том, что эстетические истины в одном отношении выгодным образом отличаются от научных истин. И это отличие в том, что для того чтобы понять и почувствовать красоту и изящество какой-либо математической или физической теории, мы должны на достаточно высоком профессиональном уровне разбираться в математике или физике — а то и в том и в другом одновременно, — в то время как чувствование и «понимание» красоты (идеи) произведения искусства дается нам на бессознательном уровне как бы само собой, и нам не обязательно знать все тонкости мастерства художника, поэта, писателя, композитора. Нравится — и все тут!
Исходя из этого, следует учитывать тот очевидный факт, что сознательное постижение какого-либо нового для нас знания — то есть субъективной интеллектуальной новизны — всегда связано с затратой умственных и психических сил. (И об этом мы знаем хотя бы по опыту собственной учебы в любом возрасте). Бессознательное же (спонтанное) постижение объективной интеллектуальной новизны (идеи), наоборот, обходится нам как бы без затраты умственных и психических сил, а в некоторых случаях, например, при инсайте или созерцании любимого нами произведения искусства, — мы даже испытываем чувство удовольствия или эйфории. И в этом весь парадокс творческого мышления и восприятия идеи-новизны. Казалось бы, должно быть наоборот, и все для нас совершенно новое (то есть объективная интеллектуальная новизна) должно добываться с большим трудом, чем познание того, что уже добыто. Так нет же, Природа распорядилась по-своему. И в этом вся ее мудрость: поступи она по другому, человек вряд ли согласился бы постигать что-либо для него совершенно новое таким тяжким трудом, то есть трудом одной лишь сознательной работы мысли. Природа пошла ему навстречу, наделив способностью иррационального мышления, да к тому же мышления продуктивного и доставляющего чувство наслаждения от самого процесса творчества.
Данным обстоятельством мы еще раз указываем на то, что наше продуктивное мышление (то есть мышление, «добывающее» новое знание) и восприятие объективной интеллектуальной идеи-новизны произведения искусства осуществляются не на сознательном (логическом) уровне, а на уровне иррациональном. И чувство интеллектуального удовольствия дано нам Природой не только для того, чтобы мы просто «зафиксировали» наличие, положим, технической или научной идеи-истины, но и для того, чтобы нам проще было довести до мысли эту идею, только что явившуюся нам из бессознательного и еще не способную к самостоятельному существованию. Это, во-первых. А во-вторых, интеллектуальное чувство удовольствия дано нам для того, чтобы нам было легче «понять» и усвоить идею произведения искусства на бессознательном уровне посредством многократного обращения к данному произведению, к которому (обращению) нас буквально «вынуждает» чувство интеллектуального наслаждения от общения с ним. В противном случае, возникновение интеллектуального удовольствия было бы бессмысленным.
Таким образом, «понимание» идеи произведения — пускай и на бессознательном уровне — это усвоение нашей психикой и нашим интеллектом чего-то для нас нового. У нас нет необходимости «понимать» уже известное и старое, а вот «понять» новое для нас бывает насущной и жизненно важной необходимостью, потому что к старому мы бываем всегда готовы, к новому — никогда. Человеческое существо, не обладающее способностью (даром) распознавания новизны и понимания идеи в ней заложенной, не смогло бы выжить в этом мире, потому что оно не замечало бы этой новизны и не приспосабливало бы ее для своих нужд. А это самым пагубным образом отразилось бы не только на психическом развитии индивида, но и на самом физическом его выживании. Новизна — это тот оселок, на котором совершенствуется как развитие самой психики, так и интеллекта.
Вот почему возникновение чувства удовольствия от встречи с идеей-новизной было бы бессмысленным, не будь оно связано с чем-то для нас крайне важным и необходимым. Природа ничего не дает даром, тем более удовольствие: за это надо отрабатывать повышенной эффективностью мышления и понимания, способствующих приумножению многообразия духовно-материальной сферы Цивилизации.
Глава 3. Назад к грекам!
Древние греки два с половиной тысячелетия назад гораздо ближе чем мы были к истине, понимая под прекрасным все то, что нам нравится. Все мироздание для них (вместе с человеком) обладало свойством прекрасного. Интуитивно они улавливали, что прекрасное не является прерогативой искусственно создаваемых произведений, отчего этим термином они характеризовали и природу, и космос, и душу, и тело, и благо, и справедливость, и мужество и многое другое.
3.1. Сужение сферы прекрасного
Последующие времена сузили понятие прекрасного, соотнося его только с произведениями, искусственно создаваемыми человеком. Но справедливо ли подобное сужение? Можем ли мы сказать, что мы понимаем природу со всеми ее прекрасными ландшафтами, морями и океанами и во всем многообразии ее флоры и фауны? Можем ли мы до конца понять, положим, идею справедливости, идею красоты или идею взаимосвязанности всего происходящего как в природе, так и в человеческом обществе? И разве, созерцая картины шаровых, спиралевидных или эллиптических галактик, можно сказать, что мы их понимаем? Но ведь также мы не понимаем и произведение искусства. Почему бы тогда не считать прекрасным произведением искусства и нашу Галактику и земную Природу и всю слаженность процессов, происходящих в ней?
Другими словами, можно ли назвать произведением искусства природную красоту: ландшафт, женское лицо, тело атлетически сложенного человека? Есть ли для нас — именно для нас, для субъекта — какая-нибудь существенная разница между пейзажем, изображенным на картине Джорджоне и самим пейзажем, как видом на определенное пространство местности или между портретом камеристки Рубенса и лицом самой модели. Если данный природный пейзаж представляет в наших глазах идею величественности или если модель художника представляет идею красоты и женственности, то почему бы данные природные явления не считать произведениями искусства, правда, созданными самой Природой, а не человеком? Главное, чтобы нам хотелось, хотя бы время от времени, смотреть на них и получать от этого удовольствие, как нам хочется смотреть и получать удовольствие от созерцания соответствующих живописных полотен.
Нашему интеллекту и нашей психике, по сути дела, не столь важно, в каком объекте или явлении окружающей нас действительности заключена красота (идея, новизна). Главное, чтобы мы чувствовали ее присутствие и пытались ее понять вне зависимости от того, является ли этот объект (явление) творением Природы или человеческого духа.
Итак, как нам представляется, сужение сферы прекрасного за счет исключения из нее огромной области еще не познанных природных объектов и явлений вряд ли было обоснованным. В связи с этим вспомним еще об одном происшедшем уже на нашем веку, процессе сужения сферы прекрасного, названном Ортегой-и-1'ассетом «дегуманизацией искусства». (Как известно, эта «дегуманизация» заключалась в устранении из произведения искусства всего того, что настраивало созерцателя на традиционный, отработанный веками способ восприятия произведения искусства). И по аналогии с «дегуманизацией искусства» назовем вышеотмеченный нами процесс присвоения человеком функции созидания прекрасного «гуманизацией искусства».
Таким образом, если, согласно Ортеге-и-Гассету, «дегуманизация искусства» состояла в том, что из произведений современного искусства было исключено все «человеческое, слишком человеческое» (Ницше) — вспомним хотя бы так называемое «беспредметное» искусство, — то «гуманизация искусства» заключалась в том, что сфера эстетики была ограничена тем, что являлось делом рук и ума самого человека, вследствие чего из сферы прекрасного автоматически была «изъята» огромная область всего того, что еще не познано, что обладало потенциально заложенной новизной. А эта область включала в себя и Природу со всеми ее таинственными явлениями и объектами, и человеческое сообщество во всем многообразии его загадочных связей как с окружающим миром, так и внутри самого себя. То есть Природе «самой по себе», Природе, не нашедшей отражения в каком-либо созданном человеком произведении искусства было отказано в том, чтобы на полном основании характеризоваться эпитетом «прекрасное», поскольку сферой эстетики, как науки о красоте, стало только то, что сотворено в достаточно узкой области его творчества, позднее (ХУ111 век) поименованной изящным искусством. Но мы-то знаем, что Природа прекрасна и прекрасна не только в силу того, что она способна доставлять нам наслаждение, сколько в силу своей таинственности, в силу того, что она хранит в себе еще не познанную нами новизну во всех ее бесчисленных проявлениях.
Отмеченное выше искусственное и вряд ли справедливое сужение сферы прекрасного скорее всего свидетельствовало о том, что уязвленное самолюбие человека не способно было вынести лицезрения рядом с собой такого совершенного творца, каким являлась сама Природа. Она была устранена со сцены эстетического, и даже подражание ей считалось, если не признаком дурного вкуса, то, по крайней мере, предосудительным. Человек только себе одному присвоил природную функцию творить — создавать или открывать нечто новое. И только Христианство, перегнув, правда, палку совсем в другую сторону, попыталось воспрепятствовать этому, провозгласив Бога творцом всего сущего и отказав тем самым в творческой способности не только самому человеку, но и всей Природе. Но это уже была попытка с совсем негодными средствами.
3.2. Отделение науки от эстетики
А теперь, коль скоро мы затронули вопрос, справедливо ли было указанное выше сужение сферы прекрасного, рассмотрим еще одно «сужение», но теперь уже связанное с разделением научной и эстетической сфер. Но сначала напомним общеизвестный факт из античной эстетики. Для грека времен Античности искусством было и ремесло, и техника, и наука, и медицина, и гимнастика, и общественно-политическая деятельность. И это не удивительно, поскольку не только Космос, не только Природа были произведением искусства, произведением искусства была сама жизнь.
Итак, попытаемся понять, имелись ли у эстетики основания, — а если имелись, то какие — для того, чтобы не включать в свою сферу область научного творчества. Казалось бы:
— и в той и в другой сфере есть загадочность,
— и та и другая сфера связаны с открытием новизны,
— да к тому же обе они, в отличие от самой природы, создают искусственный продукт: только в одном случае научную идею (мысль, теорию), а в другом — идею эстетическую.
Разделение научных (технических) и эстетических истин (идей), как нам представляется, условно. Эстетично — все то, в чем еще заключена тайна (идея, новизна), научно — все то, с чего этот покров тайны уже может быть снят, все то, новизна чего может стать доступной нашему сознанию, нашему пониманию.
Мир един и только наша неспособность понять его во всем единстве его многообразия привела к тому, что мы насильственно расщепили его в нашем воображении и понимании на науку и искусство, предположив тем самым существование научного и эстетического способа познания этого Мира. Но если мир един, то един и способ не только его познания, но и сотворения (что является одной из основных мыслей, изложенных нами в Частях 11 и 111), осуществляемых посредством продуктивного мышления как единственного средства способного как к тому, так и к другому. Способ нашего познания-сотворения, если можно так выразиться, научно-эстетичен, потому что цель любого познания, будь оно научным или художественным, открытие новизны (тайны, идеи) скрытой в вещах и явлениях окружающей нас действительности. И для нашего интеллекта не столь важно, в чем заключена эта новизна, для нас важно одно: способны ли мы к открытию этой тайны, обладаем ли мы дарованием к этому. А какова наклонность нашего дарования — к науке ли, к технике или к искусству — это уже второстепенный вопрос.
В конце концов, что мы имеем в виду, когда говорим, что «мир един и един способ его познания»? Данное словосочетание предполагает, прежде всего, то, что — в силу указанного выше единства мира, который мы познаем и в силу единства с этим миром самого человека, который познает не только этот мир, но и самого себя, — нет отдельных и обособленных способов его познания, таких как чувственное познание, познание логическое и познание интуитивное. Наши чувства, основывающиеся на нейрофизиологических процессах, наш разум, базирующийся на сознании и наши интуиции (инсайты, озарения и т. д.), укорененные в бессознательном, — все это тесно между собою переплетено, взаимосвязано, а главное, взаимодополнительно друг другу, а потому никак не может выступать отдельным и самостоятельным способом познания. И эстетический метод познания и творчества, по сути дела, ничем не отличается от метода научного или даже технического — хотя последний всего лишь использует и внедряет то, что добыто наукой, — поскольку во всех этих видах познания и творчества просто необходимо присутствие и чувства, и интуиции и способности логически мыслить.
Кстати сказать, если техническое творчество основывается на результатах научного творчества, то, в силу указанного выше единства, ничто не мешает нам заявить, что научное творчество базируется на «результатах» эстетического творчества. (И что это именно так, мы постараемся показать ниже). Разница между этими двумя взаимосвязями всего лишь в том, что техническое применение научных результатов осуществляется, как правило, спустя непродолжительное время после научного открытия, в то время как «научное обоснование» (подтверждение) эстетических истин — в силу их неопределенности, виртуальности и таинственности — отодвинуто в далекое будущее и мы не можем хотя бы даже с какой-либо долей точности угадать, какие именно истины и когда достигнут такой степени зрелости, что станут предметом научных исследований или открытий. (Вспомним об эстетических идеях космоса, атома, души, ковра-самолета и т. д.)
Таким образом, мы уже понимаем, что в силу указанного единства способа нашего познания, для нас не столь важно, каким он будет — научным или эстетическим, поскольку весь опыт нашего мышления говорит о том, что в каждом из них сочетаются элементы обоих: как логики, так и интуиции. Об этом свидетельствует вся предыдущая история развития науки и техники, литературы и поэзии, живописи и музыки, начиная с Гераклита и Платона и кончая сегодняшним днем. Поэтому, нашему интеллекту и нашему дарованию безразлично, что ему подвернулось «под руку»: главное, чтобы к нему лежала душа, чтобы у нас был глубинный интерес к этому. Наш интеллект «космополитичен» по своей Природе и ему не столь важно, в каких сферах новизны обитать и какие новые горизонты осваивать — было бы дарование к этому. Вот в этом природном даровании как раз и находится одна из причин разграничения научных и эстетических истин: научное дарование предполагает способность продуктивно мыслить, художественное же дарование, кроме этой способности предполагает склонность (способность, талант) к какой-либо сфере искусства — поэтической, живописной, музыкальной и т. д. Но ни это разграничение, ни другие, отмеченные нами ранее, нисколько не говорят в пользу того, чтобы исключить научные идеи из сферы эстетического. Неужели изящество и красота научных теорий Ньютона, Кеплера, Бора, Эйнштейна и мн. др. вкупе с той новизной, которую последние привносят в этот мир, не дают нам право отнести идеи этих теорий к разряду эстетических?
3.3. Эстетика как приготовительная школа науки
Но здесь возникает одно затруднение, которое, казалось бы, может сработать на руку оправданности разделения научной и эстетической сфер. И это затруднение нам необходимо разъяснить. Совсем недавно мы рассмотрели положение о том, что произведение искусства все же обладает идеей, и эту идею мы можем «понять», хотя и на бессознательном уровне; более того, мы предположили, что эти идеи каким-то нам еще непонятным образом участвуют в процессе мышления, содействуя открытию новизны нам еще неизвестной. Тогда вполне естественно возникает вопрос: а почему научные (технические) идеи, рождающиеся не без помощи нашего бессознательного, преодолевают барьер между бессознательным и сознанием и оказываются в сознании в форме инсайтных (интуитивных) идей, преобразуемых в дальнейшем в однозначно понимаемые мысли (развернутые из этих идей), а вот эстетические идеи не способны на это. Они «застревают» в бессознательном и мы не в состоянии познать их в «чистом» виде, а можем только узнать о них кое-что опосредованно, путем интерпретации тех чувств, которые вызывает в нас то или иное произведение искусства. (На какой стадии нашего иррационального мышления «застревают» эти идеи нами более подробно будет разъяснено в Части 11).
Итак, в чем причина того, что эстетические идеи, в отличие от научных, все же не доступны пониманию нашим сознанием, «виновен» ли в этом наш интеллект или «вина» лежит на самой эстетической идее. Когда мы говорим об эстетической истине и о нашей неспособности понять ее, то, может быть, мы не способны ее понять не потому, что нам не дано это, а потому, что сама эстетическая идея пока что не может быть нами познана в силу своих собственных внутренних свойств, как-то: смутность, незавершенность формирования, экстравагантность, абсурдность с точки зрения существующих на данное время и по данному вопросу представлений, то есть с точки зрения «здравого» рассудка.
Если исходить из последних предположений, то нет ничего удивительного в том, что мы не понимаем идею произведения искусства. Мы может быть и не должны ее понимать в силу того, что идеи как таковой, то есть идеи как понятия, представленного в целостном виде в произведении может и не быть. Понять можно только то, что имеет целостный, завершенный вид. Отсутствие какого-либо элемента, входящего в состав данного понятия (идеи), — а скорее всего, наша неспособность увидеть этот элемент — автоматически отсекает нам доступ к пониманию самой сути идеи, к пониманию той новизны, которую она в себе несет. (И это, как мы поймем далее в Части 11, является принципиально важным положением как при создании (обнаружении) новых идей, так и при понимании последних). Так что вина непонимания может лежать как на самом творце произведения, — который либо не совсем четко выразил идею, либо слишком опередил свое время и современники еще не способны ее понять, — так и на созерцателях произведения искусства, которые, как это зачастую и бывает, еще не «доросли» в интеллектуальном отношении до понимания того, в чем же все-таки заключена новаторская сущность произведения. Взять хотя бы А. Шопенгауэра, основное произведение которого более четверти века дожидалось своего признания. К этому же разряду относятся изобретения и открытия Леонардо да Винчи.
И здесь не столько ради иллюстрации вышеотмеченного положения, сколько ради справедливости необходимо сказать следующее. Приведенное нами эпиграфом платоновское определение творческого искусства как причины возникновения новизны («того, чего раньше не было») является гениальной догадкой (интуицией) о неразрывной связи творчества и искусства с новизной, привносимой ими в этот мир. К сожалению, Платон оказался далеко впереди своего времени, а потому и в одиночестве, судя по тому, что ни Античностью, ни Средневековьем, ни Новыми временами данная связь была не только не разработана, но и в должной степени не понята, поскольку не была замечена, ни философами, ни эстетиками, ни психологами, а если и была замечена, то в довольно-таки «слабой» степени.
Данное обстоятельство лишний раз свидетельствует о том, что формулировка какого-либо нового положения (идеи) может быть замечена и понята нашим сознанием только в том случае, если нам известны все составляющие этого положения, В данном случае такими составляющими были понятия: «творчество», «искусство», «возникновение того, чего раньше не было», то есть новизна. И скорее всего, камнем преткновения в понимании и дальнейшей разработке данного Платоном определения явилось отсутствие четкого осознания того, что такое интеллектуальная новизна. И, конечно, немаловажную роль в этом сыграло то обстоятельство, что античное искусство, культивируя «каноны», старалось избегать чего-либо нового.
Приведенная эпиграфом формула Платона вкупе с тем фактом, что последующие века не смогли связать творчество, искусство и новизну в единую проблему познания и понимания Истин Бытия, свидетельствуют, скорее всего о том, что преждевременные открытия не могут быть восприняты обществом в том случае, если они содержат в себе новые элементы, еще не усвоенные, по крайней мере, хотя бы научным сообществом.
Поэтому надо всегда помнить, что любая мысль, любое понятие, любая закономерность представляют собой множество вещей и явлений, связанных между собой определенным — только им одним свойственным — образом. И мы не способны «увидеть» нашим сознанием ни эту мысль, ни это понятие, ни эту закономерность в их целостном виде — а «увидеть» можно только в целостном виде! — в том случае, если нашему сознанию неизвестно какое-либо звено или какая-нибудь взаимосвязь, составляющие данный целостный агрегат или механизм. (Об этом более подробно в Разделах 5.1 и 6.1 Части 11, когда мы будем говорить о роли объекта-сущего и его свойств в формировании новой идеи).
А теперь снова возвращаемся к вопросу обоснованности разделения научных и эстетических истин и об их различии. Но сейчас зададимся не вопросом качества представления эстетической истины в произведении искусства и не вопросом нашей способности (или неспособности) ее почувствовать и понять, а вопросом, что собой представляет эстетическая истина сама по себе. Что это?:
— зрелая дама, которая по каким-то соображениям не открывает своего прекрасного лица, спрятанного за таинственной маской?
— или это не развившийся подросток, у которого еще нет «своего» лица и которому пока что нечего предъявить миру?
Что касается первого варианта ответа на заданный вопрос, то против него, казалось бы, говорит то обстоятельство, что, как показывает повседневная практика, при созерцании произведений искусства у нас никогда не возникает инсайтного состояния нашей психики, свидетельствующего о том, что мы поняли идею, уже не допускающую какого-либо другого толкования (как это зачастую наблюдается при разработке научной или технической идеи). Да и попытки логического анализа произведения искусства отнюдь не приближают нас к «окончательной» разгадке смысла того или иного произведения искусства: наоборот, интерпретации множатся по мере нашего желания учесть все факторы, имеющие отношение к данному произведению.
Казалось бы, если произведение искусства несет в себе какую-либо созревшую идею, то почему бы ей не открыться нашему сознанию. Ан нет, этого не происходит и мы вынуждены самим отсутствием четкости сознательного представления идеи к тем или иным толкованиям ее смутных очертаний. Так в тесте Роршаха сама неопределенность пятен побуждает нас к различным интерпретациям, в то время как пятно близкое по своим очертаниям к знакомой нам фигуре (положим, птицы или человека) сразу же исключило бы альтернативные толкования.
Итак, отвергнув пока что первый вариант ответа на вопрос, что собой представляет эстетическая идея, нам остается только согласиться со вторым вариантом: то есть с тем предположением, что эстетические истины — это еще не «созревшие» научные идеи. Попытаемся подтвердить возникшее подозрение следующими достаточно простыми рассуждениями. В начале становления как самого человеческого сообщества, так и интеллектуальных способностей его членов, все идеи вещей и явлений их связывающих были, если можно так выразиться, эстетическими, поскольку заключали в себе тайну (идею, новизну) непонятную нашему сознанию. Но затем, по мере совершенствования нашего интеллекта и расширения наших познаний, мы постепенно стали постигать некоторые наиболее близкие нам и наиболее важные для нас объекты, явления и идеи их связывающие. И они-то, эти объекты, явления, идеи были нами отнесены к сфере научно-технических. Те же объекты, явления, идеи, которые не поддавались нашему познанию, были отнесены — уже древнегреческими мыслителями — к эстетическим.
Если наше предположение по поводу постепенного и достаточно длительного «созревания» эстетических идей до состояния научных не является ошибочным, то мы могли бы в качестве иллюстрации найти в истории интеллектуального развития человечества примеры хотя бы некоторых идей, которые сначала были эстетическими, а затем стали предметом научного рассмотрения. И таких примеров, как оказалось, можно набрать великое множество. Взять хотя бы идею Античного космоса, бывшую сначала идеей эстетической, а впоследствии раздробившейся на множество идей, объектов и явлений, рассматриваемых такими естественно-научными дисциплинами как математика, геометрия, физика, астрономия, космология, астрофизика и т. д. А эстетическая идея души, уже почти потерявшая к нашему времени свой эстетический характер, но трансформировавшаяся со времен Гераклита, Платона и Аристотеля частично в теорию познания (вспомним о трехчастном ее составе), частично в медицину, частично в психологию, а частично в психоанализ? Да к тому же само мифологическое мышление и мифопоэтическое творчество есть мышление и творчество эстетическое и переход к рациональному мышлению и творчеству сам по себе предполагает переход к научному способу познания.
Таким образом, если эстетические истины это еще не созревшие научные идеи, то тогда эстетика — это «приготовительная школа» науки человечества. Но «приготовительность» эстетики — как предшественницы науки — не «снизу», а «сверху». Наука рождается не только на почве ремесла, технического и технологического оснащения, она, в первую очередь, рождается из эстетических представлений о красоте, соразмерности, гармонии, соответствии назначению, возвышенности окружающего нас мира, нашедшего отражение в произведениях искусства. Разве можно было бы представить теории Коперника, Бруно, Галилея, Кеплера, Ньютона и др. без того, что они, создатели этих теорий, возросли, в том числе и на античной эстетике, по сути дела, возродившейся в 15—16 веках. И неспроста ведь бурный расцвет научного и технического развития пришелся именно на это и последующее ему время.
Не будь искусства (эстетики) — невозможна была бы сама наука. Как наука предоставляет поле деятельности для техники, так и эстетика (вкупе с искусством) подготовляет и почву, и семена, и атмосферу для рождения научных идей. Но эстетическая истина — это истина, еще не ставшая предметом научного рассмотрения, истина еще не созревшая для того, чтобы явиться нашему сознанию в рационально-иррациональном акте научного творения. Эта истина до поры до времени не способна к самостоятельной жизни в форме какой-либо научной истины, так как она еще не завершила инкубационную стадию «внутриутробного» развития и интеллектуального созревания в чреве человеческого сообщества.
Как инсайтная (интуитивная) научная или техническая идея проходит инкубационную стадию своего созревания в мозгу будущего открывателя (изобретателя), так и эстетическая идея проходит стадию созревания в коллективном интеллекте человечества.
Получается так, что эстетическая истина — это и «прекрасная дама» и «подросток»: с одной стороны, со стороны своей таинственности и завершенности, воплощенной в произведении искусства, это истина зрелая и сформировавшаяся; с другой же стороны, со стороны нашей неспособности облечь ее каким-либо понятийным содержанием, это истина, пока что дожидающаяся часа своего воплощения в действительность.
Поэтому у искусства, как у медали, две стороны: лицевая и оборотная. С одной стороны, созданное творцом произведение искусства несет в себе некий новый, хотя и таинственно-призрачный взгляд на окружающую нас реальность. А с другой стороны, произведение искусства — это произведение не только воспринимаемое созерцателем, но и перерабатываемое им до такой степени, чтобы на оборотной стороне проявились некоторые вполне оформленные и уже достаточно четкие очертания тех призрачных фигур лицевой стороны, которые, возможно, виделись художнику в акте его творения. Вот по этой оборотной стороне и формируется действительность.
Искусство призвано как к идеальной деятельности, так и к деятельности сугубо прагматической, поскольку художник создает некий отдаленный и достаточно виртуальный план бытийственной жизни в виде идеально-потенциальных направлений развития, в то время как созерцатель со временем угадывает некоторые из этих направлений и претворяет их в жизнь. Так что искусство служит не только для услаждения души созерцателя, оно для него некий ребус, который он может не только разгадать но и осуществить замысел, заложенный в нем творцом, то есть реализовать план бытия в нем зашифрованный.
Правда, неправильным было бы думать, что есть художник, заложивший в свое произведение некие идеи и есть созерцатель, обнаруживший эти идеи, сформулировавший их в виде мысли (понятия, теории, закономерности) и внедривший их в жизнь. Все и гораздо сложнее и гораздо проще. Нет отдельных произведений искусства как таковых, воздействующих на общество по подобному сценарию. Искусство воздействует во всей своей совокупности и воздействует оно, конечно, не на все общество, а только на ту ничтожную его часть, которая способна его воспринимать, перерабатывать своим интеллектом в новые идеи и претворять эти идеи в жизнь. (Правда, результаты этого претворения все же достаются всему обществу).
Жизнь не стоит на месте, она, изнутри себя — и не без помощи искусства — расширяет ареал своего нового влияния и распространения. И не столь важно, в чем будет заключаться это расширение: возникновение ли это нового мировоззрения или новой парадигмы в какой-либо сфере деятельности, открытие ли это нового взгляда на саму жизнь и законы, ею управляющие, или это создание новых технологий, ускоряющих сам процесс познания — главное, чтобы жизнь развивалась, чтобы возрастало само многообразие, то многообразие, которое является почвой для нового знания и нового расширения жизни.
И не искусство родилось в лоне культуры, что, как казалось, было бы вполне естественным предположить, потому что в нашем представлении искусство, если можно так выразиться, более высокая духовная инстанция по сравнению с культурой. Наоборот, культура появилась благодаря наличию искусства, поскольку все новое и продуктивное, — а в этом мы не можем отказать культуре — имеет в своей основе и в своем начале спонтанные природные, творческие процессы столь характерные для искусства. Искусство первично только потому, что оно спонтанно, а спонтанное всегда предшествует рациональному. И неспроста идея первична, так как она спонтанна, тогда как мысль следует за ней (спонтанностью), оформляя ее в понятийное русло. Искусство рождается и питается душевными стихийными порывами нашей психики, в то время как культура представляет собой духовное явление, которое можно представить в виде душевного явления, но уже трансформированного нами и оформленного нашим интеллектом в удобопонимаемую и усвояемую форму духовного знания, то есть культурного явления. Культура — это уже «застывшая» форма искусства, тогда как искусство — это магма, периодически извергаемая из жерла вулкана.
Но если мы все же зададимся вопросом, что собой представляет эстетическая истина «сама по себе», то вынуждены будем ответить, что эстетических истин как таковых нет в природе, поскольку никто их не «видел» и никто не способен их сформулировать на достаточно четком понятийном уровне. И они только потому не могут быть оформлены каким-либо осознаваемым нами содержанием — на манер научных истин, — что по своей природе они не имеют достаточно четких очертаний, так как представляют собой сложную систему виртуальных идей, каждая из которых может быть выявлена только в определенных условиях материально-духовного развития общества.
Так в эстетической идее Античного космоса были заложены не только идеи многих современных естественно-научных дисциплин, но и идеи морали (справедливость, законность, совесть, вина и т. д.) и самой эстетики (гармония, красота, соответствие назначению, возвышенное и т. д.). И в каких направлениях произойдет отпочковывание тех или иных идей, зависит от направленности развития общества как саморазвивающейся системы. И в этом отношении совершенно прав был Ницше, когда писал, что
«Наше назначение распоряжается нами, даже когда мы еще не знаем его; будущее управляет нашим сегодняшним днем»49,
если иметь ввиду, что будущее уже заложено в различного рода эстетических истинах.
С этой точки зрения эстетическое творчество — это, если можно так выразиться, воспоминание о будущем, воспоминание грядущих, еще не ясных нам самим, очертаний тех идей, которые, однако, уже способно уловить на бессознательном уровне наше интеллектуальное чувство удовольствия, но еще не способен сформировать и «сформулировать» наш интеллект, то есть сформировать до такого состояния, чтобы можно было представить их нашему сознанию в виде интуитивных или инсайтных идей.
Эстетическая истина не может быть открыта нашему сознанию потому, что последнее не настолько созрело, чтобы обнаружить в ней, в эстетической идее, какую-либо научную идею. Только накопление — в поколениях — соответствующих познаний в этой сфере и приобретение опыта оперирования этим познанием способно «вытянуть» из эстетической истины ту или другую сродственную этому познанию научную идею. Так магнит притянет к себе из множества шариков, изготовленных из разных материалов, только тот, что сделан из железа. Не отсюда ли справедливость буквального смысла выражения «Знание-сила»: познание, достигшее достаточно высокого уровня, уже способно оформиться в какую-либо идею. Само по себе оно не может этого сделать, ему нужна путеводная звезда, ему нужен идеальный прообраз, архетип, в соответствии с которым оно могло бы начать самостоятельную жизнь. И этим прообразом как раз и является эстетическая идея. А само по себе, без содействия искусства оно не в состоянии оформиться в новое знание только потому, что, как мы уже неоднократно упоминали, сознание не способно ни увидеть, ни создать саму новизну (каковой обладает идея), ее может увидеть бессознательное, обладающее опытом «общения» с новизной (и с искусством) и способностью целостного восприятия идей. И бессознательное, как это ни странно, не только ее «видит», но и «понимает», о чем свидетельствует спонтанное возникновение интеллектуального чувства удовольствия. Оно, бессознательное, подобно Линкею, прозревает сквозь толщу будущего.
Так что научные истины — это истины, некогда бывшие эстетическими истинами, но обретшие к моменту своего открытия достаточно четкие очертания и созревшие до способности быть понятыми и выраженными. В научных истинах научным является то, что они уже могут быть оформлены в однозначно понимаемую всеми мысль (теорию). Эстетическим же в них является неожиданность и спонтанность возникновения в виде новых идей, некогда обладавших статусом таинственности, загадочности.
И если мы посмотрим на эстетические и научные истины с точки зрения творческой деятельности ученого и художника, то сразу же увидим различие между последними. Ученый «вышелушивает» и проявляет идею, он ищет такую идею, которая уже «носится в воздухе». Эта идея уже созрела для своего рождения и проявления. И ведь недаром авторами хотя бы некоторых открытий, таких как, положим, неевклидова геометрия (Гаусс, Больяи, Лобачевский) или теории естественного отбора (Дарвин, Уоллес) были сразу несколько ученых.
Художник же, наоборот, не выявляет истину, он ее формирует и закладывает в произведение искусства. И делает он это — правда, на бессознательном уровне — с той целью, чтобы в грядущие времена созерцатель-ученый усмотрел в ней какую-либо из научных идей, потенциально в ней присутствующих. Так что задачи ученого и художника в корне противоположны, поскольку противоположны сути эстетических и научных истин. Если художник закладывает в произведение искусства так называемую эстетическую истину, то есть комплекс едва ощутимых им идей, идей которые только ему одному видятся и то в моменты крайне редких вдохновений, наитий, озарений, то ученый выявляет уже созревшую идею, идею, уже отпочковавшуюся (или готовую отделиться) от какой-либо эстетической истины.
А теперь попытаемся понять, что собой представляют так называемые мистические истины и имеют ли они какое-либо отношение к истинам эстетическим. Во-первых, следует отметить, что, если эстетические истины имеют своего творца и своего созерцателя, испытывающего чувство удовольствия от созерцания произведения искусства, то мистические истины, имея своего творца, по сути дела, не имеют созерцателя, поскольку даже на бессознательном уровне, последний вряд ли способен почувствовать, а тем более понять суть изложенного мистического откровения. Она непередаваема. Во-вторых, мистические откровения не могут быть оформлены в произведение искусства и даже будь способен мистик создать таковое, никто бы его не понял и ни у кого бы оно не вызвало чувства удовольствия. И, в-третьих, мистические откровения, так же как и эстетические истины, все же являются прозрениями нашего бессознательного, которые не способно понять наше сознание. Опыт познания мира нашим сознанием настолько беден, что он не может «поспеть» за эстетическими истинами, а тем более за истинами мистическими. (Слава Богу, что он поспевает — правда, непонятно во вред ли себе или на пользу — за научными истинами). Сознание не способно на логическом уровне понять и сформулировать то, что предъявило ему бессознательное в акте мистического откровения. Оно может «схватить», понять и оформить только то, что оно способно «переварить», как наш организм способен усвоить только то, что способен переварить наш желудок: отсутствие познаний и опыта, этого «желудочного сока» переработки соответствующей новой информации, оставит любую, даже легко усвояемую «пищу», нетронутой. Так и мистические истины остаются нераскрытыми ни художественными, ни научными средствами только потому, что наш интеллект еще не имеет в своем арсенале тех реактивов и тех лакмусовых бумажек — наподобие хотя бы чувства наслаждения, — которые были бы способны их обнаружить и представить в удобопонимаемой форме.
Таким образом, если научные истины со временем могут быть отделены от истин эстетических, то мистические истины, находящиеся «по ту сторону» эстетических, это те же эстетические истины, но еще не способные даже к тому, чтобы быть представленными в художественной форме. Они и не отделены от эстетических истин, поскольку художественность им все же присуща, и не принадлежат к ним, так как не вызывают интеллектуального чувства удовольствия.
Так что и эстетические и мистические истины работают на грядущее. Но они идут далеко впереди познавательной способности нашего разума, который еще не может их разглядеть. Вот если со временем он обзаведется определенными познаниями и опытом оперирования ими — этими микроскопами, телескопами, приборами ночного видения и т. д., — то можно тогда надеяться, что он сможет разглядеть нечто ему прежде невидимое и новое.
Теперь мы уже понимаем: если исключение из сферы эстетики научных и мистических истин — в силу познаваемости первых и полной непознаваемости вторых — имело хотя бы частичные оправдания, то исключение из сферы интересов эстетики самосозидающей Природы вряд ли было оправданным.
3.4. По поводу идейности произведения искусства
А сейчас вернемся к началу данной главы и зададимся вопросом: почему для грека времен Античности даже ремесло было искусством. Объяснить это можно только тем, что сама искусность изготовления какого-нибудь щита (шлема, кратера и т. д.) или какой-либо повозки (уздечки, сандалии и т. д.) была внове сознанию грека, как нам внове совсем недавно был импрессионизм, сюрреализм, дельтаплан, Интернет и т. д. И если мы попытаемся понять, почему грека времен расцвета классики так приводило в восхищение сходство, положим, изображенного на живописном полотне с тем, что он каждодневно видел в своей жизни, то вполне определенно можно сказать, что восхищал его не только искусно нарисованный занавес Паррасия, который хотелось раздвинуть и не только мастерски изображенная Зевксидом виноградная кисть, к которой слетались птицы, восхищал его сам феномен сходства с оригиналом, феномен «удвоения», копирования действительности. И вряд ли можно полагать, что древний грек искал в произведении искусства какую-либо идею или новизну. Такой идеей и такой новизной для него поначалу была сама искусность изготовления какого-либо необходимого в обиходе предмета или сама схожесть изображенного на картине объекта с оригиналом, или само соответствие изображенного описанному в литературном произведении или имеющему место быть в действительности. (Достаточно вспомнить «Картины Филостратов»). В связи с этим можно было бы предположить, что во временной ретроспективе формы представления новизны претерпевали определенные трансформации, связанные, скорее всего, с интеллектуальным становлением человеческого сообщества и с расширением его технологических возможностей.
Так, если для древнего человека, положим, времен позднего палеолита новизной или, скажем так, «идеей» была возможность и способность — пускай и неумелого — изображения на стене пещеры какого-либо животного или сцены охоты на него, то для грека времен архаики и Античности такой новизной стала уже способность умелого и даже искусного изготовления или изображения какого-либо предмета (тела, лица).
Это уже потом мы стали ценить произведения не только за мастерство — искусность, схожесть, соответствие назначению — исполнения, но и за его «идейность», то есть за то новое понимание действительности, которым оно нас одаряет. Сама способность искусного изготовления или изображения чего-либо и сама способность добиться сходства с подлинником постепенно были «преодолены» нашим сознанием и нашим опытом; они стали пройденным этапом эстетического творчества и восприятия, без которого невозможно было ступить на следующий этап, этап «идейности» произведения искусства, формирующей не только многообразие нашего понимания этого мира, но и созидание этого многообразия.
Прогресс нашего интеллектуального развития заключался в том, что нас стали интересовать менее «наглядные» и более абстрактные формы представления новизны, главной из которых стала объективная интеллектуальная новизна, то есть новизна только еще нарождающаяся и пока нам незнакомая. Она-то и стала главным предметом «изображения» и представления искусства.
Искусство, как и любая другая сфера человеческой деятельности, эволюционировало в своем развитии от своих примитивных форм представления и восприятия действительности до форм достаточно абстрактных. И было бы неправильным думать, что целью искусства на всем протяжении его развития было изображение идеи. Способность изображения чего-либо, искусность этого изображения — это этапы развития искусства, приведшие к идейной направленности последнего. Так учение о материи — коей занимается физика — прежде чем достигнуть современного уровня развития выступало и в мифологической, и в гилозоистической и в натурфилософской и даже в алхимической формах. Схожесть с действительностью в форме искусности изготовления или изображения была необходима только для того, чтобы через известное и знакомое нашему интеллекту «протащить» нечто ему неизвестное и новое, то есть представить идею, обладающую новизной и приумножающую многообразие нашего Мира.
Отсюда сразу же возникает вопрос: если классическое искусство с момента своего зарождения представляло предметом своего изображения знакомую нам действительность — и именно в этом изображении в завуалированном виде была заключена идея, — то можно ли сказать, что произведения современного, положим, «беспредметного» искусства так же нагружены какой-либо идеей? Или может быть изменилась сама направленность искусства, поскольку из него была изъята знакомая нам предметно-образная и символическая сходственность изображенного с действительностью, на основе которой (сходственности) все же возможно было — посредством рефлексии хотя бы — обнаружение той или иной идеи-новизны. Получается так, что современное искусство уже не способно апеллировать к чувству и интеллекту созерцателя. Оно утратило связь с ним.
Спрашивается тогда, так к кому же оно обращается? И нам ничего другого не остается как предположить, что обращается оно к самому же художнику. Являясь выражением души (психики, чувства, ощущения) художника, оно в то же время является предметом его созерцания. Отсюда сразу же возникает вопрос, так что же все-таки художник выражает, изображает, положим, на своем полотне и что он воспринимает, созерцая это полотно. Если художник классического искусства, выражая себя в произведении, позволял созерцателю посредством рефлексии интерпретировать изображенную в нем идею, то художник современного искусства, по сути дела, отказал в этом созерцателю и оставил эту привилегию самому себе. Но тогда возникает другой вопрос: в чем заключается и смысл, и цель подобного изменения направленности самого искусства? Если целью классического искусства, как мы ранее установили, было приумножение многообразия Мира посредством культивирования и генерирования новизны, то, что является целью современного искусства, искусства «безыдейного», а, следовательно, и не способствующего приумножению этого многообразия? Можем же мы предположить лишь два варианта:
— либо Миру уже нет необходимости в том, чтобы приумножать собственное многообразие,
— либо искусство, изменив свою направленность, переключилось с Мира на Личность, на познание души художника как наиболее совершенного представителя этого Мира, то есть оно переключилось с познания и приумножения Макрокосмоса на познание и развитие самой души человека, Микрокосмоса.
Но для чего, спрашивается, искусство как природное явление и как «надмировая» категория, переключилось на познание души самого человека? Может быть, настало время познания самой сущности бессознательного как фундамента психики? Это, во-первых. А во-вторых, может быть, само приумножение многообразия нашего Мира уже грозит ему если не гибелью, то непредсказуемыми последствиями, поскольку человеческий разум уже не способен справиться с тем, что он уже создал и еще собирается создать? Но здесь мы вступаем в шаткую область необоснованных догадок и предположений…
Глава 4. Для чего искусство?
В данной главе искусство будет рассмотрено как природное явление, предназначенное для сохранения и, в первую очередь, для приумножения многообразия материально-духовной сферы существования человечества.
4.1. Искусство как природное явление
Назначение искусства всегда искали там, где его никогда не было, но оно всегда было там, где его никак не ожидали встретить, а потому и не искали: а именно, его не ожидали встретить в качестве основного фактора в деле генерирования новизны, способствующей приумножению многообразия нашего Мира.
Сложившаяся со времен Аристотеля многовековая традиция видеть в искусстве всего лишь психоаналитика, врачующего нашу душу — всеобщее недоразумение, если не сказать, заблуждение. Не в этом основная задача искусства: да, оно врачует нашу душу, но врачует точно так же, как врачует любое творчество и любая ненасильственная для нашей психики деятельность. Путешествия, любимая работа, любовь к детям, посильные занятия спортом, различного вида хобби — разве можно отрицать то, что они также врачуют нашу душу? Тогда на каком основании мы полагаем, что только искусству принадлежит миссия освобождения нашей души от накопившегося негатива? Не умаляем ли мы тем самым роли искусства в жизни человеческого сообщества? Маловероятно, чтобы столь значительный и столь оригинальный род деятельности всего лишь разделял свою основную функцию, функцию «лечения», наравне с другими многочисленными — и даже порою менее значительными — видами деятельности.
А теперь попытаемся представить себя на месте Природы. Как бы мы поступили, чтобы побудить человека мыслить и создавать нечто новое? Есть два взаимосвязанных и взаимодополнительных пути. Первый путь — это поставить его в жесткие условия выживания в окружающей среде. А другой — предоставить ему «игрушку», посредством которой он бы тренировал собственное мышление с целью получения навыков выживания более эффективных, чем те, что он приобретал, действуя по первому пути, то есть по пути действия посредством «проб и ошибок».
Как ребенок в онтогенезе учится жизни в своих играх, так и человечество в филогенезе, «играя» в искусство, приобретает навыки выживания, посредством расширения диапазона своего мышления и сознания. (P. S. 1). (Вопрос возникновения человеческого сознания за счет расширения сферы мышления — от руководства инстинктом к логическому мышлению как столбовой дороге, и далее к иррациональному мышлению, то есть к инсайтам и интуициям, — будет нами рассмотрен в Разделе 13.4 «Как возникло человеческое сознание?»). Если бы не было последнего пути, то человечество оказалось бы пленником дурной «бесконечности прогресса»50, как это произошло со всем животным миром. Для того чтобы вырваться из нее, наше мышление и наше сознание должны были развиваться опережающим образом по отношению к той жизни, в которой наше сознание и наш интеллект формировали себя. Это закон развития саморазвивающихся систем: должно быть нечто, что вносит новизну, что действует на опережение, что обновляет и развивает данную систему в целом.
Искусство в первую очередь способствовало, если можно так выразиться, «интеллектуализации» нашего бессознательного. Если раньше бессознательное преимущественно было занято, хотя и важной, но достаточно рутинной — связанной с инстинктивной деятельностью — работой по сохранению рода человеческого и приспособлению его к окружающей среде, то с зарождением искусства оно стало постепенно ориентироваться на познание окружающей действительности, то есть на уловление той новизны, которая бы способствовала расширению его интеллектуального кругозора.
И можно предположить, что «скачок» в эволюции человека как разумного существа пришелся на тот период (50 — 30 тыс. лет назад), когда стало зарождаться искусство. Оно стимулировало мозг к более эффективной деятельности за счет привлечения к процессу мышления той интеллектуальной новизны, которая стала накапливаться не только в сознании, но и в бессознательном. Новизна, как струя свежей воды, пробившаяся со дна застойного и затхлого водоема, стала постепенно обновлять и развивать «флору и фауну» последнего. Озеро нашего познания ожило за счет того, что стало проточным, а, следовательно, и обновляемым.
И если верно то положение, что за каждой нашей индивидуальной потребностью часто скрывается какая-либо витальная потребность человеческого рода, то также может быть верным и то, что за индивидуальной потребностью эстетического наслаждения скрыта необходимость сохранения и приумножения многообразия в материально-духовной сфере существования человечества в виде социума.
А потому, искусство — природное явление, а не изобретение или установление человека. И ведь недаром талант, то есть то основное, благодаря чему Мир развивается в направлении познания, созидания и освоения нового, есть дар Природы. Через искусство Природа на духовном уровне добивается многообразия самых разных форм материально-духовной жизни, как она уже добилась многообразия форм органической и животной жизни без помощи искусства.
А чтобы у нас не возникло вопроса, а для чего многообразие, следует помнить: объективная интеллектуальная новизна, вносящая многообразие в этот Мир, это свежая кровь в жилах этого Мира и без этого он не может существовать, как не может существовать человеческий организм без постоянного обновления крови.
Доведись искусству быть вычеркнутым из нашей жизни, первое время, конечно, мы мало что почувствуем, как мало что почувствует пловец, оказавшийся вдруг заключенным под воздушным колпаком, не имеющим связи с земной атмосферой. Но, как нам ясно, последствия подобного исключения катастрофическим образом повлияли бы не только на самого человека, но и на общество, в котором он живет. И об этом уже в середине Х1Х века предостерегал Ш. Бодлер:
«Вы способны прожить три дня без хлеба — но не проживете и дня без поэзии, и те из вас, кто утверждает обратное, ошибаются: они не ведают самих себя»51.
Так что «заглушить» искусство, вычеркнуть его из обихода духовной жизни человека так же опасно, как «заглушить» в нем инстинкт самосохранения или половой инстинкт.
Как физиологическое развитие органов наших чувств — этих дозорных нервной системы — расширило сферу нашего «физического» восприятия окружающей среды и тем самым способствовало успешной адаптации к Природе и усовершенствованию самого организма, так и Искусство расширило кругозор нашего интеллектуального восприятия Мира и тем самым благоприятствовало расширению наших представлений о нем, чем и содействовало преобразованию его в соответствии с нашими уже достигнутыми представлениями.
С завершением биологической эволюции человека закончилась длившаяся миллионы лет эра приспособления человекоподобного существа к условиям окружающей среды. Природа диктовала ему, каким образом он должен был совершенствовать свой организм, чтобы выжить и приспособиться к ней. С появлением человека разумного последний постепенно стал сам изменять условия своего существования сначала в пределах, непосредственно примыкающих к нему: появилась одежда, жилище, орудия охоты и труда, костер, жареная пища и т. д. Но эти материальные «дары» сами собой с неба не падают. Их нужно было сначала изобрести. А поскольку изобретенное непременно обладает интеллектуальной новизной, то для возникновения последней необходима была сначала идея, а затем и мысль являющаяся разработкой (раскрытием) и оформлением идеи, в соответствии с которой делаются определенные предметы, приспособления, сооружения и совершаются целенаправленные действия. Вот здесь-то и было необходимо искусство с его способностью возбуждать чувство и будоражить мысль.
Таким образом, искусство — это та же органолептика, но на более высоком, интеллектуальном уровне. Как органы чувств «заглядывают» за границы нашего тела и «тренируют» его внутренние системы, так и искусство «заглядывает» за границы нашего обыденного существования и «тренирует» душевно-интеллектуальный настрой, способствующий генерированию необходимых человеческому роду идей. Так что эстетическое чувство — это уже коллективный орган восприятия объективной интеллектуальной новизны, принадлежащий человеческому роду в лице его, не обделенных талантом представителей.
И не жизнь формирует искусство, а искусство формирует жизнь: ее стиль, уклад, уровень, мораль, дух и т. д.
В этом отношении Платон не так уж был далек от истины, наделив эйдосы — не важно, что под этим иметь в виду: сущность вещи, объективную истину или результат инсайта — свойством быть прообразами реального чувственного мира. Хотя не надо отрицать, что жизнь как органическое явление — основа искусства. Активная же основа, ее наивысшая духовная составляющая — это и есть природное всеоплодотворяющее, творческое дарование.
И если искусство не выполняет своей основной функции, функции формирования материально-духовной жизни, то в этом можно усмотреть только признак тотальной деградации самой жизни, которая уже не способна даже на то, чтобы востребовать то, что потенциально заложено в даровании человека. То есть человек, как источник генерирования объективной интеллектуальной новизны, потерял свою ценность. И не искусство повинно в том, что оно находится в кризисе — в кризисе находится сама жизнь.
Обосновав природную необходимость возникновения искусства, еще раз посмотрим на искусство с точки зрения конечной его цели, цели сохранения и приумножения многообразия. Если человеку присущ инстинкт новизны, находящий свое удовлетворение в процессе творчества, то можно по аналогии с инстинктом физического самосохранения предположить существование инстинкта духовного самосохранения.
Творчество — это растянутое во времени удовлетворение инстинкта, который фигурирует в сознании художника как необходимость выполнения какой-либо поставленной им задачи, неосуществление которой равносильно нашей духовной смерти, как неудовлетворение инстинкта физического самосохранения приводит к физической смерти. Таким образом, инстинкт новизны, если таковой все же наличествует в природе хотя бы отдельных индивидов общества, — а наличие природных дарований подтверждение этому — это и есть инстинкт духовного самосохранения, а творчество — это деятельность, в процессе которой этот инстинкт удовлетворяется.
А теперь, если уж мы коснулись поверхности вопроса витальной ценности искусства, то нам необходимо попытаться заглянуть в его глубь. Начнем со следующего. Есть повседневная жизнь, которой мы живем: едим, спим, читаем, общаемся, работаем, влюбляемся, ненавидим и т. д.; а есть жизнь, которая находится в потенции, в форме нашего природного дарования, еще не реализованного нами в жизни. Если первая есть жизнь обыденная, то вторая, будь она осуществлена, есть то новое, что может быть привнесено в жизнь первую в виде идей, мыслей, произведений искусства, научных открытий, технических изобретений и человеческой деятельности на основе вышеперечисленного.
Исходя из этого, потенциальная жизнь в форме нашего природного дарования до поры до времени имеет для нас ту же ценность, что и реальная жизнь. То есть будущее произведение искусства, положим, художника, обладает, по крайней мере, такой же ценностью, как и остальные реальные ценности, среди которых он уже живет. Но однажды художник начинает творить и начинает он созидать только тогда, когда ценность будущего произведения представляется ему более важной, чем ценности, которыми он уже обладает или может обладать в будущем.
Вот здесь нам время задаться самым темным и каверзным вопросом эстетики: что «толкает» художника к созданию произведения искусства, где находится та пружинка, которая запускает в действие механизм творчества? А для этого нам придется снова вернуться к бессознательному и к инстинктивной деятельности.
До зарождения разума роль последнего была возложена Природой на наше бессознательное. В животном мире бессознательное, побуждаемое инстинктом, отрабатывало методологию и технику выживания в жестких условиях природного существования. И не инстинкт руководил действиями животного, а бессознательное. Инстинкт — всего лишь побуждение к действию, стратегию и тактику самого действия вырабатывает бессознательное. Инстинкт повелительно требует непременного удовлетворения, поскольку от этого зависит жизнь индивида. Поэтому все жизненные силы — телесная (мышечная) и психическая энергия, органы чувств и т. д. — мобилизовывались нашим бессознательным на удовлетворение инстинктов.
И если бессознательное — это ум до разума, то это такой ум, процент ошибки которого должен быть крайне низок. Иначе — на страже стоял естественный отбор. (Вот откуда, в конечном счете, исходит продуктивность и эффективность бессознательных решений).
С наступлением эры разума последний стал выполнять некоторые ближайшие тактические задачи выживания, в то время как бессознательное продолжало осуществлять как тактические, так и перспективные вопросы. Но постепенно разум стал претендовать на решение и стратегических задач, что привело к частичному оттеснению бессознательного от выполнения своих функций. А любая функция, не будучи востребованной, либо приходит в упадок, либо меняет направленность курса своего функционирования. С бессознательным отчасти произошло и то, и другое.
С ослаблением бессознательного, во-первых, ослабли инстинкты в силу хотя бы своей принадлежности к бессознательному. (Представим себе, что в пределе оно бы исчезло — исчезли бы и инстинкты. А потом, можно ли где-либо в Природе наблюдать такие явления как самоубийство, аскетизм, желание мучить других и себя ради собственного удовольствия?). А во-вторых, функция бессознательного стала проявляться в виде интуиции и инсайта как помощников, как суфлеров еще слабосильного разума. (Как видим, нет худа без добра). Но проявлялась эта функция только в том случае, если все наши чувства и устремления были направлены на решение какой-либо всколыхнувшей нашу психику задачи. То есть, необходимы были два условия: острая нужда (I), сопровождаемая достаточно глубокими познаниями (2), способными разрешить возникшую потребность.
Дело в том, что, если до появления разума наше бессознательное начинало действовать только в том случае, если на физиологическом ypoвне возникала инстинктивная потребность, то с зарождением разума оно могло «пробудиться» для решения какой-либо новой интеллектуальной задачи только в том случае, если оно было возбуждено до такой степени, которая была бы «эквивалентна» максимальному возбуждению от неудовлетворенного инстинкта. То есть для него необходим определенный порог возбуждения, который включает механизм его функционирования. И таким механизмом, создающим этот порог, скорее всего, является творческое дарование, поскольку оно инстинктивно-бессознательно по своей природе. А возникновение каких-либо препятствий на пути удовлетворения этого инстинкта, — а препятствия неизбежны — сразу порождает в нас сонм чувств, побуждающих наше бессознательное действовать и искать решение.
(И даже из собственного жизненного опыта мы можем припомнить немало случаев срабатывания интуиции-инсайта, но это срабатывание происходит только в том случае, когда мы крайне заинтересованы в решении некого вопроса, когда наши чувства всецело им поглощены. И если уж быть справедливым, то вся наша Культура, будь то сфера жизни, науки или искусства, была создана людьми увлеченными и поглощенными созданием чего-либо нового, людьми, любящими и преданными своему делу. И неоспоримым подтверждением того, что природное дарование — это основа как научного, так и эстетического творчества, является то, что ни один бесталанный человек еще не создал ничего талантливого).
Так что для того, чтобы наше бессознательное начало «работать» в направлении разрешения какой-либо интеллектуальной задачи, необходимо «создать» в себе потребность наподобие инстинктивной физиологической потребности. Наше желание, наше чувство должно быть, по крайней мере, сопоставимо (по своей «силе») с «желанием» физиологического инстинкта, то есть потребность разгадать загадку должна быть подобна инстинктивной потребности. Творчество как раз и является способом удовлетворения наших душевно-духовных потребностей, а бессознательное — действенным природным орудием, посредством которого эта задача выполняется.
Ставя перед собой задачи, решение которых имеет для нас важную жизненную ценность, — а необходимость проявления природного дара это и есть такая ценность — мы тем самым провоцируем бессознательное к деятельности, то есть к иррациональному мышлению. И чем сильнее мы заинтересованы поставленным вопросом, чем больше он нас волнует, и чем лучше мы познали его на уровне сознания, тем больше вероятность прихода в наше сознание инсайтной или интуитивной идеи.
4.2. Сущность и назначение искусства
И коль скоро мы достаточно много сказали об искусстве как природном явлении, необходимо все же затронуть обещанный нами вопрос о самой сущности искусства. Ранее у нас уже шла речь о той форме, в которой проявляется искусство, и такой формой является эстетическая идея или — в нашей терминологии — объективная интеллектуальная новизна-идея.
А что же является содержанием или сущностью произведения? Не будем утруждать себя поиском определения, что такое содержание, а воспользуемся великолепным образом, приведенным Х. Ортегой-и-Гассетом в работе «Размышления о „Дон Кихоте“»:
«И тем не менее между формой и содержанием следует проводить различие, ибо они — не одно и то же; Флобер говорил: «Форма исходит из содержания, как жар из огня». Верная метафора. Но правильнее сказать, что форма — орган, а содержание — функция, его создающая»52.
Так вот, если в нашем случае идея — это форма произведения искусства, то генерирование новых идей является той функцией, которая создает сами идеи. Генерирование новизны в форме объективно-интеллектуальных идей — это и есть та основная функция, к которой самой Природой предназначено искусство. Иначе было бы совсем непонятно, откуда берутся все те новшества и все то многообразие создаваемых идей, среди которых живет человечество.
И вряд ли можно безоговорочно согласиться с сентенцией А. Уайтхеда:
«Телеология универсума направлена на создание красоты, и любая система объектов, если она в каком-то смысле прекрасна, тем самым уже имеет право на существование»53.
Да, несомненно, прекрасное имеет право на существование, но имеет оно это право не потому, что оно прекрасно, и не потому, что созданию красоты способствует сама природа, а в силу того, что прекрасное приумножает многообразие нашего мира через явление новизны, и цель природы не создание красоты, а создание многообразия в самой природе.
«Душа» природы стремится к многообразию через целесообразность вновь создаваемых форм жизни, но она равнодушна к красоте в силу того, что не выделяет ее: для нее все созданное — и красивое и безобразное — прекрасно. Душа же человека стремится к красоте через чувство интеллектуального наслаждения, но она безразлична к многообразию, поскольку не может его воспринять и почувствовать на физиологическом уровне так, как она чувствует наслаждение от соприкосновения с прекрасным. Поэтому так называемая целесообразность в природе — которая, несомненно, связана с физиологическим удовольствием на уровне животной плоти — и чувство интеллектуального наслаждения в человеке «эквивалентны» между собой с точки зрения «вспомоществования» приумножению многообразия мира, соответственно, как в природе, так и в человеческом сообществе. Таким образом, можно сказать, что, если красота (новизна) — побочный продукт природы, осуществляющей собственное многообразие через посредство генерирования новых (и притом целесообразных) природных форм, то материально-духовное многообразие — побочный продукт творческой деятельности человека, стремящегося к красоте. И красота эта выступает в виде объективной интеллектуальной идеи-новизны, «понимание» которой сопровождается интеллектуальным чувством удовольствия.
И если, согласно Л. Фейербаху
«…лишь бесконечное, необозримое разнообразие есть принцип жизни; одинаковость уничтожает необходимость существования…«54, (см. эпиграф).
то сущность материально-духовной жизни общества заключена в генерировании эстетических идей, создающем это разнообразие. Так что бытийственная сущность самой жизни, по сути дела, совпадает с сущностью искусства. Искусство, воздействуя на культурную жизнь человеческого сообщества по принципу опережающего развития (см. далее), создает саму атмосферу, в которой возможно осуществление основного принципа жизни.
И только потому, что жизнь, — в силу природной необходимости культивирования разнообразия, — востребует это разнообразие, только поэтому искусство «поставляет» жизни виртуально-эстетические идеи, преобразуемые созерцателем в идеи реальные. И постоянное внедрение последних способствует росту самого многообразия. Так что не столько идеи искусства внедряются в жизнь, сколько внедряются идеи созерцателя, воспринявшего идеи искусства и преобразовавшего их в реальные интуитивно-инсайтные идеи, востребованные обществом на данном этапе его развития.
А потому, прежде чем обнаружить или открыть нечто новое в этом Мире, его необходимо сначала заложить хотя бы в виртуальном виде в каком-либо направлении грядущей человеческой деятельности. Искусство именно тем и занимается, что закладывает идеи будущего развития, служащие прообразами новых идей, внедряемых в реальную и постоянно развивающуюся жизнь.
В связи с этим следует сказать, что наравне с принципами соответствия, дополнительности, симметрии, красоты и т. д., скорее всего, существует принцип — назовем его так: принцип опережающего развития, — согласно которому любой род деятельности может достигнуть определенного уровня развития только в том случае, если достигнут некий уровень развития в сфере деятельности более высокого класса: так ремесло не достигло бы уровня искусности, не начни развиваться техника; техника оставалась бы примитивной, не найди она поддержки в развитии науки; наука была бы невозможна без развития культуры; культура не смогла бы выйти на определенный уровень, если бы она не поддерживалась и не сопровождалась развитием искусства.
В конечном счете, не культура и не цивилизация сами по себе предохраняют и удерживают духовное существование общества от деградации, предохраняет и удерживает искусство, благодаря которому они развиваются и сохраняются. Ремесло, техника, наука, культура возникли не сами по себе, необходимой предпосылкой их возникновения и развития является искусство. Оно первично в зарождении любой цивилизации, потому что в основе возникновения всего ценного и нового присутствуют спонтанные процессы и акты — столь свойственные душе, — на базе которых и зародилось искусство. Только душа обладает креативной способностью создавать идею-новизну.
Более того, принцип опережающего развития можно распространить не только на материально-духовную деятельность человека разумного, но и на развитие природных процессов. Неорганическая жизнь не достигла бы определенной формы развития, не возникни на Земле органической жизни, изменившей состав атмосферы и климат Земли, повлиявших, в свою очередь, на неорганический состав и вид нашей планеты. Органическая жизнь, в свою очередь, не достигла бы определенного уровня развития, не возникни на Земле животной жизни, использующей органику в качестве питательного средства и, соответственно, влияющей не только на флору, но и на саму фауну природы. И уж развитие животного мира не достигло бы современного — отчасти катастрофического — состояния, не возникни разумной жизни на Земле, которая достаточно пагубным образом сказывается не только на неорганике, органике и живой жизни планеты, но и на жизни самого разумного существа.
Так что искусство, в силу своей креативности, воздействует на материально-духовную жизнь человеческого сообщества по принципу опережающего развития. Закладывая в свои произведения «будущие» (виртуальные) идеи, оно тем самым будирует и развивает способность человеческой души и интеллекта обнаруживать и видеть за этими идеями идеи вполне реальные и соответствующие духу данного этапа культурного развития общества.
В связи с этим следует сказать следующее. Так называемый принцип красоты, фигурирующий преимущественно в сфере естественно-научного знания — вспомним хотя бы физические теории Эйнштейна, Бора, Паули, Гейзенберга и др. — есть не что иное как одно из проявлений принципа опережающего развития. Если ученый при создании своей теории «руководствуется» принципом красоты, то прекрасное — как эстетическая категория — предопределяет саму возможность существования теории, наделенной атрибутом новизны и истинности. Так наука, сама того не замечая, руководствуется принципами и идеями искусства.
И если мы зададимся вопросом, а что же все-таки, согласно принципу опережающего развития, предшествовало и способствовало формированию самого искусства, то, наверное, с полным основанием можно сказать, что таким началом была игра. Если игра, согласно Й. Хейзинге, есть одна из форм проявления человеческой деятельности в различных сферах: культура, философия, искусство и т. д.55, и если она свойственна не только жизни всего человеческого сообщества, но и животному миру, из которого сформировался человек, то у нас нет каких-либо веских оснований отвергать игру как сферу деятельности, предшествовавшей искусству и способствовавшей его развитию. Тем более что игровые формы сами по себе находятся в основании всех религиозных ритуалов и священнодействий, не говоря уже о том, что онтогенез человеческого индивида, как через обязательную стадию, проходит через достаточно длительный период игровой деятельности в детстве и даже в отроческом возрасте. Вот где онтогенез повторяет филогенез. А по сути дела, зарождение человека разумного происходило в лоне слияния игры и искусства: игра была искусством, а искусство игрой, в процессе которой отрабатывались формы общежития и материально-духовного выживания среди природы.
4.3. О двойственности искусства и сокрытости красоты
Как из предшествующего текста, так и из опыта нашего собственного общения с произведениями искусства, нам уже ясно, что функциональная роль искусства многогранна. И заключается она и в катарсическом, и в гедонистическом воздействии, и в познавательном влиянии, и в стимулировании душевно-интеллектуальной деятельности, и в создании интерпретационных идей (об этом чуть ниже), и — не в последнюю, а в первую очередь — в приумножении многообразия духовной и материальной жизни общества. Но искусство не только многофункционально, оно еще обладает такими свойствами как, во-первых, двойственностью (или, если хотите, двуслойностью) своих идей, а, во-вторых, так называемой сокрытостью (видимостью) красоты. И здесь нам к месту было бы поговорить о каждом из этих свойств и попытаться понять, что лежит в основании указанных феноменов искусства.
Начнем с двойственности и сразу же оговоримся, что эту двойственность разные авторы понимали по-своему. Так, согласно Гельвецию, успех имеет только то произведение, автор которого
«…сумел соединить мгновенную пользу с длительной…«56.
Первая из них зависит
«…от нравов, предрассудков, времени и страны, в которой они написаны…», (Там же).
Вторая же
«…свойственна всем временам и странам…». (Там же).
И достоинство произведения искусства будет зависеть от того, насколько «вечные красоты» (Там же) берут верх над красотами временными.
Ф. В. И. Шеллинг, ставя искусство выше философии, пишет:
«В произведении искусства отражается тождество сознательной и бессознательной деятельностей… Художник как бы инстинктивно привносит в свое произведение помимо того, что выражено им с явным намерением, некую бесконечность, полностью раскрыть которую не способен ни один конечный рассудок… Так обстоит дело с каждым истинным произведением искусства; каждое как будто содержит бесконечное число замыслов, допуская тем самым бесконечное число толкований, и при этом никогда нельзя установить, заключается ли эта бесконечность в самом художнике или только в произведении искусства как таковом»57.
Жубер же полагал:
«Очевидно одно: в прекрасном всегда сочетается красота видимая и не видимая. Очевидно и другое: никогда прекрасное не очаровывает нас так сильно, как когда мы, напрягая внимание, понимаем его язык лишь наполовину»58.
Об этом же, но более подробно, писал и Бодлер:
«Воспользуемся благоприятным случаем, чтобы выдвинуть рациональную и историческую теорию прекрасного в противовес теории красоты единой и абсолютной, а заодно доказать, что прекрасное всегда и неизбежно двойственно, хотя производимое им впечатление едино… Прекрасное содержит в себе элемент вечный и неизменный, доля которого крайне трудно определима, и элемент относительный, обусловленный моментом и зависящий от эпохи, моды, норм поведения, страстей, а то и от всех этих обстоятельств разом. Без этого второго слагаемого, представляющего собой заманчивую, дразнящую и возбуждающую аппетит корочку божественного пирога, первое слагаемое было бы неудобоваримым, недоступным, неприемлемым для человеческой натуры. Сомневаюсь, что кто-либо способен отыскать образец прекрасного, не содержащий оба эти элемента… Двойственность искусства есть непреложное следствие двойственной природы человека»59.
Анализируя эти и подобные им высказывания, можно предположить, что причина двойственности искусства кроется в двуслойности его идей. Искусство двойственно только потому, что на поверхности — интерпретационные идеи, доступные нашему толкованию и пониманию, внутри — идеи эстетические (виртуальные), способные быть воспринятыми лишь теми, кто обладает даром их «понимания» и преобразования в реальные интуитивные или инсайтные (в дальнейшем интуитивно-инсайтные) идеи, необходимые обществу на каком-либо этапе его развития. Идеи добра, блага, свободы, гуманизма, справедливости, совести, милосердия, красоты, мужества и т. д., — это и есть интерпретационные идеи, которыми в немалой степени живо не только само искусство, но и общество, в котором возможно такое искусство. Воздействие их постоянно и именно эти идеи, представленные мировым искусством, создают ту творческую атмосферу, в которой возможен сам процесс генерирования новизны, то есть новых идей. Исключи мы их из нашей духовной жизни, у нас отпала бы всякая охота и всякая необходимость в генерировании каких-либо идей. Они — маяки, ориентируясь на которые общество осуществляет ход своего развития. И не только благодаря эстетическим, но и благодаря интерпретационным идеям искусство реализует свой принцип опережающего развития, о котором мы уже говорили выше.
Но здесь у нас, конечно, может возникнуть вопрос: являются ли интерпретационные идеи идеями научными или они относятся к сфере эстетических идей. А может быть они занимают промежуточную позицию между ними. Судя по тому, что они все же в некоторой степени, — хотя и не в той, которая нам желательна, — внедрены в жизнь, их можно отнести к идеям научным, но исходя из того, что они, как показывает практика жизни, не поддаются какой-либо определенной методологической обработке, их следует отнести к идеям промежуточного характера, но ни в коем случае не к эстетическим идеям, поскольку мы все же способны понять их на логическом уровне и обосновать необходимость их внедрения в жизнь, в то время как за смысл эстетической идеи мы даже не можем «зацепиться», чтобы обработать его на логическом уровне и превратить эту идею в однозначно понимаемую мысль.
Итак, мы коснулись одной стороны двойственности искусства. Рассмотрим и другую ее сторону. Внимательный читатель, конечно, давно уже понял из текста, что искусство двойственно еще и потому, что основная его задача, заключающаяся в приумножении многообразия нашего материально-духовного мира, возложена не только на творца произведени искусства, но и на созерцателя этого произведения. Но, к сожалению, эстетика, как это ни звучит странно, почему-то не видит в созерцателе, — для которого собственно искусство и предназначено, — непосредственного продолжателя задачи художника. А, казалось бы, было бы вполне естественным предположить (и в этом у нас нет никакого сомнения): если искусство предназначено непосредственно созерцателю, то есть человеку способному его воспринять и «понять», то служит оно не только для услаждения струн его души, но и для чего-то более существенного. И таким «более существенным» является побуждение к творческому созданию своих собственных продуктивных (иррационально-рациональных) идей, опосредованным образом обусловленных воспринятыми ранее эстетическими идеями. Так что генерированию новизны способствуют и художник, и любитель искусства. Они работают в паре, поскольку созерцатель, не обремененный интерпретационными и эстетическими идеями творца, не смог бы генерировать свои реальные интуитивно-инсайтные идеи, а деятельность творца, не подхваченная деятельностью созерцателя, была бы и вовсе бессмысленной и напрасной. В общем ходе генерирования новых идей и претворения их в жизнь творец-художник передает эстафету творцу-созерцателю. И последний создает лишь те реальные идеи, которые не только востребованы обществом на данном этапе его развития, но и могут быть им поняты и внедрены в жизнь. Созерцатель — связующее звено между жизнью идеальной и жизнью реальной. Так что с полным основанием можно сказать: если художник — это посредник между Богом, сидящим в каждом творце (и творящим бытие сущего) и созерцателем, генерирующим реальные идеи, то созерцатель — это посредник между художником, создающим эстетические идеи, и самой жизнью, востребующей многообразие, без которого она немыслима.
Конечно, в оправдание крайне невнимательного отношения эстетики к столь значительной роли созерцателя в жизни общества следует сказать следующее: поскольку восприятие произведения искусства созерцателем осуществляется в основном на бессознательном уровне, то мы не осознаем этого воздействия и как бы его не замечаем. Именно отсюда столь заниженная нашим обществом роль самого искусства в созидании материально-духовного разнообразия. (О тех трудностях в обнаружении взаимосвязи эстетических идей с идеями научными смотри ниже).
Но здесь попутно нам все же необходимо пояснить, почему именно через созерцателя, а не через кого-либо другого, осуществляется процесс созидания многообразия? Все дело в том, что, если художник закладывает идеальные архетипические формы будущих новых идей, то только созерцатель способен соответствующим образом как воспринять (в виде интеллектуального чувства удовольствия) эстетическую идею художника, так и «понять» ее на бессознательном (душевном) уровне. И кому как не ему быть и «хранителем» этих идей, и творцом реальных интуитивно-инсайтных идей, которые он уже усмотрел интеллектом в процессе своего совсем небескорыстного общения с искусством. Кантовская «незаинтересованность» в удовольствии от прекрасного проистекает из того, что на сознательном уровне нам не дано знать, насколько мы заинтересованы в нем на бессознательном уровне.
К искусству нас неодолимо (и можно даже сказать: «деспотично») влечет бессознательное. Но оно не вводит в круг своих интересов сознание, которое своим корыстным интересом могло бы испортить то дело, которым занято само бессознательное и с которым оно справляется гораздо успешнее, чем сознание. Сам же художник-творец, как нам известно, достаточно далек от того, чтобы заниматься созданием и практическим внедрением в жизнь каких-либо реальных идей. Тем же, кому искусство чуждо по своей природе («равнодушные») и кто обделен природным даром чувствования новизны, вряд ли способны продуктивно мыслить.
Получается так, что созерцатель произведений искусства является, по сути дела, единственным претендентом на роль генератора новых интуитивно-инсайтных идей, внедряемых в жизнь и создающих к тому же все ее материально-духовное многообразие в дополнение к тому духовному многообразию, которое создается творцами произведений искусства. Здесь нам надо ясно осознать следующий достаточно очевидный факт: все новые и реальные (а не виртуальные) идеи, к какой бы сфере нашей деятельности они не принадлежали, это идеи научные. И если они внедряются в жизнь, то характерным их признаком является, во-первых, инсайтно-интуитивное происхождение самой идеи, а во-вторых, последующее оформление ее в мысль на логическом уровне (на этапе рефлексии-11). Но при этом ни в коем случае нельзя забывать: эти идеи обладают эстетическим характером, поскольку, во-первых, свое генетическое происхождение они ведут от идей эстетических, а во-вторых, по своему происхождению они спонтанны. Искусство — всему начало. В противовес научной идее идея эстетическая не подвластна логике, поскольку она даже не является в наше сознание в однозначно понимаемой форме, а то, что ему не является в подобном виде, не имеет никакого соприкосновения ни с логикой, ни с научностью.
Правда, здесь нам необходимо отметить следующее. Исторически сложившееся кардинальное разделение идей (истин) на эстетические и научные — это самое настоящее жульничество, призванное скрыть не столько наше заскорузлое нежелание видеть в научных истинах их эстетичность, а в эстетических — их научность, сколько неспособность усмотреть в целостном и неразрывном единстве весь процесс сотворения новых идей и их познавания (понимания) от самого начала до самого конца, то есть:
— во-первых, понять саму возможность закладывания художником эстетической идеи-новизны в произведение искусства, будь оно ритуально-игровым, мифологическим, художественным, сценическим или каким-либо другим;
— во-вторых, прочувствовать факт обнаружения этих идей созерцателем искусства (посредством испытания интеллектуального чувства удовольствия);
— в-третьих, хотя бы осознать возможность «понимания» этих идей созерцателем на бессознательном уровне;
— и, в-четвертых, усмотреть процесс постепенного формирования созерцателем — из «понятых» им эстетических идей — идей интуитивно-инсайтных, оформляемых им да состояния всеми понимаемой мысли.
Из изложенного выше мы уже видим, что весь ход сотворения новизны, ее формирования, обнаружения, понимания, и оформления в совершенно новую и никому ранее не виданную идею-мысль, это процесс, хотя и поэтапный, но единый. Правда, мы не способны «увидеть» на сознательном уровне все этапы этого процесса в неразрывном единстве, а потому и воспринимаем его в виде отдельных и независимых друг от друга фрагментов, имеющих самостоятельное существование. Вот откуда разделение идей (истин) на эстетические и научные и вот почему эстетика обошла молчанием творческую роль созерцателя в процессе восприятия эстетической новизны и сотворения новизны научной.
На самом же деле все в этом процессе взаимосвязано и взаимообусловлено: бытийственная потребность в новизне и обновлении мира за счет приумножения его сущностного многообразия призывает наделенного природным даром художника заложить эстетические идеи в произведение искусства; истинный же созерцатель к тому только и призван, чтобы воспринять и «понять» эти идеи, а затем, на основе воспринятого и «понятого», сотворить свои, отвечающие духу времени, научные (и технические) интуитивно-инсайтные идеи, которые, посредством внедрения, завершат цикл обновления, то есть включения новизны в мир. (Более подробно обо всем этом и о многом другом в Частях 11 и 111).
Так что непосредственно внедряются в жизнь не так называемые эстетические идеи художника-творца, а научные идеи-мысли творца-созерцателя, основанные опосредованным образом на эстетических идеях. Причем становление научных идей из идей эстетических возможно только пpи условии созревания к данному времени соответствующей понятийной (духовной и научной) базы и символики, в наряде которых данная научная идея могла бы быть «увидена», воспринята и понята интеллектом созерцателя. Эстетические идеи атома (Левкипп-Демокрит) и летательного аппарата (Икар-Дедал, Леонардо, ковер-самолет) были известны давно, но соответствующая им понятийная база и символика, посредством которых они могли быть внедрены в жизнь, разработаны были только в конце XIX — начале XX века. И роль эстетических идей не только в том, что они сами по себе вносят новизну в нашу жизнь, но и в том, что они дают «заказ» («вызов», как сказал бы Бодрийяр) — и не в последнюю очередь интеллекту созерцателя — на развитие той понятийной база и символики, которые бы позволили эстетическим идеям со временем трансформироваться в идеи научные и технические.
И в заключение нашего разговора о двойственности искусства сформулируем те положения, в соответствии с которыми мы испытываем трудности в обнаружении взаимосвязи эстетических идей с идеями, внедряемыми в нашу реальную и повседневную жизнь. Тем самым мы попытаемся понять причину завуалированности основной функции искусства, функции приумножения разнообразия нашего мира. Сразу же заметим, что скрытость этой функции имеет трехстадийный и притом разорванный во времени характер.
Во-первых, она заключается в том, что искусство представляет свои новые идеи не в явном виде — как например, инсайтном, интуитивном, — а в виде виртуальных эстетических идей, которые могут быть обнаружены и «проявлены» только в ходе последующего культурного развития общества. То есть эти идеи могут быть востребованы обществом не сразу, а только по истечении какого-то достаточно длительного времени; и то только в том случае, если они необходимы ему на данном этапе его развития.
Во-вторых, зстетические идеи — мало того что они виртуальны, — воспринимаются и «понимаются» созерцателями-любителями искусства не на сознательном уровне, а на уровне бессознательном, поскольку только душа способна обнаружить эту идею. Бессознательное созерцателя — и в то же время будущего создателя реальных интуитивно-инсайтных идей — является, как мы уже говорили, «хранилищем» эстетических идей художника-творца. Но мы, правда, не знаем, когда и в какой степени они будут трансформированы — и будут ли трансформированы вообще — интеллектом созерцателя в реальные научные или технические идеи. Единственно что мы знаем с достоверностью так это то, что мы (созерцатели) восприняли их и «поняли». И об этом засвидетельствовало и «доложило» нам нами испытанное интеллектуальное чувство удовольствия, обнаружившее наличие объективной интеллектуальной идеи-новизны.
И третий этап завуалированности заключается в том, что интуитивно-инсайтные идеи созерцателя (научные, технические, социальные, нравственные и т. д.), внедряемые в жизнь, не связаны в явном виде ни с эстетическими идеями творца, ни с теми идеями, которые воспринял созерцатель из произведений искусства. Связь эта многогранно-опосредованная, а неявна она еще и потому, что «завязана» на бессознательное созерцателя как промежуточную творческую лабораторию, где и происходит трансформация воспринятого и «понятого» в ту реальную идею, которая может быть востребована и внедрена в жизнь. Но самое странное и таинственное в том, что бессознательное выдает сознанию только те идеи, которые жизнеспособны в реальной жизни. Оно «понимает», что выдавать утопические идеи — напрасный труд, неоправданный потраченными на него усилиями.
А теперь обратим наше внимание на вопрос о сокрытости красоты. Но для начала приведем высказывание В. Беньямина, где он, характеризуя бытийственную сторону красоты, пытается обосновать необходимость ее сокрытия, не разъясняя при этом, что же все-таки является покровом для нее самой.
«Красота не может быть ни видимостью, ни покровом для чего-то другого. Она сама не есть явление, а исключительно сущность, которая в своем существенном качестве остается равной себе лишь под покровом. Поэтому пусть видимость повсюду есть обман, прекрасная видимость — это покров для самого скрытого. Потому что ни покров, ни покрытый им предмет не есть прекрасное, а лишь предмет под покровом. Но оказавшись без покрова, он был бы абсолютно невзрачным. На этом основано древнее убеждение в том, что, оказавшись без покрова, покрываемое изменяется, что остаться «равным себе» оно может лишь под покровом. Итак, для всего прекрасного идея замаскированности связывается с невозможностью сбросить покров, это идея критики искусства. Задача критики искусства не в том, чтобы приподнять покров, наоборот, ясно осознавая его как покров, она только таким образом может подняться до истинного понимания красоты. К пониманию, которое никогда не раскроется так называемому вчувствованию и только отчасти чистому созерцанию наивного — к пониманию красоты как тайны. Никогда еще подлинное произведение искусства не было понято по-настоящему, поскольку оно неизбежно представляется тайной. Никак по-другому нельзя обозначить предмет, для которого в конечном счете существен покров. Поскольку только прекрасное и ничто кроме, маскируя и маскируясь, может быть существенным, то божественная бытийная основа прекрасного заключается в тайне. Поэтому видимость в нем — это вот что: не излишняя маскировка вещей самих по себе, а необходимая укрытость вещей для нас»60.
Итак, что же все-таки является покровом красоты, кроме «необходимой укрытости вещей для нас», почему прекрасное всегда окружено тайной, которую мы не способны разгадать? Попытаемся в этом разобраться. Уяснение нами того факта, что на сознательном уровне мы в принципе не способны уловить идею-новизну произведения искусства, как раз и дает нам основание для понимания причины замаскированности красоты.
Поэтому, исходя из всего вышеизложенного, нам ничего другого не остается, как предположить: сокрытость красоты не в том, что у нее имеется покров, а в том, что этот «покров» есть не что иное, как наша неспособность выразить и понять сущность прекрасного на сознательном уровне. Это тот случай, когда нечто отсутствующее принимается нами за нечто присутствующее. Как отсутствие света, падающего на предметы в комнате, принимается нами за темноту, скрывающую эти предметы, так и отсутствие понимания идеи-новизны на сознательном уровне принимается нами за некий покров, скрывающий саму сущность произведения искусства. Научную истину «идею-новизну» мы можем и понять, и развить, и оформить в мысль, а вот эстетическая идея не позволяет подобных манипуляций над собой. Так что «укрытость вещей для нас» заключена в нашей принципиальной неспособности понять на сознательном уровне идею произведения искусства.
Как писал Т. В. Адорно:
«Произведения говорят, словно феи из сказки, — ты хочешь необходимого, ты получишь его, но знать об этом не будешь»61.
Данное поэтическое выражение эстетической сути произведения искусства недостаточно только в одном пункте: если под «необходимым» иметь в виду идею произведения, то мы знаем о том, что это «необходимое» мы все же получаем, хотя и не знаем, что именно мы получаем и в каком конкретном виде. И знаем мы об этом по тому опосредованному интеллектуальному чувству удовольствия, которое испытываем от созерцания этого произведения. Мы улавливаем всего лишь отголосок нашего «понимания» идеи, которое не доводится до нашего сознания, до нашей логики. Вот где ключ к загадочности произведения искусства и сокрытости красоты, которая, как мы уже показали ранее, является не чем иным, как «пониманием» идеи-новизны, «пониманием», сопровождаемым спонтанным возникновением чувства удовольствия.
Правда, сам Адорно полагал, что загадочность произведения можно объяснить его незавершенностью.
«Загадочное в произведениях искусства состоит в их незавершенности… загадками они являются потому, что, будучи незавершенными, „недостроенными“, они отрицают то, чем хотят тем не менее быть сами… Произведения искусства, как бы они ни стремились выглядеть совершенными и законченными, никогда не договариваются до конца, они всегда как бы обрезаны; тот факт, что их значение не выражает их сущности, производит такое впечатление, словно их значение заблокировано». (Там же, стр. 186)
Можно, конечно, согласиться с этим мнением, но было бы интересным знать, что именно является незавершенным в произведении искусства. Или может быть незавершенность — это всего лишь впечатление, обусловленное особенностями нашего интеллектуально-психологического восприятия или какими-то объективными обстоятельствами.
На наш взгляд одной из причин загадочности, создающей впечатление незавершенности, является с одной стороны способность художника представить в художественной форме непредставимое, каковым является эстетическая идея, а с другой стороны — способность созерцателя уловить своим бессознательным (душевным) чутьем эту идею и отреагировать на нее всего лишь спонтанно возникшим интеллектуальным чувством удовольствия. Если исходить из данного положения, то загадочность произведения искусства — его принципиальная черта, отсутствие которой как раз и говорит о несовершенстве произведения. Понимание (на сознательном уровне) идеи произведения созерцателем — свидетельство несостоятельности произведения как произведения искусства.
Другая причина — и причина объективная — иллюзии незавершенности произведения искусства в том, что, как мы уже указывали ранее, всегда отсутствует та понятийная база и символика, которые могли бы способствовать прояснению эстетической идеи и трансформации ее в идею научную. Но парадокс в том, что, — вследствие длительности и разорванности процесса познания, — когда появляется эта база и эта символика, мы уже «забываем» те эстетические идеи, прояснению которых и трансформации которых они способствовали. Искусство оказывается «не при чем». И это одна из причин столь заниженной оценки искусства обществом в деле созидания разнообразия нашего мира. Отсутствие непосредственных причинно-следственных отношений между конкретной зстетической идеей и конкретной научной (технической) идеей создает иллюзию самостоятельности возникновения научных (технических) истин и отсутствия каких-либо эстетических ее предшественников.
Но искусство генетически предшествует науке и технике хотя бы только потому, что оно научило — и научает — человечество творчески мыслить, оно содействует развитию его как иррациональных, так и рациональных мыслительных способностей. Не говоря уже о том, что само искусство генерирует неопределенные формы новизны (в виде эстетических идей), — служащие праформами, архетипами идей научно-технических.
К нашему сожалению, сама эстетика, если можно так выразиться, заблудилась «в трех соснах»:
— в нашей способности к сознательной — и притом множественной — интерпретации смысла (идеи) произведения искусства, о которой писали и Шеллинг, и Бодлер, и мн. др.;
— в нашей принципиальной неспособности понять на сознательном уровне истинный смысл произведения, смысл, однозначно всеми понимаемый;
— и в нашей способности «понять» этот смысл на бессознательном уровне, то есть уловить его душой.
На первый взгляд, конечно, может показаться, что Природа сыграла злую шутку с человеком, отказав ему не только в способности сознательного понимания истинного смысла произведения искусства, но и в непосредственном осознании того факта, что только бессознательное способно «увидеть» и уловить в свои сети идею-новизну. Почему она это сделала, нам не дано знать. Но злой умысел в этом усматривать все же не стоит. Природа мудрее своего, хотя и разумного, но не столь проницательного создания. И если мы не можем разгадать ее замысел, то это вовсе не значит, что его нет: в этом, скорее всего, заложен глубокий смысл, который мы просто не способны разгадать.
И все же мы можем узнать — правда, опосредованно, через испытание интеллектуального чувства удовольствия, — что наше бессознательное уловило смысл произведения искусства. Сознание же обделено такой способностью. Оно может всего лишь оформить «схваченную» интуицией идею и довести ее до состояния однозначно понимаемой мысли, и то только в том случае, если оно владеет соответствующим
«…арсеналом выразительных средств, присущих данному содержанию»62,
То есть той понятийной базой и символикой, которые разработаны на данное время и подходят для выражения именно этой новой идеи, как это зачастую бывает при открытии научной истины в какой-либо сфере нашей деятельности.
Эстетическая же идея сама по ceбe невыразима, поскольку нам не известна ни та символика-база, которая может быть применена для разработки и оформления каких-либо эстетических идей в идеи научные, ни те эстетические идеи для выражения которых потребна та или иная символика-база. Проблема претворения эстетических идей в идеи научные или технические это, по сути дела, проблема формирования определенной символики и понятийной базы и состыкования их с соответствующими эстетическими идеями, созревшими для того чтобы быть предъявленными данному сообществу.
Так что эстетические идеи — это такие идеи, относительно смысла которых можно сказать:
«…смысл существует, но мы не можем сказать о нем что-нибудь осмысленное»63. (формула Блюмфилда),
И не можем сказать до тех пор, пока не будет разработан соответствующий «арсенал» выражения. Причем, выразительные средства это не только соответствующий «язык», оформляющий идею, но и те понятия, представления, духовные знания, которые разработаны на данное время и посредством которых эстетическая идея внедряется в жизнь в своем измененном виде. Именно здесь — через язык, символ, подходящее к данному случаю понятие — осуществляется трансформация эстетической идеи в идею научную и именно здесь первая обретает форму, способную быть внедренной в реальную жизнь.
4.4. Современное искусство
И даже современное искусство, порою не возбуждающее наших чувств, все же может будировать нашу мысль. Загадочность «Черного квадрата» не в том, что в нем заключена какая-то нам еще неизвестная идея, а в том, что в нем нет никакой идеи. Более того, можно сказать, что развитие искусства подобно развитию других наук, таких как физика, философия, психология, астрофизика и т. д. Как в физике есть материальные частицы, а есть частицы виртуальные; как в философии есть бытие и есть небытие; как в психологии есть сознание и есть бессознательное и как в астрофизике есть наблюдаемые объекты и есть «черные дыры», так и в искусстве есть произведения, несущие чувственную и смысловую нагрузку, а есть произведения, которые не возбуждают ни чувства ни мысли. Это искусство не только «беспредметное», но и безмысленное и в этом заключена вся его новизна. Оно, как импрессионизм или сюрреализм, новый стиль в искусстве, который имеет такое же право на жизнь, как и все остальные стили. Несмотря на всю безмысленность произведений искусства подобного рода, они побуждают мысль к поиску того, что же все-таки могло бы в них заключаться. Вспомним хотя бы тот океан литературы, посвященный современному искусству.
И если нам пока что неведомо, какой ценностью обладает современное искусство, то это вовсе не значит, что оно совсем ею не обладает. Просто мы сами еще не созрели до подобного понимания. Любой феномен жизни — в том числе и духовной — имеет и причину возникновения, и функцию, которую он выполняет, и цель, которую он преследует. И современное искусство не является исключением. Так что пренебрежительно-уничижительное отношение к нему свидетельствует только о нашей ограниченности и неспособности его понять.
Таким образом, любая наука начинается с попытки познать окружающий мир и заканчивается попыткой понять то, что стоит на грани этого мира или уже не является этим миром, то есть то, что ему противостоит. И, поняв это противоположное, мы, возможно, поймем очень многое. Это и будет прорыв в другой мир, нам пока еще неизвестный.
А пока что новое искусство само ищет нетрадиционные формы своего выражения: в импрессионизме оно воспринимало жизнь через непосредственное индивидуальное впечатление, в сюрреализме жизнь воспринималась уже через мимолетные видения нашего бессознательного: сны, фантазии, галлюцинации и т. д., а в «живописи действия» предметом изображения являлась сама чувственно-кинестетическая энергетика художника.
К сожалению, общая, наблюдаемая в последние полтора столетия и достаточно печальная тенденция, заключается в том, что глубина чувствования, прошедшая свой пик в эпоху от Возрождения до импрессионизма, постепенно трансформируется в поверхностность ощущения. И виной тому соблазнительность и доступность благ добытых современной цивилизацией. Ловля сильных ощущений и впечатлений стала самоцелью жизни, в то время как глубина чувствования может быть достигнута только длительным и тяжким трудом работы над собой. А где взять время на то, чтобы добывать и хлеб насущный и хлеб духовный? Всеобщая круговерть и суматоха совсем не способствуют выработке сосредоточенности и проницательности, в гнезде которых только и можно «высидеть» глубокое чувство способное родить какую-либо плодотворную идею.
Так что если в старом искусстве художник стремился выразить окружающий мир посредством себя и своих чувств, то художник современного искусства стремится выразить себя и свои ощущения посредством искусства. Но эта задача пока ему не по силам. Слишком мало мы знаем себя, как когда-то слишком мало знали окружающий нас мир. А потому изображаем пока что только то, что «выпирает» из нас, а не то, что находится в глубине. Отсюда «странности» живописи действия, реди-мейда, кинетизма, лирического абстракционизма и т. д.. Отсюда «пестрота» современного искусства. Отсюда же поколения, не давшие
«…векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда»64.
И Лермонтов одним из первых уловил это снижение статуса полнокровного чувства до повседневной жажды ощущений:
«Повсюду нынче ищут драмы,
Все просят крови — даже дамы»65.
В оправдание человека, конечно, следует отметить один немаловажный факт: мы сначала увидели природу и окружающий нас мир и только потом, много времени спустя, заметили себя в этом мире. Что уж говорить о полноценности форм выражения собственной сущности, если только в последние полтора столетия мы стали кое-что узнавать об архитектонике собственной психики. А узнав нечто новое в себе, современный художник в своем «юношеском максимализме» отвернулся от мира и обратился в себя. Так подросток порою отворачивается от родителей и настаивает на полной свободе выражения себя.
Конечно, не следует думать, что традиционное искусство исчерпало свои возможности: просто изменились времена и люди, изменился уклад самой жизни, а вместе с ним и наш взгляд на природу и жизнь. И было бы неверно говорить о конце искусства, как было бы неверно говорить о конце мира в сезон засухи, предшествующей сезону проливных дождей.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что искусства, не обремененного функциональным назначением, нет и не может быть, поскольку оно не способно уйти от своей изначальной функции в этом Мире, функции приумножения многообразия. Как бы там ни было, но приходится только поражаться и восхищаться Природой, насколько она хитра в достижении своей главной цели, цели создания разнообразия: она платит нам каждый раз наслаждением только за то, чтобы мы согласились воспринять и открыть ту новизну, которая в ней сокрыта или ту новизну, которую мы сами создаем из себя путем определенных интеллектуальных усилий, а порою и телесных лишений.
Так что, если идеи — это разменные монеты новизны, то чувство интеллектуального удовольствия — это плата, которой вознаграждает нас Природа за тот вклад, что мы вносим в бездонную копилку создания многообразия. И если мы будем равнодушны к Искусству, то исконная Природа нашей души и души нашего рода, в конце концов, отмстит нам тем, что станет к нам равнодушной. (Вот уж воистину: «Мне отмщение, и аз воздам»). Но это уже грозит катастрофой самой жизни.
4.5. Что бы смогла объяснить концепция новизны в эстетике?
Излагая свою концепцию, автор вовсе не предлагает заменить слово «прекрасное» на слово «новизна». Он хотел бы только показать, что объективная интеллектуальная новизна является всего лишь одним из аспектов так называемого прекрасного, «понимание» которого сопровождается спонтанным возникновением чувства удовольствия. И еще неизвестно, одна ли новизна способна доставить нам наслаждение. Например, композиционное построение, создающее гармоничное сочетание частей и способствующее целостности представления, разве оно не может внести свою лепту в «казну» удовольствия? Конечно, у произведения искусства есть и другие достоинства способные привлечь наше внимание, но не способные вызвать интеллектуальное чувство наслаждения, и эти достоинства не менее значимы, чем новизна.
Поэтому, исходя из вышеизложенного, одна из задач искусствоведения состоит, как нам представляется, в том, чтобы отделить в произведении искусства то, что доставляет интеллектуальное наслаждение от того, что не претендует на подобный статус, не становясь от этого ни менее ценным, ни менее привлекательным. Другая задача состоит в том, чтобы определить, каким образом и в какой мере то или иное достоинство участвует в формировании идеи произведения, являющейся источником интеллектуальной новизны. В частности, определить, в каких взаимоотношениях находятся интеллектуальная новизна и новизна органолептическая. И третья задача заключается в определении метафизической сущности искусства. Да, искусство существует тысячелетия, да, оно доставляет наслаждение, но только ли для того оно существует, чтобы доставлять удовольствие, не является ли услаждение струн нашей души всего лишь приманкой для выполнения Природой задачи более достойной человеческого рода, как, например, задачи приумножения многообразия Мира.
А теперь попытаемся представить, что бы смогла объяснить теория прекрасного, если бы в основу ее было положено наличие в произведении искусства объективной интеллектуальной Новизны взгляда художника на вещи и явления окружающего нас мира.
1. Во-первых, она бы объяснила так долго мучивший многих вопрос, отчего возникает удовольствие при созерцании произведения искусства.
А возникает это удовольствие от «понимания» на бессознательном уровне интеллектуальной новизны, той новизны взгляда художника на вещи и явления, которая никому еще не знакома — кроме художника, — но которая на бессознательном уровне созвучна тому, что присутствует в душе созерцателя в скрытом виде. Можно сказать, что творец возбуждает и тем самым «озвучивает» в душе созерцателя аккорды, доселе немотствовавшие.
Произведение искусства устроено таким образом, что его невозможно понять на сознательном уровне, его можно только чувствовать и интерпретировать, исходя из материала, представленного самим произведением и наших познаний в данной сфере искусства.
Отсюда парадоксальная мысль: искусство существует только благодаря непониманию той идеи, что в нем заложена художником и благодаря тому удовольствию, которое мы испытываем, но не понимаем, откуда оно.
2. Во-вторых, эта теория прояснила бы причину так долго существовавшего пристрастия большинства архитекторов, скульпторов, художников, искусствоведов и т. д. к связыванию прекрасного с непременным наличием в произведении искусства надлежащих пропорций, меры и согласованности его частей, а также соответствия произведения своему назначению. Что касается пропорций, симметрии, согласованности и меры, то данные качества произведения искусства характеризуют целостность, законченность, гармоничность данного произведения, а только в целостном и гармоничном можно почувствовать интеллектуальную новизну в ее полном и более «наглядном» виде. Произведение искусства, в котором новизна была бы представлена в «частичном» виде, не обладало бы ценностью в наших глазах, поскольку она не была бы нами обнаружена, как не было бы нами «узнано» сооружение, представленное, положим, всего лишь колоннами, боковыми стенами и парадным подъездом. И недаром гештальтпсихология первой обратила внимание на тот факт, что наша психика способна формировать «хороший» гештальт, то есть она способна из множества восприятий преимущественно фиксировать только то, что едино, симметрично, замкнуто, целостно. Относительно же соответствия того или иного произведения искусства той функциональной роли, для которой оно предназначено, можно сказать, что данное соответствие свидетельствует не только о целостности данного произведения, но и о гармоничности его существования в той среде, где оно успешно выполняет свою функцию. А гармоничность и целостность в наиболее полном объеме представляют интеллектуальную новизну произведения искусства, являющуюся неотъемлемым атрибутом последнего.
3. В-третьих, можно было бы объяснить идущее еще с Античности постоянное отождествление в эстетике красоты и истины, несмотря на то, что истина не имеет никакого отношения к самой эстетике, поскольку принадлежит гносеологии.
Красота и истина не просто соединены в произведении искусства, они порою бывают слиты в нашем представлении до неразличимости. Потому что, если истина — это внове созданная (обнаруженная, «понятая») ценностно-смысловая конструкция, то красота — это то, что спонтанно не столько сопровождает, сколько манифестирует возникновение данной структуры. Причем манифестирует с определенно заданной целью. Так что красота и истина — два названия одного и того же явления, именуемого объективной интеллектуальной новизной, но характеризуемого с двух различных сторон. Поскольку интеллектуальная новизна в виде объективной идеи обладает и истинностью, в силу своей верности, и красотой, в силу способности доставлять удовольствие. Так что «слияние» истины и красоты вполне объяснимо, поскольку в самой истине, обладающей первозданностыо и уникальностью, заключена новизна, а в самой красоте, обладающей способностью доставлять удовольствие, также заключена все та же новизна. (Но обо всем этом более подробно будет изложено в Части 11).
4. В-четвертых, стала бы более объяснимой причастность к эстетике категории безобразного: доставляя нам наслаждение, новизна может быть не столь привлекательной для нашего чувства (положим, брезгливости), для нашего суждения, для нашей нравственности. Важен сам элемент «понимания» и удивления от явленной нам идеи-новизны. И не столь существенно, какую, положим, моральную окраску имеет эта идея. Если добро и зло в этом мире имеют, по крайней мере, одинаковые права на жизнь, значит, они имеют одинаковые права и на представление самих себя в искусстве, представляющей эту жизнь.
5. В-пятых, можно было бы понять разногласия некоторых авторов относительно причины сокрытости или двойственности присущей любому настоящему произведению искусства. Сокрытость произведения искусства исходит не оттого, что творец его стремится непременно завуалировать «истинный» смысл произведения, а от того, что он просто не в состоянии его выразить, так как новизна, явленная нашему бессознательному, принципиально не может быть представлена однозначным образом нашему сознанию в какой-либо знаковой системе. Невыразимость идеи произведения искусства — характерное свойство последнего.
К сожалению, следует согласиться с тем, что термины «красота» и «прекрасное» сами по себе ничего не говорят нашему чувству, потому что умом мы понимаем, что за ними скрывается нечто для нас важное как для характеристики произведения искусства, так и для нашего восприятия его, но сердцем мы не в состоянии почувствовать их значение и смысл, потому что эти термины скрывают в себе и эстетическое удовольствие, как фактор нашего психического восприятия и переживания, и новизну, как отличительное свойство произведения, и оценку вклада природного дарования художника, как выражение уникальности последнего и мн. мн. др.
Поэтому, как в физике имеются фундаментальные законы и принципы, без которых невозможно понять устройство материи, так и в искусстве должны быть основополагающие понятия, без которых невозможно, хотя бы на феноменальном уровне, понять и познать психологию творчества художника и психологию восприятия произведения созерцателем. И такими понятиями, как нам кажется, могли бы быть:
— объективная интеллектуальная новизна,
— интеллектуальное чувство удовольствия,
— «понимание» идеи на бессознательном уровне,
— инсайт, интуиция,
— приумножение многообразия,
— природное дарование и т. д.
Подобные понятия должны быть таковыми, чтобы их можно было если не измерить, то хотя бы:
— почувствовать на феноменальном уровне, как, например, интеллектуальное чувство удовольствия;
— исчислить или сравнить с чем-либо, как, например, многообразие;
— зафиксировать, как, например, инсайт;
— сопоставить или проанализировать, как, например, новизна и т. д.
Только оперирование положениями, прочувствованными или уясненными нами самими, может быть плодотворным в вопросе понимания произведения искусства и самого процесса творчества.
А вообще, создается такое впечатление, что эстетика все время движется по издревле уже накатанной и раздолбанной до невероятной ширины и глубины колее красоты и она уже не способна — да и нет у нее особого желания — выкарабкаться из нее на расположенную рядом с ней прямую дорогу новизны. Эстетика, в основе которой красота, должна стать эстетикой, в основе которой новизна. Тем более что замена фундамента не влечет за собой кардинальной переделки всей надстройки эстетических категорий:
— остается и удовольствие от восприятия интеллектуальной новизны, и связанное с ним эстетическое переживание;
— остается и гармония, как достижение целостного образа, наделенного новизной посредством определенного взаимосочетания его элементов;
— остается и возвышенное, как знак отличия нового от известного и повседневного;
— остается и катарсис, как переживание от встречи нашего сознания-бессознательного с той интеллектуальной новизной, что представлена в произведении искусства.
Так что выбраться из старой колеи можно только посредством психологического и интеллектуального проникновения в категорию объективной интеллектуальной новизны, лежащую в основе любого творческого процесса, в том числе и процесса эстетического творчества.
Литература к Части 1
1. Коллингвуд Р. Дж. Принципы искусства. — М.: «Языки русской культуры», 1999. С. 45.
2. Г. Риккерт. Границы естественнонаучного образования понятий. — Санкт-Петербург.: «Наука». 1997. С. 522—523.
3. Грэм Гордон. Философия искусства. — М.: СЛОВО SLOVO, 2004. С. 23—24.
4. Платон. Сочинения в трех томах. — М.: «Мысль». 1970. Все цитаты из Платона даны по этому изданию.
5. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. — Сенека Л.-А. Нравственные письма к Луцилию; Трагедии. — М.: «Худож. Лит.». 1986. С. 233.
6. Декарт Р. Страсти души. — Декарт Р. Сочинения в 2т. — М.: Мысль, 1989. Т. 1. С. 483.
7. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. — М.: «Прогресс». 1987.
8. Мандельштам О. Собр. соч. в 4-х т. Т. 1. — М.: «Терра» — «Terra», 1991. С. 81.
9. А. Шопенгауэр. Мир как воля и представление. Т. II. –М.: «Наука», 1993. С. 411.
10. Ален. Рассуждения об эстетике. Пер. с франц. А. З. Акопяна. — Н. Новгород. 1996. С. 116.
11. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. — М.: Прогресс. 1989. С. 357.
12. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. — Ницше Ф. Сочинения в 2 т. — М.: Мысль. 1990. Т. 2. С. 253.
13. Шопенгауэр А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 5: Parerga и Paralipomena: В 2 т. Т. 2: Paralipomena. — М.: ТЕРРА — Книжный клуб; Республика, 2001. С. 41.
14. Ж. Жубер. Дневники. Эстетика раннего французского романтизма. — М.: Искусство. 1982. С. 321.
15. См. например: Пуанкаре А. Ценность науки. Наука и метод. — Пуанкаре Анри. О науке. — М.: Наука. 1983; Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в области математики. — М.: Советское радио. 1970; Лапшин И. И. Философия изобретения и изобретение в философии: Введение в историю философии. — М.: Республика. 1999. С. 219—261.
16. Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 2. Проблемы общей психологии. — М.: Педагогика. 1982. Страницы указаны в скобках.
17. Жан Бодрийяр. Соблазн. — М.: Изд. Ad Marginem. Пер. с фр. А. Гараджи. 2000. С. 165—166.
18. Сенека. Указ. соч. С.128.
19. Барт Р. Текстовой анализ одной новеллы Эдгара По. — Указ. соч. С. 434.
20. Цит по: Западная философия: итоги тысячелетия. — Екатеринбург: «Деловая книга», Бишкек: «Одиссей». 1997. С. 344.
21. Бергсон А. Смех. — М.: Искусство. 1992. С. 12.
22. Гомер. Одиссея. Пер. с древнегреческого В. Жуковского. — М.: ТЕРРА. 1996. Песнь 11. C. 546.
23. Гомер. Илиада. Пер. с древнегреческого П. И. Гнедича. — Л.: Наука. 1990. Песнь 24. С. 353.
24. О. Григорьев. Футбол. Поэма. — Олег Григорьев. Птица в клетке. Стихи и проза. — Санкт-Петербург.: Изд. Ивана Лимбаха. 2005. С. 240.
25. Платон. Теэтет. — Указ. соч. Т. 2. С. 243.
26. Аристотель. Метафизика. — Сочинения в четырех томах. — М.: Мысль. 1975. T. I. С. 69.
27. Г. — Г. Гадамер. Язык и понимание. — Г. — Г. Гадамер. Актуальность прекрасного. — М.: Искусство. 1991. С. 45.
28. Изард К. Эмоции человека. — М.: Изд-во Моск. ун-та. 1980. Таблица 7. С. 248.
29. Платон. Кратил. — Указ. соч. T. I. С. 453.
30. Вольтер. Эстетика. Статьи. Письма. — М.: Искусство. 1974. С. 294.
31. Валери Поль. Об искусстве. — М.: Искусство. 1976. С. 151.
32. Барт Р. Указ. соч. С. 495.
33. Из истории английской эстетики ХУШ века: Поп. Аддисон. Джерард. Рид. — М.: Искусство. 1982. С. 232—237.
34. Зельдмайр, Ганс. Искусство и истина. Теория и метод истории искусства. — СПб.: Axioma, 2000. С. 148.
35. Блейк У. Видения страшного суда. — М.: Изд-во ЭКСШ-Пресс. 2002. С. 211.
36. Э. Гомбрих. Мифологии Боттичелли. — «Искусствознание» 2/02 XX. Научное издание. С. 169.
37. Серен Киркегор. Дневник обольстителя. Серен Киркегор. Наслаждение и долг. — Киев.: Изд-во АО. 1994. С. 203.
38. Г. В. Ф. Гегель. Эстетика. В 4-х т. — М.: Искусство. 1968. T. I. С. 295.
39. Банфи А. философия искусства. — М.: Искусство. 1989. С. 34.
40. М. Хайдеггер. Исток художественного творения. Цит. по: Зарубежная эстетика и теория литературы Х1Х-ХХ вв. Трактаты, статьи, эссе. — М.: Изд-во Моск. унив-та. 1987. С. 312.
41. История красоты. Под ред. Умберто Эко. — М.: СЛОВО SLOVO, 2005. С. 315, 317.
42. Сиоран. Искушение существованием. — М.: Республика; Палимпсест, 2003. С. 407.
43. Беньямин В. Озарения. Маленькие фрагменты об искусстве. — М.: Мартис. 2000. С. 283.
44. Шопенгауэр А. О четверояком корне… Мир как воля и представление. Т. 1. Критика Кантовской философии. — М.: Наука, 1993. С. 316.
45. Шарль Бодлер. Цветы зла. Обломки. Парижский сплин, искусственный рай. Эссе, дневники. Статьи об искусстве. М.: РИПОЛ КЛАССИК. I997. С. 517.
46. Дали С. Дневник одного гения. — М.: Искусство, 1991. С. 123.
47. Хосе Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры. Дегуманизация искусства. — М.: Искусство. 1991. С. 220—222.
48. Лосев А. Ф. История античной эстетики. СОФИСТЫ. СОКРАТ. ПЛАТОН. — М.: Ладомир. 1994. С. 200—201.
49. Ницше Ф. Сочинения в 2 т. — М.: Мысль. 1990. Т. I. Человеческое, слишком человеческое. С. 237.
50. Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 2. Философия природы. — М.: Мысль. 1975. С. 539.
51. Шарль Бодлер. Указ. соч. С. 517.
52. Ортега-и-Гассет Х. Размышления о «Дон Кихоте». — СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1997. С. 110.
53. Уайтхед А. Избранные работы по философии. Приключения идей. — М.: Прогресс, 1990. С. 669.
54. Л. Фейербах. Избр. философские произедения. В 2-х т. Т. 2. Лекции о сущности религии. — М.: Гос. изд. полит. лит. 1955. С. 640.
55. Хёйзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. — М.: Издательская группа «Прогресс», «Прогресс-Академия», 1992.
56. Гельвеций. Сочинения. В 2-х томах. Т. 1. Об уме. — М.: «Мысль», 1974. С. 285.
57. Шеллинг Ф. В. Й. Сочинения в 2 т. Т. 1. — М.: Мысль, 1987. С. 478.
58. Ж. Жубер. Дневники. Цит. по: Эстетика раннего французского романтизма. — М.: Искусство, 1982. С. 322.
59. Шарль Бодлер. Указ. Соч. С. 790, 791.
60. Беньямин В. Озарения. «Избирательное сродство» Гете. — М.: Мартис, 2000. С. 116—117.
61. Адорно В. Теодор. Эстетическая теория. — М.: Республика, 2001. С. 185.
62. Ортега-и-Гассет Х. Размышления о «Дон Кихоте». — СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1997. С. 111.
63. А. Ж. Греймас и Ж. Курте. Семиотика. Объяснительный словарь теории языка. Цит. по: Семиотика. — М.: Радуга, 1983. С. 519.
64. М. Ю. Лермонтов. Дума. — Собр. соч. в 4-х тт. М.-Л.: Изд-во АН СССР. 1962. Т. I. С. 443.
65. М. Ю. Лермонтов. Тамбовская казначейша. Указ. соч. Т. 2. С. 460.
Часть 11. Бытие как возникновение интеллектуальной новизны и нового сущего
Предисловие к Части 11
Сколь это ни звучит странно, но чем разумнее, как, казалось бы, становится человечество, тем все более сгущается вокруг нас наступающая, подобно вечерним сумеркам, духовная неопределенность. В чем именно это проявляется?
Так мы существуем посредством процесса бытийствования среди мира, наполненного сущим, но при этом у нас нет достаточно четкого представления о том, что такое бытие и что такое сущее (не говоря уже о том, что такое Хаос (Ничто).
Мы не только восхищаемся красотами Природы, но и сами все еще создаем прекрасные произведения литературы и искусства, но при этом мало чего вразумительного можем сказать о том, что такое красота, как она возникает и какое воздействие оказывает на самого человека и общество в целом.
Мы мыслим посредством генерирования новых идей и тем самым пока что обеспечиваем относительную устойчивость существования этого мира, его многообразие и обновление, но при этом мало что можем определенного сказать о том, что такое Новизна сама по себе и что такое идея.
Мы буквально на каждом шагу — и в жизни и в искусстве — постоянно говорим о проявлениях своей и чужой души, но продвинулись ли мы со времен Античности в вопросе, что именно относится к компетенции душевных проявлений нашей психики и чем они выделяются от прочих проявлений в том числе и духовных.
Мы все время заняты поисками Истины и путей приложения ее в собственную практику, но при этом плохо себе представляем саму суть этого понятия, методологию ее формирования и применения.
И примеров таких можно привести великое множество. Но как это ни печально, с течением времени мы все более и более уходим от осознания истинности вышеотмеченных понятий, впервые представленных и можно даже сказать подаренных нам древнегреческими мыслителями. Что это: закономерность духовной эволюции человека и человечества в целом или признак все более и более надвигающейся на нас деградации?
Два с половиной тысячелетия развития цивилизации, но продвинулись ли мы хотя бы сколько-нибудь не столько в развитии, но в понимании вышеозначенных вопросов. Наоборот, как нам представляется, мы все более отстраняемся от разрешения поставленных древними греками вопросов, поскольку происходит отчасти неосознаваемое нами самими, но неуклонное выхолащивание душевной, нравственной и духовной составляющих нашей психической, общественной и интеллектуальной жизни. Единственной и основной нашей заботой становится наше материальное благополучие, постепенно вытесняющее, — буквально выдавливающее подобно соку из плода — вышеозначенные понятия нашей жизни и культуры. Но добром это не может кончиться. Неужели тысячелетия духовного становления человечества были направлены только на то, чтобы создать цивилизацию, благоденствующую в материальном плане, но деградированную в плане духовном и нравственном. А ведь к этому мы движемся. И даже не заметно на горизонте какой-либо силы, которая могла бы воспрепятствовать этому совсем недавно наметившемуся, — особенно в Новейшие времена, — но неуклонно нарастающему процессу.
Создается такое впечатление, что, чем «умнее» и совершеннее становятся создаваемое нами машины, аппараты, устройства, тем глупее становимся мы сами. Передоверяя машинам и механизмам часть своей физической и интеллектуальной энергии, мы утрачиваем саму способность душевного, нравственного и духовного совершенствования, а потому деградируем до уровня придатков, физически и умственно зависимых от того, что мы создаем. Иначе говоря, мы попадаем в ловушку рабства, расставленную нами самими на самих же себя. Душевность, нравственность и духовность становятся тем захолустьем, которое однажды разросшись, поглотит и нас самих и нашу цивилизацию. Ведь мы же знаем: то, что в Природе — в том числе и природе нашего организма — не функционирует, не совершенствуется, не обновляется, то постепенно утрачивается и гибнет.
Вот где нужна нам наша мудрость, то есть духовность, соединенная с нравственностью и душевностью. Нам хватает ума создавать то, что мы создаем, но нам не хватает мудрости в создании гармонии между тем, что мы способны создать и тем, что мы собой представляем в духовном и нравственном отношении. Но как мы знаем, в том, что мы собой представляем слишком много природного, эгоистичного, ресентиментного. Вот это негативное — источник того диссонанса, под угрозой которого все время находится то равновесие, которое мы пытаемся создать. Нам все время надо держать в голове ту истину относительно нас же самих, которая выражается в народной мудрости в виде пословицы: как ни корми волка — он все в лес смотрит.
Мы слишком недавно вышли из Природы и слишком быстро обрели возможность получения материальных благ, но мы еще не успели обрести хотя бы возможность создания устойчивой платформы нашего нравственного и духовного благосостояния. Последнее нам очень плохо удается. Но нами создаваемое не должно приходить в противоречие с тем, чем мы являемся сами. Разрыв между первым и вторым — это та пропасть, в которую мы неизбежно свалимся, если оставим в забвении собственное психологическое, нравственное и духовное воспитание и образование. И наша беда не столько в том, что мы слишком быстро и поспешно, — а потому и необдумано — переделываем под себя свою среду обитания, а в том, что мы не можем также быстро переделать свою психолого-нравственную природу. Ее скорее всего нужно долго и упорно воспитывать и образовывать в плане той пайдейи, которой была озабочена мудрая Античность и которая (пайдейя) была уже забыта Средневековьем и Новыми временами. Дело осложняется и тем, что чем более мы становимся благополучными в материальном отношении, тем менее у нас тяга к тому, чтобы стать полноценными в нравственном и духовном отношении. (Вот уж воистину — сыто брюхо к ученью глухо). А это является следствием отсутствия у нас духовности и ответственности за те последствия, которые могут быть с этим сопряжены. Ведь духовность это не только образованность и умение ловко ориентироваться в наличной обстановке, но и видение той перспективы, в которой мы можем очутиться при тех или иных неблагоприятных или просто несвойственных нам обстоятельствах.
Да, действительно, ум заключается в том, чтобы производить интеллектуальную и материальную новизну. Но как оказалось на поверку, этого слишком мало. Для того чтобы уметь распоряжаться этой новизной и регулировать те направления, в которых она должна производиться, для этого нужна мудрость. Мы же себе в ней отказываем, склоняясь только к материальному потребительству. И величайшая заслуга Хайдеггера и других мыслителей в том, что они обратили и заострили внимание на процессе нравственно-духовного, метафизического застоя и деградации общества в быстротекущем потоке все нарастающего прогресса научной, технической и технологической оснащенности нашей цивилизации. Но не окажется ли этот застой той «пробкой», которая, разрастаясь в своих размерах, перекроет сам поток развития? Вот в чем вопрос. И этот вопрос, скорее всего, призвана разрешить не какая-либо научно-техническая дисциплина, а именно, дисциплина метафизика, поскольку ее предметом одновременно являются и сам человек производящий (обнаруживающий, «понимающий») новизну и сама новизна во всех формах ее проявления.
А теперь в самых общих чертах о том, что нас будет занимать во второй части нашей книги. В первой части мы уже предприняли некоторые попытки, во-первых, отделить душевные проявления нашей психики от того, что мы называем духовным в нас и в нашей культуре; во-вторых, определить, что такое прекрасное и какие именно феноменальные проявления нашего интеллекта и нашей психики побуждают нас признать прекрасным то или иное произведение искусства, и в-третьих, более четко представить себе интеллектуальную новизну в форме объективной идеи.
В данной же части книги нами будет раскрыта тема ранее никем еще не затронутая, а именно, тема внутренней сущности понятия объективной идеи. Это, во-первых. А во-вторых, будут определены и расмотрены те понятия, которые непосредственно взаимосвязаны с понятием идея, то есть понятия бытия, истины, сущего, красоты и т. д. Но наша задача, с одной стороны, будет состоять не в том, чтобы дать несколько иное толкование тому, что ранее в метафизике уже было определено под символами имен «идея», «истина», «прекрасное», «бытие» и т. д., и не в том наша задача, чтобы уточнить (конкретизировать, сузить, расширить) эти уже существующие понятия. Наша задача в том, чтобы, во-первых, на фоне уже имеющегося знания об этом «определенном» сначала вычленить то, что имело бы смысл определить, во-вторых, определить его как бы сызнова, то есть определить не обращая внимания на прежде приданные ему смыслы, на смыслы ранее уже сопряженные с этими именами, и в-третьих, определить его так, чтобы оно вписывалось в систему остальных понятий не только вполне естественным образом, но и в их вполне объяснимой и понятной в своем происхождении взаимосвязи друг с другом. И последнее, по сути дела, является основным нашим требованием и главной целью.
И с другой стороны наша задача будет состоять не в том, чтобы в дальнейшем, во что бы то ни стало сохранять логическую последовательность изложения текста, а в том, чтобы в процессе изложения нам была понятна вышеозначенная взаимосвязанность и взаимовытекаемость понятий, которыми мы оперируем. Поэтому, как в археологии, наткнувшись на какой-то объект или сооружение, начинают раскопки именно с этого места, а затем продолжают их в тех местах, где можно обнаружить, хотя еще и не видимые, но уже предполагаемые детали этого сооружения, так и в нашем случае, «зацепившись» за концепцию структурно-функционального состава идеи (раздел 5.1), мы попытаемся не только «вытянуть» и обосновать метафизические понятия бытия, сущего, сущности, Истины, идеи, новизны, Ничто (Хаоса), красоты, и т. д., но и рассмотреть их с разных сторон: положим, со стороны размежевания этих понятий, их взаимодействия, причин забвения, оценки трудности их восприятия нашим сознанием и т. д. и т. п. Так что в процессе изложения возможны повторы и возвраты к обсуждению ранее затрагиваемых вопросов. Основанием, а заодно и оправданием этому все же служит, во-первых, сама по себе сложность предмета изложения, во-вторых, запутанность и «затененность» его исторического развития и, в-третьих, многослойность и многозначность доставшегося нам в наследство понятийного аппарата.
Вот почему нижеследующие разделы, — да и разделы первой части книги, — это всего лишь очерки отдельных моментов понимания того, как (а главное, из чего!) возникает (складывается) интеллектуальная новизна и как она преобразуется в новизну материальную. И эти очерки изложены примерно в той последовательности (за исключением данного Предисловия и отчасти следующего раздела), в какой они возникали, формировались и оформлялись по мере написания текста. Поэтому не следует искать в них изложения логически выстроеной целостной концепции. Наоборот, концепция слагалась по мере прояснения тех или иных вопросов, непосредственно относящихся к данной теме. Так, наверное, слагается мозаичная картина по мере нанесения на стену более или менее значимых в своей сути фрагментов.
Глава 5. И опять об идее и иррациональном мышлении
Здесь мы рассмотрим структуру идеи: из чего она состоит, в какой взаимосвязи находятся ее элементы, и какую роль исполняет каждый из них. Кроме того, будет высказано предположение об «одновременности» возникновения у человека способностей как иррационального мышления, так и мышления логического. А это, в свою очередь, повлекло за собой необходимость к речевому общению и обмену мыслями по поводу претворения в практику повседневной жизни смыслов внове создаваемых идей.
5.1. Структурно-функциональный состав идеи
Мы уже не счесть сколько раз употребляли слово «идея» и оперировали понятием, за ним скрывающимся. Но при этом не вникали в саму суть этого понятия. Мы говорили о том, что новая идея представляет собой объективную интеллектуальную новизну, что она является основным элементом продуктивного (творческого) мышления во всех сферах человеческой деятельности, говорили и о внезапности явления ее в наше сознание, и о связи ее с новизной, красотой и истиной, говорили и о том, что явление ее в наше сознание сопровождается как спонтанным возникновением интеллектуального чувства удовольствия-удивления, так и неизвестно откуда взявшейся уверенностью в ее истинности и надежности.
Но все это лишь внешние атрибуты, характеризующие внове образуемую идею. А потому мы еще не сказали самого главного: из чего она состоит, посредством каких факторов формируется и что является самой сутью ее содержания, то есть, что скрывается за тем новым смыслом, который она с собой приносит. Иначе говоря, нам предстоит заглянуть туда, куда, как нам представляется, еще никто не удосужился заглянуть. А именно, заглянуть «внутрь» идеи и попытаться разобраться в том, что она собой представляет: какие объекты являются составными ее частями, посредством чего эти объекты между собой соединяются и каков механизм образования ее ценностно-смыслового содержания.
Но для того чтобы нам проще было разобраться в этом, представим себе мысленно следующую ситуацию, демонстрирующую в наглядном виде процесс образования совершенно новой идеи. Так вот, положим, мы сидим за столом, а напротив больной человек с повышенной температурой тела. И перед нами поставлена задача измерить температуру его тела. (При этом нас будут интересовать не столько детали проведения данного мысленного эксперимента, сколько сам принцип создания абсолютно новой идеи, идеи, которая еще никому и никогда не приходила в голову). И непременным условием проведения этого эксперимента является то обстоятельство, что у нас нет никакого представления о градуснике или каком-либо другом способе измерения температуры. Но на столе перед нами множество (куча) предметов самого разного вида и назначения, и среди этого множества в разных местах стола находятся: колбочки со спиртом, водой и ртутью, трубочки из металла, стекла и резины, равномерно расчерченная шкала на бумажной ленте и т. д. Кроме того, у нас есть знание того, что коэффициент температурного расширения некоторых жидкостей прямо пропорционален температуре этих жидкостей.
Итак, имея множество предметов и ту задачу, которая стоит перед нами, зададимся вопросом: в какой последовательности мы будем действовать. Во-первых, скорее всего мы постараемся из имеющихся предметов отобрать те, которые, как нам кажется, могут пригодиться для выполнения нашей задачи. Причем, не исключено, что мы отберем те, которые нам в дальнейшем не понадобятся вовсе, и наоборот, не отберем те, которые нам необходимы. Во-вторых, мы начнем прилаживать друг к другу отобранные нами предметы с учетом вида, размера, цвета и других свойств этих объектов. То есть, мы будем пытаться взаимосвязывать их друг с другом и с телом больного человека. При этом мы можем менять одни предметы на другие и снова и снова производить эту операцию взаимосвязывания. Наконец, мы отберем то, что, как нам представляется, имеет отношение к конструкции данного прибора. В-третьих, мы более основательно примемся за решение стоящей перед нами задачи: с учетом вида и свойств отобранных нами элементов, мы начнем думать о том, как бы из имеющихся объектов получить прибор данного назначения. И на это обдумывание у нас может уйти достаточно много времени. Но далее — и это уже, в-четвертых — начнется самое интересное и самое таинственное: сколько бы мы ни сидели за этим столом и сколько бы ни обдумывали данный вопрос на рациональном уровне, решение его нами не будет найдено, и не будет оно найдено только потому, что рациональное мышление — как мы уже не раз заявляли об этом — в принципе не способно к тому, чтобы создать интеллектуальную новизну в виде идеи. Но это вовсе не значит, что этап предварительного логического мышления безрезультатен: наоборот, чем интенсивнее мы размышляем над задачей и чем с более разных сторон мы подходим к ее решению, тем вероятнее в последующем получение положительного результата. Можно сказать, что «интеллектуальное усилие» (Бергсон) — это хорошо проведенная «артподготовка», которая в дальнейшем дает нам возможность беспрепятственного овладения тем материалом, который прежде вызывал у нас затруднения.
Так вот, в обязательном порядке нужна какая-то временная и пространственная (смена обстановки) отстраненность от того, что мы пытались найти посредством рационального мышления. А нужна она нам только для того, чтобы к окончательному разрешению задачи подключилось наше более мощное в своей креативности бессознательное. И это подключение осуществляется совсем незаметно для нашего сознания. Мы даже не знаем, когда оно происходит: то ли после того, как мы уже отчаялись разрешить нашу задачу рациональным путем, то ли уже в процессе попытки логического ее решения.
Вот оно-то, бессознательное, — если нам, конечно, повезет, — в какой-то последующий момент (во время прогулки, сна, отдыха и т. д.) внезапно явит нам вид нашего прибора во всем комплексе его деталей и взаимосвязей между последними. (И это уже будет, в-пятых). Но явит его не в последовательности составляющих отдельных элементов и взаимосвязей, а как «сгусток» смысла, который мы должны раскрыть в эту последовательность. Явление этого «сгустка» в наше сознание — это и есть то, что в философии называется, инсайтом, озарением, интуицией.
И только в процессе раскрытия этого смысла (и это уже на шестом этапе) мы увидим: рабочим веществом, положим, должна быть ртуть, так как она обладает и свойством пропорционального изменения своего объема при изменении температуры, и темным цветом, позволяющим увидеть уровень ртути в трубке; трубочка должна быть стеклянной, чтобы был виден уровень подъема столбика жидкости; шкала должна быть жестко соединена со стеклянной трубочкой, и многое другое мы увидим в процессе развертывания идеи из «сгустка» смыслового содержания в сам смысл, показывающий нам, что с чем должно быть взаимосвязано и каким именно образом соединено. Кроме того мы увидим, что все нами отобранное должно быть взаимосвязано не только друг с другом, но и со зрением человека, обладающего способностью (свойством) видеть шкалу и столбик ртути, и с телом больного человека, температура которого обладает свойством повышаться. Так что основными объектами (сущими) этой идеи являются: сам изобретатель этого устройства, человек, температура которого измеряется и градусник (как комплекс вполне определенных объектов), являющийся искомым сущим, тем объектом, который внове образуется и посредством которого может быть исполнена определенная функция (деятельность). (Более подробно вопрос формирования искомого сущего в общем процессе возникновения новизны любого рода будет нами рассмотрен в основном в Разделах 6.1. «Где… прячется бытие?» и 6.12. «К вопросу о единстве методологии возникновения как „рукотворного“, так и природного сущего»).
Как видим, главенствующим фактором образования идеи является создание (обнаружение, «понимание») вполне определенных взаимосвязей между свойствами объектов причастных к ее созданию (обнаружению, «пониманию»). И эти взаимосвязи осуществляются не столько посредством физического соединения («столкновения») этих объектов, сколько путем взаимосочетания и «зацепления» тех свойств, которыми эти объекты обладают.
Так, положим, способность (свойство) человека видеть столбик ртути и шкалу коммуницирует со свойством последних отражать свет и быть видимыми за счет этого. Не будь какого-либо из этих свойств, не могла бы даже возникнуть идея градусника в данном виде. Для того чтобы понять, насколько важным элементом идеи являются свойства объектов и взаимосвязи между ними, напомним, что даже столкновение двух предметов будет иметь разный характер в зависимости от массы, упругости и формы последних. То есть все зависит от того, какие свойства одного объекта с какими свойствами другого объекта будут взаимосочетаться. (Так в последнем случае масса, положим, одного тела будет взаимодействовать и с массой, и с упругостью, и с формой другого тела, но она не будет взаимодействовать ни с цветом, ни с электропроводностью этого тела). И, главное, от этого будет зависеть результат. Идея обнаруживает этот результат, вернее, она и есть искомый результат. Причем, она обнаруживает и выявляет как сами объекты, так и те свойства, которые привели к взаимодействию и данному результату.
Как видим, взаимосвязи между объектами — это производные от их свойств. Не было бы свойств — не было бы и взаимосвязей между объектами. А не было бы взаимосвязей — не было бы и идей. Такова диалектика взаимоотношений структурных элементов идеи: объектов, свойств, взаимосвязей. (О роли свойств объектов-сущих и взаимосвязей между ними в деле формирования идеи речь у нас будет в основном идти как в Разделе 6.1. «Где… прячется бытие?», так и в Разделе 6.9. «Взаимосвязи как „серые кардиналы“ внове образуемых идей»).
Как суть человеческой личности заключается в тех отношениях, в которых она находится с окружающим его миром и обществом, так и суть какого-либо объекта-сущего или явления заключается в тех связях, в которых он находится с другими объектами и явлениями. Но понимание сути новых, то есть ранее неизвестных связей, возможно только в иррациональном (интуитивно-инсайтном) акте «схватывания» смысла идеи как комплекса тех ценностно-смысловых взаимосвязей, которыми соединены эти объекты и явления. Положим, идея электромагнетизма — это комплекс таких объектов и явлений как проводник, источник питания (напряжения), электроны в процессе движения, электромагнитное поле, предмет на который оно воздействует. И все эти объекты и явления между собой взаимосвязаны посредством определенных свойств: проводник должен обладать свойством электропроводности, источник питания — свойством создавать разность потенциалов, объект, на который воздействует электромагнитное поле — свойством электромагнетизма, да к тому же должен находиться в непосредственной близости от проводника и т. д.
И вообще, сущность объекта состоит в том свойстве, благодаря которому он находится во взаимосвязи с другими объектами в контуре вполне определенной идеи. Так, Земля обладает сущностью (свойством) тяготения, если она рассматривается во взаимодействии с другими объектами Солнечной системы. Но ее, Землю, можно рассматривать и с точки зрения места развития органической жизни, поскольку она обладает свойствами (сущностью), способствующими ее зарождению и развитию (температура, давление, наличие атмосферы и т. д.). То есть каждый объект может иметь множество своих сущностей в зависимости от того, какими своими свойствами он взаимосвязуется с другими объектами тех или иных идей. Объект сам по себе, обладай он сотней превосходных свойств, не будет иметь какой-либо ценности вне взаимосвязи с другими объектами. Только взаимосвязи придают ему смысл существования и ценность. Как писал Ницше:
«557. Свойства какой-нибудь вещи суть ее действия на другие «вещи»: если мысленно устранить другие «вещи», то вещь не будет иметь никаких свойств, т. е. не существует вещи без других вещей, т.е. не существует «вещи в себе».
558. «Вещь в себе» есть понятие, лишенное смысла. Если я мысленно устраню все отношения, все «свойства», всю «деятельность» какой-нибудь вещи, то вещи не останется: потому что вещественность лишь присочинена нами под давлением логических потребностей…«1.
Так что сущность отдельной вещи множественна и зависит от того, в каких идеях эта вещь участвует. Положим, сущностью воды в идее гидроэлектростанции будут ее свойства текучести и плотности, в идее кругооборота воды в природе — свойства испарения, конденсации и т. д., в идее гомеостаза — свойства текучести и способности растворять в себе и переносить по организму соли и минеральные вещества. Но сущность объекта не есть его идея, как это можно себе представить. А что же тогда называется идеей?
Идея — это внове про-изведенная (или внове обнаруженная, или внове «понятая») сущность какой-либо взаимосвязи нескольких объектов, каждый из которых взаимосвязан посредством определенных своих свойств со свойствами других объектов этого же комплекса. То есть идея — это функциональная взаимосвязь комплекса объектов, обладающая ценностным смыслом с той или иной интересующей нас стороны. Вопрос же, в чем смысл внове образуемой идеи будет нами рассмотрен далее как в разделах данной Части 11, так и в разделах Части 111.
Так в идее электродвигателя взаимосвязаны воедино статор, обладающий свойством пропускать электрический ток и тем самым создавать переменное магнитное поле; обладающий ферромагнетизмом ротор, способный свободно вращаться вокруг своей оси; пространство между ними, способное передавать электромагнитные волны и т. д. Таким образом, если сущность вещи — это ее свойство, которое необходимо для взаимодействия с другими объектами-сущими, то идея — это комплекс взаимосвязанных сущих, комплекс, обладающий и смыслом и ценностью для нас.
Но тогда спрашивается, откуда появляется ценностно-смысловое содержание идеи, то есть, какие факторы формируют это содержание и в то же время придают ему ценность (потому что возникновение нового смысла всегда сопряжено с появлением новой ценности). Скорее всего, смысловое содержание является результатом создания нового комплекса из объектов, определенные свойства которых объединены ранее неизвестными нам взаимосвязями.
То есть, новое смысловое содержание идеи создается Новизной: новизной взаимосочетания самых разных объектов, новизной использования их свойств (в определенном назначении) и новизной взаимосвязей между ними.
Вообще говоря, идея обладает качеством новизны только потому, что этим качеством обладает тот комплекс взаимосвязей, который соединяет объекты, хотя новыми для нас не являются — кроме, конечно, искомого сущего, то есть того объекта, который мы должны найти и сформировать, — ни сами объекты, входящие в идею, ни свойства этих объектов, ни каждая из отдельных взятых взаимосвязей между соединяемыми объектами. Все вышеперечисленные элементы идеи — объекты, свойства и взаимосвязи, — не обладая качеством новизны по отдельности (кроме искомого сущего), в то же время высвечиваются в новом свете при явлении идеи, в формировании которой они участвуют. Отблеск новизны идеи как бы сообщает дополнительную ценность каждому из этих элементов.
При этом следует заметить, что объекты, обладая достаточно большим количеством самых разнообразных свойств, в каждой конкретной идее объединены между собой не хаотичным образом, а посредством использования вполне определенных своих свойств. (Так в идее гидроэлектростанции существенными свойствами воды являются ее текучесть и весовая характеристика (плотность), а не свойство, положим, растворять в себе другие вещества, что является уже сущностным свойством воды в идее гомеостаза). Задача же остальных свойств объекта только в том и заключается, чтобы не препятствовать осуществлению сущностной функции. Если бы вода обладала низкой плотностью или свойством взрывоопасности, то это вряд ли способствовало бы рождению самой идеи гидроэлектростанции.
И не надо думать, будто бы свойствами могут обладать только чувственно воспринимаемые нами объекты (предметы, явления и т. д.). Свойства могут принадлежать также какой-либо духовной или даже абстрактной сущности. Так, например, свойство какого-либо математического знака или формулы — это те действия, посредством которых можно производить операции с тем или иным числом аргументов. Но взаимосвязи самих объектов, обладающих своими свойствами, могут быть обнаружены или сотворены нашим интеллектом только в акте иррационального мышления (положим, инсайта) и представлены в виде комплекса (идеи), описывающего какую-либо значимую для нас зависимость. Это подтверждается тем, что идеи могут являться нам в виде формул. И если учесть, что соединяемыми объектами может быть все что угодно, то посредством создаваемых (обнаруживаемых) нашим интеллектом идей в конечном счете могут быть выявлены искомые сущие самого разного вида: таблица (Менделеев), схема-кольцо (Кекулия), формула (Ньютон, Эйнштейн), устройство, вещество, сооружение, моральное правило (Кант), психологическая концепция (Фрейд, Юнг), принцип (Оккам, Бор, Гейзенберг, Паули), произведение искусства и т. д. (Примеры некоторых идей из самых разных сфер знания приведены нами в Разделе 6.1. «Где… прячется бытие?»). (См. также Р. S. 1).
Выше мы сказали о смысловом содержании идеи. Что же касается ценностного ее содержания, то оно, скорее всего, формируется теми выгодами, которые принесет применение идеи в действительности, будь она материальной, нравственной или эстетической. Так идея или сущность дома не в его абстрактной «домности», а в том, что это место постоянного совместного проживания и укрытия от превратностей непогоды и нежелательного нападения хищников и противников. Функциональная сущность этой идеи (или ценностно-смысловое содержание ее) в том, что она полезным образом упорядочивает определенные отношения (взаимосвязи) как между человеком и окружающей средой, так и внутри определенного сообщества. И это та неизвестная ранее новизна (идея), которая однажды была привнесена в существование самого человека, общества и природы. Потому что в идее дома заключен комплекс взаимосвязей человека
— с Природой (непогода, хищники и т. д.);
— с социальной структурой общества (семья, забота о потомстве и родителях и т. д.);
— с соответствующим качеством жизни (очаг, запасы пищи, занятия ремеслом и т. д.);
— с самим собой, поскольку дом предоставляет возможность стабильного проживания и появления досуга для занятия ремеслом, искусством, творчеством.
Так что одна и та же идея может быть задействована и взаимосвязана со множеством других идей, объектов, явлений. Мир — это сеть (переплетение) идей, в узловых точках которой находятся объекты (искомые сущие), однажды явившиеся нашему сознанию в актах интуиции, инсайта, озарения. В дальнейшем мы изложим, каким образом из смысла идеи нами формируется идеальное искомое сущее, и как оно материализуется в реальное подручное средство.
Это сейчас дом для нас всего лишь чувственно воспринимаемый объект. Мы уже не видим исконной его сущности, которая на заре человеческого бытия явилась человеку в интуитивном акте «усмотрения» сущности данного сооружения как идеи. А потому идеи — это устойчивые ментальные структуры, изымаемые нашим креативным мышлением из сферы Хаоса (Ничто). Целью же подобного изымания является как упорядочение собственного житийствования, так и приумножение много и-разнообразия нашего мира. Если опустить местопребывание платоновских идей из занебесной сферы на нашу грешную Землю и преобразовать их в нами предлагаемый вид, то можно сказать, что идеи — это те колоны, основание которых находится в зоне «вечной мерзлоты» — отсюда их незыблемость и устойчивость.
Структура мира идей такова, что, только опираясь на них, человек способен упорядочить и многообразить собственное материальное и духовное существование. Психика человека сама по себе, не имея опоры на внешние упорядочивающе-ориентирующие структуры, не способна себя организовать в направлении генерирования собственной креативности. Без «сетки» идей — этих колон вселенской души, она будет всего лишь испытывать «броуновское движение» под воздействием многочисленных факторов внешней среды и внутренней среды собственного организма. И если, как говорил М. Аврелий, для каждого человека необходимо сообразное с его природой «руководящее начало»2, то таким началом для человеческого сообщества в целом является мир идей, сотворяемых в технике, обнаруживаемых в науке и «понимаемых» в искусстве.
Отсюда, принимая во внимание то, что явление идеи — это и есть явление красоты, решение вопроса, «спасет ли красота мир?» сводится к вопросу, достаточно ли устойчивым будет мир, сотканый из идей технических, научных, нравственных, эстетических, философских и т. д. Не приведет ли нарушение определенной пропорции («золотого сечения», если таковое возможно для человеческого бытийствования) этих идей к нарушению устойчивости мира, в котором мы живем. (См. Р. S. 2).
Итак, мы видим: действительно, идея — это порождающая модель, но модель не отдельно взятого объекта, как это можно подумать, исходя из Платона, а модель взаимосвязи некоторого числа объектов-сущих, «соприкасающихся» между собой своими свойствами и образующих тем самым взаимосвязи. И одним из таких объектов является внове образуемое сущее, посредством которого возможно исполнение какого-либо нового рода деятельности (функции) по производству новой Продукции самого разного содержания. Причем потребность в данной Продукции предварительно должна назреть в процессе человеческой деятельности в том сообществе, в котором он обретается. (Технология образования такого сущего будет нами изложена в разделе 6.1. «Где… прячется бытие?»). То есть внедрение этой модели в действительность имеет для нас некоторую материальную, нравственную или духовную ценность. Сотворения идей ради самого процесса сотворения не бывает. Идея, имей она любое продолжение, прагматична, как прагматична сама жизнь. Иначе, смысл явления идеи был бы вовсе непонятен и даже абсурден.
И чтобы закончить наш разговор о структурно-функциональном составе идеи, приведем еще один пример, казалось бы, абстрактной идеи, идеи прекрасного. (В чем смысл нашей оговорки «казалось бы», станет нам понятен из текста последующих разделов). Итак, каковы объекты данной идеи, какими свойствами они обладают и какие взаимосвязи их соединяют? Во-первых, таким объектом-сущим является творец произведения искусства, обладающий способностью (свойством) заложить в свое произведение новую идею. (Или идею, хотя и не новую, но крайне необходимую для того сообщества, в котором живет художник; и как мы догадываемся, таковыми идеями являются идеи нравственного характера: идеи вины, совести, мужества, благородства, долга, справедливости, милосердия и т. д.). Во-вторых, таким объектом (субъектом) является созерцатель произведения искусства, обладающий или не обладающий способностью (свойством) «понимать» идею созерцаемого (воспринимаемого им) произведения. В-третьих, объектом, так же участвующим в идее, является психика этого созерцателя, обладающая или не обладающая свойством (способностью) реагировать спонтанным возникновением интеллектуального чувства удовольствия на «понимание» идеи произведения искусства. И в-четвертых, таким объектом является само произведение искусства, обладающее или не обладающее свойством новизны, то есть несущее или не несущее в себе объективную интеллектуальную идею, которою мы могли бы воспринять («понять») на бессознательном уровне,
Это мы сказали о свойствах объектов идеи прекрасного. А какие взаимосвязи мы можем обнаружить между свойствами данных объектов? Во-первых, мы замечаем, что интеллект созерцателя, обладающий свойством «понимать» идею произведения, автоматически взаимосвязан с его психикой и соматикой, реагирующими на «понимание» идеи спонтанным возникновением интеллектуального чувства удовольствия. И эта взаимосвязь инстинктивная, а потому и причинно-следственная. У существа, наделенного способностью «понимать» идею-новизну, но не наделенного способностью испытывать интеллектуальное чувство удовольствия, вряд ли могло бы возникнуть само понятие о прекрасном. Во-вторых, сама способность «понимания» или непонимания интеллектуальной идеи созерцателем напрямую связана со свойством обладания или не обладания произведением этой идеей. Только врожденная (или благоприобретенная?) способность «понимания» смысла идеи и только наличие данной идеи в произведении могут привести к возникновению интеллектуального чувства удовольствия.
Если бы не было одного из перечисленных свойств:
— способности художника заложить в свое произведение свойство новизны,
— способности «понимания» идеи созерцателем,
— способности реагировать на это «понимание» возникновением чувства удовольствия,
и если бы не было тех взаимосвязей, посредством которых они соединены, то вряд ли могла бы возникнуть сама идея прекрасного, а, следовательно, и понятие красоты. Отсюда мы можем сделать следующий вывод. В основе понятия красоты лежит физиологический процесс испытания интеллектуального чувства удовольствия либо от понимания нами самими созданной идеи, либо от понимания нами обнаруженной идеи, либо от «понимания» (на бессознательном уровне) идеи созерцаемого нами произведения искусства. Для нас важно, на каком уровне — сознательном или бессознательном — возникло это понимание. Важно то, что при сознательном понимании смысла идеи мы имеем дело с красотой научного открытия или технического изобретения, а при бессознательном «понимании» — с красотой произведения искусства. Но не менее важным является и то, что, если чувство удовольствия есть физиологический процесс, обусловленный пониманием какого-либо нового смысла, то именно здесь интеллект напрямую, то есть непосредственно, взаимосвязан с физиологией. Так, по крайней мере, представляется нашему сознанию.
Итак, что касается идеи, сотворяемой нашим интеллектом, то нужно помнить следующее:
— в каждой из наших идей задействован вполне определенный комплекс как известных нам объектов, так и объекта, который мы должны сформировать для того, чтобы посредством него исполнять какую-либо деятельность;
— каждый из объектов наделен набором разнообразных свойств, взаимозадействованных между собой посредством использования отдельных свойств;
— взаимосоединение этих объектов в комплекс в обязательном порядке обладает как новизной, так и ценностно-смысловым содержанием для человека, объединившего данные объекты, и для сообщества, в котором он живет;
— создание, обнаружение и «понимание» этих взаимосвязей (идей) нашим интеллектом — заслуга не только рационального мышления, но и мышления иррационального, неосознаваемого, завершающегося, (как правило, после инкубационной фазы), интуицией, инсайтом, озарением, прозрением и т. д.;
— логическим мышлением указанные взаимосвязи (идеи) в своем окончательном виде не могут быть ни созданы, ни обнаружены, ни «поняты», поскольку последние либо еще неизвестны нашему сознанию, либо алогичны для него, и оно не может «увидеть» их или «узнать»;
— иррациональный акт понимания произведенных, обнаруженных («понятых») взаимосвязей, то есть акт явления идеи в наше сознание (из бессознательного) сопровождается возникновением чувства удовольствия, удивления и уверенности в истинности того, что нам явилось;
— и последнее: целью создания, обнаружения, «понимания» любой идеи является соответственно образование, обнаружение, «понимание» того искомого сущего — в дальнейшем оно у нас будет фигурировать в своей материальной форме как «подручное средство», — посредством которого можно исполнять какую-либо назревшую в своей Необходимости деятельность по производству продукта самого разного содержания и вида. (Об этом см. далее Раздел 6.15. «События-1, -11, -111 как, соответственно,…».
Вышеперечисленные признаки — это и есть характерные черты любой объективной идеи как интеллектуальной новизны. Они представляют идею как со стороны внешних, феноменальных проявлений акта ее возникновения, так и со стороны внутреннего ее содержания.
Принимая во внимание вышеприведенное, можно сказать следующее: любая вещь и вообще все то, что к чему-либо некогда было предназначено, все, что имеет какое-либо значение, какой-либо смысл или какую-нибудь ценность — все это в далеком или недавнем прошлом получило импульс к своему существованию сначала в составе какой-либо идеи и лишь потом стало тем, с чем мы имеем дело как с отдельным реально существующим сущим, или с тем сущим, чьим именем или понятием мы оперируем в нашей жизни. Понятия колеса, градусника, дома, часов; понятия справедливости, мужества, совести, вины; понятия красоты, души, дополнительности, государственности и многое, многое другое началось с некогда мелькнувшей в голове своего творца новой идеи. Формирование нового сущего ни в коем случае не может миновать своей начальной стадии — стадии участия в объективной идее.
Вот почему, забегая далеко вперед, уже сейчас можно отметить один основополагающий момент, касающийся функциональной сущности идеи. А именно: возникновение нового объекта-сущего (или, на худой конец, новизны какого-либо уже существующего объекта) никак не может избежать, с одной стороны, своей начальной стадии — стадии участия в объективной идее, а с другой стороны, своей финальной стадии — стадии исполнения внове образуемым сущим своей сущностной функции, то есть той функции, посредством которой выполняется определенная деятельность по производству необходимого продукта. Промежуток же между этими стадиями — это и есть то, что в метафизике было поименовано исторически сложившимся (и, кстати сказать, вводящим в заблуждение) словосочетанием «бытие сущего», то есть словосочетанием, призванным обозначить процесс формирования нового сущего. Но поскольку в философии, хотя и было знание того, что делает сущее сущим, — а как раз этим и занимается бытие, — но не было знания, каким образом (как) оно это делает, то есть не было знании двух фундаментальных онтологических аспектов:
— методологии возникновения интеллектуальной новизны в виде идеи (о чем речь в Разделах Главы 6)
— и структурно-функционального состава самой идеи, являющейся сердцевиной этой методологии,
А значит, не было и четкости в понимании того, что есть сущее, а что есть бытие.
Именно отсюда ностальгические заклинания Хайдеггера о том, что «бытие не есть сущее» («онтологическое различение»), а есть оно то, что делает сущее сущим. Вот почему надо всегда помнить, что придание новизны какому-либо объекту в обязательном порядке взаимосвязано с кардинальным преобразованием этого объекта. (Новизна — она и есть сущность объекта). И это преобразование осуществляется не только в контуре данной идеи, но и под «эгидой» как основного ее смысла, так и определенных свойств сопряженных с ним объектов, то есть тех объектов, которые берутся в идею в своем «чистом», готовом, не преобразуемом виде. Эти объекты-сущие в дальнейшем мы будем именовать исходными сущими в отличие от искомых сущих, то есть тех объектов, которые мы ищем. А процесс «поиска» последних заключается в том, что мы вынуждены их создать внове. Причем создать сначала в идеальном (умственном) виде как искомое сущее, и лишь затем по идеальному образцу изготавливать его материальную форму как подручное средство, с помощью которого уже можно производить Продукцию определенного рода. (Об этом в Разделе 6.1. «Где… прячется бытие? и в Главах Части 111.
Именно это, то есть незнание того, каким образом и за счет чего набор исходных сущих «трансформируется» в искомое сущее, было камнем преткновения в развитии метафизики на всем протяжении ее существования. Знай она о двух, нами отмеченных выше ключевых моментах, ей бы и в «голову» не пришло, положим, путать бытие с сущим, сопрягать бытие с существованием или принимать за истину соответствие нашего представления о сущем самому сущему (объекту). А если нет такого знания, то естественным образом «повисает в воздухе» вопрос «бытия» сущего и бытия самого по себе, которым (последним), по Хайдеггеру, так и не смогла задаться даже Античность3. Вот в каких вопросах заплуталась метафизика и никак не может из них высвободиться.
А потому обо всем этом, то есть о том, что такое бытие, чем оно сопровождается, почему забывается, какова методология возникновения сущего, как сущее «обзаводится» своим сущностным свойством (сущностью) и для какой цели, а также о том, чем искомое сущее отличается от обыкновенного сущего (сущего самого по себе) и о многом другом мы будем более подробно говорить в Главах и разделах, следующих ниже.
P. S. 1. Конечно, может показаться довольно-таки странным, что автор совмещает понятия интеллектуальных (духовных) и физических (предметных) объектов, которыми наше мышление способно оперировать. Но ничего странного в этом нет: и сфера предметно-физических объектов, воспринимаемых нашими органами чувств и сфера объектов интеллектуально-духовных, абстрактных, став предметом нашего мышления, проходят стадию интеллектуального представления этих объектов. Именно в процессе сознательного манипулирования ими, то есть в процессе подбора, взаимосочетания и поиска возможных взаимосвязей между ними, оперирует наше логическое мышление. Даже такие абстрактные математические или физические понятия (идеи) как множество, бесконечность, неопределенность, поле, волны, тяготение-гравитация, дополнительность и т. д. приходят к нам и закрепляются в нашем сознании и нашей памяти как образно-физические объекты. Эта способность нашего мышления к образной «осязательности», зрительности служит основой, объединяющей объекты как духовной, так и материальной сфер.
Р. S. 2. И не давно ли нам пора бить тревогу в связи с наметившимся креном в сторону научно-технического изобретательства и потребительства. Как последний экономический кризис обусловлен непомерными и необоснованными тратами на приобретение товаров и услуг, удовлетворяющих не совсем оправданные потребности, так и духовный кризис современного общества обусловлен нравственно-духовной деградацией личности в сторону снижения качества и количества потребностей бытийственного, нравственного, эстетического и философского характера. То есть оба кризиса порождены одной и той же причиной, а именно, примитивизацией нравственно-духовной жизни личности, приводящей к деградации общества.
5.2. Счастье и несчастье философии
Счастье философии заключается в том, что процесс человеческого мышления, а следовательно, и познания мира происходит примерно одинаковым образом. То есть мышление всех творческих личностей протекает в одном и том же русле, берегами которого являются с одной стороны чувственное восприятие объектов, запечатленное и обработанное нашим сознанием, а с другой стороны, спонтанно-иррациональные вспышки понимания, неизвестно откуда берущиеся. А между ними само течение мысли обеспечивается логическим мышлением, задача которого с одной стороны подхватить, развить, обработать и обобщить данные сознательного запечатления чувственных восприятий, а с другой стороны развернуть в мысль иррациональную идею, которая является результатом синтеза нашим бессознательным той работы, которую уже проделала логика. Но все дело в том, что логика в своих обобщениях и умозаключениях всегда останавливается на полпути к окончательному и продуктивному синтезу, поскольку она в принципе не способна увидеть идею-новизну, и эту работу продолжает иррациональное интуитивное мышление.
И только после того как новая объективная идея наконец-то вдруг является в наше сознание, логическое мышление подхватывает ее и начинает развертывать в мысль.
Если мы сказали о счастье философии, то несчастьем для нее — даже, скорее всего, настоящим бедствием — стало следующее обстоятельство: интуитивные идеи в подавляющем большинстве случаев приходят в наше сознание малозаметным образом и сопровождаются малоощутимым интеллектуальным чувством удовольствия-удивления. Они становятся предметом нашего внимания — да и то не всегда — только после того, как логика развернула их в новую для нашего сознания мысль. То есть новую идею мы можем увидеть через новизну мысли, которая как бабочка из куколки из идеи образовалась.
Отсюда становятся более понятными все наши споры об априорности и трансцендентальности нашего познания истин бытия и о том, как же все-таки мы их познаем: логикой или интуицией. Ни чувственное восприятие, ни запечатление его нашим сознанием, ни логическая обработка запечатленного материала не являются ни априорными, ни трансцендентальными. Априорными и трансцендентальными было бы более правомерным назвать,
— во-первых, саму обработку нашим бессознательным добытого чувственным восприятием и логикой знания — вот уж воистину что является «вещью в себе» или «черным ящиком»,
— а во-вторых, акт явления в готовом и при том синтетическом виде из бессознательного в наше сознание совершенно новой и как бы неизвестно откуда взявшейся и когда образовавшейся идеи.
Новая идея трансцендентальна нашему сознанию только потому, что на момент своего явления в сознание она ему априорна. Но эта априорность всего лишь видимость, поскольку идея не появляется невесть откуда, она зарождается — не без помощи сознания — в бессознательном, не докладывающем сознанию о всей произведенной им предварительной работе. Вот почему мы считаем, что сама идея-новизна может быть «увидена» только бессознательным. И это принципиальное положение нашего продуктивного (иррационально-рационального) мышления, которое (положение) создает все те трудности по идентификации самой идеи и определению времени и условий ее зарождения и формирования. И мало того что время зарождения идеи нами не осознается, мы еще не осознаем и того, что собой представляет сама идея. Это становится нам более или менее понятным только после того, как мы начинаем ее развертывать и оформлять в мысль, и только здесь наше сознание понимает смысл идеи, поскольку логика, обладая способностью сравнивать, анализировать и умозаключать, видит, что вновь рожденная мысль ни на что ранее нам известное не похожа.
Конечно, исходя из последней фразы, у нас может возникнуть подозрение: если сознание может сравнивать новую мысль с теми старыми мыслями, которые ему уже известны, то оно, казалось бы может увидеть и новую идею. Но это совсем не так. Новая идея, обработанная и оформленная сознанием, превращается в мысль, которую мы уже понимаем. А если мы ее понимаем, — а мы ее действительно понимаем — то она уже известна нашему сознанию, поскольку последнее способно анализировать и сравнивать то, что ему знакомо, и оно уже видит, что новая мысль не похожа на что-либо ему известное. Что же происходит в процессе преобразования идеи в мысль? А происходит самое таинственное: превращение еще неизвестного сознанию знания в знание ему известное, в знание, которое можно понять и сравнить с чем-либо ему аналогичным.
Мысль как результат сознательной обработки идеи всегда понятна, идея же, только что явившаяся на пороге нашего сознания, всегда непонятна. И не понятна она только потому, что у сознания еще не было времени ее осознать, поскольку идея это всего лишь проблеск, осветивший всю картину в целом, но готовый в следующее мгновение погрузить ее снова во тьму. Поэтому можно даже сказать, что идея (как «сгусток» смысла) — это свиток, внутри которого нет никакого текста, и только постепенно разворачивая свиток, мы наполняем его ценностно-смысловым содержанием в виде текста, отражающего саму суть идеи. Так что настоящее чудо, которым природа наградила человека, является чудо превращения старого и разрозненного знания в знание новое и уже скомпонованное в единую объективную идею. И основная заслуга в этом принадлежит нашему бессознательному.
Причем складывается такое впечатление, что бессознательное выдает сознанию только такую идею, которая может быть им обработана до состояния понятной ему мысли. То есть бессознательное всегда «информировано» о возможностях сознания и не образует (или не выдает) таких идей, понять которые сознанию было бы не по силам и оформить которые оно было бы не в состоянии. Поэтому представление о нашем бессознательном как о каком-то хаосе мыслимых и немыслимых возможностей весьма далеко от истины. Наоборот, в части своих продуктивных интеллектуальных способностей оно значительно опережает возможности сознания и намного превосходит его способности. Взять хотя бы главную его способность — креативную способность создавать, обнаруживать и «понимать» (понимать) идею-новизну, будь она технического, научного или эстетического плана.
Исходя из изложенного, нам более ясным становится, казалось бы не совсем понятное для самого автора, замечание Хайдеггера о «двузначности» мышления из его доклада «Тезис Канта о бытии». Приведем это высказывание и постараемся извлечь из него некоторые свои выводы.
«Характеристика мышления как рефлексия рефлексии дает нам один, правда лишь приблизительный, чтобы не сказать обманчивый, намек. Мышление входит в игру двояким образом: сначала как рефлексия, потом как рефлексия рефлексии. Только что это значит?
Если принять, что характеристики мышления как рефлексии достаточно, чтобы очертить его отношение к бытию, то это значит: мышление задает в качестве простого полагания горизонт, на котором можно заметить такие вещи, как положенность, предметность. Мышление функционирует как задание горизонта для истолкования с его модальностями как полагания.
Мышление как рефлексия рефлексии, напротив, подразумевает прием, которым словно инструментом и орудием, через который истолковывается увиденное в горизонте полагания бытие. Мышление как рефлексия означает горизонт, мышление как рефлексия рефлексии означает орудие истолкования бытия сущего. В ведущей рубрике «бытие и мышление» мышление в показанном сущностном смысле оказывается неизменно двузначным, и это — сплошь через всю историю европейской мысли»4.
Попытаемся понять Хайдеггера с точки зрения предполагаемой им «двузначности» процесса познания бытия сущего и одновременно постараемся сопоставить с тем, что мы изложили ранее. Если мы берем первую ступень — мышление как рефлексия, — на которой мышление задает область («горизонт») тех объектов, которыми оно намерено манипулировать, то это есть не что иное, как наше логическое мышление на стадии обработки эмпирически когда-то воспринятого чувствами, запечатленного в сознании и обработанного знания. Именно на этой стадии сознание (логика) задается вопросом, который она намерена разрешить. Что же касается второй ступени — мышление как рефлексия рефлексии, — на которой мышление, пользуясь рефлексией «словно инструментом и орудием» истолковывает то, что оно увидело будто бы на первой ступени, то это есть не что иное как наше развертывание («истолкование») идеи в мысль посредством логики. (Сразу же заметим: в дальнейшем, начиная с данного раздела, первая и вторая ступени будут у нас фигурировать, соответственно, как рефлексия-1 и рефлексия-11).
Что же мы здесь видим? А видим мы то, что у Хайдеггера выпал из поля зрения, а вернее, из процесса мышления, самый главный, самый продуктивный, — но, правда, самый незаметный — процесс и акт, каковыми соответственно являются процесс инкубационного формирования идеи в бессознательном и интуитивный акт явления ее в сознание. Так что Хайдеггеровская рефлексия рефлексии истолковывает не то, что первоначально было получено в результате рефлексии, а то, что образовалось в процессе бессознательной обработки знания, достигнутого на первой ступени, то есть она истолковывает уже новую идею, представляющую само бытие. В противном случае, — если следовать Хайдеггеру, исходившему из двузначности мышления, — рефлексия рефлексии просто продолжает дело первой рефлексии. Как выражается Хайдеггер: «истолковывается увиденное в горизонте полагания бытие», то есть является продолжением логического мышления первой ступени.
На самом же деле между первой и второй ступенью имеется разрыв, на протяжении которого характер мышления коренным образом изменяется: из логического и осознаваемого он становится иррациональным и неосознаваемым, иначе говоря, интуитивным, а заодно и априорно-трансцендентальным; и только после явления идеи в наше сознание этот характер снова становится на рельсы логического мышления, то есть развертывания идеи в мысль.
Так железнодорожный состав переправляется через реку на пароме (если образ парома можно применить для выражения того, что случается в процессе инкубационного этапа развития мысли): ведь не будь парома (инкубации), нашему составу (мысли) так и не довелось бы перебраться на другой берег. Правда, наш образ «хромает» тем, что паром доставляет на другой берег то, что он принял на том (противоположном) берегу, а вот иррациональное мышление существенным образом меняет то, что ему уже добыла логика, оно изменяет само качество знания: известное нам знание оно каким-то непонятным образом перерабатывает в совершенно новую и в первый момент нам самим непонятную идею, идею, которая в дальнейшем становится вполне понятной в процессе логического развертывания ее в мысль.
Таким образом, обобщая изложенное выше, можно сказать вполне определенно: в процессе познания так называемых истин бытия наше мышление имеет не двойственный характер, а тройственный, если мы примем во внимание непременное наличие между двумя ступенями логического мышления промежуточной ступени неосознаваемого иррационального мышления, результатом работы которого является рождение новой объективной идеи. С точки зрения участия логики процесс мышления, действительно двузначен, в то время как малозаметный, но весьма существенный вклад интуиции — часто выдаваемый за вклад логики — делает его трехступенчатым. (И об этом более подробно мы будем говорить в Разделе 5.4. «„Двойная рефлексия“ Г. Марселя….»).
И только непомерное самомнение человека побудило его согласиться с весьма ложной идеей, согласно которой заслуга продуктивного мышления всецело принадлежит его умению логически мыслить, а не той творческой иррациональной способности, которую в него заложила сама природа.
По сути дела все западноевропейское мышление, начиная с Платона и кончая самим Хайдеггером, это кружение вокруг вопроса, каким именно образом и в какой момент нами сотворяется истина-алетейя как не-сокрытость сушего. И исходным пунктом всех наших блужданий является не сама попытка понять суть столь сложного и запутанного вопроса, а достаточно настойчивое стремление отнести сам факт рождения объективной идеи-новизны на счет логического мышления, которое имеет к этому событию всего лишь опосредованное отношение, поскольку оно не участвует в актах зарождения и явления самой идеи: оно всего лишь подготавливает их и является как свидетелем проникновения новой идеи в сознание, так и участником развертывания этой идеи в мысль.
Так что кроме бессознательного нет более места, где бы могла зародиться истина в форме объективной интеллектуальной идеи-новизны: логика, как мы уже показали ранее, в принципе не способна ее зародить, так как имеет дело только с тем, что известно сознанию и зарождение чего-либо совершенно нового не в его компетенции. А, казалось бы, если сознание способно понять нечто для него новое, но не им самим созданное — то есть субъективную интеллектуальную идею, — то оно способно и само создать (аналитическим путем) «собственную» идею, ее увидеть и понять. Но не тут-то было — и в этом состоит наше кардинальное заблуждение: сознание (логика) не только не может создать новую объективную идею, но оно даже не способно ее понять, если она ему предварительно не разъяснена кем-либо или если новая идея не родилась в нашем собственном бессознательном. Отсюда вывод: только бессознательное может создать новую идею и только по представлению ее бессознательным в сознание последнее способно ее понять.
И в этом камень преткновения теории познания: к пониманию не нами созданной идеи — то есть субъективной интеллектуальной новизны — мы можем прийти только аналитическим путем; к пониманию же нами самими созданной идеи — то есть объективной интеллектуальной идеи — мы можем прийти путем обратным аналитическому. То есть, мы сначала иррациональным путем должны прийти к созданию самой идеи и только потом, после представления ее бессознательным нашему сознанию мы можем развернуть ее и превратить в мысль, из которой мы уже увидим и состав объектов ее образующих, и свойства, посредством которых эти объекты соединены, и те взаимосвязи этих объектов, которые образовали, «скрепили» саму идею.
Что же касается так называемого чувственного познания, то чувственная сфера тем более не может произвести (обнаружить, «понять») что-либо интеллектуально новое, так как она не является органом познания, а всего лишь органом восприятия и запечатления в сознании того, что получено в ощущении, представлении и т. д. Правда, нельзя отрицать участия чувств в процессе продуктивного мышления, поскольку они а немалой степени являются и катализатором, а порою, и трансформатором самого процесса познания, осуществляемого интуицией при посредничестве логического мышления. Вспомним хотя бы о чувстве увлеченности каким-либо вопросом, буквально принуждающим нас к его разработке и разрешению,
Итак, принимая во внимание трехстадийность процесса продуктивного мышления в цикле познания (сотворения, обнаружения и «понимания») какой-либо истины, у нас сразу же возникает вопрос: почему мыслители такого ранга как Хайдеггер и мн. др. не обратили внимание на наличие в нашем мыслительном процессе таких существенных событий как стадии иррационального формирования идеи, так и интуитивного акта явления ее в наше сознание. Учитывая вышеизложенное, ответ наш достаточно прост: не обратили внимание на это только потому, что они действительно были великими мыслителями. А чем выше ранг мыслителя и чем продуктивнее его способность мыслить, тем чаще и незаметнее — для его сознания — приходящие интуиции, как бы поставленные на непрерывный поток производства идей-мыслей.
Правда, справедливости ради следует отметить, что не все мыслители обошли вниманием иррациональную составляющую нашего мыслительного процесса, были и исключения: Платон, Шопенгауэр, Ницше, Мерло-Понти и др. О первых трех авторах мы уже говорили и приводили их высказывания, свидетельствующие об иррациональном происхождении нового знания. Процитируем еще отрывок из «Феноменологии восприятия» Мерло-Понти:
«Мысль в самом деле развивается в одно мгновение и словно вспышками, но затем мы должны ее присвоить, и именно благодаря выражению она становится нашей. Наименование объектов не следует за их узнаванием, оно и есть само узнавание»5.
Не об инсайте (интуиции) ли и о развертывании идеи в мысль говорится здесь? Конечно о них.
Следует иметь в виду, что сам же Хайдеггер весьма двойственно относился к тому, считать ли процесс продуктивного мышления процессом рациональным или иррациональным. Так в работе о Ницше он пишет:
«Выражение бытие и мышление имеет силу и для иррациональной метафизики, которая потому так и называется, что доводит до крайности рационализм и при этом не освобождается от него, подобно тому как всякому а-теизму больше чем теизму, приходится иметь дело с Богом»6.
Из чего можно заключить, что истины бытия, добываемые «иррациональной метафизикой», есть истины получаемые рациональным путем, доведенным «до крайности». И в то же время у Хайдеггера можно найти высказывания, свидетельствующие о понимании им процесса мышления как процесса иррационального и мало ощутимого для нашего сознания. Так в работе «Наука и осмысление» он пишет:
«Не только великие мысли приходят словно на голубиных лапках, но и — прежде всего и в первую очередь — перемены в характере присутствия всего присутствующего»7.
То есть, если даже «великие мысли» малозаметны в своем происхождении, то что уж говорить о «переменах в характере присутствия всего присутствующего», под которыми, скорее всего, можно подразумевать те многочисленные интуиции, которые в конце концов коренным образом изменяют «пейзаж» нашего видения какой-либо проблемы. Об этом же, по сути дела, писал и Ницше, когда характеризовал обостренную восприимчивость ко всему тому, что приходит извне как
«…дивинация, сила понимания по тишайшей подсказке…«8.
Чем более одарен человек продуктивной мыслительной деятельностью, тем более «тишайшие подсказки» (интуиции) он способен «услышать», а чем больше таких подсказок, тем более незаметной становится разница между интуицией и логикой. Не поэтому ли мы сплошь и рядом принимаем наши интуиции за логические шаги нашего сознательного мышления? Но как мы уже знаем, не логика способна создать (обнаружить, «понять») нечто новое, на это способна только интеллектуальная интуиция. Новизна идеи (мысли) — критерий различения того, что мы получаем в результате интуиции и того, что добываем логическим путем.
Интуиция (инсайт) — это шаг из ведомого нам в неведомое, логика — хождение в области ведомого. Логика «вытаптывает» ту поляну нами познаваемого, куда бы могла ступить нога интуиции, нога иррационального. И делает она это только для того, чтобы максимально облегчить наступление в данной области чего-то нам еще неизвестного, такого неизвестного, которое бы связало в единую идею то, что мы уже познали на сознательном уровне и то, что мы еще не знаем, то есть то, что нам подскажет интуиция.
Таким образом, онтология и гносеология как дисциплины причастные к познанию и созданию истин бытия с момента своего возникновения были обременены как первородным грехом двумя факторами, которые внесли большую путаницу в прояснение вопроса о том, как же все-таки нами осуществляется процесс созидания и познания новых истин. И этими факторами, как нами уже отмечено, были, во-первых, малая заметность для нашего сознания прихода интуитивных идей, а во-вторых, малоощутимость интеллектуального чувства удовольствия при интуитивных актах явления идеи в наше сознание.
Если бы приход каждой интуитивной идеи был подобен озарению, и если бы он сопровождался эйфорическим состоянием нашей психики, поражающим хотя бы на некоторое время наше сознание, — как это свойственно инсайту, — то мы бы нисколько не сомневались в том, что продуктивная часть нашего мышления осуществляется не логикой, а интуицией. И здесь, конечно, еще предстоит разобраться в вопросе о том, почему инсайтный стиль мышления, как нам представляется, более характерен для актов научных открытий и технических изобретений, чем для познания эстетических, философских и общественно-нравственных истин. Не исключено, что как в процессе естественного отбора в Природе накопление мелких изменений приводит к видовому различению живых организмов, так и постепенное накопление незаметных интуиций приводит к инсайту в научно-технической сфере деятельности. (Из чего мы лишний раз заключаем: продуктивный интуитивно-инсайтный способ мышления есть явление, внедренное в нас самой Природой, а не благоприобретенное нами самими!). В то время как в гуманитарных сферах движение мысли ограничивается преимущественно рождением интуиций. Гуманитарные идеи-истины слишком сложны для нашего интеллекта: в них мало конкретики, объекты их достаточно «размыты» в своем смысловом стержне и они состоят из множества взаимосвязанных объектов. Вот почему нашему интеллекту трудно «схватить», положим, идею произведения искусства в едином акте инсайтного видения. Именно поэтому в данной сфере главенствует интуиция.
И когда мы говорим, что способность к продуктивному мышлению сопровождается не только мало ощутимостью прихода интуиций, но и возрастанием их количества, то можно было бы склониться к мнению, что интуиция (как способность иррационально мыслить) в процессе эволюции человека разумного постепенно «вырождается» в логику с ее достаточно сглаженным характером мышления. Но это совсем не так. Просто с возрастанием интеллектуально-информационной нагрузки на рациональную составляющую нашего интеллекта бессознательному стало уже не по силам эффективно перерабатывать «делегированную» ему сознанием информацию и выдавать ее только в форме инсайтов. Всвязи с чем оно, — для того чтобы успешно и вовремя с ней справляться — стало выдавать не только инсайты и озарения, но и промежуточные результаты в виде микропрозрений-интуиций, то есть то, что Ницше назвал «тишайшими подсказками». Так что не логика наступает на интуицию, а интуиция как Природная часть интеллекта приспосабливается к возросшим интеллектуально-информационным нагрузкам. Она пластичнее приспособлена к условиям усложнившегося творческого существования, поскольку принадлежит душе и является сутью ее спонтанного и креативного существования.
Вот почему интуиция (инсайт, озарение, прозрение) как способность производить новое знание не может «выродиться» в логику. Первоосновы всегда фундаментальны.
Но здесь мы могли бы привести еще один аргумент в обоснование более позднего появления у человека способности к генерированию интуиций по сравнению со способностью к инсайтному стилю мышления. Итак, почему мы полагаем, что на заре разумного существования человек сначала мыслил в основном инсайтами и только потом начал «дробить» некоторые из них на интуиции? Если бы у древнего, но уже разумного человека была только способность к интуициям, то он вряд ли бы мог эффективно ими пользоваться, так как они, в силу своей меньшей заметности и ощутимости, требовали большей тщательности в обращении с ними, как-то: сосредоточенность внимания на только что мелькнувшей в сознании идее, отсутствие отвлекающих факторов, наличие досуга и средств фиксации идеи и т. д. и т. п. А это намного труднее было осуществить, чем запомнить или даже зафиксировать в какой-либо достаточно примитивной форме внезапно озарившую твой ум инсайтную идею. Поэтому, скорее всего, интуиции стали нас посещать с расширением информационной зоны деятельности (торговля, путешествия, колонизация и т. д.), с появлением свободного времени и разработкой средств фиксации промежуточных этапов умственной деятельности (язык, искусство, ремесло, письменность, достаточно развитая символика и т. д.).
Конечно, принимая во внимание изложенное выше, у нас в очередной раз может возникнуть вопрос: а не могла бы всю эту работу — работу бессознательного (интуиции) — проделать наша логика. К сожалению, логика функционально на это не способна, поскольку совершенно новые взаимосвязи между определенными свойствами того или иного количества самых разнообразных объектов неочевидны нашему сознанию. А то что не оче-видно, то или не может быть им увидено, или будет воспринято им как алогичное. И если сознание призвано видеть только «во-очию», то алогичные связи оно не способно связать ни правилами логики, ни по причинно-следственному принципу, ни по какому-либо другому принципу: соответствия, симметрии, дополнительности, ассоциативности и т. д. Сама алогичность исключает всякую возможность их рассмотрения. Поэтому можно сказать, что неочевидные для нашего сознания взаимосвязи не могут быть им ни увидены, ни соединены каким-либо образом.
Спрашивается тогда, а почему наше бессознательное способно произвести такую творчески трудоемкую да к тому же такую полезную работу? Вот на этот вопрос мы вряд ли когда-либо получим ответ, потому что разрешение его позволило бы человеку, задавшись любым вопросом, тут же его разрешить, поскольку «механизм» продуктивного функционирования бессознательного мышления открыл бы нам методологию сотворения объективной интеллектуальной идеи-новизны и само бессознательное — в этой, интеллектуальной, части своей деятельности — перестало бы им быть. А это вряд ли входит в планы Природы, частью которой мы все же пока что являемся.
Похоже на то, что бессознательность природных творческих процессов — главное свойство жизни в многочисленных и многообразных ее проявлениях. То есть, не сознание создает, обнаруживает и «понимает» объективно-интеллектуальную новизну. Этому самой природой «обучено» только наше бессознательное. Сознание лишь помогает ему на стадии подготовки и анализа материала и на стадии понимания того, что выдало ему бессознательное. И не зря, видать, Хайдеггер после своего «поворота» предоставил функцию быть творцом истин бытия уже не человеку, а самому бытию, то есть природе и природному в нас9.
Но можно ли с этим согласиться? Что говорит против того, что бытие априорно и что именно оно, а не человек является первенствующим в созидании бытия и сущего? Во-первых, то, что не будь человека, не было бы у нас никакого представления ни о бытии, ни о самом сущем. Во-вторых, то, что именно человеку, а не какому-либо другому живому существу, предначертано быть открывателем истин бытия. И, в-третьих, только человек наделен способностью посредством интуиции обнаруживать и создавать новые идеи, посредством логики развертывать их в мысли и посредством языка выражать и оформлять то, что явилось ему в «просвете бытия» (Хайдеггер) и что он понял в процессе развертывания идеи в мысль. Так что не будь человека с его интеллектом, разумом и языком, у нас не было бы никакого представления об окружающей нас действительности, а потому мы не могли бы ее понимать, о ней рассуждать и делиться о ней какими-либо чувственными или интеллектуальными впечатлениями. В отсутствие человека было бы только бытие природы, которая, создавая новые формы существования природной жизни, не осознавала бы этого. И только человек, производя новые формы собственной материально-духовной жизни, способен не только осознать это, но и понять свое место в процессе развития самой природы.
Отсюда, казалось бы, можно сделать вывод: не бытие являет себя человеку, поставленному в «просвете бытия», а человек со своим интеллектом, логикой и языком создает многообразие все нового и нового материально-духовного сущего в его присутствовании. Но на данный вопрос можно посмотреть и с точки зрения древнегреческих философов и самого «позднего» Хайдеггера: если природа сотворила человека и наградила его именно природной иррациональной способностью создавать объективную интеллектуальную идею-новизну, значит, тем самым, она и создала и продолжает создавать, через посредство человека, все многообразие сущего в его бытийствовании. Здесь все та же проблема: что было в начале, а вернее, что принять за начало.
А потому данный вопрос имеет пока что конвенциональный характер. И не сможем мы его разрешить — или хотя бы несколько продвинуться в нем — до тех пор, пока не проникнем в тайну процесса творчества, то есть в тайну зарождения идей, предшествующих мыслям и всей нашей деятельности. Для нас пока неразрешим вопрос трансформации впечатлений от воспринятых нашими органами чувств объектов и полученных нами в процессе жизни духовных знаний (идей, мыслей, понятий, опыта и т. д.) в совершенно новое духовное знание. Сплавление первого и второго в нечто для нас совершенно новое — вот где зарождается сам процесс перехода из небытия в бытие.
Поэтому изначальный, а потому и более сложный вопрос состоит в том, где и как формируется новое знание и почему оно является в «свет» (Хайдеггер). Ведь должно же оно где-то и как-то зародиться, прежде чем показаться в «просвете бытия». И что именно выталкивает его с «той» стороны в этот «просвет». Или может быть оно не выталкивается с «той» стороны, а, наоборот, притягивается с «этой» стороны. То есть какова динамика сил, воздействующих на то, что либо уже готово явиться в просвет, либо уже показалось в нем. Вот об этом, в более подробном плане, речь у нас будет идти в основном в Главах Части 111.
Но для нас пока ясно одно: не человек сам по себе — как разумное существо — развил в себе способность иррационально мыслить и тем самым созидать новые формы бытийствования. Эта способность, скорее всего, была заложена в него — или инициирована в нем — самой Природой на каком-то этапе его не столь длительного существования. И вряд ли мы можем сказать что-либо определенное по поводу того, что именно явилось причиной возникновения этой способности: природные ли или космические обстоятельства, случайные ли мутации генов или закономерные нарушения в деятельности ДНК.
И если быть последовательным до конца в вопросе о том, что же является инициирующим началом в деле генерирования бытийственной новизны, то необходимо сказать еще следующее. Преимущественная направленность мышления, определяемая теми вопросами, которыми мы задаемся и теми задачами, которые мы перед собой ставим — вот то главное, что определяет характер нашего бытийствования. Продуктивному мышлению все равно, в каком направлении генерировать новые идеи. Все зависит от того, какими вопросами соблазнилась задаться человеческая душа или в каком направлении ее склонили мыслить. Если человеку интересен окружающий его мир, и он задался целью раскрыть его тайны, то предметом его мышления, конечно, станут и космос, и душа, и начала природы, и метафизика. Если же он поставлен в такие условия своего существования, когда от него требуется всецелое подчинение религиозным догматам, то думать он будет и о Боге, и о спасении, и о благодати, и о воздаянии, и о промысле Божием. Духовная же направленность на раскрытие силы своего ума и определение его рационально-интеллектуальных возможностей, естественно, приведет к кантовским вопросам: что я могу, что я должен. И, наконец, если перед нами стоит задача соревновательного достижения максимально возможных материальных благ и утех, то все наши помыслы будут направлены на решение вопросов, способствующих достижению этих целей. (И об этом у нас речь и в Разделе 6.15. «События-1, -11, -111 как, соответственно…», и в Разделе 6.16. «Онтологический Круг», и в ряде других мест).
Поэтому не надо забывать: бытийствование — это процесс, направление которого определяется теми вопросами, что мы ставим перед собой на данное время. Только задавшись определенным вопросом, можно ожидать явления новой идеи в наше сознание, то есть явления самого бытия как возникновения новизны. Таким образом, первенствующим, в конечном счете, является не само бытие, а предварительное накопление соответствующего знания и обработка его до такого состояния, когда мы уже способны задать «правильно поставленный вопрос». И только такой вопрос является тем вызовом, на который «обязана» ответить сама природа нашего продуктивного мышления. Поиск правильного вопроса и ответа на него — это та сжимаемая нами пружина, которая, посылая энергию в нужном направлении, способна высечь искру интуитивного прозрения. Подтверждением всему вышесказанному служит неоспоримый факт: вряд ли мы можем не только ошибаться, но и даже сомневаться в том, что ни одна из бесконечного множества знакомых человечеству истин не была получена человеком не сведущим в той сфере, к которой принадлежит данная истина. Предварительное аналитическое познание вопроса — необходимый фундамент, на котором может быть воздвигнуто здание истины. Будь мы даже семи пядей во лбу, но, не имея такого фундамента, вряд ли мы можем рассчитывать на то, чтобы нам сама собой пришла в голову какая-либо «счастливая» идея. Здесь вопрос лишь в том, насколько успешно мы можем возвести и освоить сам фундамент. Таким образом получается что основанием самого бытийствования является в конечном счете человеческая материально-духовная познавательная практика. Вот и поди тут разбери: бытие ли определяет сознание или сознание определяет бытие, которое, в свою очередь, определяет сознание. Как только мы доходим, казалось бы, до самих основ и начал, вот тут-то и возникает вездесущая и настырная диалектика противоположных начал.
Но более ясная картина того, что является основанием нашего человеческого Бытия появится у нас только после того, как мы рассмотрим наше Бытие совместно с Бытием социума, в котором мы живем. А этот вопрос будет нами рассмотрен в Части 111.
И вообще, следует иметь в виду: в данной Части 11 нашего текста речь в основном у нас будет идти о Бытии человека, то есть о том Бытии, которое непосредственно причастно к созданию новизны в виде подручного средства. Но наше Бытие, Бытие продуктивно мыслящего человека, является, как мы поймем далее, всего лишь срединным звеном во всей цепи Бытия, той цепи, которая «замкнута» на саму себя в Онтологический Круг. Поэтому, рассмотрение вопроса, что предшествует нашему Бытию и что следует за тем, когда мы уже создали подручное средство, нами «отложено» до Части 111. Потому что сначала необходимо разобраться в том, что собой представляет наша креативная способность создавать новизну и каким образом она осуществляется. А вот из уяснения этого вопроса к нам придет понимание того, что именно возникновение новизны в нашем интеллекте и в «интеллекте» соци-ума является, соответственно, Бытием человека, создающего новое «рукотворимое» сущее и Бытием человеческого сообщества (Бытие само по себе), постоянно генерирующего Необходимости в новизне. (И об этом речь у нас пойдет в следующих разделах).
5.3. Платон и истина
Если мы зададимся вопросом, можно ли построить достаточно непротиворечивую онтологию на идее Платона, то ответ наш был бы, скорее всего, отрицательным, поскольку невозможно понять хотя бы следующее:
— на каком основании мир платоновских идей стал не только миром бытия, но и недосягаемым образцом для мира чувственно воспринимаемых объектов (вещей);
— каким образом и посредством чего чувственно воспринимаемое сущее (объект, вещь, явление и т. д.) взаимосвязано с бытием и процессом становления;
— в чем именно заключается процесс становления, то есть, какие факторы, какие воздействия бытия делают сущее сначала становящимся, а затем и существующим;
— и, наконец, где та основа, на которой зиждется само бытие, и из чего оно пробуждается к «жизни», то есть, что собой представляет то начало, из которого оно возникает.
Да, действительно, идея, представляющая, согласно Платону, само бытие, это предел совершенства вещи, но совсем непонятно, в чем именно заключается процесс этого совершенствования объекта (вещи) и каким образом он осуществляется. То есть, непонятен реальный — а не мифологический — механизм, посредством которого бытие побуждает сущее к тому, чтобы (стремить) его к идее-идеалу. Ведь не может же быть такого, чтобы бытие было само по себе, а сущее и его становление было от него (от бытия) совсем независимо в своем происхождении. Равно как непонятно и то, каким образом бытие в своем происхождении зависимо от сущего. Так что онтология, построенная без учета взаимодействия бытия с сущим — это уже заведомо ущербная онтология.
Итак, если на идее Платона невозможно построить непротиворечивую онтологию, то картина сразу же меняется, как только в основу бытия нами берется идея в современном ее представлении, изложенном нами выше. Во-первых, мы видим, что бытию самому по себе — то есть формированию идеи наиболее адекватно соответствует процесс инкубационного ее созревания. Во-вторых, нам становится ясно, что новое сущее возникает только через посредство развертывания этой идеи в мысль, «внутри» которой нами уже видимы и те сущие, из которых она состоит, и те свойства, что им присущи, и те взаимосвязи, которые придали самой идее и новизну, и смысл, и ценность. В-третьих, мы уже имеем достаточное основание к тому, чтобы подвести под понятие «становления» процесс как выделения характерных (для данной идеи) свойств объектов, так и наделения этих объектов новыми взаимосвязями с другими соседними объектами. А создание (обнаружение, «понимание») новых свойств и взаимосвязей — это всегда шаг вперед в познании мира.
(Кстати сказать, употребленное нами словосочетание «Бытие само по себе» в данном случае относится к тем природным процессам в нашем интеллекте, которые не осознаются нами и не контролируются нашим сознанием. А к таким процессам относится и инкубационная стадия формирования идеи, и акт явления последней из бессознательного в наше сознание, и перекодировка нейронных образований нашего мозга — на допонятийном этапе — в слова, знаки и символы, способные выразить смысл внове явленной идеи. Далее, в Части 111, данное словосочетание будет относиться и к тем процессам, которые осуществляются в социуме втайне от продуктивно мыслящего человека, то есть не замечаемыми им на сознательном уровне. Именно к этому природному виду Бытия народа, общества было отнесено данное словосочетание Хайдеггером).
Крайне важно понять и даже выделить одно обстоятельство: статус объекта повышается по мере того как мы, положим, обнаруживаем его новые свойства и его новые взаимосвязи с другими объектами. Вот это повышение статуса объекта можно назвать как угодно: и его становлением, и обновлением, и бытийствованием. Название — всего лишь вопрос конвенции. Главное, чтобы объект был предметом все новых и новых представлений о нем, тех представлений, о которых доселе мы не имели никакого понятия. Причем эти представления должны соответствовать действительности, то есть, они должны быть истинными. И чем о большем количестве свойств объекта и его взаимосвязей с другими объектами мы имеем истинные представления, тем в более полном и истинном свете предстает данный объект перед нами. Вот здесь-то мы как раз и вышли к пониманию того, что идеи Платона вовсе не представляют собою бытие, они есть не что иное, как идеальные и закончившие свое становление объекты (вещи). То есть, объекты, представление о которых уже достигло своего максимально истинного предела. И это максимально адекватное и предельное отражение сущности объекта в нашем представлении есть то, что в европейской философии, начиная с софистов и Платона, принято было называть истиной.
Но, как мы уже говорили ранее (см. Раздел 1.1. «Платон как открыватель технологии интуитивного мышления»), у Платона, кроме представления об идее как субстанциальном пределе, есть и представление об идее как интуитивном акте явления истины. И это представление мы пытаемся развернуть вот уже на протяжении всего предыдущего текста. И не только развернуть, но и связать его и с бытием, и с красотой, и с истиной. И даже не только связать — Античность в лице Платона уже проделала эту работу — сколько обосновать как возможность, так и необходимость «единокровного» порождения бытия, красоты и истины с возникновением интеллектуальной новизны в виде объективной идеи, являемой нам в иррациональных актах интуиции, инсайта, озарения и т. д.
Таким образом, нам теперь видна разница между этими двумя представлениями об истине. Назовем первую из них — т. н. классическую истину — истиной кумулятивной. (Чуть позже нам станет понятен выбор данного термина). А истину второго рода назовем интуитивной или истиной озарения. Остановимся несколько подробнее на каждой из этих истин.
1. Классическое или кумулятивное представление об истине
Характеризуя классическую истину как соответствие смысловой сущности объекта тому, что о нем помыслено и высказано, мы выявляем всего лишь одну ипостась той истины, которая достигается максимальным возрастанием полноты наших знаний об объекте и достоверным суждением (выражением) о сущности последнего. Истина такого рода нами никогда не может быть достигнута, поскольку мы не обладаем всей полнотой знания о каком-либо объекте (предмете, явлении и т. д.), и мы не способны максимально адекватно высказать свое суждение о сущности объекта, которую мы, в конце концов, даже не до конца знаем. И такую истину мы можем охарактеризовать как максимально адекватное на данный момент представление об объекте, которое складывается — и накопляется: отсюда кумулятивность — из наших познаний и достоверности суждений о нем. Но эта истина никакого отношения ни к идее, ни к новизне, ни к бытию, ни к красоте не имеет, — хотя отдельные этапы ее познания могут высвечиваться благодаря идеям, — поскольку она формируется в основном на сознательном (логическом) уровне. Так на сознательном уровне постепенно формируется, положим, представление об устройстве материи или Вселенной. Можно сказать, что кумулятивная истина — это истина максимальной полноты, предельного обобщения и достоверного знания об объекте.
2. Интуитивная истина
Что касается интуитивной истины, которую, уже начиная с Античности, путали с только что представленной нами кумулятивной истиной, то эта истина напрямую связана и с новизной, и с идеей, и с красотой, и с иррациональным актом ее явления в наше сознание. Вот эта истина, истина явления интеллектуальной новизны в форме объективной идеи имеет самое непосредственное отношение к нашему бытию. И, как мы уже видим, истина данного рода направлена не на максимальное познание сущности какого-то отдельного объекта, она направлена на создание (обнаружение, «понимание») каких-либо новых взаимосвязей (или свойств) объекта с другими объектами. А обнаружение (создание, «понимание») новых взаимосвязей (или свойств) между объектами, естественно, приумножает наши познания об этих объектах и их свойствах. То есть, идеи-истины второго рода, обнаруживая нечто новое в объектах (свойства) и включая их во все новые и новые взаимосвязи, привносит эту новизну в копилку наших познаний об отдельных объектах. По сути дела, эти истины являются формосозидающими элементами для образования кумулятивных истин, истин первого рода. И если истина первого рода всегда относительна, то истина второго рода — абсолютна, вследствие своей целостности и законченности. К ней ничего нельзя ни добавить и ничего от нее нельзя отнять. Она гармонична по своей сути, поскольку в ней все необходимо и взаимосвязано. Она принадлежит бытию, а бытие не может быть относительным, оно всегда изначально, уникально и фундаментально (см. Раздел 6.3. «Обоснование: почему бытие — это возникновение…»).
Таким образом, бытие открывается нам только по мере открытия — нами же — тех или иных интуитивных истин. И можно сказать, что горизонт бытия — это горизонт тех новых на данный момент истин, которые мы открываем (создаем, «понимаем») нашим интеллектом, то есть это горизонт постоянно возникающей, меняющейся и исчезающей новизны. Поэтому бытие не только идет впереди нами уже познанного знания, но оно постоянно пополняет объем и изменяет качество этого знания. Это та «ударная волна», которая всегда находится на переднем крае нашего познания (сотворения, обнаружения, «понимания») той новизны, что располагается за границей нами уже познанного и усвоенного знания.
И если бытие — это явление интеллектуальной новизны, — а само «явление» может быть только фактом настоящего, но никак не прошлого и не будущего, — то оно (бытие) осуществляется всегда в настоящем времени. И прав был Шопенгауэр, когда определял бытие — наряду с отождествлением его с волением — как «наполнение данного момента» в точке «соприкосновения объекта с субъектом»10. Так что, как поднимаясь все выше и выше над Землей, мы схватываем взором все новые и новые дали, так и сотворяя все новые и новые иррациональные идеи, мы расширяем и обновляем горизонт нашего бытия. Бытие первобытного человека определялось всего лишь ограниченным кругом новых идей, направленных на изобретение (открытие, «понимание») средств выживания в среде обитания, непосредственно примыкающей к его пещере. Бытие же современного человека простирается далеко за сферу физического существования и проникает не только в глубины микромира и Вселенной, но и в недра познания самой способности познания. И не надо думать, будто бы истины кумулятивные менее ценны, чем истины интуитивные. И те и другие взаимодополняют друг друга, выполняя при этом каждая свою роль, как выполняют свою роль интуиция и логика.
5.4. «Двойная рефлексия» Г. Марселя и «клещи Истины» А. Бадью: что между ними общего?
А теперь мы снова вернемся к вопросу «двузначности» мышления, затронутому нами в Разделе 5.2. «Счастье и несчастье философии» при анализе творчества Хайдеггера. При этом мы попытаемся на основе собственных положений и на примере высказываний Г. Марселя и А. Бадью выяснить роль и место рефлексии в процессе как формирования интеллектуальной новизны (идеи), так и превращения ее в истину. Нам это необходимо для того, чтобы составить себе целостное и последовательное представление о творческом процессе возникновения нового знания. Имея перед собой общую картину продуктивного мышления, нам легче будет понять (в следующих разделах) причины возникновения и существования той путаницы в понятиях, которая присуща развитию метафизики.
Для этого мы сначала приведем описание поэтапного процесса продуктивного мышления, в ходе которого дадим различие двух типов рефлексивного мышления и местоположение каждого из них на представленной нами схеме-«синусоиде» (см. далее пункт 1 и Рис. 1 в пункте 2). Затем, после того как мы изложим некоторые пояснения к данной схеме, нам останется только в более четкой форме обрисовать не только два этапа возникновения самой истины, то есть, два этапа бытия, но и две компоненты, посредством которых, как нам представляется, бытие проявляется на феноменальном уровне (см. пункт 2). Далее мы остановимся на данных, полученных Марселем в части применения той методологии, которая использовалась им при анализе собственного не только философского, но и художественного творчества (см. пункт 3). И в заключение данного раздела проанализируем имеющее непосредственное отношение к двойной рефлексии понятие «клещи Истины» Бадью и сделаем в связи с этим некоторые выводы (см. пункт 4).
п. I. Рефлексия собирающе-анализирующая доступное нам знание (в идею) и рефлексия раскрывающая идею.
Для начала представим себе поэтапно процесс продуктивного мышления над вопросом, который был ранее нам мало знаком, но который вдруг нас чем-то заинтересовал и мы собираемся его разрешить. С чего же мы начнем? А начнем мы, скорее всего, с того, что будем собирать и анализировать существующие на данное время факты, представления, суждения и т. д., имеющие какое-либо отношение к интересующему нас вопросу. Откуда мы будем брать эти данные? Конечно, из наших воспоминаний тех прошлых знаний, которые мы приобрели в процессе воспитания, образования и нашей жизненной деятельности, уже преобразованной в некоторый житейский опыт. Кроме того, мы будем черпать сведения, относящиеся к данному вопросу из книг, словарей, энциклопедий и т. д. Далее, мы будем время от времени строить гипотезы, которые приблизили бы нас не столько к пониманию сути самого вопроса, — а, возможно, и к корректировке или углублению его, — сколько к разрешению его. И только после того как мы основательно окунулись в вопрос, прониклись им, и, казалось бы, зашли в тупик, из которого нет выхода, как правило, наступает инкубационная фаза мышления, когда полученное и проанализированное нами знание подвергается дальнейшей проработке, но уже не на рефлексивном уровне нашего сознания — мы уже оставили всякие попытки разрешить вопрос, — а на бессознательном уровне. И если наш рефлексивный поиск на этапе предварительного анализа данных (этап 1—2, рефлексия-1, см. Рис. I), был достаточно интенсивен и плодотворен, то может наступить кульминационный момент возникновения идеи и явления ее из бессознательного в наше сознание (точка 3). Это и есть момент «чистого» (допонятийного) бытия, то есть момент появления интеллектуальной новизны, говорящей нечто абсолютно новое в том вопросе, который нас ранее занимал.
Но идея сама по себе в момент своего явления еще ничего определенного не говорит нашему сознанию, кроме того, что явление ее (в виде «сгустка» смысла) сопровождается бессознательным «пониманием» ее смысла и спонтанным возникновением интеллектуального чувства удовольствия-удивления. Какое-то время после наступления данного момента — об этом ниже — мы «понимаем» саму сущность идеи, но определить (сказать, выразить), в чем она заключается, мы не можем. И продолжается такое состояние вплоть до того момента, как мы начинаем посредством рефлексии (точка 4) разворачивать идею в своем творческом воображении-представлении, то есть, трансформировать ее в мысль и одновременно оформлять в знакомую нашему сознанию оболочку слов, словосочетаний, предложений, знаков и т. д. (этап 4—5, рефлексия-11). То есть оформлять в оболочку, адекватно отражающую сущность мысли, а, следовательно, и той идеи, из которой она раскрыта.
Кстати сказать, до начала оформления идеи ее суть достаточно легко и незаметно может ускользнуть из нашего сознания даже при малейшем отвлечении нашего внимания на какой-либо другой, не относящийся к данной идее объект. И это один из аргументов — наряду с аргументом спонтанности возникновения как самой идеи, так и чувства удовольствия-удивления — в пользу новизны идеи. Знакомую нам идею (т. е. «старую») мы можем вспомнить, новую же, но упущенную, если и можем, то с большим трудом.
Итак, на этапе развертывания идеи в мысль (этап 4—5, рефлексия-11) мы снова, во второй раз применяем рефлексию, но принципиальное отличие ее состоит в том, что если в первом случае (этап 1—2, рефлексия-1) мы собирали объекты, всячески взаимосочетали и анализировали их с той целью, чтобы скомпоновать из них нечто целое и интеллектуально новое, то на втором этапе, наоборот: для того чтобы из понятной только нам идеи получить всем понятную мысль, мы разбиваем целостное ядро явившейся нам идеи на входящие в нее и взаимосвязанные между собой объекты-сущие.
Другое отличие первого этапа рефлексии от рефлексии второго этапа состоит в том, что на первом этапе мы манипулировали множеством объектов как возможных претендентов на роль объектов-сущих одной единственной идеи, то есть, мы манипулировали некоторым избытков объектов. На втором же этапе рефлексии нам приходится оперировать уже вполне определенным, четко ограниченным выбором нашего бессознательного, числом объектов, объектов, входящих только в ту мысль, которая разворачивается нами из внезапно открывшейся нам идеи. И третье различие этих двух видов рефлексий, рефлексии собирающе-анализирующей (рефлексия-1) и рефлексии раскрывающей (рефлексия-11), связано с наличием двух видов интуиций: интуиции интеллектуальной и интуиции чувственной — наличием, вполне утвердившимся в процессе развития философии. (Чуть ниже мы коснемся вопроса обоснованности возникновения столь различных понятий интуиции).
Для того чтобы понять о чем идет речь, напомним еще раз: интеллектуальная интуиция в излагаемом нами представлении — это вовсе не есть ни наглядность какой бы то ни было мысли, ни прозрачность какого-либо чувства, это — «схватывание» самой сути только что явившейся в наше сознание идеи, идеи, еще не облаченной в какую-либо знаковую оболочку.
Только в дальнейшем процессе развертывания этой идеи, то есть в процессе созерцания и оформления ее, мы получаем мысль, именуемую Истиной (алетейей) в греческом ее представлении, поскольку она самозародилась и самовозникла из сокрытости Ничто в не-сокрытость Бытия (Хайдеггер). Что же касается так называемой чувственной интуиции как непосредственного восприятия органами наших чувств каких-либо объектов или явлений, то она не имеет никакого отношения к интуиции интеллектуальной, интуиции, понимающей смысл внове рожденной (обнаруженной, «понятой») нами идеи. И вообще, понятие чувственной интуиции, как нам представляется, мало чем отличается от обыкновенного восприятия (ощущения) явлений и объектов органами наших чувств. Разве что своей четкостью и явностью для нашего сознания. Но главное их различие состоит в том, что, во-первых, интеллектуальная интуиция понимает («понимает») смысл новой идеи, состоящей из объектов и новых взаимосвязей между ними, а чувственная интуиция способна всего лишь на восприятие отдельных объектов или явлений. Так мы можем воспринять молнию и гром в их причинно-обусловленной взаимосвязи.
Другой фактор, по которому различаются первый вид интуиции от второго состоит в том, что интеллектуальная интуиция воспринимает и «схватывает» то, что возникло (самозародилось) в самом интеллекте, а точнее, в бессознательной его части, в то время как чувственная интуиция сначала воспринимает (как правило, через органы чувств) то, что находится «вне» интеллекта и только потом «помещает» это воспринятое в интеллект.
Таким образом, получается, что интеллектуальная интуиция и интуиция чувственная являются, правда, каждая по своему, началом разных и при том противоположно направленных процессов рефлексивного мышления: если «схваченная» интеллектуальной интуицией идея в дальнейшем разворачивается нами в мысль с ее объектами-сущими и взаимосвязями между ними, то чувственная интуиция сперва воспринимает объекты-сущие и помещает их (не без посредства сознания) в интеллект, после чего они вместе с другими объектами могут быть подвергнуты сначала логической обработке (этап 1—2, рефлексия-1), а затем обработке иррациональной, интуитивной, то есть, обработке в сфере нашего бессознательного. И только после этого становится возможным процесс в «обратном» направлении (этап 4—5, рефленксия-11), в направлении от начала явившейся нам идеи к конечным, но уже обновленным объектам-сущим, что были в ней заложены.
Вот теперь, в связи с наличием двух типов рефлексий нам становится более ясной причина появления понятия чувственной интуиции. Скорее всего, это понятие в немалой степени своим возникновением обязано разъясняющей роли логического мышления в процессе анализа собираемых нами данных. Анализ подобного рода, конечно, не только вырисовывает более наглядным и понятным то знание, которым мы уже овладели ранее, но и делает более «прозрачными» те чувства, которые могут быть причастны к возникновению этих знаний. Отсюда и появляется впечатление так называемой чувственной интуиции. Так что не может быть двух типов интуиций: она одна и она интеллектуальна по своей сути, поскольку изначально иррациональна и креативна. Поэтому только интеллектуальная интуиция может быть непосредственной причиной раскрывающей рефлексии (этап 4—5), и вряд ли она причастна к формированию нашего знания в процессе рефлексивного мышления на стадии собирания и анализа данных (этап 1—2).
Но здесь, положа руку на сердце, заметим следующее: совсем не исключено, что мы ошибаемся в данном случае. И наше заблуждение может заключаться в следующем. В самом начале, мы уже указывали на то, что наши интуиции (интуиции интеллектуальные) могут быть, что называется, «разного достоинства», как разного достоинства могут быть монеты пятикопеечные и пятидесятикопеечные. Мы говорили о том, что одни интуиции могут касаться всего лишь отдельной взаимосвязи, положим, всего лишь двух объектов мысли, другие же, попадая в самый центр мысли, «схватывают» взаимосвязи всех объектов мысли в целостном и законченном виде. В связи с этим мы можем только предполагать, что на этапе собирающе-анализирующей рефлексии наше мышление подобно итерационному процессу постепенного приближения к идее, процессу, сочетающему в себе попеременно и логические шаги и шаги, хотя и небольшие, но интуитивные. Но сказать с уверенностью, так ли на самом деле протекает процесс в данном случае, мы не можем, поскольку, чем меньше интуитивные шаги (скачки), тем труднее отличить их от плавно восходящей линии логического мышления. И виной тому не только незаметность «возрастания» интеллектуальной новизны, но и неуловимость чувства удовольствия от понимания последней.
А теперь, после того как мы описали в общих чертах процесс продуктивного мышления, рассмотрим его в виде схемы («синусоиды») (см. ниже Рис. 1) с обозначением основных этапов и наименованием их более приближенным терминологически к метафизической тематике. А по сути дела мы рассмотрим этот процесс в координатах времени образования истины (абсцисса) и интенсивности (нарастания и снижения) интеллектуальной новизны (ордината). И вершиной этого процесса будет акт бытия, то есть, акт возникновения интеллектуальной новизны в виде объективной идеи.
п. 2. Пояснения к схеме: два этапа бытия и две его компоненты.
Дадим некоторые пояснения к схеме. Как видим, с началом рефлексивного мышления (точка I) объекты, которыми оперирует наше сознание (логика), изымаются из сферы Ничто (Хаоса). Но что такое Ничто само по себе? Ничто — это не то, чего нет, а то, что не является объектом нашего мышления на данное время. Как только этот объект попадает в сферу нашего сознания, он, в виде исходного сущего, приобретает статус существующего. И далее, если ему доведется стать одним из объектов комплектующих состав внове рожденной идеи, то в процессе развертывания последней это уже существующее сущее, заимствованное из сферы Хаоса (Ничто), становится на некоторое время бытийствующим или становящимся. И остается оно в этом качестве до тех пор пока не померкнет его новизна и оно не канет туда, откуда оно было вызволено бытием, то есть, в пучину Ничто. И разница между этими двумя состояниями данного объекта в том, что первое было «старым», а второе стало обновленным теми взаимосвязями, в которые оно вступило, побывав объектом (в «объятьях») новой идеи.
Кстати сказать, смешение понятий бытия и Ничто в направлении их отождествления — это следствие близости их «расположения», то есть, следствие того, что бытие, в конечном счете, берет свое начало в Хаосе (Ничто), как река берет свое начало в болоте. Так отождествляются воды родника с водами озера, на дне которого находится этот родник. Но между ними принципиальная разница: воды озера застойны, а воды родника бьют из подземного источника. Общее между ними только то, что содержимое их — вода. Вот таким же образом как Ничто состоит из объектов, нас никоим образом не затрагивающих, так и бытие сопряжено с возникновением комплекса взаимосвязанных между собой объектов-сущих. Но в Ничто (Хаосе) они не структурированы в глазах нашего сознания, в то время как в акте бытия вполне конкретные объекты соединены в структуру идеи вполне определенными взаимосвязями. Поэтому бытие не может быть тождественным Ничто. Наоборот, это совершенно разные по характеру своего проявления и по структуре вещи: если бытие — это возникновение интеллектуальной новизны в виде идеи и нового сущего, то Хаос — безбрежный океан объектов, еще не ставших сущими объектами, то есть, объектами мышления человека, хотя бы предпринявшего попытку к продуктивному мышлению. При этом следует отметить немаловажную деталь: эти сущие «готовы» быть примененными в
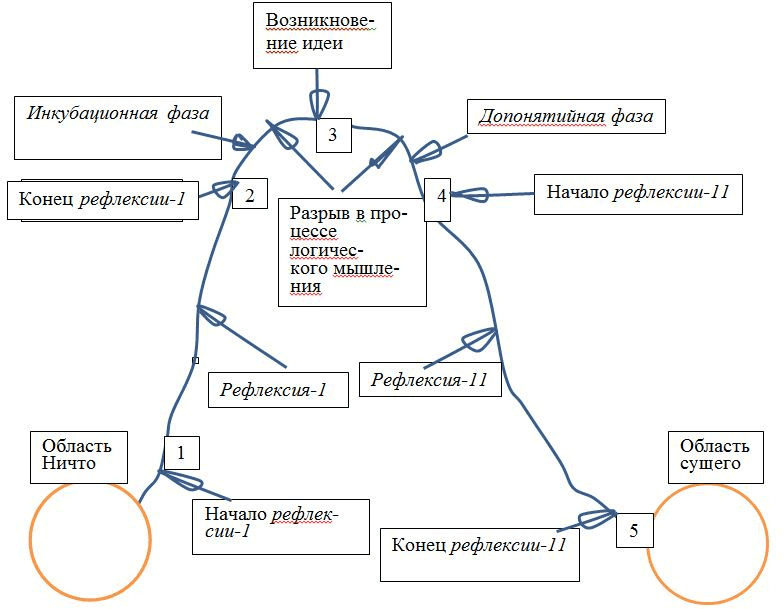
Рефлексия-1 — область рефлексивного (логического) осмысления вопроса: область постановки вопроса, выдвижения гипотез, возможных вариантов решения.
Рефлексия-11 — область раскрытия смысла идеи в мысль-Истину.
Она же — область формирования вида и сущности нового искомого сущего и разработки технологии изготовления подручного средства
Она же — область вторичной рефлексии Г. Марселя.
Она же — область рефлексии рефлексии М. Хайдеггера.
Рис. 1. Схема процесса продуктивного мышления
.
комплектацию какой-либо идеи. Их нам не нужно создавать внове. Именно поэтому мы назвали их исходными сущими в отличие от сущих искомых, тех сущих, которые мы должны отыскать, а попросту говоря, создать внове.
Далее, (следуя нашей схеме), мы уже выяснили роль рефлексии собирающе-анализирующей (этап 1—2) и привели те признаки, по которым она отличается от рефлексии раскрывающей идею (этап 4—5). Что же касается инкубационной фазы (этап 2—3), то мы о ней ничего не знаем, и она ничем существенным на уровне нашего сознания не проявляется, кроме разве только тем, что в этот период времени мы практически полностью отвлекаемся от ранее так интересовавшего нас вопроса.
Теперь мы подходим к самому главному. О бытии как явлении интеллектуальной новизны в акте интуиции (инсайта, озарения) мы уже говорили достаточно много ранее. Но бытие возникновением идеи самой по себе (точка 3) не заканчивается, так как за явлением идеи следуют два этапа, две фазы мышления, одну из которых можно назвать допонятийной, или собственно бытийственной, или даже ментальной фазой (этап 3—4), а другую — понятийной или сущностной (этап 4—5), совпадающей с рефлексивной фазой развертывания и раскрытия смысла идеи (рефлексия-11). И во избежание недопонимания и недоразумений сразу же заметим: мы потому отнесли к бытийственному разряду и допонятийный и понятийный этап раскрытия идеи, что оба они сопряжены с возникновением интеллектуальной новизны, уже понимаемой нами сначала на бессознательном, а затем и на сознательном уровне. Сейчас мы поясним данное положение.
Допонятийный, бытийственный этап (этап 3—4) — это пока что ничем не выразимый этап существования новой идеи, который сопровождается как спонтанным «пониманием» смысла идеи, так и возникновением интеллектуального чувства удовольствия. Обратим особое внимание: объектом возникновения подобного чувства является сначала «понимание» на бессознательном уровне чего-то для нас совершенно нового. «Поняли» мы смысл идеи — возникло чувство удовольствия; не «поняли», не обнаружили, не распознали — это чувство не возникло. Таким образом, если это чувство возникло, то оно возникло только благодаря тому, что в момент возникновения идеи (то есть проникновения в наше сознание) мы ее «поняли» целиком, или «поняли» главную ее суть. Но эта суть пока что невыразима, поскольку она только что явилась из бессознательного, не владеющего формами понятийного выражения, то есть, не владеющего языком в том виде, каким им владеет сознание. Да и сознание еще не готово его понять: мелькнувший объект не располагает к тому, чтобы сразу же охарактеризовать его в каких-либо знаковых деталях или понятиях.
Так что на этом этапе (этап 3—4) нет еще подключения понятий, связанных с знаковым их выражением и оформлением. Это некие возбуждения на нейрофизиологическом уровне нашего мозга. Вот почему этот процесс ощущается в форме как бы немотивированного и ничем не выразимого испытания амбивалентного чувства беспокойства и удовольствия. (Можно было бы даже сказать: беспокойного удовольствия). И вот оказывается почему Единое Плотина невыразимо: оно находится в той форме, которая не определима, а потому и непередаваема. Она, эта форма, пока что — внутреннее событие нашего интеллекта и нашего организма. И ведь недаром Плотин во многих местах своих «Энеад» настойчиво предостерегает от приписывания Единому множественности. (Но об этом более подробно в Разделе 6.3. «Обоснование: почему бытие — это возникновение интеллектуальной новизны в виде идеи»). А причина этого достаточно проста: множественность непременным образом предполагает возможность разделения Единого на части, а последние, как само собой разумеющееся, должны иметь наименования.
Но, как мы понимаем, на уровне виртуально-ментальной активности нашего мозга (то есть на допонятийном этапе), где обитает Плотиновское Единое, нет разделения объектов, а потому и нет еще отдельных смысловых образований, уже готовых облечься в какую-либо знаковую форму. Они появятся только в процессе развертывания идеи в мысль (этап 4—5, рефлексия-11), то есть тогда, когда возникнет необходимость наименования тех объектов-сущих, из которых она (мысль) состоит, и тех взаимосвязей, которые их соединяют. Таким образом, только тогда, когда к допонятийному процессу (этап 3—4) подключаются закрепленные словами или знаками образы и представления, заимствованные из нашего сознания, только тогда начинается сознательный процесс формирования и оформления истины-мысли, то есть, процесс преобразования идеи в Истину. И содержание последней уже может быть сообщено кому-либо другому. И не только сообщено, но и разложено на уже поименованные объекты-сущие.
Можно сказать, что рефлексивное мышление на второй стадии (рефлексия-11) проявляет внятный только творцу «негатив» объективной идеи (этап 3—4) и представляет его в виде всем понятного «позитива», в виде истины-мысли с запечатленными в ней объектами. В данном процессе необходимы две способности человека: его природная способность генерировать идеи («негативы») и благоприобретенная способность трансформировать и оформлять их в мысли («позитивы»). Как в отсутствии «негатива» не может появиться «позитив», так и в отсутствии способности или возможности трансформировать «негатив» последний окажется погребенным в бессознательном творца.
Но здесь, в продолжение нашей темы формирования нового смысла, у нас может возникнуть одно затруднение следующего характера. Зададимся вопросом: вся ли целиком и сразу является идея на допонятийном уровне, или она возникает частями, постепенно. Для того чтобы определиться с этим вопросом, попытаемся сначала понять, почему в процессе развертывания идеи на сознательном уровне мы уже знаем, какие объекты в нее входят и какие взаимосвязи их соединяют. А мы действительно это знаем. Казалось бы, можно предположить: мы знаем это потому, что это знание каким-то непонятным образом и в каком-то виде уже было представлено на бессознательном уровне целиком и сразу. И выход идеи из тени бессознательного на свет сознания — это и есть момент инсайта, озарения, интуиции. Но у нас нет полной уверенности в этом, поскольку постепенность развертывания идеи в мысль не исключает постепенности возникновения каких-либо «частей» идеи на бытийственном уровне. Так, например, случается, если какой-то странный агрегат внезапно возникает из густого тумана и мы постепенно начинаем разглядывать его и узнавать в нем нечто нам ранее знакомое, но с неожиданными (новыми) для нашего сознания взаимосвязями между частями, из которых этот агрегат состоит.
Что же касается собственно понятийного или сущностного этапа (этапа 4—5, рефлексии-11), то это этап, на котором бытие («чистое» бытие) как свершившееся событие возникновения нового смысла начинает трансформироваться в мысль и одновременно оформляться в знаковую или языковую оболочку, представляющую вместе со смыслом мысли саму Истину. И трансформируется оно под непосредственным, стимулирующим воздействием чувства красоты, то есть, чувства удовольствия от понимания («понимания») смысла новой идеи. И именно на этом этапе проявляется такой объект метафизики как сущее (отсюда и название этапа — сущностной): истина, мысль, объекты, из которых она состоит и т. д. И именно на этом этапе мы можем, что называется, «воочию» наблюдать процесс становления: становления идеи в мысль, разложения мысли на взаимосвязанные объекты, обновление объектов новыми взаимосвязями с другими объектами, обнаружение новых взаимосвязей между этими объектами и т. д.
Но самое главное, что происходит на этапе рефлексии-11, так это то, что в процессе раскрытия смысла идеи мы вдруг обнаруживаем, что в комплектации идеи нам не хватает еще одного сущего, а именно, искомого сущего, того сущего, которое мы должны создать внове. Не создав последнего, мы не сможем изготовить по его образцу подручное средство. А, не имея его, не сможем производить Продукцию для социума, что и является одной из целей Бытия. Более подробно об этом в Части 111.
Итак, выше мы охарактеризовали два этапа бытия, то есть, возникновения нового смысла. Теперь же рассмотрим те проявления, в которых выражается данное возникновение. И рассмотрим мы этот вопрос в основном на примере произведений искусства. Но сначала нам необходимо отметить следующее. Многозначный объект в виде эстетической идеи произведения искусства в принципе невозможно переместить с бытийственного (допонятийного) уровня на сущностной уровень, который (в пределе) для того только и предназначен, чтобы давать однозначную интерпретацию смысла идеи. Художник, а вместе с ним и созерцатель его произведения, находятся в неопределенном положении, поскольку они не в состоянии выразить или воспринять все смыслы произведения одновременно. Но если художник или созерцатель попытается склониться к одной из возможных интерпретаций смысла (идеи), то он сразу почувствует, что представление его не будет истинным, поскольку исчезает сама филигранность объекта. Веер, лишенный всех перьев, кроме одного — это уже пародия на веер. Конечно, можно поочередно выделять те или иные грани-смыслы произведения искусства, но это уже будет задача не художника и не созерцателя, а профессионала искусствоведа или литературоведа.
А сейчас возвращаемся к тем формам, в которых проявляется само бытие. Вполне уверенно можно сказать, что любое настоящее произведение искусства всегда представлено, с одной стороны, своим ценностносмысловым содержанием в форме идеи, «понимаемой», положим, созерцателем этого произведения, а с другой стороны — спонтанным влечением к искусству и возникновением чувства удовольствия, которое испытывает этот созерцатель. Таким образом, мы уже видим, что в произведении искусства представлено само бытие. И представлено оно двумя своими воплощениями: новым смыслом в виде идеи и возбуждением чувства наслаждения от его созерцания. И еще неизвестно, что из них обладает «большим» бытием: само ли «понимание» интеллектуальной новизны, или чувство удовольствия от этого «понимания». Но это даже не столь важно. Скорее всего, они неразрывны в своем единстве, и у нас нет каких-либо оснований сравнивать их, как нет оснований сравнивать свет костра с тем теплом, который от него исходит. Наш интеллект и наше тело одинаково хорошо приспособлены воспринимать как то, так и другое (то есть воспринимать прекрасное).
Одним словом, мы приходим к такому вроде бы незаметному, но достаточно важному выводу: у бытия как единого целого есть не только две ступени — допонятийная и сущностная, — но и две компоненты: одна из них смысловая, другая — чувственная. И обе они (компоненты) возникают в процессе «понимания» нами иррациональной идеи, имеющей, как правило, множественный смысл: первая из них исходит от «понимания» интеллектуальной новизны, а вторая — от чувства удовольствия, которым это «понимание» сопровождается. Не будь этого единства обеих компонент, не было бы никакого стимула к творчеству, а потому и не было бы никакой интеллектуальной новизны, а следовательно, и всего того духовно-материального много и-разнообразия, которое мы наблюдаем вокруг себя. И нет принципиальной разницы, в какой сфере деятельности проявляется и осуществляется наше бытие: эстетической или научно-технической. И там и там фигурируют новые идеи, и там и там возникает чувство удовольствия от их «понимания» (понимания). Разница только в том, что в первом случае это понимание осуществляется на бессознательном уровне и не доводится до сознания в своем однозначном виде (то есть «застревает» на допонятийном этапе), в то время как во втором случае оно происходит на уровне сознания и может быть развернуто в мысль и оформлено творцом этой идеи до понятия, выраженного в какой-либо общеизвестной и однозначно трактуемой знаковой системе. То есть для случая научных и технических идей-истин понимание смысла, пройдя фазу допонятийную (как и в случае эстетических идей), все же выходит на сущностной, понятийный уровень однозначного раскрытия смысла идеи научного открытия или технического изобретения. В то время как для эстетической идеи на уровне сознания возможны только интерпретации различных ее смыслов. Эти смыслы как бы «застревают» на допонятийном этапе, поскольку не могут выйти на однозначно понимаемую нашим сознанием мысль. Почему они не могут выйти на уровень сознания, речь у нас пойдет в Разделе 9.4. «Идеи технические, научные, нравственные и эстетические: различие между ними».
п. 3. Двойная рефлексия Г. Марселя
А сейчас в данном пункте и в следующем за ним мы попытаемся на примере выдвинутых Г. Марселем и А. Бадью идей хотя бы прочувствовать, насколько трудным бывает не только дифференцировать способы постижения сущности интеллектуальных процессов, но и проследить саму последовательность этапов продуктивного мышления. Начнем с Марселя и его идеи двух типов рефлексии, одна из которых — первичная, критическая, аналитическая — раскладывает и разъясняет нечто конкретное на составные элементы, а другая, вторичная — восстанавливает нарушенное первичной рефлексией единство, и делает она это с «оглядкой» на так называемую «слепую интуицию». Попытаемся разобраться в терминах Марселя и в тех понятиях, которые за ними скрываются. Это, во-первых. А во-вторых: рассмотрим, нельзя ли нам соотнести некоторые понятия теории Марселя с тем, что мы получили в первых двух пунктах данного раздела.
Как известно, чем глубже и проникновеннее наш опыт не только соприкосновения с действительностью, но и переживания ее, тем плодотворнее могут быть наши рефлексии по поводу этой реальности. И не это ли имел ввиду Марсель, когда писал о «слепой интуиции», которую, исходя из своего личного опыта, может выразить поэт или пророк, но не философ. Философ же, по Марселю, подобную интуицию может сделать доступной пониманию только посредством двойной рефлексии: первичной — критической, разлагающей — и вторичной — восстанавливающей. Причем, задача вторичной рефлексии в том, чтобы
«…восстановить с глубоким пониманием то состояние нераздельности, которое было нарушено первоначальной рефлексией»11.
Однако, справедливости ради, все же следует заметить следующее. С одной стороны Марсель, характеризуя вторичную рефлексию, признает «слепую интуицию»:
«…есть другая рефлексия, обращенная на эту, первичную рефлексию и апеллирующая к подспудно действующей слепой, но эффективной интуиции, испытывая на себе ее сокровенный магнетизм». (Там же, стр.99).
С другой же стороны, предполагая наличие другой интуиции, «интуиции бытия», он не дает ей права
«…стать очевидностью по той простой причине, что она в действительности не является предметом нашего обладания». (Там же, стр. 86).
Вот что он пишет здесь же:
«Быть может, скажут мне, вы называете термином recuеillement (сосредоточенность — И. Ф.) то, что другие называют интуицией?
Но и здесь мне думается, что следует быть предельно осторожным. Если мы и можем говорить об интуиции, то это интуиция, которая нам не дана и не может быть дана в качестве таковой.
Чем более сущностной характер носит интуиция, внедряясь в глубь бытия, которое она озаряет, тем менее она способна обращаться на себя, постигать себя.
Если мы к тому же задумаемся над тем, чем могла бы быть интуиция бытия, мы убедимся, что она не способна, не может быть способна, числиться в реестре, быть зафиксированной в качестве некоторого опыта или переживания (Erlebnis), которое как раз, напротив, в любой момент может быть либо интегрировано, либо изолировано и как бы обнажено. А потому любая попытка запечатлеть эту интуицию, представить себе ее, на мой взгляд, будет напрасной. В этом смысле говорить нам об интуиции бытия — то же, что предлагать сыграть на беззвучном фортепиано». (Там же, стр. 86).
Далее Марсель предлагает заменить интуицию на уверенность:
«Вместо того чтобы использовать термин „интуиция“, лучше было бы сказать, что мы имеем дело с уверенностью, которая под-держивает (sous-tend) все развитие мысли, даже дискурсивной; ощущать ее мы можем лишь путем собственного внутреннего обращения (conversion), иными словами, с помощью рефлексии второй ступени (reflexion seconde), посредством которой я спрашиваю себя, из каких истоков рождались подходы начальной рефлексии, той, что постулировала онтологическое, но не осознавала этого. Рефлексия второй ступени — это сосредоточенность, recueillement, в той мере, в какой она может мыслить самое себя». (Там же, стр. 87).
Из этих колебаний Марселя — между интуицией и уверенностью — мы попытаемся сейчас сделать «перевод» марселевского понятийного языка на язык понятий, излагаемых нами в данном разделе. Итак, во-первых, мы можем предположить, что отвергаемая им «интуиция бытия» — это и есть то самое, ничем пока не определимое допонятийное бытие (см. Рис. I, этап 3—4), выразить которое понятийными средствами мы пока что не можем. Вот почему по образному сравнению Марселя выразить эту интуицию все равно что «сыграть на беззвучном фортепиано». И второе предположение, которое мы можем сделать, состоит в том, что марселевская рефлексия второй ступени все же относится не к «слепой интуиции», а к отвергнутой им «интуиции бытия», потому что эта рефлексия, с одной стороны, базируется на основательной «уверенности», а уверенность в значительной степени, как мы знаем, может появиться только в том случае, если ей непосредственно предшествует возникновение самой идеи-интуиции. А с другой стороны, эта рефлексия как сосредоточенность есть не что иное как сосредоточенность на развертывании и оформлении данной «интуиции бытия». И как мы понимаем, рефлексия второй ступени соответствует той понятийной или сущностной стадии (этап 4—5), на которой нами осуществляется трансформация невыразимой идеи во всем понятную истину-мысль.
И ведь недаром в «Метафизическом дневнике» Марсель следующим образом характеризует «онтологическую тайну познания»:
«Познание — внутри бытия, включено в него: онтологическая тайна познания. Возможности рефлексии удваиваются, когда она опирается на опыт присутствия»12.
О чем это говорит? Да о том, что, во-первых, рефлексия как одна из форм познания непосредственно причастна бытию («внутри бытия»), а во-вторых, эффективность («возможность») рефлексии повышается в том случае, когда она в буквальном смысле «присутствует» при зарождении «интуиции бытия» и непосредственно занимается развертыванием и оформлением этой интуиции в какую-либо из известных нашему сознанию знаковых систем. (Следует иметь ввиду, что здесь мы в общем-то не отступаем от марселевского понятия «присутствия», поскольку в данном случае наше рациональное (сознательное) Я, можно сказать, находится в непосредственном — ближе просто не бывает — доверительном диалоге с нашим же, вдруг приоткрывшимся нам, иррациональным (бессознательным) Я).
Что же касается «слепой интуиции», то это не что иное как обретенные в ходе жизненного опыта интуиции, но интуиции так и оставшиеся не раскрытыми в свое время (то есть во времена своего возникновения) до состояния истины-мысли, то есть, говоря словами Марселя, не объективированные интуиции. Так, анализируя характер взаимоотношений персонажей одной из своих пьес («Квартет фа-диез»), Марсель следующим образом комментирует их с точки зрения возникновения интуиции подобного рода:
«То, что открылось моим героям подобно вспышке молнии и что, может быть, не останется в их сознании надолго, существует поверх замкнутых систем, ограничивающих нас благодаря нашим суждениям, в той сфере плодотворной неотчетливости, в которой люди общаются и существуют в акте коммуникации и посредством него»13.
Вот почему эти интуиции являются объектом внимания, скорее, поэта и пророка, чем философа. Философ же, по мысли Марселя, объективирует их посредством вторичной рефлексии в процессе, названном им сосредоточением.
Странно, конечно, что Марсель, достаточно часто пишущий в своем «Дневнике» о собственных озарениях, так и не увидел того, что объектом вторичной рефлексии все же является так и не принятая им «интуиция бытия». Но эти «странности» можно заметить не только за Марселем, но и за другими мыслителями, так или иначе погружавшимися в бытийственную проблематику, проблематику возникновения сущности в форме интеллектуальной новизны-истины. Не говорит ли это о том, насколько трудным бывает дифференцировать как объект нашего мышления, так и способ, каким он постигается. И чем глубже мы погружаемся к источнику нашего продуктивного мышления, тем труднее нам это делать и тем неопределеннее становится наше познание. Как будто мы опускаемся в глубины океана, куда не доходит свет солнца (сознания) и где все предметы растворяются во тьме и теряют свои очертания.
п. 4. «Клещи Истины» А. Бадью
Нам следует помнить одно: то, что мы называем Истиной — это каждый раз нами созданная (обнаруженная, распознанная, «понятая») оригинальная мысленная конструкция, имеющая ценностно-смысловое содержание; бытие же — акт и процесс возникновения этой конструкции. (Далее по тексту слово «Истина» в означенном смысле будем писать с большой буквы, дабы отличать от классического понятия истины как достоверности и соответствия нашего суждения сущности объекта, о котором производится высказывание). Поэтому Истина чего угодно — будь то принцип дополнительности Бора, закон тяготения Ньютона или способ добывания огня трением, изобретенный неизвестным гением — всегда уникальна и субъективна по своему смыслу и по своему происхождению. Но любая Истина никак и никогда не может миновать общего для всех Истин момента, момента своего внезапного возникновения именуемого бытием. А вот этот момент, вследствие своей малой заметности в большинстве случаев упускается из виду многими мыслителями, пытающимися понять как устройство самого источника нового знания, так и конфигурацию «ключа», посредством которого мы открываем это устройство и проникаем в него для того чтобы увидеть нечто доступное нашему взгляду. Вот откуда возникает впечатление того, что «рефлексия рефлексии» (Хайдеггер) (см. Раздел 5.2) истолковывает увиденное первичной рефлексией (а не то, что вдруг явилось в промежутке между этими двумя рефлексиями), и вот откуда впечатление того, что «вторичная рефлексия» (Марсель) пытается восстановить то, что «было нарушено первоначальной рефлексией», (а не расшифровать то, что внезапно и незаметно возникло в период между этими двумя рефлексиями).
Вот и Бадью, упуская из виду изначальный момент возникновения истины (то есть момент бытия), заявляет о радикальном разграничении между бытием и истиной. Да, действительно, бытие и истина — категории совершенно разные, но они не настолько отделены и независимы друг от друга, чтобы одна из них не была каким-либо образом причастна к возникновению другой. Тем более странным и непонятным является утверждение Бадью о том, что
«…бытие как бытие не основывает в своем бытии никакой истины»14.
Скорее наоборот: бытие основывает истину хотя бы только потому, что без момента бытия никакие, говоря словами Бадью, «клещи Истины» не были бы способны вытащить истину из небытия на свет Божий. Вот здесь мы в очередной раз сталкиваемся с упущением как самого факта принципиального разграничения рефлексии до момента возникновения идеи (рефлексия-1) и рефлексии после ее возникновения (рефлексия-11), так и того обстоятельства, что бытие (как возникновение совершенно нового смысла) в обязательном порядке воспоследует первой рефлексии, но предшествует второй стадии рефлексивного мышления, в результате которого и происходит удивительная по своей сути трансформация бытия в Истину, то есть, трансформация одного рода мышления — иррационального — в другой — рациональный. Мы уже не говорим о еще более таинственном превращении наработок первоначального анализирующего и вполне рационального мышления (этап 1—2) в совсем непонятно откуда взявшуюся иррациональную идею, представляющую своим явлением само бытие. Здесь многое покрыто мраком, и совсем неизвестно, сможем ли мы — да и успеем ли! — когда-либо в этом разобраться.
Мы можем лишь высказать одно несомненное для нас и в какой-то мере даже эвристическое правило: двойная перемена рода мышления — от рефлексии-I к бытию (возникновению идей), а от бытия к рефлексии-II — является свидетельством (печатью), удостоверяющим факт возникновения нового знания: сперва в иррациональной форме с началом в точке 2 (см. Рис. I), а затем в рациональной — с началом в точке 4. Вот если бы мы смогли хотя бы в некоторой степени разобраться в том, что же все-таки происходит в нашем интеллекте на иррациональной стадии формирования и обработки нового знания (этап 2—3, инкубационная фаза), то нам было бы легче понять, как именно осуществляется перекодировка с «языка» бессознательного (этап 3—4) на язык сознания (этап 4—5).
Как это ни странно, но самое светлое и лучезарное событие, на которое способен интеллект человека — а именно, возникновение нового смысла — происходит за дверьми нашего сознания, то есть в «черном ящике» бессознательного.
А теперь, для того чтобы лучше понять взаимоотношения бытия и Истины, а также взаимосвязи последних с обеими рефлексиями, нам необходимо хотя бы представить себе, что такое «клещи Истины» у Бадью. Но сначала дадим небольшое пояснение относительно разграничения категорий философской Истины и истин научных, политических, художественных и т. д. Автор, признавая категорию истины
«…центральной категорией любой возможной философии». (Там же, стр. 149),
в то же время поясняет:
«…философская категория Истины как таковая пуста…». (Там же, стр. 154)
Но
«…пустота категории Истины с большой буквы не есть пустота бытия… пустота Истины — просто промежуток, в котором философия управляет внешними ей истинами. Таким образом, эта пустота не онтологическая, а чисто логическая». (Там же, стр. 154).
Имея в виду данное пояснение, снова дадим слово автору:
«Философская операция категории Истины располагает своего рода клещами. Одна их половина предстает отладкой последовательности при помощи доводов. Другая — заявлением в предельном случае. Истина сцепляет и возвышает». (Там же, стр. 155).
«Клещи Истины, которые сцепляют и возвышают, служат для того, чтобы подхватить истины. Отношение Истины (философской) к истинам (научным, политическим, художественным или любовным) есть отношение охватывания. Под „охватыванием“ мы понимаем охват, захват, а так же и охватывающее изумление, удивление. Философия есть место мысли, где истины (не философские) схвачены как таковые и охватывают нас». (Там же, стр. 156).
Следуя приведенному тексту, попытаемся понять, что собой представляет каждая из половинок раствора «клещей Истины». Одна из них предстает сцепляющей «отладкой последовательности при помощи доводов», а это не что иное как аналитическая рефлексия на стадии последовательной подготовки объектов к соединению («сцеплению») их в предполагаемую идею-Истину (наша рефлексия-1). Другая половинка предстает «заявлением в предельном случае», а это, как мы понимаем, есть не что иное как раскрывающая рефлексия-11 на стадии оформления вдруг возникшей в готовом виде идеи. Спрашивается, почему столь туманную и предельно краткую характеристику второй ипостаси «клещей Истины» мы все-таки приняли за рефлексию-11, раскрывающую идею в Истину? Да потому что последующий текст дает нам хотя и косвенное, но вполне достаточное основание к этому. Так, например, Бадью связывает вторую ипостась с возникновением возвышающего и охватывающего нас изумления и удивления, и характеризует ее «исключительной напряженностью», возвышающей нас наподобие любви. А это как раз и есть все то, что характеризует душевное наше состояние в момент прихода интуиции, инсайта, озарения, то есть в момент явления идеи и последующего развертывания и оформления ее в Истину. Так что анализ данного текста приводит нас к заключению: «клещи Истины» у Бадью есть все те же рефлексии, одна из которых — рефлексия-1 — подготавливает возникновение идеи (бытия), а другая — рефлексия-11 — трансформирует только что явившуюся идею в Истину. Но первая и основная их задача — расколоть скорлупу ореха бытия с той целью, чтобы — и это уже вторая задача — извлечь из нее самое главное — ядро Истины. Можно сказать, что бытие как возникновение нового смысла — это роды Истины, которые сами по себе преходящи. Но главное, чему они (роды) служат так это возникновению Истин и приумножению много и-разнообразия мира. (К этой аналогии мы еще вернемся в Разделе 7.1.«Размежевание бытия и Истины»).
Итак, анализируя работы Хайдеггера, Марселя и Бадью, мы потому так много внимания уделили разграничению двух типов рефлексий, что нам необходимо было показать принципиально важную вещь: бытие — это кульминационный момент (см. Рис. I) возникновения нового смысла (т. 3) и Истина (т. 5) как результат трансформации бытия есть следствие бытия, а не его причина.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.