
Эжен Сю
МАТИЛЬДА
Записки молодой женщины
Увлекательный криминальный роман популярного французского автора, признанного мастера остросюжетного жанра публикуется впервые за последние 170 лет. Над головой молодой красавицы Матильды словно нависло какое-то проклятие, напущенное её зловредной тёткой, которая хоть и оставила девушке приличное состояние, но и сверх меры наделила её массой напастей, и каждая одна хуже другой.
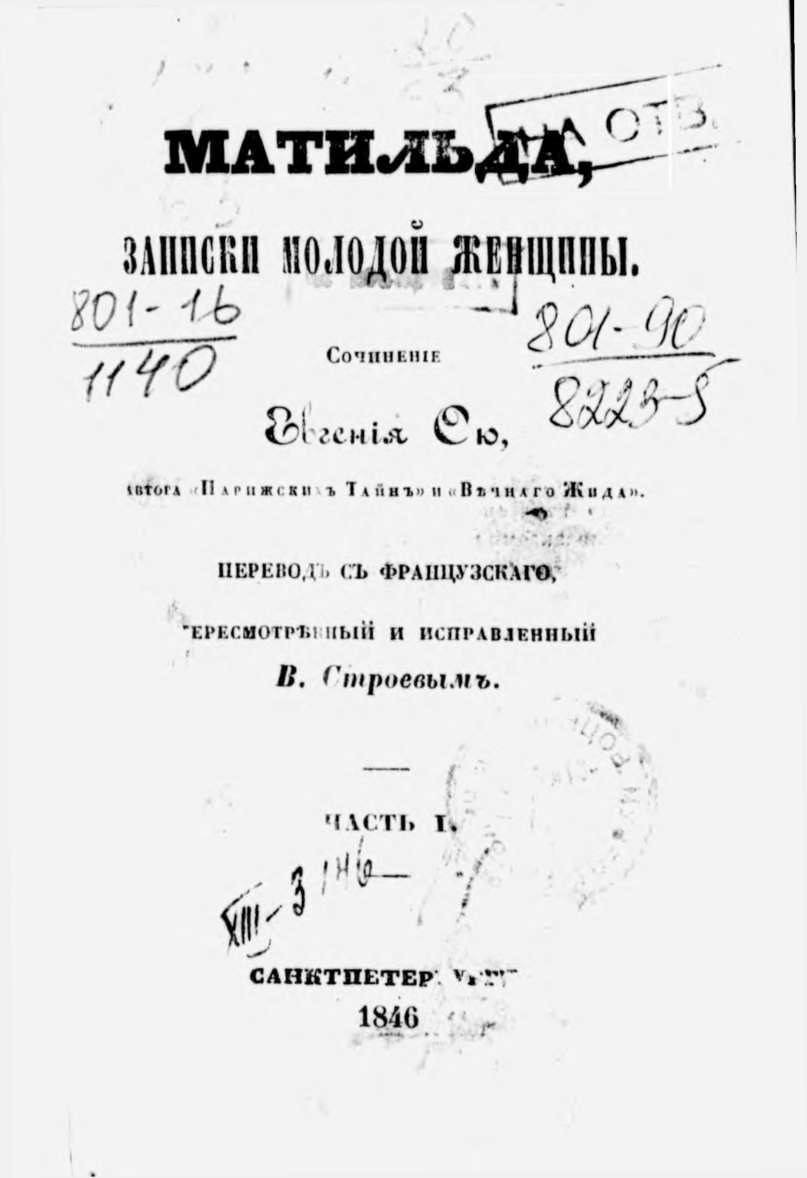
Часть первая
I. Кафе «Лебёф»
На улице Сен-Луп, напротив старого отеля д’Орбессон, обширного и печального жилища нескольких поколений старинной Фамилии, в конце декабря 1838 года существовал, а может быть, существует ещё и теперь, скромный трактир, известный под именем Кафе «Лебёф».
Президент д’Орбессон, последний владелец отеля, умер несколько месяцев спустя после восстановления Бурбонов.
В октябре 1838 года, явился постоялец и занял всё это мрачное, двухэтажное здание, построенное между двором и садом.
Хотя отель д’Орбессон стал обитаем, но продолжал казаться пустым.
Густая трава покрывала порог большой двери, не растворявшейся ни разу со дня приезда нового постояльца, полковника Ульрика.
В многолюдных и лучших кварталах Парижа можно избегнуть злоречия и любопытства соседей. Там слишком заняты делом или удовольствиями, и потому не думают о сплетнях и беспрестанном шпионстве, двух любимых занятиях провинциалов.
Нельзя сказать того же о некоторых отдаленных кварталах Парижа, населенных по большой части небогатыми владельцами и отставными чиновниками, людьми преимущественно праздными и чувствующими необходимость знать то, что происходит на улице или у соседей.
Надо сказать к чести этих почтенных граждан, столь ревностно ищущих пищи своему воображению, что они нисколько не взыскательны к важности происшествий, поэтизируемых ими по своему. Маленького случая достаточно им, для составления чудовищных рассказов, которыми они, так сказать, живут несколько месяцев.
Если же лицо, сделавшееся предметом их любопытства, не даёт ни повода к басням и окружает себя непроницаемою тайною, то стеснённое любопытство их доходит до бешенства! Чтобы удовлетворить любимой страсти своей, они решаются на все крайности.
Три месяца прожил полковник Ульрик в отеле д’Орбессон и уже успел возбудить это бешеное любопытство соседей своих; почти все они постоянно посещали кафе «Лебёф».
Жизнь полковника казалась в самом деле чрезвычайно странною: окна его были всегда затворены и никто не видал, как выходил он из дому, а если он и выходил, то вероятно с большою таинственностью, и притом в садовую калитку. Слуга его был огромного роста и носил бороду.
Каждое утро один из ближайших рестораторов, подряженный доставлять съестные припасы, подавал их через калитку слуге, и она снова затворялась.
Принужденные ограничиться только одним этим обстоятельством, любопытные привлекли на свою сторону ресторатора, чтобы, по съестным припасам, разузнать о нраве и характере полковника. Но посетители кафе «Лебёф», не смотря на свою изобретательность, не могли основать никакой дельной догадки на приобретённых ими сведениях.
Полковник, как казалось, довольствовался простою и умеренною пищею. Однако ж некоторые из любопытных, обладавшие живым воображением, заметили, что он, может быть, ест сырую, приносимую ему дичину. Это замечание, по всем вероятностям, весьма глубокое, не имело однако же никаких последствий.
Наконец к окончательному возбуждению любопытства служило и то, что до сих пор ни одно письмо не приходило в отель д’Орбессон, и никто, одним словом, не переступал за порог его таинственной двери. Много было, без сомнения, попыток, чтобы выведать что-нибудь от слуги или как-нибудь заглянуть во внутренность отеля, но все попытки остались бесплодными. Принужденные к постоянному и, так сказать, к вооружённому наблюдению, соседи ocнoвали центр действий своих в кафе «Лебёф».
Во главе любопытных стояли братья Годе, служившие некогда в конторе публичной лотереи. Жизнь их, до сих пор бесцветная, нашла себе цель со времени приезда полковника. Область их интересов составляли поиски таинственного и непонятного, они ежедневно составляли реестры непонятного и употребляли новые отчаянные усилия, чтобы разгадать эту живую, сводившую их с ума загадку.
Вдова Лебёф, хозяйка кафе, стала главною помощницей обоих братьев. Сидя за конторкой, она не спускала глаз с дверей отеля.
Если кому-нибудь кажется удивительным это постоянное и бесплодное любопытство, то пусть припомнят, что оно было подстрекаемо самолюбием наблюдателей. Они надеялись сделать какое-нибудь важное открытие.
Мы сказали уже, что всё это происходило в конце декабря.
На часах кафе пробило полдень. Вдова Лебёф, прильнув лицом к окну, внимательно рассматривала снег, падавший большими хлопьями, и дверь отеля д’Орбессон.
Она удивлялась, что братья Годе, постоянные её посетители, имевшие обыкновение ежедневно у неё завтракать, до сих пор ещё не появлялись.
Наконец они прошли мимо окон, вошли в комнату и скинули свои плащи, покрытые снегом.
— Боже мой! — сказала вдова старшему Годе, видя, что голова его перевязана: — что с вами случилось?
Старший Годе был толстый, плешивый человек с цветущим лицом, выдавшимся брюхом, с физиономией важной и догматической. Он пpиподнял с левого глаза черную шелковую повязку и отвечал голосом, сделавшим бы честь любому соборному певчему:
— Это дело рук проклятого Фрейшюца! (Посетители кафе «Лебёф» окрестили этим именем обитателя отеля д’Орбессон.). — Это дело рук проклятого Фрейшюца! — повторил Годе-младший, постоянное эхо старшего брата.
— Боже великий! расскажите же скорее, как это случилось? — вскричала вдова Лебёф, дрожа от нетерпения.
— Очень просто, — отвечал старший Годе. — Надо же было покончить с этим разбойником, бродягой, засевшим, подобно дикому зверю, в своей трущобе (если я называю его диким зверем, то не для того, чтобы затронуть его честь или нравственность, но вследствие очень простого вопроса: если он никому не делает или не делал зла, зачем же скрывается он, подобно дикому зверю?)
После этой торжественной оговорки, старший Годе снова приподнял повязку с левого глаза.
— В самом деле, зачем бы ему скрываться? — повторили внимательные посетители.
— Вот каковы наши министры, — продолжал иронически старший Годе. — Когда дело идет о заговорщиках, они разыщут и поймают их; когда же дело коснется до спокойствия мирных граждан, то на попятный двор!
— На попятный двор! — повторил младший Годе.
— Принуждённому довольствоваться одними собственными силами, — продолжал старший Годе, — что оставалось делать мне в столь затруднительных обстоятельствах? Вот что! Я сказал себе: Годе, ты честный человек, на тебе лежит обязанность, великая обязанность!… Поступай, как велит тебе долг, и пусть будет, что будет… По соседству с тобой живёт искатель приключений, бродяга, который пред лицом всех соседей и целого квартала, осмеливается столь долгое время сидеть взаперти, а правительство и не думает о прекращении такого ужасного беспорядка!..
— Конечно, это беспорядок, — сказала вдова Лебёф; — возможно ли не бранить соседей, которые никуда не показываются?
— Это ужасный беспорядок, — продолжал старший Годе; — я это докажу: не ясно ли, что бродяга скрывается лишь для того, чтобы избегнуть справедливой оценки своих сограждан? Следовательно, он подозрительного поведения. Человек предполагает, но Бог располагает…
Вдова Лебёф, не понявшая всего глубокомыслия последних слов и желая скорее добраться до сути дела, вскричала:
— Справедливо, совершенно справедливо, но от чего у вас эта повязка?
— Вот, изволите ли видеть, — продолжал старший Годе: — я позвал вчера брата, моего достойного брата, и сказал ему: Богдан! надо уничтожить это нестерпимое злоупотребление; надо, не смотря ни на какие опасности, жертвуя даже жизнью, узнать, кто этот бродяга! Нe скрою от тебя, Богдан, сказал я, что тут речь идёт о моём здоровье. С тех пор, как этот бродяга здесь поселился, с тех пор, как я тщетно стараюсь узнать, кто он и что он делает, я не живу, я потерял покой; меня преследуют ужасные, мучительные сны. Мысли мои до такой степени заняты таинственным незнакомцем, что все телесные отправления мои расстроились. И потому я сказал себе: Годе, неужели будешь ты собственным палачом и зароешь себя живого в могилу для удовольствия этого бродяги? Действуй, Годе, открой эту тайну, и ты возвратишь покой свой, похищенный этим злодеем. Сказано, сделано. Вчера вечером, я беру лестницу соседа, мы с Богданом отправляемся в тот переулок, куда выходит садовая калитка Фрейшюца, и приставляем к стене лестницу; было ещё довольно светло, так что можно было видеть всё и в саду, и в доме…
— И что же? — вскричала вдова Лебёф.
— Представьте себе, сударыня, что в ту самую минуту, когда я подымаю голову, раздаётся ружейный выстрел…
— Ружейный выстрел?…
— Да, настоящий ружейный выстрел; шляпа моя упала, и я почувствовал, как будто меня укололи тысячью булавками в лоб и в глаз; в то же время раздался голос, который я узнаю среди тысячи других, и который принадлежал, вероятно, янычару того бродяги: «В другой раз ружьё будет заряжено не бекасинником, а крупною дробью, и я буду целиться не в шляпу, а прямо в голову…» Вот, любезная мадам Лебёф, до чего довело нас правительство.
— Да это убийство! — вскричали слушатели.
— О чудовище! — сказала мадам Лебёф. — Надо идти к комиссару, надо достать свидетелей!
— Я думал то же самое, любезная мадам Лебёф, в то время, когда быстро спускался с лестницы; да, я говорил себе: «Годе… ступай к начальству и подай жалобу.» Но вы сейчас узнаете, каково у нас начальство. Четверть часа спустя, т. е. в то самое время, когда у комиссара зажигают фонарь, эту смешную эмблему его прозорливости, я явился к нему. Я принёс с собой улики: простреленную шляпу и синий лоб…
— Ну что ж далее?
— Представьте себе, что комиссар осмелился мне сказать, что мне досталось поделом, и если б я более двадцати лет нe пользовался уважением всего квартала, так он преследовал бы меня, как ночного нарушителя общественного спокойствия!
— О ужас! — вскричала мадам Лебёф.
— Итак, — продолжал старший Годе с горькой иронией и Цицероновским красноречием, итак нет справедливости; всякий бродяга имеет право возбуждать всеобщее любопытство, и если честному гражданину вздумается избавить себя от мучительного, беспокойного состояния, то он будет расстрелян, расстрелян безнаказанно! Слушайте, — сказал старший Годе пророческим голосом, вытянувшись во весь рост: — один великий человек, — не помню кто именно, но всё равно, — один великий человек сказал: «Дом всякого гражданина должен быть прозрачным». Я с этим совершенно согласен; пусть берут пример с меня: дом мой настоящий стакан; пусть всякий погружает в него свои взоры, он всегда увидит меня заботящимся о спокойствии моих соседей… он… — г-н Годе не мог окончить своей филиппики, ибо необычайное происшествие остановило поток его красноречия. Прекрасная карета, с большими гербами, запряжённая парою красивых коней, остановилась у порога отеля д’Орбессон.
Карета подъехала шагом; открытые окна показывали, что она пуста. Лакей в богатой ливрее, сидевший на козлах, рядом с кучером в амарантовой шубе, слез с козел и стукнул в ворота. И вот, в первый раз в продолжении трех месяцев, отворились ворота отеля и тотчас же снова захлопнулись. Посетители каФе «Лебёф» переглянулись, разинув рот. Они предались бы, вероятно, чудовищным догадкам, но ворота снова растворились, так что посетители не успели даже образумиться.
Карета быстро выехала; и в ней сидел молодой человек с очень смуглым лицом. На нем был мундир венгерских гусар, покрытый золотым шитьём. На шее и на груди блистали кресты и иностранная звезда.
— Э-ге! да Фрейшюц-то, по-моему, знатный иностранец, — сказал старший Годе.
— У пего довольно приятное, но дерзкое лицо, — сказала вдова Лебёф.
— Заметили ли вы его ордена? — спросил младший Годе.
— Вот тебе и раз, — прибавил старший Годе: а я-то думал, что он обанкротившийся купец.
— Знаете ли что? — вскричала мадам Лебёф. — Может быть, это актер. В Олимпийском цирке я видала много таких мундиров.
— Но карета не может же принадлежать театру, — заметил старший Годе: — да и к тому же днём не бывает представлений.
— Но так как Фреийшюц уехал, — перебила мадам Лебёф, — то слуга его, может быть, впустит вас теперь?
— Вы правы, любезная мадам Лебёф, вы правы; но под каким предлогом отправлюсь я туда?
— Извинитесь в вашем вчерашнем поступке, — сказал робко младший Годе.
— Как, извиниться в том, что лакей чуть не сделал меня кривым? Ты с ума сошёл, Богдан! И буду, напротив, упрекать его во вчерашней неучтивости, и таким образом завяжу разговор. Вот увидите.
С этими словами Годе вышел и постучал в ворота.
Мрачная фигура бородатого слуги показалась в окне.
— Что вам надо? — просил он.
— Я вчера получил…
— Вы ещё и не то получите, если вернётесь, — отвечал слуга и захлопнул окно.
Растерявшийся Годе возвратился к своим союзникам; самые странные догадки и предположения на счёт особы полковника Ульрика возобновились, но скоро были прерваны новым появлением кареты, остановившейся перед отелем.
Полковник возвратился; карета, привезшая его, удалилась шагом. Годе последовал за ней; он пробовал заговаривать с кучером и лакеем, но не мог добиться от них ни слова. Годе и его сообщники заключили, что лакей и кучер немы, и это ещё более увеличило ужас, наводимый на них полковником.
Принадлежит ли ему эта карета? Никто не мог решить этого важного вопроса.
На другой, на третий и в последующие за тем дни, посетители тщетно ожидали кареты; она не появлялась более.
Уединённая жизнь Фрейшюца, казалось, нисколько не изменилась. Любопытство братьев Годе возросло до невероятной степени, с тех пор, как они узнали, что полковник молод, хорош собой и, но всем вероятностям, высоко стоит в свете.
Перестали расточать ему различные эпитеты, и сохранили один эпитет Фрейшюца, который, казалось, более других согласовался с его таинственною жизнью. Новая мысль стала мучить братьев Годе; они знали, что полковник не выходит в ворота на улицу; им захотелось узнать, не выходит ли он через калитку в переулок. По концам улицы, проходившей мимо садовой калитки, поставили двух мальчишек, заставив их играть, а между тем наблюдать за выходящими из калитки. Прошло таким образом три дня; мальчики никого не видали.
Братья Годе, увлекаемые любопытством, решились тоже высидеть два дня в засаде, чтобы поверить донесение мальчиков; их предприятие осталось также тщетным. Сильный мороз произвёл гололедицу, и потому невозможно было заметить ничьих следов.
Посетители кафе «Лебёф» торжественно заключили, что если Фрейшюц не выходит днём, то, вероятно, выходит ночью. Чтоб удостовериться в этом предположении, старший Годе изобрёл весьма остроумную стратагему.
В одну тёмную ночь, братья Годе засыпали переулок густым слоем сажи и возвратились домой, довольные своим изобретением. Нельзя представить себе, с каким беспокойством и страхом пришли они на другой день в переулок… Нет сомнения… Фрейшюц выходит по ночам! Отпечаток следов его на саже изменил ему. Достигши цели, братья Годе повторили нисколько дней сряду свою стратагему, чтоб узнать, как часто выходил полковник. Таким образом они узнали, что полковник выходил каждую ночь, несмотря ни на какую погоду. Куда же ходил он? Самый нелюбопытный человек постарался бы разузнать это.
Посетители кафе «Лебёф» собрали чрезвычайный совет, на котором было положено, что храбрые братья Годе, в первую тёмную ночь, засядут по концам переулка. Таким образом один из них мог наверное подстеречь и преследовать Фрейшюца, соблюдая, конечно, величайшие меры предосторожности, потому что полковник, как всем казалось, не любил посвящать посторонних людей в таинства своей жизни.
II. Письмо
На следующее утро после экспедиции братьев Годе, мадам Лебёф встала ранее обыкновенного, и в чрезвычайном волнении и беспокойстве ходила между своей каморкой и дверью.
У далось ли братьям Годе предприятие? Не подвергались ли они опасностям?
Общее любопытство увеличивалось по мере того, как собирались обычные посетители кафе.
Один из любопытных, продумавший целую ночь о полковнике, решил наконец, что он не кто иной, как политический шпион.
Эта блестящая мысль была совершенно опровергнута одним из слушателей, заметившим, что полковнику неудобно заниматься этим ремеслом, ибо он выходит только по ночам.
Но сделавший это предположение настойчиво защищал его, уверяя, что полковник выходит по ночам для избежания подозрений, и что потому шпионство его ещё oпacнее.
Не смотря на занимательность спора, никто не забыл о братьях Годе, и все удивлялись их долгому отсутствию; било полдень, а ни тот, ни другой не появлялся.
Мадам Лебёф со страхом вспомнила о ружейном выстреле, и думая, что экспедиция кончилась каким-нибудь трагическим происшествием, собралась уже послать слугу к братьям Годе; в это время они явились сами.
Bсe встретили их общим криком любопытства.
— Ну что же?.. Что же?..
— Вот так новости! — отвечал с мрачным видом старший Годе.
Тут только заметили, что оба брата были похожи на мертвецов. Чему было приписать их бледность — усталости, или опасностям, претерпенным ими в прошедшую ночь? Рассказ Годе объяснит нам это.
Все собрались в кружок, и он начал:
— Господа! не видя необходимости упоминать о том, как бесстрашно подвергал я жизнь свою опасностям, ради общей пользы, я…
— Так не упоминайте, — заметил один из слушателей.
— Перестаньте, перестаньте, — закричали прочие: — вы всё говорите глупости, г-н Дюмон; продолжайте, г-н Годе, мы слушаем.
— Итак, — продолжал Годе, — вчера вечером засели мы с Богданом по концам улицы, твердо решившись разоблачить вышеупомянутую страшную тайну. Пять часов сидели мы, Фрейшюц не показывался. Это не удивляло меня, — важно прибавил Годе. — Я сказал себе: Годе! если что-нибудь случится, то случится в полночь: полночь есть часть преступлений, часть предприятий… которые… но зачем я забегаю вперёд? Будем соблюдать постепенность. Итак, било полночь, вместе с последним ударом часов скрипнула калитка.
— А! наконец!
— Как, я думаю, билось у вас сердце! — заметила мадам Лебёф: — я упала бы обморок.
— Так как природа одарила меня храбростью, врожденною каждому французу, то я затянул сюртук и приготовился следовать за Фрейшюцом; я почувствовал, однако же, что холодный пот выступил у меня на лбу, но это, вероятно, от холода. Фрейшюц, — или нет, он недостоин даже этого имени, — ему прилично другое, более ужасное название… Я слышал, что он идёт в мою сторону; шаг его был неровен, исполнен, так сказать, угрызений совести. Я удерживаю дыхание и плотно прижимаюсь к стене; ночь была так темна, что он меня не заметил. Он проходит, и я следую за ним, как собака, боящаяся потерять горячий след. Богдан соединяется в это время со мной, и мы ни на шаг не отстаём от… Но будем соблюдать постепенность. Вот мы идём, идём, идём… заворачиваем за угол и приходим… куда бы вы думали? Бьюсь сто против одного, что не угадаете!..
— Конечно не угадаем, — отвечали слушатели.
— Сжальтесь над нами, г-н Годе, — сказала мадам Лебёф.
Насладившись несколько времени общим нетерпением, Годе продолжал гробовым голосом: — Мы приходим… о! господа!..
— Да говорите же.
— Мы приходим на кладбище отца Лашеза.
— На кладбище отца Лашеза! — повторило с ужасом и отвращением всё собрание.
Мадам Лебёф была так поражена, что была вынуждена выпить рюмку рома, чтобы придти в себя.
— Зачем же это он ходит на кладбище? — спросила вдова, проглотив ром.
— Вы это узнаете, господа; к несчастно, вы это узнаете. Итак мы подходим к кладбищу, ворота в юдоль спокойствия и смерти были заперты. Вооруженный, вероятно, подложным ключом, он отпирает ворота, входит, и снова запирает их за собою.
— Что же вы тогда сделали? — спросила мадам Лебёф.
— Мы имели терпение ждать до четырех часов утра, этого ужасного святотатца. Нет сомнения, что в продолжение всего этого времени он подражал знаменитой мелодраме Вампиру.
— Вампиру! — воскликнула мадам Лебёф. — Разве есть вампиры? Как, сосед наш — вампир?… О ужас!..
— Благодарение Богу, я не суеверен и не веpю в вампиров из мелодрам; но мне кажется, что человек, посещающий тайком и при том ночью кладбища, не может делать этого с человеческою целью; и вследствие этого, я предлагаю переименовать Фрейшюца в Вампиры! Считаю необходимым заметить, что человек, не уважающий чужих могил, рано или поздно умрёт сам. Ибо, — прибавил г-н Годе, — Провидение всегда постигает преступника.
— Это ясно, — заметил неумолимый критик г-на Годе: — рано или поздно все мы умрём.
Годе бросил на него грозный взгляд и заключил следующими словами:
— Когда человек, которого я без страха осмеливаюсь называть вампиром, покинул кладбище, мы последовали за ним, во-первых, потому, что это было по дороге, а вo-втopыx, потому, что, в случае неприятной встречи, лучше быть втроем, нежели вдвоём. Наконец вампир достиг своего логовища, из которого выйдет, вероятно, опять сегодня ночью.
Рассказ г-на Годе не вполне удовлетворил слушателей.
Ночное посещение кладбища и прогулка в блестящем экипаже послужили новым поводом к догадкам, и возбудили ещё более всеобщее любопытство.
Кроме вдовы, никто положительно не верил в вампиров; но тем не менее странное поведение полковника возбуждало разные странные объяснения.
Среди самого разгара споров, вошел фактор и вручил письмо мадам Лебёф, которая, приняв во внимание большой холод, соблаговолила поднести ему рюмку водки. Это доброе дело было немедленно вознаграждено.
Фактор, вытащив из сумки довольно большой конверт, запечатанный чёрной печатью, сказал вдове:
— Ваш сосед, полковник Ульрик, не слишком, кажется, занимается перепискою, потому что вот первое письмо, которое приходится мне принести ему.
— Господа! господа! письмо к вампиру! — вскричала вдова, махая с торжествующим видом конвертом.
Посетители сбежались и окружили конторку.
— Осторожней, ради Бога, осторожней, — сказал фактор, протягивая руку.
— Не беспокойтесь, письмо будет цело, мы только взглянем на адрес.
Мы только взглянем, — прибавил старший Годе, выхватывая письмо и дрожащими от волнения руками, он бережно положил его на конторку.
— Выкушай-ка ещё рюмочку водки, — сказала фактору вдова: — что за беда, если ты отдашь письмо несколькими минутами позже.
Фактор, не покидая письма глазами, выпил вторую рюмку.
— Посмотрим, что тут надписано? — продолжала вдова. Она прочла: — Полковник Ульрик, №38, по улице Сен-Луи в Париже.
— А штемпель? — спросил один из любопытных.
— По городской почте послано в 12 часов, за доставку следует истребовать франк, — отвечал фактор. Ну, теперь пожалуйте письмо, надеюсь, что вы ycпели наглядеться.
— Сейчас, мой друг, мы возвратим его, а вот выпей-ка ещё рюмочку, твой нос покраснел от холода. Сегодня ужасно холодно.
— Благодарю вас, — отвечал фактор, — но пожалуйте мне письмо моё.
Годе и сообщники его разглядывали конверт, почти с злобным любопытством; их занимала и тонкая атласно-синеватая бумага и почерк надписи, красивый и разборчивый.
Наконец вдова приложила к конверту курносый нос свой и вскричала:
— Оно пахнет мускусом!.. Фи! какой дурной запах!
Все носы, один за другим, приложились к конверту.
— Это мускус! мускус! — раздалось со всех сторон.
— Это женское письмо, — вскричал вдохновенным голосом старший Годе, — и притом от такой женщины, которая употребляет духи.
— Пфуй! — сказала с глубоко-презрительным видом вдова Лебёф.
Общее любопытство шло crеscendo; вдова Лебёф, не владея более собою, схватила конверт и, растягивая его в разные стороны, старалась разглядеть, что в нём заключается.
Фактор бросился спасать письмо, говоря, что ему грозит тюрьма и лишение места за такое нарушение почтовых правил.
Вдова Лебёф, подстрекаемая демоном любопытства, которое достигло высочайшей степени, не отдавала письма, и оно скоро бы, вероятно, было растерзано, если бы новое происшествие не отвлекло общего внимания.
— Господа! господа! — вскричал один из посетителей: — К Вампиру пришла женщина!
Эти слова подействовали магически.
Вдова отступилась от измятого уже письма и прильнула толстым лицом своим к окну. Фактор поспешно вышел, радуясь, что счастливо избавился от столь яростного нападения.
— Господа! не показывайтесь, — сказал старший Годо: — не надо пугать этой женщины; последуем примеру мадам Лебёф, и чтобы никто не произносил ни слова.
Любопытные были вполне вознаграждены за трёхмесячное терпение; любопытство начинало удовлетворяться.
Фактор постучал и отдал письмо отворившему слуге, который внимательно осмотрел его и казался раздражённым. Едва удалился фактор, как женщина, упомянутая уже, подошла к воротам отеля и, не найдя молотка, отправилась к дверям левого павильона. Позвонив, она стала ходить взад и вперёд, вероятно для того, чтобы её не заметили. Вышел слуга; пожилая женщина сказала ему несколько слов, отдала ему небольшой, украшенный золотом, черепаховый ящичек, и скрылась, сделав знак кому-то, не видному для посетителей кафе. Слуга поглядел с удивлением на ящик и снова затворил дверь.
Годе, вдова Лебёф и прочие союзники едва переводили дыхание; они с нетерпением ожидали появления незримой для них особы. Наконец она показалась.
То была молодая женщина, лет двадцати пяти, одетая очень просто: на ней была небольшая черная бархатная шляпка, капот из темного гроденапля и большая чёрная кашемировая шаль, ниспадавшая почти до нижней оборки её платья; руки её были скрыты в меховой муфте, из которой виднелся кружевной кончик носового платка. Наконец прекрасные маленькие ножки её, казалось, дрожали от холода в черных атласных ботинках.
Но что более всего поражало в этой прекрасной женщине, это контраст её белокуро-пепельного цвета кудрей с её чёрными глазами, ресницами и бровями.
Длинные, густые локоны её волос полузакрывали её щеки; несмотря на холод, она была бледна, и черты лица её носили отпечаток страха.
Дна раза поднимала она к небу свои влажные от слез глаза, и когда соединилась она с ожидавшей её женщиной, то полная скорби улыбка её открыла ряд эмалевых зубов.
Проходя мимо кафе «Лебёф», они удвоили шаги. Старший Годе не выдержал и выглянул в дверь; он увидел, как обе женщины садились в голубую наёмную карету с красными шторами, которая ждала их на конце улицы Сен-Луи.
— Вот так новость! — сказал, скрестив руки и покачивал головой, старший Годе.
Завязался спор о происшествиях сего дня.
— Письмо пахнет мускусом, — говорил один.
— Пожилая женщина, принесшая с озабоченным видом какой-то ящичек, — воскликнул другой.
— А молодая-то, — прибавила мадам Лебёф, — о чём она плакала, когда проходила мимо дверей Вампира?
— Хорошенькая, чёрт возьми, женщина, — заметил старший Годе.
— Чем же хорошенькая? Такая худенькая! — прибавила, пожимая плечами, мадам Лебёф.
— Бьюсь об заклад, — сказал через несколько времени старший Годе, — что это та самая, которая пишет письма, пропитанные духами.
Мадам Лебёф старалась опровергнуть мнение Годе, уверяя, что та должна быть англичанка, а эта нисколько не похожа на англичанок, виденных ею на сцене. Спор продолжался бы, вероятно, очень долго, если бы его не прервал приход двух молодых людей.
Все осмотрели новопришедших с удвоенным любопытством, ибо они, казалось, были здесь столько же не на своём месте, сколько и та молодая и прекрасная женщина, о которой мы сейчас говорили.
III. Розыски
Незнакомцы были молоды, — одеты с изяществом. Хотя было холодно, но ни тот, ни другой не были обезображены огромными мешками, одеждою английских матросов, которую французские пopтные окрестили именем пальто.
Младший из них был в теплом беловатого сукна сюртуке, белокур, строен и ловок. Узел его черного атласного галстука был зашпилен небольшой бирюзовой булавкой; светло-голубые панталоны ловко обхватывали его ноги и блестящие, лакированные сапоги.
Другой из новоприбывших был брюнет, имел тоже наружность светского человека; на нем был бронзового цвета сюртук, подбитый того же цвета бархатом, светло-серые панталоны и чёрный казимировые ботинки; галстук кирпичного цвета с широкими белыми полосами прекрасно оттенял смуглое его лицо.
Мы упоминаем об этих мелочах, чтобы дать понятие о жадном, так сказать, любопытстве, с которым осматривали пришельцев обычные посетители кафе «Лебёф».
Младший из незнакомцев был, как казалось, в большом беспокойстве.
Войдя, он снял шляпу, сел за стол и закрыл лицо руками, прекрасно облачёнными в шведские перчатки.
— Полно же, Гастон, — сказал старший, которого мы назовем Альфредом: — перестань беспокоиться: ты, может быть, ошибся… то была не она.
— Как не она? — возразил Гастон, поднимая голову и горько улыбаясь. — Мог ли я ошибиться, когда я узнаю её среди тысячи масок на маскараде, по одной походке? Я видел, как она вышла из своей кареты и cелa в этот проклятый голубой фиакр с красными шторами; с ней была её Блондо, державшая в руках черепаховый ящичек.
При этих словах, произнесённых довольно громко, посетители кафе не могли удержаться от радостного движения.
— Слышите ли? — сказал сообщникам своим тихим голосом старший Годе: — Они говорят о черепаховом ящике? Право! Это становится всё более и более интересным. Послушаем; дайте мне журнал, я подсяду к этим молодчикам, которые, по всей вероятности, принадлежат к высшему обществу.
С этими словами он приблизился к столику, за которым сидели молодые люди.
Заметив, что за ними наблюдают, они заговорили по-английски, к величайшему неудовольствию всех любопытных.
— Но что же это за ящичек? — спросил Альфред. — Ящичек, который она мне подарила, и который мой глупый камердинер отдал мадам Блондо, думая, что она прислана мною. Возвратившись сегодня утром домой, я узнаю всю эту проделку; удивлённый, я спешу к ней, но не застаю её дома!… Я встречаю вас в Пале-Ройяле; в это же мгновение я вижу её, так же хорошо, как вижу теперь вас, садящуюся, вместе с Блондо, в голубой фиакр с красными шторами. Мы нанимаем кабриолет и, — продолжал Альфред, — пускаемся в погоню, но при конце Тампльского бульвара мы теряем голубой фиакр из виду, и, после долгих и тщетных поисков, заходим наконец в это грязное кафе.
— Но, помилуйте, мой друг, что делать ей в этой части города? Вы сами сказали, что у них нет здесь знакомых…
— Нет, я уверен, что я не ошибся…
— Пожалуй, — продолжал Альфред, — положим, что это и она; но объясните же мне в таком случае ваше негодование. Не вчера ли ещё говорили вы мне, что вы хотите разорвать эту связь, ибо свадьба ваша…
— Ну, да, конечно, я хотел разорвать эту связь, и вот уже два месяца, как втайне хлопочу об этом; но у меня была тысяча причин щадить ее, и мне чрезвычайно неприятно, что я предупреждён.
— Но каким же образом камердинер ваш отдал этот ящичек?
— Проклятая Блондо спросила его от моего имени, говоря, что я сижу у её госпожи, а он, не подозревая ничего, и отдал ей ящичек.
— Следовательно, она знала, что письма в ящичке?
— Как ей не знать этого, когда она именно для этого мне его подарила
— Но зачем же отвезла она этот ящичек, Бог знает куда, а не оставила его у себя? Надеюсь, что она это сделала не потому, что боится ревности своего мужа, — прибавил Альфред, невольно улыбнувшись.
— Я не могу вам объяснить этого, — отвечал, краснея, Гастон; — но она имеет причины думать, что в других руках этот ящичек будет безопаснее.
Альфред с удивлением взглянул на Гастона.
— Это другое дело, — прибавил он, — я вам верю; но что же дурного в этом? Мне кажется…
— Но любезный друг! Там, кроме писем были ещё заметки мои и ещё одной женщины об этой связи. Да, если она только захочет, — а это очень вероятно — ибо я причинил ей много неудовольствий, то она может отплатить мне. Не смотря на всю мою хитрость, я поступил как школьник, как глупец, и теперь нахожусь совершенно в её власти.
— Полно, любезный Гастон, успокойтесь. Конечно, вы виноваты, но главное-то дело в том, может ли вина ваша навредить вам? Говорят, что она горда и великодушна; вы сами некогда превозносили качества её сердца и уверяли, что она неспособна ни на один чёрный или бесчестный поступок.
— Но вы сами должны знать, — перебил Гастон, — что самые благородные и терпеливые люди, выведенные из себя, жестоко мстят… Я не раз уже возбуждал её ревность, и до сих пор не имею ещё права жаловаться; но это один из тех характеров, которые молча глотают слезы и всегда встречают вас с ясным челом. Это, конечно, оскорбительно для самолюбия, но зато кроме этого, я ни в чем не могу упрекнуть ее. Если б вы не предложили мне жениться, и если б свадьба эта не была для меня так выгодною, то я никогда не разорвал бы этой связи; что ждёт меня впереди, неизвестно ещё, а настоящее моё доставило мне уже много наслаждений.
— Это суждение прекрасно, любезный Гастон, но оно основано на чистейшем эгоизме. Что же касается до заметок, как вы их называете, то если она и простит, вам всё-таки нечего опасаться, ибо женщина в её положении, знающая себе цену, видя, что ею пожертвовали другой, не решится погубить себя бесполезным мщением.
— Э! — воскликнул он через некоторое время, как бы пораженный блистательною мыслью: — может быть, она ездила для того, чтобы бросить в реку этот беспокоящий вас ящик?
— Вы с ума сошли, Альфред! Не короче ли было ей сжечь его у себя дома?… Нет, она сохранила бумаги и, вероятно, со злым намерением.
— Со злым намерением? — спросил Альфред; — но что же может сделать она? Кроме того, что вы ею пожертвовали, эти письма ничего не доказывают; а кто же решится взять сторону принесённой в жертву женщины? Осыпьте женщину самыми ужасными обидами, оскорбите её всенародно, никто не пожалеет о ней; всякий скажет, что она этого заслуживает, а мужчины будут даже завидовать вам.
— Но я говорю вам, что вы её не знаете, — прервал его Гастон.
Видя бледность и волнение своего друга, Альфред сказал ему, в этот раз, по-французски:
— Успокойтесь, Гастон; мы вошли в это самое кафе, чтобы отдохнуть и выпить стакан воды…
— Вы правы, — отвечал Гастон, оглядываясь: — но здесь всё так нечисто, что навряд ли мы достанем тут стакан сносной воды.
Эти неприличные слова увеличили негодование мадам Лебёф и её посетителей, взбешённых тем, что не могли участвовать в разговоре молодых людей.
— Стакан воды с сахаром! — сказал Гастон вдове.
Не отвечая ни слова, она величественно позвонила колокольчиком и закричала резким голосом:
— Боатар! Боатар! Стакан воды с сахаром!
— Как здесь воняет чадом! — сказал Гастон, проводя рукою по лбу; — у меня вся голова в огне. Что же начёт воды? — прибавил он с нетерпением.
— Но ведь вы видели, что я звонила, — отвечала сухо мадам Лебёф, снова взявшись за колокольчик.
— Да, она звонила, — хладнокровно прибавил Альфред; — потерпите немного, но закурите из предосторожности сигару.
Альфред вынул из кармана небольшой соломенный сигарреро, зажёг спичку и закурил сигару.
В это время появился Боатар, толстый малый, с голыми руками.
Он нёс на жестяном плохом подносе, графин, стакан в два пальца толщины и пять кусков сахара, лежавших на разбитом блюдечке.
Гастон продолжал предаваться размышлениям; Альфред же, заложив руки в карманы, с недоверчивостью и отвращением поглядывал на стакан, и вдруг вскричал:
— Но, любезный Боатар! В графине паук! Мы торопимся, и желали бы выпить стакан воды без примеси пауков.
Боатар запустил в волосы свою красную лапу, почесал голову, внимательно посмотрел на графин и уверился в действительном существовании паука.
Он нисколько не растерялся, но пожав плечами, сделал полуоборот в сторону вдовы и её посетителей, как бы желая сказать: посмотрите, какой неженка.
Вдова и посетители тоже отвечали пантомимой, которую можно было бы объяснить так: Что и говорить! это просто, жалость.
Боатар снова пожал плечами, взял в одну руку графин и, погрузив в него два пальца, начал невиданную доселе ловлю.
Ловля увенчалась совершенным успехом. После нескольких неудачных попыток, Боатар вытащил двумя пальцами наука, раздавил его ногою и, поставив графин на стол, с упрёком сказал Альфреду:
— Ну вот вам вода! Надеюсь, вы не скажете теперь, что в ней паук!
Альфред с удивлением посмотрел на Боатара; последние слова его показались ему невыразимо-красноречивыми. Он дал ему пять франков и сказал:
— Всякое новое изобретение имеет свою цену, а ты, любезный Боатар, в специальности своей, великолепно нечистоплотен.
Боатар поглядывал на Альфреда, вдову, посетителей и деньги с глупым удивлением.
Все ещё погруженный в думу, Гастон сказал сам себе:
— Что делать?.. что делать?.. где отыскать мне теперь ящичек?.. — И он машинально взялся за стакан.
— Не трогайте, не трогайте! — вскричал Альфред и рассказал другу своему о ловле паука.
Гастон оттолкнул поднос и с досадою сказал:
— Голова моя горит и в горле пересохло, а здесь даже стакана чистой воды не добьешься…
Пойдем, Альфред… поищем более сносное кафе.
Эти слова вывели вдову из терпения.
— Милостивый государь! — сказала она раздражённым голосом Альфреду: Вы неучтивы. Во-первых, здесь не курят, ибо здесь не кабак, во-вторых, если вам не нравится вода, то не поселяйте по крайней мере отвращения к ней в других.
— Поверьте мне, — отвечал Альфред с неподражаемым хладнокровием, — что если друг мой не пьет воды, так это не вследствие моих увещеваний; нет, он и по своей воле никогда не питается науками.
— Пойдем, она с ума сошла, — сказал Гастон, бросив на конторку луидор.
— У меня платят только за то, что кушают, — сказала вдова, гордо оттолкнув монету.
— Я уже заплатил за паука, — прибавил Альфред.
Гастон взял свой луидор, и они вышли.
Едва они yспели скрыться за дверью, как Годе, позабыв даже свою шляпу, бросился за ними.
— Возьмите свою шляпу! — сказала вдова, угадав намерения своего посетителя и сообщника.
— Не нужно: — отвечал Годе: — я в одну минуту ворочу этих гордецов.
Двумя прыжками догнал он молодых людей и тихо дотронулся до руки Альфреда, который вселял в него более доверия.
— Что вам угодно? — спросил Альфред, удивлённый комическою фигурою Годе.
— Я хочу оказать вам величайшую услугу; я предлагаю вам соединиться против общего врага. А общий враг наш — Фрейшюц, т. е. Вампир.
Альфред и Гастон, не понимая ни слова, с удивлением взглянули на Годе.
— Пойдём, — сказал наконец Гастон Альфреду: — они все с ума сошли.
Годе, боясь упустить свою жертву, не обратил внимания на слова Гастона, и с таинственным видом сказал:
— Я знаю всё: вы ищете молодую даму, разъезжающую в голубом фиакре с красными шторами, в сопровождении пожилой женщины. Чёрная шляпка, тёмного цвета салоп, седые волосы, вот признаки пожилой женщины; белокурые волосы, чёрные глаза и ресницы, вот признаки молодой.
— Это они! — вскричал Гастон, но снова приняв хладнокровный вид, он сказал торжествующему Годе: — Мне в самом деле было бы очень интересно знать, в какую сторону oни поехали.
— А также и то, куда они девали маленький, чёрный черепаховый ящичек, — не правда ли?
— Как вы и это знаете? — спросил удивленный Гастон.
— Я знаю только то, — отвечал Годе, — что за полчаса перед этим, пожилая женщина отдала этот ящичек слуге Вампира.
Эта новость была так странна и неожиданна, что молодые люди не знали, что подумать.
Тысяча противоположных чувств теснились в душе Гастона.
— Кто же этот Вампир? — вскричал он, побледнев.
Годе, не желавший так скоро отпустить свои жертвы, сказал, показывая на свой голый череп:
— Я замечу вам, милостивые государи, что я уже не молод, и что мне не совсем пpиятно стоять без шапки на морозе. Если вам угодно возвратиться в «Кафе Лебёф», то мы поговорим обстоятельнее.
— Пожалуй, — отвечал Гастон, с досадой снова повернувши к кафе.
Ни один из римских триумфаторов не мог бы сравняться гордостью с Годе, торжественно входившим в «Кафе Лебёф» в сопровождении двух молодых людей.
Годе не тотчас объявил имя полковника; несчастные слушатели его принуждены были выслушать сперва всю длинную и нелепую историю, изобретенную посетителями кафе.
Без очевидных фактов Гастон не поверил бы отвратительному болтуну; он был однако ж принужден выслушать рассказ о выстреле, великолепной карете, богатом мундире и наконец о святотатствах на кладбище отца Лашеза.
— Но я прошу вас, — сказал Гастон, — скажите же мне, где живет полковник? Все эти подробности весьма любопытны, но ещё раз умоляю вас, скажите мне адрес полковника.
— Следуйте за мной, — сказал Годё, величественно вставая. Он отворил дверь и, показывая на дверь отеля д'Орбессон, сказал: Вот, милостивый государь, жилище Вампира: эта дверь ведёт в его логовище.
Гастон, не отвечая, бросился к двери.
Посетители кафе приняли прежнее наблюдательное положение.
Фигура старого слуги показалась в окне. Молодые люди расточали ему, казалось, убедительнейшие просьбы, грозили даже, но все было бесполезно, и Гастон принуждён был подать свою карточку, на которой что-то поспешно написал карандашом.
Видя это, Годе отворил дверь и явственно услышал голос Гастона, говоривший: «Завтра в девять часов. Надеюсь, что полковник будет непременно дома».
Молодые люди поспешно удалились.
IV. Свидание
На другой день, в девять часов утра, карета Гастона остановилась у подъезда отеля д’Орбессон.
Лакей позвонил, дверь отворилась и вышел старый слуга полковника.
Гастон и Альфред вышли из экипажа.
— Полковник Ульрик? — сказал Гастон.
Слуга поклонился, не отвечая ни слова, и пошёл вперёд. Ничто не может быть печальнее и безотраднее внутренности этого пространного жилища. Двор был размощён и несколько плит, обросших травою, лежали здесь и там. Двор этот несколько напоминал покинутое кладбище.
Окна были заперты; стеклянная дверь передней заскрипела на ржавых петлях и пробудила печальное эхо под звучным сводом лестницы.
Полковник жил внизу. Слуга ввёл молодых людей в огромную, едва меблированную комнату; её высокие, из мелких стёкол, ни чем не украшенные окна отворялись в сад, окружённый высокою стеною и весьма похожий на сад монастырский.
— Полковник сейчас выйдет, — сказал слуга, и удалился.
День был тёмный; ветер гудел в полузатворённые двери. Всё в этом доме обличало глубокую беспечность и нерадение о материальном благосостоянии.
Альфред и Гастон молча смотрели друг на друга.
— Мне кажется, — сказал Альфред, дрожа от холода, — что на меня навалилась льдина, с тех пор, как мы вошли сюда. Этот полковник настоящий спартанец.
— Но кто он такой?
— Она одна могла бы объяснить вам, но она, кажется, уехала.
— Сегодня ночью, — отвечал Гастон.
— Ульрик? — сказал Альфред. — Ульрик? Это русское или немецкое имя. Вчера в клубе, надеясь разузнать от кого-нибудь из членов дипломатического корпуса, я говорил с тремя или четырьмя секретарями посольства, но никто из них не знает полковника Ульрика.
— Впрочем, что мне за дело, кто он, — сказал Гастон. — Он владеет моею тайной; она мною ему пожертвовала, и один из нас должен умереть.
— Не торопитесь, друг мой! Может быть, вчерашний болтун наврал нам. Конечно, весьма вероятно, что она сама привозила сюда ящичек, но заметьте, что нe она, а мадам Блондо передала его слуге. Впрочем, вы слишком хорошо знаете приличия света и слишком благоразумны… вы, верно, не поступите опрометчиво в настоящем случае.
— Но меня приводит в отчаяние двуличность этой женщины! Я считал её неспособною не только солгать, но даже притвориться. Никогда не произносила она при мне имени этого человека, а между тем вверяется ему. Во всём этом есть страшная тайна, которую я непременно разоблачу.
— Всё, что вчерашний болтун рассказал нам о жизни полковника, кажется мне довольно странным, — сказал Альфред: — беспорядок, окружающий нас, тоже не предвещает ничего хорошего. Если б не ваши заботы, то я бы очень рад был встретиться с этим Фрейшюцом или Вампиром, как его называют… Бррр, как холодно! Если хозяин наш чёрт, то он, хоть из приличия, должен бы уделить нам частицу своего родного элемента.
В это время растворилась дверь и вошёл полковник.
Он был высокого роста, одет весьма просто. Ему казалось не более тридцати шести лет, хотя черные волосы его начинали уже седеть.
Цвет его лица был очень смугл; глубокая морщина между бровей придавала лицу его выражение высокомерной строгости, хотя черты лица его могли бы выражать более кроткое чувство. Он держал в руке карточку Гастона и, взглянув на нее, произнёс твёрдым голосом без всякой примеси иностранного выговора:
— Граф Гастон де-Сенвнль?
— Это я, — произнёс Гастон, — а вот мой друг, маркиз де-Бодрикур, — прибавил он, указывая на Альфреда.
Полковник слегка поклонился. Он скрестил за спиною руки и прямо смотрел на Гастона, ожидая, чтобы он объяснил ему причину своего визита. Не смотря на всю свою привычку к свету, Гастон растерялся.
Бронзовые черты полковника не изменились; он, казалось, сам превратился в статую. Взгляд серых глаз его был светел, быстр, проницателен, даже невыносим.
Иногда очень трудно бывает прервать молчание. Альфред думал, вероятно, что Гастон заговорит; Гастон же ждал слов от полковника, и потому несколько минут все трое молчали.
Тогда только почувствовал Гастон, как трудно будет ему объяснить причину посещения, не обесславив в некотором отношении женщины, на которую он приехал жаловаться. Множество новых мыслей родилось в уме его.
Затруднительное положение, досада и гнев заставили покраснеть его. Желая кончить наконец эту неприятную сцену, Альфред обратился к полковнику:
— Вам, конечно, известна, милостивый государь, — сказал он, — причина, приведшая нас к вам.
— Нет, — сказал Ульрик.
— Речь идёт о ящичке, — сказал наконец Гастон, — который принадлежит мне и который был вчера вручен вам женщиною, вероятно, вам известною… которая, как вам, вероятно, тоже не безызвестно, была послана другою женщиною…
— Не знаю, что вы хотите сказать, — отвечал полковник.
— Милостивый государь! — сказал с живостью Гастон.
— Что вам угодно? — спокойно отвечал полковник.
Последовало новое молчание; Гастон от досады кусал губы.
Альфред продолжал с прежним хладнокровием:
— Графу де-Сенвиллю очень важно знать, был ли вручен вам вчера чёрный черепаховый ящичек, заключающий дорогие для него бумаги? Если вы дадите честное слово, что у вас нет этого ящичка, то граф Сенвилль почтет себя удовлетворённым.
— Я буду удовлетворен только тогда…
— Друг мой, — прервал Альфред, — позвольте мне одному объясниться с полковником.
— Объяснение будет очень коротко, — сказал полковник, сделав несколько шагов к двери, как бы желая показать, что новые вопросы будут бесполезны.
— Итак, — вскричал Гастон, — вы отказываетесь дать честное слово, что…
— Я отказываюсь отвечать на неприличные вопросы, — возразил полковник, и снова сделал нисколько шагов к двери.
Гастои и Альфред остались у окна.
— Милостивый государь, — вскричал Альфред, едва владея собою: — ваше движение к двери показывает, что разговор наш кажется вам слишком долгим?
Слишком долгим… может быть, но уж наверно достаточным, — прибавил полковник, отворяя дверь. — Я не желаю ни слушать, ни говорить.
— А я объявляю вам, — вскричал Гастон, — что я не выйду отсюда, не получив ответа — здесь или нет ящик, о котором я говорил вам?
— Еще одно слово, милостивый государь, — сказал Альфред, который хотел, казалось, истощить все возможные средства к примирению: — ещё одно слово. Вы человек светский, и мы обратились к вам, как к светскому человеку; мы решились на это после верных разысканий, мы уверены, что ящик у вас или у одного из ваших слуг. Если вам неизвестно это обстоятельство, то не угодно ли вам расспросить слуг ваших?
— Это бесполезно.
— В таком случае, — сказал Гастон, топнув ногой…
— Еще одно, — слово, прервал его Альфред. — Мы в последний раз обращаемся к вашей чести, продолжал он: в противном случае, г-н де-Сенвилль принужден будет выйти из границ умеренности. Угодно ли вам отвечать или нет?
— Я уже два раза имел честь говорить вам, — холодно и спокойно сказал полковник, — что я не намерен отвечать вам.
Альфред и Гастон переглянулись с негодованием.
— Ясно, — сказал Альфред, — что мы не можем заставить вас отвечать, но…
— Бесполезно продолжать этот разговор, — с твердостью сказал Гастон. — Отказываясь отвечать, вы сознаётесь в том, что ящик у вас; этот ящик дорог мне по многим причинам, и потому прошу вас, дать мне удовлетворение.
— Пожалуй, — отвечал полковник, отворяя дверь.
— Мои друг, — прибавил Гастон, указывал на Альфреда, — объяснится с вашими свидетелями.
— Это бесполезно, — отвечал полковник: — мы теперь можем назначить время, место и оружие.
— Завтра в десять часов, — сказал Гастон.
— В десять часов, — повторил полковник.
— В Венсенском лесy.
— В Венсенском лесу.
— Что касается до оружия, то выбирайте сами.
— Мне всё равно.
— Итак, а выбираю шпаги.
— Пожалуй, на шпагах, — сказал полковник, затворяя дверь, не изменив ни выражения лица, ни звука голоса.
Старый слуга проводил молодых людей, и отель д'Орбессон погрузился в прежнее спокойствие.
Когда Гастоп и Альфред вышли. Годе выбежал к ним навстречу опять без шапки и, обращаясь с таинственным видом к Гастону, дружелюбно сказал ему:
— Ну, как дела, молодой человек? Вам удалось проникнуть в крепость вампира: расскажите же нам, что там делается? Отдал он вам ящичек? Надеюсь, что вы его порядочно припугнули?
Гастон и Альфред сели в карету, не отвечая на вопросы Годе.
Лакей запер дворцы, крикнул кучеру: «Домой!» — и наш любопытный, пристыженный, пошёл назад.
Возвратясь в кафе, он был осыпан вопросами. Приняв важный вид, он отвечал:
— Эти господа едва успели мне сказать несколько слов и поблагодарить меня за обязательность. Завтра утром всё объяснится.
Эта оговорка, пришедшая так кстати, вполне удовлетворила любопытных и они с нетерпением стали ждать следующего утра.
Это утро должно было быть и в самом деле важным для посетителей «Кафе Лебёф».
В восемь часов слуга Полковника вышел со двора и скоро возвратился назад, в наёмной карете, с двумя солдатами.
— Вот тебе раз! — воскликнул Годе, бывший уже при своём посту: — Он привёз стражу! Это, вероятно, для защиты против вчерашних господчиков.
— Если бы то была стража, — возразил кто-то, то солдаты были бы вооружены.
— Правда; но зачем же в таком случае нужны они Вампиру?
В это время показался полковник, закутанный в широкий плащ, и сел с солдатами в карету.
Карета тронулась. Старый слуга не захлопнул по обыкновению дверь, но остался несколько времени на пороге и с беспокойством следил глазами за удалявшейся каретой…
Ничто не укрылось от соглядатаев «Кафе Лебёф»; они не могли попять поведения полковника и терялись в догадках.
Вдова объявила, что она заметила под плащом Полковника конец шпаги, но не осмелилась однако же подтвердить слов своих.
— А что же? — сказал Годе, радостно потирая руки: — Вы, может быть, правы, любезная мадам Лебёф; он, должно быть, поехал драться.
— Если будет дуэль, — вскричала злопамятная вдова, — то я, так и быть, не пожалела бы кармана, лишь бы хорошенько досталось вчерашнему верзиле, осмелившемуся осмеять мой дом, по поводу совершенно невинного паука.
— Но если будет дуэль, то нужны секунданты, — заметил Годе-младший.
— А солдаты-то?..
— Что вы, любезная мадам Лебёф: Вампир-то ведь полковник; решится ли он взять секундантами рядовых солдат? Это противно дисциплине!
— Но что же сделалось с янычаром? — сказал Годе-старший, глядя в окно. — Он сегодня что-то часто выходит на улицу. Это не в порядке вещей… Не попытаться ли мне расспросить его?..
— Нe советую вам, — сказала вдова: — вы опять подвергнетесь дерзостям этого старого плута.
— Тише… тише… — вскричал Годе, прислоняя лицо своё к окну; — кажется, карета-то возврашается.
И в самом деле, карета возвратилась. Из неё ловко выпрыгнул полковник и, пожав руки солдатам, скрылся в дверях своего отеля. Мадам Лебёф впоследствии утверждала, что она заметила слёзы на глазах старого слуги в то время, когда он затворил за своим господином дверь.
К несчастью посетителей «Кафе Лебёф», за этими полными происшествий днями, последовали дни тихие и однообразные.
Ничего нового не явилось для удовлетворения их любопытства и только зола, постоянно рассыпаемая старшим Годе в переулке, доказывала, что полковник продолжает свои ночные прогулки.
Хотя г-н Годе и не чувствовал более охоты сопровождать полковника, он был тем не менее уверен, что цель этих прогулок — кладбище отца Лашеза. Единственный факт, мгновенно возбудивший любопытство всего кафе, было вторичное появление пожилой женщины, приносившей ящичек. Два месяца спустя после дуэли полковника, она явилась в отель д'Орбессон и вручила старому слуге довольно толстый пакет. Более она не появлялась. Мы расскажем про это последнее посещение мадам Блондо.
V. Полковник Ульрик
Старый слуга ввёл мадам Блондо в ту самую комнату, где за два месяца перед тем полковник принимал Гастона и Альфреда.
— Здравствуйте, Шток, — сказала она. — Здоров ли полковник?
— По-прежнему, тело здорово, но голова слаба; иногда он плачет по целым дням. Если бы мне кто-нибудь предсказал это год тому назад, я никак не поверил бы! И при том каждую ночь…
Шток вздохнул.
— Продолжает ходить на кладбище?..
— Продолжает…
— Ну, а остальное время?..
— Мечтает, тоскует и ходит взад и вперёд по своей маленькой комнатке. Она сырее и холоднее прочих, потому что служила прежде купальней, но, не смотря на это, он предпочитает её другим, как будто потому, что она худшая в доме. Представьте себе, что с тех пор, как мы сюда переехали, т. е. в продолжении шести месяцев, он до такой степени исходил эту комнатку, что на каменном помосте её виден отпечаток его следов. Ах! это в самом деле ужасно! Боже мой! что за жизнь! Порой мне кажется, любезная мадам Блондо, что ум его так сосредоточился на одной мысли, что он стал равнодушным ко всему, даже к холоду и к голоду. Если б не я, он, наверное, и не вспомнил бы об обеде. Даже в самые трескучие морозы нынешней зимой он запретил мне топить, по какой-то своей странной прихоти. Но я скажу вам вещь, которая должна удивить вас: вот уже тридцать лет сряду, уходя вечером спать, целую я, по нашему венгерскому обычаю, его руку. Это означает у нас привязанность и почтение. Представьте же себе, что, не смотря на самые сильные холода, рука его всегда тепла и суха… Он нисколько не изменился физически, и это вполне естественно, ибо у него железное здоровье. Двенадцать лет тому назад, во время наших войн с турками, он по целым суткам не слезал с лошади, не ел и только снегом утолял жажду. Если он бывал ранен, и я подходил к нему, чтобы перевязать рану, то он так кротко и приятно улыбался, что я успокаивался, несмотря на весь страх мой. Но теперь вот уже год, как он ни разу так не улыбался, ни с кем не видится и никого не велел принимать. Один только раз ездил он в русское посольство, и то по необходимости, да ещё выезжал он разик по поводу поединка. Что касается до поединка, то я не очень беспокоился, ибо знаю силу и ловкость моего господина; однако же беспрестанно выбегал на улицу, и был невыразимо рад, когда он возвратился с обоими солдатами, которые были у него секундантами. Противник его заплатил за дерзость свою раною, которая целый месяц продержала его в постели. В тот же вечер господин мой очень удивил меня: говоря сам с собою, он прошептал: «Я не ненавижу этого человека; только на войне хладнокровно смотрел я на текущую кровь, а между тем я почувствовал жестокую радость, когда удалось мне пролить кровь его… Я был готов принести его в жертву моей злобе, но тайный голос удержал меня».
— Какой голос?
— Не знаю; но часто по время прогулок своих он вдруг останавливается и, приложив руки ко лбу, как будто к чему-то прислушивается…
— Бедный полковник!..
— Но что же это я говорю только о своём господине, а не спрошу вас, о вашей виконтессе.
— Она всё ещё в Турени и не совсем здорова.
— Боже мой! Сколько перемен в продолжении шести лет, с тех пор, как мы с вами познакомились, госпожа Блондо!
— Дай Бог, чтобы несчастья моей госпожи наконец закончились; я не смею желать того же полковнику, хотя и говорят, что нет на земле ничего вечного.
— Но печали, подобные тем, которые терзают моего бедного господина, не проходят никогда, сказал Шток, печально качал головой.
— Нельзя ли мне повидаться с полковником? Мне бы поскорее хотелось вернуться в Тур.
— Он ещё не звонил. Вам ничего не значит подождать несколько минут, — прибавил Шток, почти умоляющим голосом; — Вы не знаете, как полезен моему господину сон. А он ведь почти совсем не спит.
В это время раздался звук колокольчика.
— Господин звонит… Подождите меня здесь, я доложу ему о вас.
Четверть часа спустя мадам Блондо была в комнате полковника. Он принял её стоя, в широкой, тёмного цвета, турецкой шубе. Низенькое окно, в которое виднелся длинный ряд деревьев, тускло освещало комнатку.
Болезненное выражение лица, придававшее Полковнику строгий вид, исчезло при появлении мадам Блондо.
— Как поживает Матильда? — спросил он голосом, исполненным кротости и доброты.
— Увы! она не перестаёт страдать!
Голос бедной женщины дрожал, глаза её наполнились слезами.
— Простите меня, — сказала она, я не могу без сердечного трепета слышать это имя.
— Я называю её девическим её именем при вас, потому, что вы и воспитали и были для неё второю матерью.
— О нет, я не заслуживаю этого имени; я простая служанка.
— Нет, вы напрасно себя принижаете; это значит не отдавать ни ей, ни себе справедливости. Я знаю вас давно; знаю и то, что Матильда любит и ценит вас… но что же вам угодно?
— Госпожа моя поручила мне отдать вам вот эти бумаги, боясь доверить их почте. Она приказала просить вас, чтобы вы не трудились отвечать ей…
— Хорошо, хорошо, — ТИХО произнёс полковник, как бы желая отогнать тяжкое воспоминание. Он положил письмо на стол. — А ящичек? — спросил он мадам Блондо.
— Виконтесса просит, чтобы вы оставили его у себя.
Несмотря на благосклонный приём, оказанный им мадам Блондо, легко было заметить, что он очень рассеян и с трудом поддерживает разговор. Произнеся последние слова, он снова впал в задумчивость.
Скрестив на груди руки, он стал тихими шагами ходить по комнате, совершенно забыв о присутствии мадам Блондо. Боясь прервать нить его размышлений, она тихо вышла из комнаты.
В конверте, привезённом мадам Блондо, была довольно толстая рукопись и следующее письмо от Матильды.
Замок Марана, 13 апреля 1838 года.
«Нe знаю, скоро ли прочтете вы письмо это; я знаю, что вам некогда думать о других!
Я знала, я любила, о! очень любила ту, которую вы так горько оплакиваете; я знаю ваше сердце, ваш характер; я чувствую, чем были для неё вы, чем была она для вас: как же мне не чувствовать, что ваше горе неизлечимо?
Ульрик, друг мой, брат мой! Нет у вас на земле сердца, которое бы любило вас более меня… Вы знаете, что вы — единственный друг мой; если бы я всегда слушалась строгого, непреклонного голоса вашей святой дружбы, скольких бед, скольких горьких разочарований избегла бы я? — Но зачем говорить обо мне? — об вас, человек благородный, об вас, идеал человеческой доброты, хочу говорить я!
Вы страждете! вы страждете безнадёжно! Чем далее проникаете вы в бездну грусти своей, тем глубже она становится, тем более окружает вас мрак.
Год тому назад, когда я узнала про страшную катастрофу, я неутешно плакала, я молилась за неё, но в особенности молилась я за вас — ибо вы пережили её!
Тогда я не подумала написать вам, увидеться с вами… Есть несчастья и горести, которых утешения только растравляют.
Вы покинули всё и поселились близ праха Эммы, чтобы вести жизнь холодную и молчаливую, как могила.
«Странно и приятно видеть, что характеры, одарённые великим мужеством и большою чувствительностью, ясно предвидят свои чувства.
Три года тому назад, Эмма говорила вам, смеясь: «Ульрик, что будет с вами, если вы меня лишитесь?» Мне кажется, я и теперь слышу ответ ваш, который произнесли вы с улыбкою, вам одному свойственною, и со слезами, которых вы не старались скрыть: «Я бы последовал за вами, жил бы в уединении и никогда бы не утешился… Может быть, отказался бы даже от удовольствия видеть нашего друга, вашу сестру Матильду…».
Если бы слова эти были произнесены другим, они показались бы только грустными и преувеличенными; произнесённые вами, они получили характер горькой истины. Мы с Эммой залились слезами; нам показалось, что десница Божия открываете нам будущее.
И вы не изменили этому страшному обету, так как не изменили и другим обещаниям…
Я посылаю вам бумаги эти с полною уверенностью без страха обеспокоить вас; вы прочтёте письмо мое, ибо оно напомнит вам её; вы вспомните обо мне, ибо я всегда была с нею вместе.
Но, может быть, вы долго не прочтете письма моего, может быть вы никогда не прочтете его… Тогда… друг мой… я уверена, вы поручите мои бумаги Штоку, равно как и ящичек… Я желаю, чтобы всё было уничтожено.
Если вы прочтёте мою рукопись, то узнаете, зачем я прислала вам ящичек…
Я вечно буду раскаиваться, Ульрик. Я подвергала вас опасности. Но клянусь Богом, я была уверена, что никто не знает о том, что я вам поручила…
Каким образом открылась эта тайна? Какими судьбами ваша жизнь и жизнь человека, которого я не могу обвинить, подверглись опасности?.. Вот тайны, которых я, кажется, никогда не разгадаю.
Теперь несколько слов о самой себе.
Давно, давно уже я страдаю. Сравнивать мои страдания с вашими было бы богохульством; но жизнь моя тоже тяжела и безотрадна. Когда, два месяца тому назад, поселилась я в моём уединении, где я, вероятно, кончу мою грустную жизнь, воспоминания о прошедшем жестоко терзали меня.
Я так нуждалась в покое, или, лучше сказать, в забвении всего и всех, что гул прошедшего был нестерпим. Тогда явилась мне следующая странная мысль: утолить, попрать, так сказать, печаль свою можно лишь тогда, когда разделишь её с другими. Я решилась описать жизнь мою, надеясь, что эта немая исповедь возвратит мне покой. Я думала, что найду отраду, вспоминая в последний раз о былом, извлекая из этого былого несколько запылённых, но всё ещё драгоценных для меня воспоминаний и покидая остальное навеки и удовлетворяя самолюбие своё тем, что хотя бы раз в жизни выскажу негодование, столь долго сосредоточенное в моём сердце.
И не обманулась в моей надежде; эта искренняя исповедь моей жизни, моих благородных и низких поступков, облегчила меня; привидения, путавшие воображение моё, исчезли навсегда.
Бросая беспристрастный взгляд на прошлое, считая слёзы мои, хладнокровно рассматривая причины их, я заменила горесть презрением, а жестокие волнения — тихим и печальным разочарованием. Я признавалась в добре без гордости, в зле без ложного уничижения; я не обижала врагов своих и не хвалила друзей. Bеpнo глядела я на жизнь свою, и была строга к ней, как беспристрастный судья. Часто вспоминала я о вас, о нашем незабвенном друге; мне казалось, я слышала, как бывало вы оба говорили мне: расскажите — же нам несколько страниц из истории вашего сердца, и легко писалось мне.
Когда вы прочтете эти страницы, друг мой, вы не полюбите меня более прежнего, но, может быть, более прежнего будете уважать меня.
«Теперь цель моя достигнута: сердце пусто, но я спокойна. Прошлое ручается мне за будущее. Вам обязана я моим покоем… Никогда не решилась бы я сделать эту исповедь другому… а эта исповедь утоляла мои горести.
Прощайте, друг мой, прощайте, брат мой! Читая эти строки, вспоминайте о нашей Эмме, вспоминайте иногда и обо мне, вашей Матильде.»
VI. Мадемуазель де-Маран
«Оставшись сиротою, я провела свое детство у тётки моей, сестры моего отца, мадемуазель де-Маран. Я была воспитана доброю мадам Блондо, прекрасною женщиною, долго служившею моей матери. Тетка моя не хотела выходить замуж, была чрезвычайно умна и до крайности насмешлива. Не смотря на некрасивость лица, уродливость и малость роста, она имела физиономию, внушавшую страх и почтение. Она не внушала, конечно, той почтительности, которую чувствуешь при виде благородных черте лица и привлекательного обхождения, но всякий чувствовал в её присутствии какой-то страх и недоверчивость к самому себе.
Мадемуазель де-Маран никогда не покидала отца моего: во время революции она удалилась с ним вместе в Англию и разделила с ним печаль и опасности.
Несмотря на зло, сделанное мне мадемуазель де-Маран, я не могу не отдать ей справедливости за любовь её к бpaту; но любовь злых имеет свой особенный странный отпечаток; кажется, они для того только любят кого-нибудь одного, чтобы иметь право ненавидеть всех прочих; они любят вас, но ненавидят всех тех, которые имеют право на вашу привязанность или любят вас.
Такова была любовь моей тётки к отцу моему.
Она управляла им, потому что имела более характера, чем он. Она всегда подавала ему советы, полные предусмотрительности, тонкости и искусства, и он ничего по предпринимал без её совета. Ненавидя Наполеона столько же, сколько ин революцию, будучи знакома со многими министрами Англии, предвидя падение Империи, она уговорила, и конце 1812 года, отца моего поселиться в Гортволе и стараться угождать Людовику XVIII.
Она сама посещала иногда Короля и успела приобрести его расположение остротою своего ума и свободою своей речи; зная в совершенстве латинский язык, она льстила королю цитатами из латинских писателей, которые тем более нравились, что она умела скрывать лесть, заключавшуюся в них, под маскою самого грубого цинизма.
Будучи ловкой, проницательной, страшной своей саркастической злостью, не боясь никого и задирая всех, она умела воспользоваться далее недостатками своими и обратила их в оборонительное оружие против всех и каждого. Она сама приносила себя в жертву своим странностям для того, чтобы иметь право безжалостно жертвовать другими. Она с удивительным искусством умела пользоваться тайнами, которые исторгала у ветреников и неосторожных, и владычествовала посредством их над попадавшимися в её сети; зная чувствительную струну каждого, она тиранила всех, умоляя, чтоб не щадили и её.
Она говорила довольно просто и старалась сблизить свой образ выражения с простонародными
Людовик XVIII, любивший в эпиграмме жёсткость, и грубость в шутке, охотно слушал мою тётку и говорил, что с ней чувствует себя свободнее, нежели с мужчиной, и не так стеснённым, как с женщиной.
В 1812 году, отцу моему, маркизу де-Маран, было около сорока лет. Несколько раз хотел он жениться, но сестра его, боявшаяся потерять над ним власть свою, так искусно расстраивала все его намерения, что многие отцы запретили говорить о нём, как о женихе.
Наконец маркиз де-Маран встретил мать мою. Она была так прекрасна, так обворожительна, что маркиз без памяти полюбил её и объявил сестре, что любит её и непременно на ней женится. Она была дочь эмигранта барона д’Арбоа, не имела никакого состояния, но была прекрасна. Скупая и уродливая мадемуазель де-Маран ненавидела бедность и красоту. Просьбы, угрозы, слёзы, насмешки, хитрости, всё было употреблено ею, чтобы отклонить отца моего от брака, но он остался непреклонным, и женился на моей матери.
Вы можете себе представить, как возненавидела мать мою мадемуазель де-Маран. В первый раз ещё осмелился отец мой стряхнуть с себя сестрино иго. Как хитрая женщина, она скрыла своё неудовольствие. Сперва она была холодна, учтива, потом сделалась, по-видимому, более снисходительною, сделала даже несколько уступок: но так как она не покидала отца моего, то скоро забрала опять всю прежнюю власть свою.
Лета и саркастически-горделивый ум мадемуазель де-Маран внушали моей матери уважение; она была добра, как Ангел, и кротость её могла сравниться с её робостью.
Отец мой баловал её, как ребенка, и все важные дела препоручал мадемуазель де-Маран, которая более не стесняла себя и вполне отомстила моей матери за то, что она осмелилась выйти за моего отца.
Отец мой, лучший из людей, несмотря на своё благородство и великодушие, имел характер слабый и нерешительный; он, конечно, любил жену свою, но любовь его к сестре была соединена с уважением, и, считая её вернейшим путеводителем, он ей вполне доверился.
Год спустя после женитьбы отца моего, потрясённая власть мадемуазель де-Маран укрепилась более прежнего. Мать моя стала замечать, что она никогда не обладала доверием отца моего. Ничто не делалось без участия или согласия моей тётушки. Два или три раза пробовала мать моя быть у себя хозяйкою, жаловалась мужу, но не получила удовлетворения и должна была вытерпеть жестокие упрёки.
Отец мой напрямик объявил моей матери, что он никак не намерен жертвовать братской любовью ради своей любви, конечно, довольно сильной, но ещё новой, между тем, как первая началась с его жизнью и должна была кончиться вместе со смертью.
С этого дня оскорбленная мать моя, не жаловавшаяся из гордости и не имевшая силы бороться с соперницею, стала вполне жертвою мадемуазель де-Маран.
Неудачи 1813 года дали отцу моему возможность удовлетворить своё честолюбие, и он ещё более подпал под влияние мадемуазель де-Маран. Благодаря близким отношениям своим к Людовику XVIII, отец мой был неоднократно посылаем к Венскому и Берлинскому дворам.
И здесь руководила им сестра. Советы её были в самом деле полезны, и он счастливо и удачно выполнил возложенные на него поручения. В 1814 году, он был вполне вознаграждён за службу свою местом в Королевском Совете, последовал за Людовиком XVIII в Гент и вместе с ним возвратился во Францию.
Я родилась в 1813 году, во время поездки отца моего в Германию. Это событие, которое могло восстановить доверие отца моего к моей матери, если бы она была в то время при нём, очень мало изменило обычные их отношения.
Чем более возрастало богатство, и положение отца моего, тем более усиливалось влияние мадемуазель де-Маран, и тем более судьба матери моей становилась печальною.
Гостиная отца моего сделалась политическим сборищем, а мадемуазель де-Маран — царицею его.
Мать моя, молодая восемнадцатилетняя женщина, ненавидела дела политические, и не находила в них занимательности. Музыку и поэзию предпочитала она сухости дипломатических споров, в которых она не могла и не хотела участвовать.
Напротив, мадемуазель де-Маран, казалась совершенно на своём месте. Встречая впоследствии многих политических женщин, я убедилась, что они все друг на друга похожи. Они обладают честолюбием и эгоизмом мужчин, но лишены почти всех качеств женщины; одним словом, политические женщины — это что-то среднее между школьным учителем и мачехою, и все, даже замужние, похожи на старых дев.
Мало-помалу, отговариваясь слабостью здоровья своего, мать моя отказалась от света, в котором господствовала мадемуазель де-Маран. Всю нежность свою сосредоточила она на мне; она полюбила меня, как единственную отраду свою, как единственную свою надежду.
Она была так добра, так великодушна, что не позволила себе ни одной жалобы на губительницу своего счастья. Отец мой сделан был пэром. Последний, смертельный удар готовился моей матери; она заметила, что любовь ко мне отца моего день от дня становилась слабее; редко ласкал он меня и всегда жалел, что я не мальчик и не могу наследовать его заслуг и имени.
Скоро холодность ко мне отца моего заменилась совершенным равнодушием.
Мать моя не вынесла этого удара, и после кратковременных страданий, переселилась в вечность.
Часто и горько плакала я, слушая рассказы моей доброй Блондо о последних минутах моей матери и о предсмертном страхе её за мою будущность, страхе, к несчастью, оправдавшемся на деле.
Мать моя знала бесхарактерность отца моего, и взяла с гувернантки моей клятву никогда не покидать меня. Она заставила также отца моего дать обещание, что он навсегда при мне её оставит.
«Увы! я предчувствую, — сказала мать моя гувернантке: — никого не будет у Матильды, кроме вас, — нe покидайте же её!..»
Последние слова её отцу моему были строги, трогательны, торжественны: «Я умираю рано, много выстрадав, и не произнеся ни одной жалобы; я вас прощаю, но вы отдадите отчет Богу в судьбе моего ребёнка.
Год спустя после смерти матери моей, отец мой, охотясь с дофином, упал с лошади и умер вследствие ушиба. Четырех лет я была круглою сиротою, на руках ближайшей родственницы моей, мадемуазель де-Маран. Надо отдать справедливость тётке моей: она, сколько могла, любила отца моего, и поступки её с моей матерью были следствием ревности, превратившейся наконец в ненависть.
Глубоко жалела она об отце моём; слёзы её были истинны, отчаяние сосредоточено, но сильно. Характер её сделался ещё несноснее, ум — ядовитее и злость — неумолимее.
Я как две капли воды походила на мать мою. Она забывала, что я дочь её любимого брата; она помнила только ненависть свою к моей матери, и я сделалась наследницею этой ненависти.
Во время моего детства, мадемуазель де-Маран постоянно была для меня предметом страха; её длинное, худое, характерное лицо было окружено повязкою фальшивых волос, скрывавших лоб, и казалось мне страшнее всего на свете. У неё были густые, седые брови и темные, проницательные, маленькие глаза.
Она постоянно носила шёлковое серое платье и такую же шляпу, которую надевала ещё в постели, ибо имела обыкновение завтракать, писать и читать, не вставая, завернувшись в пеньюар, подобный тем, которые носили до Революции, сшитый из одинаковой материи с платьем и шляпкою.
Когда утром мне надо было входить к тётушке, я вся тряслась и с трудом удерживала слёзы. Мадам Блондо употребляла обыкновенно все возможные усилия, чтобы уговорить меня идти поздороваться с тётушкою. Она говорила мне, что оставит меня, если я буду продолжать бояться. При этой угрозе я преодолевала страх, глотала слезы и, крепко сжав ручонками руку Блондо, отправлялась на страшное свидание.
Нужно было пройти большую комнату, где обыкновенно сидел тётушкин дворецкий, по имени Сервиен.
Этого человека, вместе с Феликсом (собакой тётки моей) я ненавидела, как и госпожу их. Сервиеново лице было обезображено большим родимым пятном; рот его был огромен и руки покрыты шерстью.
Наконец дверь в тётушкину спальню отворялась, я хваталась за платье Блондо и со страхом приближалась к тётушке.
Страх мой был не без основания. Феликс выскакивал обыкновенно и ворчал на меня, оскаливая зубы.
Он не раз кусал меня до крови. Вместо наказания, тётушка обыкновенно говорила ему полуласковым голосом: «Полно же, полно, дурачок; разве ты не видишь, что она не хочет играть с тобою?»
Тётка моя была женщина ученая, и следила за политическими происшествиями. Я заставала её обыкновенно читающую журнал или какой-нибудь in-folio, поддерживаемый пюпитром. Она всегда встречала меня сарказмом или выговором.
Эти сцены так часто повторялись и производили на меня такое сильное впечатление, что до сих пор сохранились в памяти моей до малейших подробностей. И упоминаю об этом потому, что беспрерывный страх, под гнётом которого провела я всё детство моё, имел влияние на всю мою жизнь.
Я как теперь вижу комнату мадемуазель де-Маран. В глубине её алькова, драпированного темно-красной материей, висело на чёрном бархате распятие из слоновой кости. Но всё это было только для приличия, мне кажется; я не помню, чтобы тётушка ходила к обедне. Стёкла окон были расписаны священными изображениями, а на письменном столе стояли, под стеклянными колпаками, чучела отца и дочери Феликса, прекрасно набитые.
Злой вид этих чучел, с их блестящими эмалевыми глазами, пугал меня, кажется, ещё более, нежели их живой потомок.
Вид этих животных, не двигавшихся, не евших, и между тем постоянно грозивших зубами, был для меня странно-необыкновенен.
Несколько старинных портретов висело по стенам; один из них представлял бабушку, бывшую некогда настоятельницею монастыря в Блоа. Другие портреты не поражали меня подобно этому. То были родные наши, в придворных и военных костюмах прошлого столетия. Наконец, на камине, стояли два урода из зелёного китайского фарфора. Они беспрестанно двигались и мигали глазами, посредством пружинок, скрытых в их внутренности. Представьте себе моё положение среди всех этих чудес, и вы поймете мой ужас. Но всё это было только прелюдией более сильных мучений. Несмотря на лай и угрозы Феликса, я должна была взлезать на тётушкину постель и целовать ее.
Мадемуазель де-Маран нюхала очень много табаку, а этот запах был для меня нестерпим. Впрочем, не смотря на страх и отвращение моё к тётушке, я вполне чувствовала ласки её. Я делала сверхъестественные усилия, чтобы преодолеть себя, но часто мне это не удавалось.
Впоследствии я узнала, что ласкала она меня не из нежности, но потому, что знала, что я боялась её ласк и утренних поцелуев.
Между прочих одна сцена неизгладимо осталась в моей памяти. Она объяснит вам характер моей тётушки. Однажды привели меня к ней; но по предчувствию ли, или потому, что она казалась мне злее обыкновенного, я боялась подойти к ней. Я склонила голову, и длинные кудри мои закрыли мне всё лицо. Наконец Блондо посадила меня на кровать.
Мадемуазель де-Маран, дёрнув меня за руку, вскричала: «Боже мой, какой глупый вид придают этой девчонке её большие глаза и длинные волосы! Надо остричь ее, остричь как мальчика!»
Мадам Блондо, рассказавшая мне все эти подробности, вскричала: «Помилуйте, сударыня, это будет убийственно; посмотрите, какие у неё прекрасные волосы! Они достают почти до полу».
— Именно потому-то и надо остричь её, чтобы волосы не мешали ей ходить.
— О, ради Бога! Не делайте этого, ведь это будет святотатство.
— Что? что?… — вскричала тётушка сердитым голосом, приводившим в трепет всех окружающих.
— Да, сударыня, покойная маркиза завещала мне никогда не стричь Матильды… Маркиза никогда не остригала своих волос, — прибавила моя добрая гувернантка. — И у неё были такие же волосы, и потому-то она велела мне, перед смертью, беречь барышнины волосы. — Сказав это, Блондо залилась слезами.
— Ты — дерзкая лгунья! Покойная сестра моя никогда не занималась такими глупыми приказаниями. Скорей ножницы!…
Тётушка произносила слово сестра с такой иронией, что у меня сжималось сердце всякий раз, когда она произносила это слово.
Мадемуазель де-Маран была до того расстроена, что я испугалась так, как не испугалась бы, если бы дело шло о жизни моей.
Одной рукой она тащила меня к себе, сжимал мне руку своими худощавыми, жесткими, как железо, пальцами, другою же распускала мне косу, которая рассыпалась по плечам моим.
Страх сомкнул уста мои, я не могла выговорить ни слова.
— Сударыня! сударыня! — вскричала Блондо, падая на колена: — Ради Бога, не делайте этого; это принесёт Матильде несчастье, ибо будет ослушанием предсмертной воли её матери!
— Дашь ли ты мне ножницы или нет, глупая баба!
— Умоляю вас! Пощадите ее!
Не внимая просьбам, тётка моя позвонила. Вошёл Сервиен.
— Сервиен, принеси мне свои большие ножницы.
— Сейчас, сударыня, — отвечал Сервиен.
— Сударыня! — вскричала приведённая в отчаяние Блондо: — Я не допущу вас дотронуться до волос этого ребенка; я позволю скорее убить себя.
И она приблизилась к постели, чтобы вырвать меня из рук тётушки.
Феликс, пробуждённый этим движением, бросился на Блондо и укусил её в щеку. Рассерженная Блондо, схватила его за шею и с силою бросила об пол.
Собака жалобно завыла, и я почувствовала, что ногти моей тётушки вонзились мне в голое плечо.
— Вон отсюда, вон! — вскричала она на Блондо. — Вытолкай за дверь эту дерзкую, — сказала она входящему Сервиену, и приди подержать эту девчонку, я остригу ей волосы.
— Простите, простите!… Я забылась… Но пощадите Матильду!… Пощадите её волосы: рука умирающей матери благословила их!…
— Молчать, или я тебя выгоню из дому! — вскричала мадемуазель де-Маран.
Эта угроза уничтожила Блондо. Она знала, что тётушка способна исполнить слова свои и, боясь расстаться со мною, покорилась судьбе.
Никогда не забуду я этой сцены! Она может показаться пустою, но на меня она имела ужасное влияние!
Уродливый Сервиен стоял передо мною с открытыми ножницами; мне показалось, что меня хотят убить, и я страшно закричала.
— Возьми её на руки, — сказала ему тётушка, — и держи крепко, а то она может наткнуться на ножницы.
Увы! Я уже и не думала более о защите! Я была без памяти.
Блондо, рыдая, закрыла лицо руками; Сервиен схватил меня своими мохнатыми руками…
Я закрыла глаза и дрожала под холодом стали, коснувшейся шеи моей.
Когда операция кончилась, тётушка, смеясь, сказала Сервиену:
— Теперь она похожа на дурного мальчишку; позови кого-нибудь вымести отсюда эти прекрасные локоны.
Блондо, дрожа от страха, попросила позволения собрать и сохранить их.
Тетушка позволила, и приказала увести меня.
Когда я выходила из комнаты, мадемуазель де-Маран снова меня кликнула, поглядела на меня несколько мгновений, и захохотав, сказала:
— Более мой, какая она теперь дурная!
Когда мы возвратились в мою комнату, Блондо взяла меня на руки и покрыла меня слезами и поцелуями.
Я так испугалась Сервиеновых ножниц, что развязка этой сцены почти обрадовала меня. Я не разделяла чувств моей гувернантки к волосам моим. Я даже радовалась, что мне не нужно будет более отстранять рукою волос, падавших мне на лицо.
Только последние слова тётушки: «Какая она теперь дурная!» — поразили меня.
Я попросила гувернантку мою подвести меня к зеркалу, и лицо моё показалось мне таким страшным, что я рассмеялась до слёз.
Впоследствии я объяснила себе странное поведение мадемуазель де-Маран. Она всегда чувствовала антипатию, глубокое отвращение ко всему прекрасному; и без самолюбования, или, лучше сказать, по словам Блондо, я была прекрасным ребёнком; сверх того, тётушка ненавидела мою покойную мать!
VII. Покровитель
Мне минуло семь лет. Ненависть ко мне моей тётки со дня на день, казалось, увеличивалась. Она терзала меня всеми возможными средствами.
Так например: она запретила мне обедать в моей комнате и приказала сажать меня с собою; зная, что табакерка её производит во мне омерзение, она ставила её подле моей тарелки; если какое-нибудь блюдо мне не нравилось, то ежедневно подавали именно его; если я не могла побороть отвращения, то тарелку мою ставили в логовище Феликса, заставляли меня брать её оттуда, не смотря на страх мой, и съедать всё, стоя на коленях.
Заметив, что присутствие Блондо придавало мне мужества и терпения, тётушка запретила ей прислуживать мне за столом. Дворецкий Сервиен заменил мою гувернантку, потому что тётушка знала, что я не люблю его. Я удивляюсь теперь, как тётушка, женщина в самом деле умная и много занимавшаяся, могла терять столько времени на придумывание терзаний бедному ребёнку. Поведение её со мной было обдуманно, изучено. Мало-помалу я привыкла страдать. Страдания возбудили во мне жажду мести. Я заметила, что слезы мои возбуждают в тётушке смех; после долгих усилий и стараний, мне удалось наконец привыкнуть не плакать, и я тайно радовалась, видя досаду моей тётки. Она удвоила мучения, я удвоила терпение и мужество.
Я до сих пор трепещу при воспоминании об этой борьбе, борьбе беззащитного ребенка с хитрой и злой женщиной, борьбе, в которой я осталась победительницей, ибо злость тётушки не могла выходить из известных пределов.
По беспечности ли, или с намерением, но до семи лет тётушка не нанимала мне учителей. Мадам Блондо выучила меня читать и писать; благодаря привязанности ко мне этой доброй женщины, я получила образование, конечно, лишь такое, какое могла дать женщина её сословия своей дочери. Дети никогда не ошибаются в чувствах и характерах окружающих лиц. Детская сметливость удивительна, и дети умеют овладевать теми, кто их очень любит.
Сколько я была робка и молчалива с мадемуазель де-Маран, столько же была весела, игрива и самовластна с моей доброй Блондо. Только в крайних случаях осмеливалась она противиться моим желаниям. Она обожала меня и беспрестанно хвалила мою красоту, ум к миловидность.
Так грустно жила я, снося насмешки и оскорбления тётки, и меняясь любовью с Блондо.
Это должно было иметь влияние на развитие моего характера. Вследствие этого, конечно, развилась крайняя моя чувствительность и нерешительность в важных случаях жизни. Самые годы не истребили во мне старых привычек…
Мне не было еще, кажется, семи лет, когда произошла важная перемена в моём воспитании. Происшествия, приведшие к этому результату, остались у меня в памяти.
Я была препоручена тётушке, по совету опекуна моего, барона д’Орбеваля, дальнего родственника отца моего, которого я очень редко видела.
Когда он приезжал к тётушке, то спрашивал обыкновенно обо мне. С меня снимали тогда моё, более нежели скромное, платьице, одевали меня тщательнее обыкновенного и приводили к нему.
Барон д’Орбеваль был высокий, худой старик, с жёлтым лицом, в мелко-завитом белокуром парике; он носил зелёный зонт и довольно старую фуфайку; он был советником при дворе, и отличался скупостью. Когда я к нему подходила, он строго смотрел на меня и спрашивал, умна ли я. Тетушка брала на себя труд отвечать за меня, и говорила, что я капризна, глупа и ленива.
Опекун мой давал мне щелчок в щёку и говорил: «Это дурно, Матильда… очень дурно!.. Если ты не исправишься, то тебя отдадут нищим».
Я заливалась слезами, и Блондо уносила меня.
Три или четыре месяца не видалась я с моим опекуном, как вдруг, однажды утром, вошел в мою комнату человек, совершенно мне незнакомый.
Увидев его, Блондо воскликнула, всплеснув от удивления руками:
— Боже мой!… Вы ли это, г-н де-Мортан?
Не отвечая, он взял меня на руки, пристально посмотрел на меня, и снова поставив на пол, сказал, отирая слезу: «Как она на неё похожа!..» Наружность незнакомца показалась мне, не смотря на строгость его лица, доброю; он казалось, был сильно тронут. Блондо так радовалась его присутствию, что я без страха подошла к нему.
Он был двоюродный брат моей матери, и только что возвратился во Францию, после многолетнего путешествия.
Граф де-Мортан почитался весьма странным человеком. Он храбро служил при императоре, но с тех пор никто не знал обстоятельств его кочевой жизни. Он объездил оба полушария. Говорили, что он очень образован, и обладает железною силою воли и испытанным мужеством; но откровенность его, доходившая до дерзости, всех от него удаляла.
Он истинно братски любил мать мою.
Нескольку раз старался он внушить моему отцу, как пагубны для него советы мадемуазель де-Маран, и мадемуазель де-Маран от души его ненавидела. Она охотно отказалась бы от свиданий с ним, но как близкий родственник, он принимал во мне большое участие, и она должна была покориться необходимости.
Четыре года путешествовал он по Индии и, возвратившись в Пaриж, немедленно приехал ко мне. Он не переставал глядеть на меня и хвалить меня. Он засыпал мадам Блондо вопросами: счастлива ли я? Хорошо ли меня воспитывают? Кто меня учит? Умна ли я?
Бедная гувернантка моя не знала, что и отвечать. Наконец она призналась в печальной истине… Она рассказала ему все подробности моей жизни.
Г-н де-Мортан пришёл в негодование. Он был высокого роста и одет небрежно. Редкие волосы прикрывали лоб, хотя ему не было ещё и сорока лет; вследствие довольно странной моды, по тогдашнему времени, он носил длинную бороду, как носят теперь.
Неловкость его движений, военная смелость в речах, его странная, почти дикая физиономия, дали ему в свете прозвище Дунайского мужика.
Он принадлежал к самым либеральным мнениям, и ни перед кем не скрывал их, хотя друзья его советовали ему быть осторожным.
Он мог, если хотел, скрыть самую едкую иронию, под самой наивно добродушной наружностью; но обыкновенно речь его была груба и неприятна.
Когда мадам Блондо рассказала г-ну де-Мортану про поступки моей тётушки, лицо его, загоревшее под солнцем Индии, побагровело от гнева; он некоторое время ходил в волнении; потом, схватив меня на руки, он понёс меня в комнаты мадемуазель де-Маран, говоря: «А! так вот как обходится она с дочерью моей кузины… Мы поговорим с ней об этом, поговорим…»
— Будьте осторожны, граф, — говорила Блондо, следуя за нами.
— Не беспокойтесь, я не испугаюсь! Я и не таких гадин давил. — Он два раза поцеловал меня, говоря: «Не бойся, душечка, судьба твоя переменится.»
Никогда не забуду я той радости, которую я почувствовала, догадавшись, что новый покровитель мои отомстит за меня моей тётушке.
Восхищённая, я желала отблагодарить его, и потому, обняв его ручонками, я прошептала ему на ухо: «Ведь не одна только тётинька зла; Феликс также злой; берегитесь, чтобы он не укусил вас.»
— Если он укусит меня, моя малютка, — сказал он, снова целуя меня, — я выкину его в окно.
Г-н де-Мортан показался мне героем; в первый раз почувствовала я сладость мести.
Он готов уже был отворить дверь к моей тётушке, но дворецкий встал и сказал, что, может быть, тётушке не угодно принять.
Г-н де-Мортан, не отвечая, оттолкнул его и вошел.
Она, по обыкновенио, сидела в постели и читала журнал.
Г-н де-Мортан вошёл так быстро и с таким шумом, что встревоженный Феликс выскочил из поры своей и храбро бросился в ноги моему покровителю.
— Берегитесь, это злой Феликс, — сказала я тихо.
— Вот ему, — отвечал он, и ударом ноги отбросил Феликса под кровать.
— Да это ни на что не похоже, — сказала взбешённая тётушка. — Что это значит? Вы входите, словно на приступ, и давите мою собаку… Здесь вам не казарма!
Он преспокойно сел к постели мадемуазель де-Маран, и продолжая держать меня на коленях, сказал:
— Оставьте приступ и собаку в покое, а поговоримте об этом ребенке, которого вы воспитываете, как злая мачеха…
— Что такое? что такое?.. — отвечала с гордым видом тётушка. — Как смеете вы говорить мне такие дерзости? Не думайте, чтобы я позволила вам обвинять и пугать себя у себя же в доме, потому только, что вы похожи на дикаря, и известны как дерзкий и грубый человек!
— И я также не намерен слушать ваши дерзости, сударыня! Ведь ваша злость, уродливость и некоторый ум не дают вам на это права.
— Берегитесь! — вскричала тётушка, побледневшая от гнева: — Вы знаете, что я умею ненавидеть и мстить!
— Я знаю, что вы имеете сильных друзей и опасных клиентов, но я не нуждаюсь ни в ком и не боюсь никого… Я буду говорить вам правду, тем хуже для вас, если она колет вам глаза. Одним словом, вы совсем не заботитесь об этом ребёнке; воспитание его так дурно, что я за вас краснею! Нe стыдно ли вам поступать так с дочерью вашего брата?
Эти слова пробудили в тётушке любовь к отцу моему и ненависть к моей матери.
— Потому я и обхожусь так с этой девочкой, что память отца её для меня священна. Я обязана отдавать отчёт одному только опекуну её, и потому не угодно ли вам поберечь для других ваши оскорбления? То, что происходит здесь, вас не касается.
— Это касается до меня в такой степени, что я, как член семейного совета, сегодня же созову его, и мы увидим, получила ли Матильда надлежащее воспитание.
Эта угроза, казалось, подействовала довольно сильно на тётушку.
— Подойди сюда, — сказала она мне, — и отвечай.
Я не повиновалась и прижалась к г-ну де-Мортану, глядя на него умоляющими взорами.
— Вы видите, что она боится ваших нежностей, — сказал г-н де-Мортан. — Не ей отвечать, а вам. У неё нет учителя! Она едва знает то, что знают дети простого народа! Вы отказываете ей даже в необходимом платье! А между тем вам довольно дорого за нее платят.
— Как платят?… Что это значит?..
— Это значит, что вы получаете 1000 франков в месяц на её воспитание и содержание, а вы не издерживаете на это и ста луидоров в год… Куда же деваются остальные деньги? Если вы кладете их в карман, то вам придётся отдать в этом отчет. Впрочем, не беспокойтесь: я уж позабочусь об этом… Ваша злость не даёт вам права быть скупой…
— Да это выходит из всяких границ! Если бы я не знала, что вы сумасшедший, то давно уже велела бы выкинуть вас в окно. Каких отчётов требуете вы? Я не обязана отвечать вам!…
— Я говорю вам, что я её родственник, что я член её семейного совета, — отвечал громовым голосом г-н де-Мортан, — и я заставлю вас отвечать. Если мне не окажут справедливости, то я сам удовлетворю себя, и мы увидим, как вы от меня отделаетесь!… Чудовище!…
— Возможно ли обходиться так с бедной женщиной! Вы меня вгоните в гроб, — сказала томным голосом тётушка.
— Э! сударыня, не сами ли вы довели, вашей дерзостью, злостью и нападками до того, что я принуждён был забыть вашу старость, уродливость и болезнь!… Разве вы женщина?…
— Так кто же я?.. Ступайте вон, милостивый государь… Я не хочу срамить вас при слугах моих, а не то…
— Не то, было бы то же, что и теперь. Итак честь имею объявить вам, что я немедленно постараюсь (и поверьте успею) собрать семейный совет, чтобы вырвать из когтей ваших этого ребёнка и отдать его в пансион или монастырь.
— И в награду за такое доброе дело, — сказала иронически мадемуазель де-Маран, — вас, вероятно, попросят самих назначить монастырь? Жалею очень, что нет женского Якобинского монастыря. Вы бы, вероятно, туда её отдали и назвали бы её Сципионой, Равенувой или просто гражданкой Матильдой. Но, к счастью, эти блаженные времена прошли, и теперь заставляют отвечать тех, кто осмеливается говорить против людей благомыслящих.
Мадемуазель де-Маран сделала такое ударение на последних словах, что г-н де-Мортан понял, на что она намекала.
— А! Так вот в чем дело! — возразил он: — А я-то начинал уже удивляться, что вы до сих пор не назвали меня якобинцем и бонапартистом, что, впрочем, совсем не одно и то же. Знаю, что вы способны вмешать и политику в наши семейные дела, лишь бы навредить мне; знаю и то, что у вас сильная партия, и что большинство родных наших, как и всегда, будет на вашей стороне и во зло употребит свое превосходство.
Целуя меня с чувством и нежностью, г-н де-Мортан прибавил:
— Бедный ребёнок! Бедная Франция!
— Ах, Боже мой, как это прекрасно и как чувствительно! — сказала тётушка, смеясь своим сухим и дерзким смехом… Какое трогательное сближение… Бедный ребёнок! Бедная Франция! ха! ха! ха! Чувствительный Сен-Жюст так и сыпал подобными выходками в своем клубе, однако ж это не помешало ему остаться без головы. Я вижу, что вы не пощадили бы меня в те блаженные времена, — слава Богу, что они прошли!
Г-н де-Мортан в самом деле признавался мне, что он совершенно вышел из терпения и не мог более владеть собою.
— Да, удивляюсь, — сказал он, — что вы, уморившие двоюродную сестру мою и мучащие несчастную дочь её, находитесь ещё вне закона… это совершенно противно всем моральным и физическим законам.
— Довольно! довольно! Ступайте вон! — вскричала так гневно мадемуазель де-Маран, что когда г-н де-Мортан хотел поставить меня на пол, я схватилась за него ручонками и умоляла не покидать меня.
Он передал меня моей гувернантке, которая, молча и никем незамеченная, присутствовала также при этой сцепе.
Мы все трое вышли; мадемуазель де-Маран была в невыразимом гневе.
VIII. Семейный совет
Я многого не поняла из разговора г-на де-Мортана с моею тёткой, но очень была рада, что мой покровитель с такою твердостью говорил с ней. Мне казалось, что скоро должна была произойти счастливая для меня перемена. Мысль поступить в пансион или монастырь, обыкновенно пугающая детей, чрезвычайно радовала меня. Я чувствовала, что везде будет мне лучше, чем у моей тётушки; мысль оставить её дом, сделалась для меня любимою, и я от всего сердца желала успеха г-ну де-Мортану на совещании, долженствовавшем решить судьбу мою. Роковой день наступил: меня одели изысканнее обыкновенного и ввели в залу, в которой собрались уже почти все мои родственники. Тут не было только г-на де-Мортана.
Меня посадили между тёткою и моим опекуном, г-ном д’Орбевалем. Все, казалось, боялись тётушки, и окружали её глубоким уважением. Они знали, какой вес она имеет в обществе. В её доме собирались знатнейшие чиновники, имевшие влияние на правление. Принцы из уважения к Людовику ХVIII, оказывали ей своё благоволение.
Талейран, который, как говорила моя тётка, возвысил ум свой до гения, а опытность до волшебства, часто проводил целые вечера с моею тёткою и принцессою Водемон.
Так как наружность всего более поражает детей и они не могут понять могущества ума, то естественно, что и я не могла понять, каким образом тётушка моя, не смотря на свою дурную и даже грубую наружность, имела столько власти над людьми, которые вовсе не были от неё зависимы.
Голова моей тётки и левое плечо, которое было гораздо выше правого, скрывалась за спинкою стула, на котором она сидела; её огромные ноги, всегда обутые в башмаки из чёрного бобра, покоились на высоком табурете.
Между тем, не смотря на её безобразие, не смотря на её злость, около неё собирался цвет лучшего парижского общества, и она высокомерно выговаривала тем, которые забывали посещать её.
Ожидали только г-на де Мортана; он вошёл; я знала, что от него зависела моя судьба, и потому сердце мое сильно забилось. Все мои родственники приняли его очень холодно. Едва только он вошел, как начали перешёптываться, и тихонько смеяться над его бородой и беспорядочной одеждой, хотя уже все знали о его странностях. Но всем была известна также глубокая ненависть моей тётки к нему, и потому, смеясь над ним, они хотели польстить ей.
После нескольких минут молчания, мой опекун г-н д'Орбеваль, просил г-на де-Мортана изложить причины, побудившие его собрать домашний совет.
Г. де-Мортан повторил от слова до слова всё то, что он говорил моей тётке, ни мало не смягчая выражений; в заключение он требовал, чтобы меня поместили в монастырь сестёр-Англичанок (dеs Anglaises), который был тогда в такой же моде, как впоследствии монастырь Св. Духа, (Couvent du Sacre-Coeur).
И продолжение его речи мадемуазель де-Маран казалась хладнокровною. Мои родственники часто изъявляли негодование против г-на де-Мортана, прерывая его речь, или перешептываясь между собою; взоры их, обращенные на мою тётку, казалось, искали ей защиты против грубой речи моего покровителя. Между тем он, ни мало не заботясь об этом шуме, только иногда пожимал плечами, и слова начинал говорить, ни сколько не изменяя прежнего тона.
Но ему надо было иметь много храбрости, чтобы нападать таким образом на мадемуазель де-Маран; стоя так высоко в обществе, окружённая таким множеством низкопоклонников, она могла найти тысячу средств навредить ему… Она даже не скрывала от г-на де-Мортана, что питает к нему непримиримую ненависть.
Я ещё была тогда совершенным ребёнком. Однако же помню одно движение моей тётки, которое, не смотря на свою незначительность, так врезалось в моей памяти, что оно ещё и теперь перед моими глазами.
Во время этого спора, лицо моей тётки было совершенно спокойно; ни одна черта, ни один взгляд не обнаруживали той ужасной бури, которая свирепствовала в груди её; она держала в руках длинную вязальную иголку… По мере того, как говорил г-н де-Мортан, мадемуазель де-Маран, казалось, всё более и более сжимала эту иглу в своих костлявых пальцах. Наконец, когда он сказал, что, «ежели ничто так не уважается, как безобразие старости и слабости, то ничего нет подлее, как употреблять во зло выгоду безнаказанно говорить дерзости человеку, который требует от неё отчёта в бесстыдном и жестоком поведении» — в эту минуту иголка, как бы нечаянно, сломилась на нисколько частей в руках моей тётки, и я никогда не забуду того ужасного взгляда, который она бросила на г-на де-Мортана.
Мой опекун посчитал своим долгом отвечать противнику моей тётки и стал смело осуждать его речь перед всем собранием. Г-н де-Мортан, казалось, очень мало беспокоился этим нападением, после которого г-н д'Орбеваль, с глубочайшим уважением и только для проформы, спросил мадемуазель де-Маран, не желает ли она несколько изменить моё воспитание, спеша при этом прибавить, что он наперёд уже совершенно согласен с её решением, зная, что никто лучше неё не может судить об этом предмете.
Мадемуазель де-Маран, не обращая внимания на слова г-на де-Мортана, со свойственною ей хитростью отвечала, что я не имею способностей, что голова моя слаба, что ум мой мало развит; и потому она думает, что не надо напрасно обременять ум мой, задавая уроки, которых я не могла выучивать; она говорила, что поступать иначе, значит только поселять во мне отвращение к труду; напротив того она хотела сначала позаботиться о моём здоровье, хотя, благодаря Бога, я не имела в нём недостатка; при том же я вовсе не была так не способна, как говорила моя тётка; напротив, я была в состоянии даже возвратить потерянное время, не боясь труда. В заключение она сказала, что, ещё до собрания домашнего совета, было уже положено немедленно начать мое образование.
Г-н де-Мортан мне часто говорил, что невозможно было защищаться искуснее моей тётки и скрываться под маскою, более похожею на истину; она ясно доказала, что экономя в первые годы моего воспитания, она хотела заготовить средства для того, чтобы после дать мне более обширное воспитание; она прибавила, что вполне понятно, если я скучаю в доме старой и слабой тётки, но что она обещала моему отцу никогда не покидать меня; что таким образом она не может думать, чтоб мои родственники захотели отдать меня в монастырь.
Чтобы согласить мнения всех, тётушка объявила, что мой опекун, склоняясь на её просьбу, согласился взять на несколько лет свою дочь из монастыря, и вверить её ей для того, чтоб у меня был товарищ моих лет.
Г-н д’Орбеваль был вдовец; его дочь будет таким образом разделять со мною мои занятия и будет жить в доме мадемуазель де-Маран.
Г-н де-Мортан, с обыкновенной своей суровостью и свободой, отвечал, что таким образом я буду нести издержки на воспитание дочери г-на д’Орбеваля, который был беден и согласился на это только по своей выгоде и из страха к моей тётке, которая может ему вредить и быть полезной; что во всех других обстоятельствах он не помешал бы дать мне воспитание дома, вместе с моею маленькою родственницею, но что имеет серьёзные причины думать, что влияние мадемуазель де Маран будет для меня гибельно, и что она может погубить и мою юность.
Глухой ропот негодования заставил его замолчать.
Мой опекун вскричал, что нога его дочери никогда не будет в доме моей тётки; что он склонился па сделанное ему предложение только для моей выгоды, но что если так худо толкуют его поступок, то он берет назад свое обещание. Между тем, когда все собрание, вместе с мадемуазель де-Маран, начало осуждать г-на де-Мортана и льстить д'Орбевалю, то он опять пообещал привезти свою дочь. Г-н де-Мортан, не в силах будучи долеe сносить его бесхарактерности, забылся до такой степени, что сказал: «Здесь во всем собрании, кажется, нет ни одного человека с душою, с характером: все вы трепещете перед этой коварной женщиной» (показывая на мадемуазель де-Маранъ); он с обнаженною шпагою поклялся защищать тех, которые свергнут постыдное иго этой женщины. Тут вдруг во всем собрании поднялся крик негодования против этого забияки, который силою хотел восторжествовать в семейном совете, и который не уважал ни пола, ни старости.
После этого, не имея более возможности оставаться в собрании, г-н де-Мортан с нежностью обнял меня и сказал: «Бедное дитя! Мы скоро увидимся опять. Пусть Бог хранит тебя от этой злой женщины и её льстецов! Потерпи еще, и будь уверена, что я найду средства спасти тебя.» Он опять меня обнял, и вышел.
Тут неудовольствие увеличилось и скоро обратилось в презрительное сожаление.
Те из моих родственников, которые могли бы поступить согласно с моим покровителем, и которые между тем не освободились от постыдного влияния мадемуазель де-Маран, не по недостатку мужества, но из боязни моей тётки, утверждали, что у него повреждён мозг, и что по этому нельзя серьёзно смотреть на его поступки.
Несмотря на горе, которое мне внушила неудача моего покровителя, я почти с радостью думала, что уже не буду скучать одна, и только воображала себе, как весело мне будет играть с моею маленькою родственницею; и я уже с меньшим страхом глядела на её отца; наконец я до того ободрилась, что решилась спросить у моей тётки, скоро ли приедет моя кузина?
К величайшему моему удивленно мадемуазель де-Маран отвечала мне без брани, и почти ласковым тоном, что дочь г-на Орбеваля непременно будет скоро.
Я пришла в восторг от этого заверения. Если бы я не была так счастлива, то, может быть, я бы с опасением ожидала приезда моей кузины, но тетерь я не могла думать ни о чём, кроме счастливой перемены в моем положении.
С этого дня поведение мадемуазель де-Маран в отношении ко мне совершенно изменилось. Тотчас же она призвала лучших парижских профессоров для моего образования. Потом она оставила моею гувернантку, г-жу Блондо, хотя она далеко не имела столько познаний, чтобы быть в состоянии исполнять свои обязанности; причину этого поступка моем тётки я отгадала уже позже.
Для прислуги она приставила ко мне горничную девушку; вместо прежнего грязного платья моя тётка хотела, чтобы на мне было богатое, изысканное, какого даже не носят в мои лета.
Прежде я ничего, кроме брани или насмешек, не слыхала от моей тётки, теперь же вдруг она стала осыпать меня самыми преувеличенными похвалами за мой ум, за мои способности, красоту и манеры.
Так как внезапная эта перемена должна была меня удивить, то мадемуазель де-Маран сказала мне, что было бы очень опасно говорить мне эти истины, когда я была ленива, но что так как я теперь прилежно учусь, то, в награду, мне говорят, что в целом свете нет никого пленительнее меня.
Горничная, которую мне дала тётушка в услужение, повторила мне то же самое. Наконец в доме все до Сервиена, начали мне льстить один перед другим.
Моя бедная Блондо ужаснулась от этой внезапной перемены. Она была ко мне привязана самою нежною любовью, и видела весь вред от этой перемены, и теперь она начала меня бранить за то, что я слишком забочусь о своем туалете, забываю молиться Богу, горжусь и капризничаю. Эти увещания мне становились день ото дня всё несноснее и, не смотря на всю привязанность, которую я имела к этой редкой женщине, любовь моя к ней остывала. Напротив, я начинала иметь всё более и более доверия к Юлии, моей горничной девушке, которая не упускала ни одного случая, чтобы раздражать меня против моей гувернантки.
Не смотря на всю ласку, с какою обращалась со мною мадемуазель де-Маран, я никак не могла истребить в себе того страха и отвращения, которые она поселила во мне прежде; однако же я всеми силами старалась хотя бы только показать ей мою к ней привязанность своим прилежанием. И действительно, я делала быстрые успехи в рисовании, музыке, в английском и итальянском языках, которым я училась со всем жаром, чтобы не отстать от моей кузины Урсулы д’Орбеваль, приезд которой мне тётка всё отсрочивала.
Мадемуазель де-Маран выезжала очень редко; но меня посылала всякий день в Булонский лес, в своей коляске с Юлией, потому что я не скрывала предпочтения, которое я оказывала ей перед другими.
Во все время прогулки она мне твердила, что все с восхищением смотрят на меня. Наконец через год после того, как тётушка занялась исключительно моим воспитанием, меня нельзя было узнать; я приобрела много знаний; ум мой развился, но вместе с тем в груди моей также быстро развивались самые дурные страсти. Несмотря на то, что спальня моей тётки украшалась распятием из слоновой кости, тётка вовсе не была религиозною. Она регулярно посылала меня к обедне с одною из своих служанок. За мною лакей нёс ковёр с моим гербом и богато переплетённый в бархат молитвенник, который я держала в руках во время обедни.
Эта пышность была столько же смешна, как и неприлична для девочки в мои лета, и я часто слышала, как, при моем приходе в церковь, говорили: «Слепая любовь мадемуазель де-Маран доходит до глупости».
Кончилось тем, что я начинала верить в эту привязанность. И действительно, везде говорили, что моя тётка любит меня до безумия, и что если некоторое время я была худо воспитываема, то это надо отнести к её слабости.
Еще до сих пор, есть люди, которые уверяют, что она всегда меня чрезвычайно нежно любила…
Ребёнок чрезвычайно способен к любви, но не менее того способен и к самому жестокому эгоизму.
Я часто поступала варварски, осыпая ласками мою горничную девушку нарочно в присутствии Блондо, чтобы рассердить бедную гувернантку.
Несчастная женщина, разгадав всё, не мучились завистью; она жестоко страдала, вида, как я её так забыла, — её, которая так нежно всегда любила меня.
Наконец моя неблагодарность вышла из границ.
По мере того, как развивался ум мой, мадемуазель де-Маран внушала мне если не привязанность к себе, то по крайней мере более внимательности к её словам. Мне казались забавными её колкие насмешки; она смеялась над Блондо, над её суровостью, над её наставлениями, и я смеялась вместе с нею. Она насмехалась над её невежеством, над её выражениями, и я опять смеялась.
Мало-помалу, с утратой этой чистой, святой любви, я стала показывать почти презрение к моей старой гувернантке, потому что тётушка своими насмешками, заставляла меня стыдиться фамильярного обращения с этой женщиной.
Конечно я была виновата, очень виновата; но мне было едва только восемь лет, а хитрая тётка напрягала все силы своего ума на то, чтобы поставить меня на эту пагубную дорогу.
Я так следовала её советам, так холодно обращалась с моею гувернанткою, что Блондо, употребив все средства, чтобы пробудить во мне прежнюю любовь, наконец сделалась больна.
Когда я увидела с ней ужасную перемену, бледность на лице и самое глубокое горе во взорах её, то поняла, какую глубокую рану нанесло ей мое жестокое поведение; я плакала и не хотела более оставлять её. Мадемуазель де-Маран, видя мою печаль, уверяла меня, что болезнь Блондо была притворная, и я опять успокоилась.
Никогда я не забуду того печального удивления, которое изобразилось на бледном лице моей гувернантки, когда она увидела, что я возвратилась к ней опять весёлая, с улыбкою на устах. Она, подняв к небу свои иссохшие руки, со слезами вскричала: «О Боже мой! Это ли Матильда, у которой прежде было доброе сердце её матери!.. Она погубила его, она погибла!»…
С этого дня она сделалась ещё молчаливее, ещё печальнее, и хотя была очень слаба, но всё хотела встать… Казалось, её все занимала одна и та же мысль, — всегда она была задумчива, погружена в себя. Наши люди считали её своею игрушкою. А она, прежде столько нетерпеливая, переносила все с удивительным равнодушием.
Я помню, как в одну ночь, проснувшись, я увидела, что она сидела подле меня, склонившись над моей головою; со слезами на глазах смотрела она на меня с такою глубокою тоскою, что раздирала мне сердце. Я испугалась и притворилась спящею. На другой день я всё рассказала тётушке. Она отвечала мне, что это была шутка Блондо, которая хотела испугать меня этим. Я поверила мадемуазель де-Маран, и ещё более рассердилась на мою гувернантку.
Наступил новый год; накануне тётушка сказала мне, что, вместо платьев или какой-нибудь вещи, лучше подарить Блондо денег. — «Эти люди более всего любят деньги», — прибавила она, отдавая мне для этого пять луидоров.
В прежние годы тётушка никогда ничего не давала мне для моей гувернантки; но как я тогда еще нежно любила её, то всегда писала ей несколько строк, исполненных самой простодушной нежностью, и вышивала ей какие-нибудь работы; и надо было удивляться, с какою удивительною скрытностью и искусством я это делала.
Невозможно себе представить радости, восхищения Блондо, когда, накануне Нового года, после вечерней молитвы, я приносила ей этот подарок.
Мне кажется, что было много трогательного, святого, в этом изъявлении любви бедной сироты, всеми оставленной, забытой, которая, ещё ничего не понимая, оставляет свои игры, чтобы заплатить долг своего сердца.
Так много было души в этой редкой женщине, что она бывала тронута до слез этим изъявлением моей привязанности к ней.
Вообразите же её печаль в ту минуту, когда в тот самый день, в который она привыкла получать от меня такой лестный для неё подарок, я беспечно и резво положила ей в руку мои пять луидоров.
Она ожидала обыкновенного подарка; так как я начинала порядочно рисовать, то она даже надеялась получить какое-нибудь произведение моего нового таланта! Несмотря на мою явную неблагодарность, она ни одной минуты не думала, чтобы я могла забыть, какого рода подарки я делала ей прежде. Она с горестью и беспокойством отдала мне деньги.
— Вы ошибаетесь, Матильда: это, верно, для Юлии… а для меня… для меня… не правда ли? у вас есть что-то другое.
Голос её дрожал и она с беспокойством смотрела на меня.
— Совсем нет, — отвечала я; — у меня нет ничего более для тебя.
— Однако ж в прежние годы, (и она старалась скрыть свои слезы) всегда… вы помните… вечером… после вашей молитвы… вы мне давали…
— Ах! да, я знаю, что ты хочешь сказать; но теперь, ты видишь, у меня нет времени, — я должна учиться. Да и притом вы ведь более всего любите деньги.
После этого, не обняв её, не оказав никакого знака любви, я положила ей в руку деньги, и вприпрыжку убежала из комнаты, чтобы ещё раз посмотреть на драгоценные горностаевые хвосты, которые подарила мне тётушка.
Но выходе из комнаты, я услышала глубокий вздох и звон луидоров, рассыпавшихся из руки моей гувернантки на пол. Но я, равнодушная ко всему, кроме подарка тётушки, даже не остановилась, не оглянулась.
Увы, мой друг! Хоть я ещё молода, но уже много перенесла, много пролила самых горестных слез! Но, видит Бог, что в самом отчаянии, я часто говорила: «Я всё должна переносить терпеливо, потому что я много причинила горестей женщине самых редких качеств, горестей, которые едва ли может переносить человеческое сердце!»
Вечером того же дня, не смотря на мое равнодушие к моей гувернантке, мне стало стыдно, что я так обидела ее; я ждала от неё упрёков, но она, напротив, была нежнее обыкновенного; только она была чрезвычайно бледна и расстроена. Мне показалось, что в её глазах было что-то необыкновенное.
Она уложила меня и несколько раз обняла с нежностью; я чувствовала, как её слезы капали на моё лицо. Во мне пробудилась прежняя любовь к ней, и я бросилась её на шею, прося у неё прощения.
— Чтобы я тебя обвиняла, тебя, о дитя… никогда! — говорила она, рыдая и целуя мои волосы и руки. — Никогда, бедное дитя! До тех пор, как тебе позволяли быть доброю, ты во всем была портретом своей матери. Но довольно об этом, милое дитя. Помолись Богу. Помолись тоже и за твою бедную няню. Оиа любит тебя: она имеет нужду в твоей молитве. Молитвы детей чисты, как молитвы Ангелов! Милосердый Бог любит и внемлет их молитвам.
Когда я кончила молитву, она нежно поцеловала меня в лоб и сказала: «Теперь прощай, моё дитя».
Я заметила, что она дрожала, что её руки тряслись, между тем она была чрезвычайно бледна.
Я уснула, но знаю через сколько времени проснувшись, я почувствовала, что что-то довольно тяжелое опиралось на меня. В страхе я вполовину открыла глаза. В камине ещё трещал маленький огонёк и освещал комнату слабым светом. Подле меня сидела моя гувернантка. Не смея сделать ни одного движения, я следила за нею глазами; её лицо всегда приятное, спокойное, теперь было так ужасно, что во мне стыла кровь от страха.
Она смотрела на меня и говорила сама с собою вполголоса:
— Нет, нет, я не могу более сносить этого. Это чудовище губит моё дитя; она сделала его равнодушным… поселила в ней презрение ко мне. Матильда более не любит меня. Я ей не нужна, мне не надо более здесь оставаться. Нет, я сегодня слишком много терпела; но мне показали презрение… Денег… мне… ах! я с ума сойду… я думаю, что я уже сошла с ума… Итак, пора кончить, ещё один поцелуй этому спящему ангелу. Он молится за меня: милосердый Бог услышит его молитву.
Говоря это, Блондо поцеловала меня в лоб, и прибавила рыдая: «Прощай! прощай! ты никогда не узнаешь, какое зло ты мне сделала, бедная малютка. Я тебя не обвиняю… о нет! это то чудовище, которое свело в могилу твою несчастную мать, которое хочет погубить твою душу… Прощай! ещё раз, прощай!.. О, прелестные, белокурые кудри! не буду я более целовать вас.» И я чувствовала, как она прикоснулась к моему лбу своими холодными, как лед, губами.
До этих пор, хотя я не спала, но глаза мои были закрыты. Раскрыв их, я увидела, что моя гувернантка отворяла окно; проникнув в её ужасную мысль, я подбежала к ней в ту минуту, как она была готова броситься вниз.
Несчастная женщина была в остолбенении. Мои крики привели её в себя, она пала на колена и вскричала: «Что я делаю? Господи! прости меня, я была безумна: я забыла, что дала клятву её матери никогда не оставлять дочь; но я столько страдала, особенно сегодня! Это милосердый Бог послал ко мне этого ангела, чтобы не дать мне совершить преступление. Нет, нет, я останусь подле тебя, милое дитя; я буду терпеть, умру, если надо, с печали, но умру подле тебя: я это обещала твоей несчастной матери, которая теперь, в небесах, слышит меня».
Эта сцена оставила во мне глубокое впечатление: я была так поражена отчаянием Блондо, что во мне навсегда погасла ненависть к ней. Я полюбила её более чем прежде, к крайнему неудовольствие моей тёти, которая уже надеялась истребить во мне эту искреннюю привязанность.
Спустя немного времени, тётушка объявила мне, что Урсула д’Орбеваль, моя кузина, дочь моего опекуна, наконец едет жить с нами; она прибавила, что я гораздо красивее её, что я гораздо более знаю, что обращение мое лучше, наконец, что ей будет очень приятно, если я дам почувствовать своё превосходство.
Таким образом, мадемуазель де-Маран не оставила во мне ни одного чувства во всей чистоте. Уже самое приятное и искреннее чувство радости — найти друга моих лет, было отравлено мыслью, внушить ей зависть ко мне, а следовательно необходимо и ненависть.
IХ. Друг детства
Для меня начиналась новая эра.
До сих пор чувства мои были неполны; даже тётушку ненавидела я не вполне, ибо ум её занимал меня. Я любила мою гувернантку, но мы не могли быть сходны характерами, ибо она была слишком старше меня.
Когда приехала Урсула д’Орбеваль, я была совершенно одинока. Я так заманчиво мечтала о дружбе, что приезд её, доставивший мне возможность осуществить мечты мои, был для меня неизъяснимым счастьем. Я забыла предательские советы тётушки, и вместо того, чтоб унижать Урсулу, я от всей души полюбила се.
Она приехала на другой день после нового года; она была только годом старше меня. По странному стечению обстоятельств, у неё были чёрные волосы и голубые глаза, между тем как у меня были волосы белокурые, а глаза чёрные. Мы были почти одинакового роста. Черты лица моей подрули были неправильны, но нельзя себе представить более приятной физиономии и более завлекательной улыбки.
Она носила траур но своей бабушке; черное платье ещё болеe оттеняло матовый цвет её кожи; выражение лица её так понравилось мне, что я бросилась к ней на шею, называя её сестрою.
Я невольно заплакала, и эти слезы были сладчайшими из всех пролитых мною. С трогательной прелестью принимала она мои ласки. Я повела её в свою комнату, и отдала ей в полное распоряжение все сокровища моей уборной.
Урсула не выказала ни неловкого замешательства, ни нескромной самоуверенности. Трогательно просила она моей дружбы, говоря, что она сирота, и что отец её всегда жестоко с нею обходился.
Я чувствовала, что во мне пробуждается целый мир новых ощущений; я постигла счастье быть полезною любимой особе, покровительствовать ей, защищать ее; я была богата, и потому была почти благодарна Урсуле за её бедность, за то, что она осталась покинута; я чувствовала, что сердце моё стремится навстречу к её сердцу, и готова была утешить её во всех тех чувствах, которых она ещё не испытала.
С тех пор как у меня появился друг, я уже не почитала себя ребенком; я сделалась большою, как говорят дети, сделалась серьезною, рассудительною; я стыдилась своего прошедшего и сказала Урсуле, показывая мои великолепные платья: «Это годилось, когда я была одна».
Двоюродная сестра моя носила траур; я тоже захотела носить его.
Целую ночь продумала я об этом намерении. Утром я с решимостью вошла в комнату мадемуазель де-Маран.
— До тех пор, пока Урсула будет носить траур, я бы также желала ходить в черном, — сказала я.
— Ты с ума сошла! — отвечала тётушка. — Урсула носит траур по причине, а у тебя нет причин носить его!
— А траур по маменьке? — возразила я, опустив печально глаза.
Тетушка громко засмеялась и сказала:
— Боже мой, как она забавна, со своими мрачными мыслями! Но шесть лет тому назад, ты уже носила траур по матушке своей, и этого достаточно.
— Я носила его, сама не зная, для чего ношу, — отвечала я, едва удерживал слезы. Смех тётушки оскорбил меня.
— Боже мой! что за странные мысли у этой малютки! — сказала тётушка снова смеясь и взяв меня за подбородок. — Хорошо… хорошо… желание твоё будет исполнено, шалунья, но только, вместо шерстяных платьев, которые носит Урсула, у тебя будут шёлковые, — это будет досаждать ей.
— Но я всегда хотела бы носить платья такие же, как и Урсула.
— Так вот уж до чего дошло, — сказала мадемуазель де-Маран, устремив на меня проницательный взгляд свой: — я не ожидала этого. Успокойся, пусть будет по-твоему. Траур скоро кончится и тогда вас обеих будут одевать одинаково: ты богата и тебе ничего не стоит дарить по временам платья бедняжке Урсуле.
— Вы не понимаете меня, тётушка, — вскричала я с нетерпением: — Урсула бедна, и потому мне хочется быть одетой, как она, но я не хочу, чтобы она одевалась как я.
Мадемуазель де-Маран ещё раз пристально на меня взглянула и сказала, с обыкновенным насмешливым видом своим:
— Боже мой, как это трогательно!.. Это наследственная чувствительность!.. Впрочем, тем лучше, — прибавила она, как бы говоря сама с собою. — Это похвально, — продолжала она, обращаясь снова ко мне. — Урсула вполне достойна любви твоей. Я с удовольствием вижу, что ты чувствительна; ты превосходишь лучшие надежды мои.
Довольная и гордая вышла я от тётушки и поспешила к моей доброй Блондо, чтобы сообщить ей счастливое последствие разговора моего с тётушкой.
— Вот вы опять сделались добры, — сказала Блондо, целуя меня, со слезами радости. — Слушая вас, я как будто слушаю вашу покойную матушку.
Можно бы подумать, что злость мадемуазель де-Маран прекратилась наконец; но нет, даже и в это время, она была в полной силе своей.
Никогда, напротив, не имела она большей уверенности, что может вредить мне в настоящем и будущем. Но я не знала тогда всего того, что знаю теперь, и вполне предалась восторженной дружбе моей, на которую Урсула отвечала мне с искренностью и признательностью.
Едва прошло несколько дней после приезда Урсулы в отель де-Маран, как я ничего уже от неё не скрывала. Я рассказала ей всё детство моё, утаив только намерение моей гувернантки, но и эта единственная тайна тяготила меня.
Хотя Урсула была несколько старше меня, но познания наши были одинаковы. Учителя наши старались более обо мне, и таким образом невольно помогали тётушке.
Боясь успехами моими оскорбить самолюбие Урсулы, я всячески старалась извинять свое превосходство.
Не знаю, была ли рождающаяся дружба наша неприятна мадемуазель де-Маран, но она снова начала мучить меня.
Под предлогом приучить нас к свету, она призывала иногда нас в свою гостиную.
Вы не можете себе представить, как мне было неприятно, когда тётушка, указывая на меня и на Урсулу, говорила людям, совершенно незнакомым мне:
— Вообразите, что племянница моя, которая гораздо моложе мадемуазель д'Орбеваль, во всем превосходит её, и учителя их не могут нахвалиться ею. Не правда ли, это удивительно? Мадемуазель д’Орбеваль девушка бедная, а бедные всегда прилежнее богатых; здесь же вышло противное. Матильде не довольно превосходить подругу свою богатством и красотою; она превзошла её прилежанием и познаниями. Бедненький ребёнок, живое подобие матери своей! — И она осыпала меня притворными ласками. Сердце мое разрывалось. Умоляющим взором глядела я на Урсулу, и когда мы остались наконец наедине, я со слезами бросилась в её объятия, умоляя простить меня за незаслуженные похвалы, которые мне расточали. Тронутая не менее меня, Урсула успокаивала меня, и стараясь доказать мне, что она не обижается оскорблениями тётушки, смеялась и уверяла меня в своей беспредельной ко мне дружбе. Я употребила все старания, чтоб уступить Урсуле первенство в занятиях, ленилась даже, но не могла достичь своей цели. Я решилась наконец совсем не учить уроков и доставить таким образом наверное, первенство моей подруге.
У тётушки были гости, и она снова позвала нас в гостиную.
После нескольких слов обыкновенного разговора, тётушка подозвала меня к себе и, обращаясь к одной из приятельниц своих, сказала:
— Вы, вероятно, будете упрекать меня в повторении, поговорить о тех, кого мы любим, так приятно, что я не могу воздержаться! Вы смеетесь, но догадываетесь, о ком я хочу говорить. Я без ума от моей Матильды; сравните сами Матильду и, например, мадемуазель д'Орбеваль. Ах, кстати: я позабыла сделать выговор Урсуле. — И, обращаясь к ней, она сказала со строгостью: — Вы ничего не имеете, всем обязаны Матильде, и несмотря на всё это, доводите её своею леностью до того, что она, чтобы уступить вам первенство, решается не учить уроков.
— Но, тётушка, — перебила я: — Урсула об этом ничего не знала.
— Видите ли, как она великодушна? — И тётушка снова поцеловала меня.
Снова обращаясь к двоюродной сестре моей, покрасневшей от стыда и не могшей удержать слёз своих, она продолжала прежним строгим голосом:
— Как не стыдно вам принимать, может быть, даже требовать таких пожертвований?
— Но, сударыня, — возразила Урсула, — клянусь вам, что я не знала.
— Хорошо… хорошо… я знаю, что о вас думать!
Поцеловав меня ещё раз, мадемуазель де-Маран отослала нас.
Ласки её возмущали меня. Я стала ненавидеть её больше прежнего. Я предчувствовала, что адская злость её восстановит против меня мою Урсулу. После этой сцены, я бросилась перед кузиной моей на колена. Бедняжка осыпала меня ласками, благодарила меня и уверяла в дружбе; но я заметила, что раны, нанесённые её самолюбию, были для неё тяжки и невыносимы!
Более всего боялась я, чтобы кузина моя не подумала, что я способна доносить на неё тётушке, или каким бы то ни было образом участвовать в похвалах, расточаемых мне.
Я решилась открыть войну с тёткой и раздражать её всеми средствами, чтоб доказать Урсуле, что я не изменница и готова разделять с ней брань тётушки. Нужно было действовать решительно; так как лень моя не только не восстановила против меня моей тётушки, но даже послужила причиною выговоров бедной Урсуле, то надо было провиниться как-нибудь иначе.
Долго размышляла я об этом великолепном предприятии. Я удвоила нежность мою к Урсул е, но употребила все возможные средства, чтобы спасти её от подозрений в том, что она знала о моем предприятии.
Между прочим, я задумала разбить прекрасную вазу из севрского фарфора, подаренную тётушке Людовиком ХVIII и весьма для неё драгоценную. Это не удовлетворило меня, ибо поступок этот мог быть приписан неловкости или неосторожности. Мне хотелось сделать что-нибудь преднамеренное и неизвинительное.
Мне пришло в голову поджечь в гостиной занавеси, но это могло повредить Урсуле и Блондо, и сверх того быть тоже приписано неосторожности.
Размышляя о моих злонамеренных замыслах, я не думала, что поступлю худо, напротив, подобные поступки казались мне великодушными, героическими; я чувствовала, что кровь кипит в моих жилах, и что самопожертвование моё неоценимо.
Я не знала ещё, на что решиться, когда судьба заставила меня вспомнить о тётушкиной собаки; Феликсе. Она не раз кусала меня, и накануне укусила Урсулу; кроме того она была любимцем тётушки, и мщение мое избрало Феликса своею жертвою.
Я была одна в тётушкиной комнате; Феликс лежал в своей норе и только голова его виднелась оттуда; мне хотелось нанести ему какой-нибудь вред, но я не знала, как приняться за дело, ибо он был зол и хитёр.
Теперь я невольно улыбаюсь, вспоминая об этих мелочах, но тогда я была в таком сильном волнении, какого я после никогда в себе не видала, даже в самых важных случаях моей жизни.
Мне пришла истинно варварская мысль. Я раскалила в камине докрасна щипцы и бесстрашно двинулась на врага.
Он бросился на меня с лаем, по обыкновению, но я искусно схватила его раскалёнными щипцами за ухо; он страшно завыл и упал, не имея сил дотащиться до норы своей. Видя муки несчастного Феликса, я почувствовала мгновенное раскаяние, но мысль, что я буду наказана при Урсуле, споро заглушила его.
Я как герой осталась на месте, со щипцами в руках и с врагом, валявшимся у ног моих.
Мадемуазель де-Маран вбежала в испуге, за ней следовал не менее испуганный Сервиен.
— Боже мой! Что такое случилось? — вскричала она, бросаясь к Феликсу. — Глупая, — сказала она, обращаясь ко мне, когда заметила обожжённое ухо своего любимца: — разве ты не могла посмотреть, чтобы он не подходил к огню? Сервиен, воды, льда, скорее!…
И с пеною на губах, задыхаясь от злости, она схватила меня за руку и ущипнула до крови. Выражение её лица было так зло и страшно, что я испугалась, но, преодолевая этот подлый страх, я отскочила от неё и, показывая щипцы, сказала с героическим хладнокровием:
— Я сама раскалила их и отожгла ухо вашему злому Феликсу.
Едва успела я договорить, как почувствовала костлявую руку тётушки на щеке своей.
Пощечина была так сильна, что я едва устояла на ногах. Я забыла всё, помнила только об оскорблении, нанесённом мне, и изо всей силы запустила щнпцами в тётушку.
Судьба помогла мне; щипцы попали в великолепную Севрскую вазу, и королевский подарок разбился вдребезги.
Я не раз слышала, мой друг, как вы анализировали то чувство, которое ощущали во время битвы, тот невольный инстинкт кровожадности, который увлекал вас, и потому утвердительно могу сказать, что я была воодушевлена тем же чувством.
Вследствие столь блистательной победы, не слушая угроз и упрёков тётеньки, я бросилась к дверям, крича изо всех сил: «Урсула! Урсула… поди сюда, посмотри!»
Потом, не будучи, вероятно, в состоянии вынести всех сильных впечатлений, какие я испытала, я лишилась памяти.
Представьте же мою радость! Очнувшись, я увидела себя в постели, в головах у меня стояла Блондо, а Урсула жала мне руки и обливала их слезами.
— Боже мой, дитя мое! Вы так всегда добры, как вы решились изуродовать эту собаку? Она, конечно, очень зла, но…
— А тётушка, что тётушка? — спросила я, прерывая её: — Она очень сердится?
— Она так сердита, что с ней сделался нервический припадок, — отвечала Блондо. — Она велела посадить вас на хлеб и на поду, в продолжении восьми дней.
— Ах, Урсула! — вскричала я, бросаясь к ней на шею.
— Это ещё не всё, — печально прибавила Блондо: — тётушка велела сделать вам толстое платье и нашить на него записку; вы принуждены будете явиться в этом платье в гостиную, при гостях.
— Видишь ли, Урсула, — сказала я, не скрывая радости: — меня также наказали! Она меня тоже ненавидит!
И вне себя от счастья, я бросилась обнимать мою кузниу.
— А! теперь я догадываюсь, — сказала Блондо, и слезы полились из глаз её, глядевших на меня с невыразимою нежностью.
Х. Первое причастие
Несмотря на тонкий ум свой, мадемуазель де-Маран не могла проникнуть в причины мщения моего против Феликса. Она думала, что я поступила так из ненависти и вражды к её собаке. Я восхищалась своим предприятием; Урсула казалась чрезвычайно тронутою этим странным доказательством моей дружбы; нежная наша привязанность усиливалась более и более.
Я находила характер Урсулы гораздо возвышеннее моего; я часто была вспыльчива, своенравна, упряма; кузина моя, напротив, всегда была терпелива, и необыкновенно кротка; её невинный и кроткий взор омрачался иногда слезами, но никогда не оживлялся сильным волнением чувства. Она, казалось, была предназначена страдать или жертвовать собою.
Тетушка будто бы начинала забывать мало-помалу мой проступок, и продолжала при всяком случае превозносить меня перед моею кузиной.
Кузина моя, вероятно, успокоенная доказательствами, которые я старалась давать ей в дружбе моей, казалась нечувствительною к коварным поступкам моей тётки.
Со дня первого причащения связь наша казалась мне неразрывною; мы делали самые несбыточные предположения, не хотели никогда расставаться, ни выходить замуж; жить как жила тётушка; очарованные дружбою, эта будущая жизнь старых девушек казалась нам самою завидною.
Три или четыре года, последовавшие за моим первым причащением, протекли без всякого важного приключения.
Единственным моим горем было, видеть, что несмотря на все мои просьбы, я всегда была наряднее одета, нежели моя кузина, и слышать, как мадемуазель де-Маран передо мною и кузиною моею говорила приезжавшим к ней знакомым:
— Удивительно, как годы переменяют черты… Смотрите, например… Матильда была только мила в детстве, теперь же, вырастая, она становится так удивительно хороша, что на улице мужчины останавливаются, заглядываясь на неё; Урсула, напротив, имевшая довольно хорошенькое личико, с годами делается настоящей дурнушкой; и притом вид такой обыкновенный!… Тогда как кузина её имеет замечательную физиономию. Ну, что ж делать, душенька, — прибавляла мадемуазель де-Маран, обращаясь к Урсуле, с лицемерною преданностью, и принимал на себя вид доброй женщины: нам надо покоряться и переносить… Ваша сторона в семействе не облагала ни красотою, ни грациозностью! Я-то уж могу хорошо рассуждать об этом, потому что я сама дурна, как смертный грех, и горбата как мешок с орехами; но, — кстати прибавила тётушка, обращаясь к своим приверженцам: — не правда ли, что талия Урсулы немного сгорблена? немного крива? Это почти незаметно… однако, конечно что-то да есть, не правда ли?… Как будто что-то семейное с отцовой стороны.
Приверженцы мадемуазель де-Маран слегка отвергали это мнение, но тётушка восклицала:
— Какая разница с Матильдой!… Вот волшебная талия, пряма и гибка, как трость; ни одна девушка её годы не сумеет так соединять грациозность с величественностью, и ум с красотой. Что же делать? Ты, бедная Урсула, не имеешь этих прелестных качеств. Верь мне, чтобы утешиться, что ты во всём настолько ниже твоей кузины, что тебе надо ею просто любоваться… Видишь, великодушные, дурные люди, утешаются собою, любуясь красотою других; это будет тем лучше с твоей стороны, что ты кажешься ещё хуже, когда тебя сравнивают с Матильдой; так всегда было со мною: я никогда не казалась так дурна, как когда находилась рядом с молодою и красивою женщиною; но я говорю тебе, что я утешалась, любуясь ею… Притом же ты имеешь тысячу причин любить Матильду; дружба ваша меня восхищает; она доказывает мне, что ты не неблагодарна: кузина твоя сделала тебе самое великолепное благодеяние, дав средства к блистательному воспитанию. Без неё ты никогда бы не смогла его получить. Мог ли бы отец твой давать тебе учителей, которым бы платили по луидору за урок? Повторяю тебе, что ты хорошо делаешь, любя и благословляя твою кузину; благодаря ей, ты талантами своими можешь заставить забывать про свою наружность, которая столько же неприятна, насколько привлекательна наружность кузины твоей…
Ничто не могло быть коварнее, ужаснее этих похвал и хулы на наши физические достоинства и недостатки.
Я никогда не постигала этой несправедливой скромности, заставляющей не сознавать своей собственной красоты. Красота есть достоинство, не зависящее от нас самих; сознаваться в нем, не значит гордиться, а только говорить правду.
Я понимаю, напротив, самое точное и строгое суждение, которое можно иметь о своих талантах и приобретённых достоинствах.
Итак я полагаю, что шестнадцати-семнадцати лет я была хороша, конечно не так хороша, как уверяла мадемуазель де-Маран: но все-таки я была столько красива, что оправдывала сколько-нибудь её похвалы, ежели бы они не были так ужасно преувеличены.
Таковы же были и хулы, которыми она осыпала мою кузину; она была высокаго роста, тонка, совершенно пряма; но что давало несколько справедливый вид злобным суждениям тётушки, так это то, что Урсула, как многие молодые девушки, которые рано выросли, держалась, немного сгорбившись. По этому видно, какое искусство, какую последовательность мадемуазель де-Маран прилагала к своему коварству.
Она употребляла те же средства против меня с самого моего детства. В некотором отношении она говорила правду, потому-то орудие её было обоюдоострое.
Тетушка хотела жестоко обидеть тщеславие Урсулы и возбудить моё самолюбие до нельзя.
Ежели суждения самые неправильные, ложные, повторяемые беспрестанно, оставляют в конце концов в нашем уме глубокие следы, то что же произведут мысли, имеющие вид правды?
Кузина моя стала наконец думать, что она была лишена всякой привлекательности и приятности: если я уверяла её в противном, то она принимала слова мои за выражение дружеского сожаления, и отвечала: «Боже мой! как ты добра, стараясь меня утешить… Я не ошибаюсь, мадемуазель де-Маран права — ты также красива, как я дурна; но я решилась переносить…»
Разумеется, слова кузины моей были искренни. Ничто тогда не могло заставить меня подумать, что тётушка достигла своей цели, и что она вкоренила горькую зависть в этом чистом и невинном сердце…
Но увы, последствия докажут, как велико было и преступление мадемуазель де-Маран, которая проникла в самые тайные и глубокие изгибы сердца человеческого, и дерзнула возбудить в душе Урсулы самую ужасную, свирепую и неукротимую страсть… зависть.
Другая опасность — возбуждение до крайности моего самолюбия, была не менее важна. Поступая таким образом, тётушка действовала даже мне на пользу, не зная того сама. Она навсегда сохранила меня от преувеличенной лести. Лесть делается всего опаснее, когда к ней привыкнешь, и сознаёшься в справедливости похвал.
Тогда слепо предаёшься очарованию этих приятных слов; они напоминают прошедшее, исполненное любви, доверенности и искренности.
Какую очаровательную силу имела бы лесть, которая казалась бы продолжением похвал матери?
* * *
Когда я говорила Урсуле о намерениях, которые мы имели в детстве, и которым я хотела всегда оставаться верна, она говорила, печально улыбаясь: «Это хорошо мне оставаться старой девушкой; я бедна и не хороша собою; но ты, богатая, красавица, прелестная, ты выйдешь замуж, будешь счастлива. Но оставь мне только местечко в твоём сердце и доме, чтоб я беспрестанно могла присутствовать при твоём счастье.
Увы! Судьба часто горько шутит нашими желаниями и предположениями! Мне минуло семнадцать лет. Мы с кузиною моею почти никогда не выезжали из дому мадемуазель де-Маран.
Иногда мы ездили в театр с месье д’Орбевалем, нашим опекуном: но мы не были ещё вывозимы в свет. Очень редко оставались мы и в гостиной тётушки. Она принимала гораздо более мужчин, нежели женщин, а присутствие молодых девушек всегда некоторым образом стесняет беседу.
Мадемуазель де-Маран, думая, вероятно, о моем замужестве, решилась, к своему великому сожалению, вывезти меня в свет в начале 1830 года.
Она сообщила это намерение мне и кузине, прибавив, по своему обыкновенно, несколько неприятных слов для Урсулы.
— Ты не только у меня будешь страдать от сравнения, которое будут делать между тобой и Матильдою, — говорила она, — но перед лицом всего света… Вооружись терпением, милое дитя… Первое твоё испытание настанет скоро. Завтра утром я представлю вас австрийской посланнице, а в среду я повезу вас на большой бал к ней. Пора уже вступить вам в большой свет. Я стара, здоровье мое слабо; но мне не хотелось бы умереть, не выдав замуж мою милую племянницу… и притом так, как бы мне того хотелось.
ХI. Вступление в свет.
Живя в глубоком уединении, мы с Урсулой очень беспокоились, узнав от тётушки, что мы пойдём на бал австрийского посланника. Привычки наши до сих пор были так правильны, так однообразны. Утром мы учились, потом ходили или ездили гулять; возвратившись домой, одевались и работали до обеда в гостиной.
В это время к тётке приезжали обыкновенно её друзья. Их было не много, и все участвовали в эмиграции вместе с отцом моим.
Между ними более всех нравился нам герцог де-Верзак, один из самых важных любимцев короля. Несмотря на его семьдесят лет, трудно было бы сыскать более весёлого, любезного и молодого старика. Он был ещё очень ловок, прекрасно ездил верхом и не пропускал ни одной королевской охоты. Он всегда очень ласкал меня и часто, к величайшей моей радости, заступался, смеясь, за Урсулу.
Он имел самый любезный, по неосновательный характер; всю жизнь свою старался он нравиться и навсегда сохранил привычку говорить лесть и любезности. Никогда, я думаю, не произнёс он ни одного слова насмешливо-критического.
Теперь, я иногда невольно думаю, что эта безжалостная, благосклонность скрывала, если не презрение, то, по крайней мере, глубокое равнодушие ко всем и ко всему. Впрочем, если это чувство и существовало в г-не де-Верзаке, то в него невозможно было проникнуть. Я даже не могу представить себе его не улыбающимся и не говорящим комплиментов.
Я как теперь помню его лицо, полное благородства и грации, свойственной одной счастливой старости. Седые волосы его были причесаны с изысканностью, и когда к вечернему, не по летам франтовскому костюму своему, он присоединял голубую ленту и звезду Святого Духа, то трудно было представить себе более приятный тип старинных аристократов Франции.
Он редко видался с женою своею, герцогинею де-Верзак, удалившуюся, со времени восстановления Бурбонов, в Пантемонское аббатство и вполне посвятившую себя благочестию.
Вы, вероятно, не удивитесь, мой друг, что я так долго говорю вам о герцоге де-Верзаке: вы знаете, я была впоследствии с ним очень близка.
Между прочими лицами, составлявшими утренний кружок тётушки, был ещё одни министр короля. Он был прекрасный человек и очень забавлял нас своею рассеянностью и вечным желанием спать. Он засыпал иногда среди белого дня, и мы немало над ним смеялись.
Радость нашу дополнял обыкновенно приезд г-на Биссона, человека европейской учености и одного из достойнейших членов Академии Наук. Он был высок ростом, чрезвычайно худ, имел маленькую голову и самое добродушное лицо; длинная шея его выдавалась из тоненького и узенького белого галстука, повязанного обыкновенно задом наперёд. Он всегда ходил в меховом платье, и никогда не ездил в карете, боясь опрокинуться; часто, в ненастную и грязную погоду, он являлся к нам в самом жалком виде. Исполненный ума, познаний и доброты, он имел один неисцелимый порок — любил до всего дотрагиваться, сдвигал всё с места и часто ломал. Тетушка выходила в таких случаях из себя, но так как ей приятно было говорить с человеком, подобным г-ну Биссону, то она скоро успокаивалась.
Я никогда не забуду происшествия с прекрасной эмалевой табакеркой, во время одного рассуждения по поводу речи о этрусских вазах, произнесённого, кажется, герцогом Льюном, в Академии наук.
Сперва Г-н Биссои довольно невинно повёртывал табакерку в руках, но так как мадемуазель де-Маран нападала на него без жалости, то он вышел из себя и, желая доказать что-то, сильно ударил табакеркою о камин. Повторяя это действие при каждом почти слове, он совершенно уничтожил прекрасную табакерку.
— О несносный человек! — вскричала тётушка, заметив разрушение табакерки своей по рассыпанному табаку и осколкам эмали. — Отныне я запрещаю вам являться ко мне на глаза. Прошлый раз разбил прекрасную хрустальную бонбоньерку, стоившую мне более пятидесяти луидоров; сегодня уходил мою любимую табакерку. Ступайте вон, сударь, и чтобы нога ваша не была больше в моём доме.
— Но куда же идти мне теперь, — возразил г-н Биссон. — Теперь только половина третьего, а в Институте должен я быть не ранее половины четвёртого, — и, схватив каминный экран, он начал и его развинчивать.
— Как куда идти вам? Да мне-то что за дело? Разве дом мой гостиница для всех праздных членов Института? Это что еще? — спросила она, увидав его новое занятие, и принуждена была вырвать у него экран.
— Удивительно, как теперь дурно работают, — заметил г-н Биссон, схватив какую-то метёлочку и мешая ею в камине, как кочергою.
Подобные сцепы, весьма забавлявшие нас, повторялись часто, потому что г-н Биссон скоро забывал свои промахи, а мадемуазель де-Маран не могла долго на него сердиться.
После утреннего приёма мы садились обедать с мадемуазель де-Маран; повар у неё был прекрасный, но она была чрезвычайно жадна и часто возбуждала в нас сильное отвращение.
Обед был для нас мучением. Мы удалялись только тогда, когда тётушка засыпала в креслах своих, по привычке, которой никогда не изменяла. Я не смела её будить, и если кто-нибудь приезжал, то вынужден был дожидаться её пробуждения.
Мы удалялись с Урсулой в нашу комнату, и там занимались чем-нибудь до чая. Никогда не присутствовали мы при вечерних сборищах мадемуазель де-Маран; она мало принимала женщин, да и те были её лет. Вы поймете, друг мой, что, привыкнув к этой монотонной жизни, мы были ослеплены перспективой балов и праздников, открывавшейся перед нами.
В первую минуту мы очень обрадовались, потом, размышляя, невольно призадумались.
Ночь перед балом провела я в странном волнении. По мере приближения этого дня, я более и более чувствовала неприятную тягость и грусть. У меня не было матери, и я стала жалеть о ней более, чем прежде.
Мысль, что я вступлю в свет одна, без руководительницы и покровительницы, что я буду предметом общего любопытства, терзала меня и тягостно сжимала мое сердце.
Сверх того я боялась за Урсулу. Тётушка так часто повторяла мне, что Урсула дурна собою, что я почти этому поверила, и боялась, чтобы свет не оскорбил своими насмешками и замечаниями моей дорогой подруги.
Я трепетала, думая, что Урсула, не смотря на всю её кротость и покорность судьбе, позавидует, может быть, моим светским преимуществам и обвинит меня в них.
До сих пор, самолюбие её страдало только при нескольких друзьях тётушки: что ж бы с нею сделалось, если бы затронули его в блестящем собрании?
Уверяю нас, друг мой, что эта мысль мучила меня более других: так была сильна любовь моя к Урсуле. Я намеревалась даже разделить с нею мое состояние, и это было не детское, необдуманное желание, но твердая и непреклонная решимость.
Наконец день бала наступил. Несмотря на уродливость и небрежность свою, мадемуазель де-Маран была одета со вкусом; её привычка критиковать и отвращение ко всему прекрасному, были столь постоянны, что вкус её сделался строг и суждения о нем безукоризненны.
Она одела нас совершенно одинаково и чрезвычайно мило. После я невольно спрашивала себя, как ей не пришло на мысль изуродовать меня каким-нибудь странным одеянием? Это было так легко и надолго уронило бы меня в мнении света, ибо первое впечатление изглаживается с трудом. Но мщение это было бы недостойно тётушки; она желала и сделала лучше.
Если бы я не боялась нарушить порядок рассказа, объясняя вам некоторые подробности, узнанные мною после, вы бы увидели, что и тогда уже я была вполне опутана предательскими сетями мадемуазель де-Маран, которые соткала она с такою предусмотрительностью и знанием сердца человеческого.
ХII. Бал
С самого утра разговаривала мы уже с Урсулой о предстоящем вечере. Урсула была скучна, недоверчива сама к себе и не хотела ехать на бал. Она призналась мне, что проплакала целую ночь, хотя на лице её и не было видно следов бессонницы.
Впрочем, она была очень задумчива. Я как теперь вижу её печально сидящую; локоны волос закрывали лоб её; она по временам вздыхала и поднимала к небу прекрасные глаза свои.
— Урсула, сестра моя! — говорила я ей: — Ободрись, отгони от себя слепые страхи: ведь я с тобою. Я также не знаю света, в который вступаем мы, и которого страшимся, может быть, напрасно. На нас не обратят внимания, и мы мало-помалу привыкнем. Мы будем всегда вместе, будем сообщать друг другу наши наблюдения. Что ж, если мы и будем на первый раз неловки, если и посмеются над нами, — мы вознаградим себя в другой раз и посмеёмся в свою очередь.
Урсула улыбнулась и сказала мне, с нежностью пожимал мои руки:
— Прости меня, Матильда, но я не могу передать тебе все отвращение моё к свету. Я чувствую, что никогда не привыкну к нему. Я бедна, я не красавица, и потому мне не следует выставлять себя напоказ, мне надо оставаться в тиши, и не спешить навстречу презрению. Ты — другое дело: ты имеешь всё, чем можно блистать в свете; ступай же одна… мне так приятно будет слышать о твоих успехах. Когда же ты возвратишься усталой от удовольствий и лести, ты всегда встретишь мой беспокойно-нежный взор и отдохнешь на моей груди.
Глядя и слушая Урсулу, я восхищалась ею; невозможно было бы не найти её очаровательной, хотя черты лица её были неправильны.
Голос её был так чист и сладок, голубые глаза светились так приятно, что невольное очарование овладело бы и вами, друг мой.
— Как можешь ты сомневаться в себе, — вскричала я, — с таким голосом и такими небесными глазами? Я, сестра твоя, привыкшая видеть и слышать тебя, так очарована красотой твоей, что готова бы завидовать тебе, если б была к тому способна. Ты не знаешь себя, ты, так сказать, не видала ещё себя. Поверь мне, что ты — истинно прекрасна! Мужайся, друг мой, будем взаимно помогать друг другу и, может быть, завтра же мы будем смеяться над сегодняшними нашими страхами… Наконец объявляю тебе, что если ты не поедешь, то не поеду и я.
— Матильда, умоляю тебя, не требуй! Я не могу!
— Это не хорошо, Урсула. Ты знаешь, что тётушка будет выговаривать тебе, если я ради тебя не буду на этом бале… Неужели тебе хочется огорчить меня?.. Урсула, друг мой, если ты мне откажешь, то я буду вправе думать, что ты почитаешь меня равнодушною к твоим горестям… а я, кажется, не заслужила этого.
— Матильда! Что ты говоришь?.. Я более не колеблюсь.
Чем ближе подходил вечер, тем более я беспокоилась, и более за Урсулу, нежели за себя. Несмотря на её видимое спокойствие, я не знала, будет ли идти ей бальное платье. Чтобы не испортить первого впечатления, я не стала смотреть, как она одевается, и сошла в гостиную.
Там я встретила мадемуазель де-Маран и герцога де-Верзака, который должен был провожать нас на бал.
Я не имею прежних претензий, друг мой: мои красота и юность далеки от меня! Я так мало похожу на прежнюю семнадцатилетнюю Матильду, что могу говорить о ней, как о чужой; кроме того, надо иметь много скромности и уничижения, чтобы сказать: я была прекрасна.
Представьте же себе друга вашего, лет десять тому назад, во всем цвете юности, с русыми локонами, украшенными гирляндой живых цветов, в белом, очень простом креповом платье, также украшенном цветами; супруга дофина сама выбирала эти цветы в своих теплицах и прислала их моей тётушке.
Я была очень стройна. Герцог де-Верзак хвалил руки мои; впрочем, о ногах и руках я не должна говорить, ибо они не изменились.
Я была очень хороша, может быть, даже слишком хороша, ибо тётушка, не смотря на привычку восхищаться мной, взглянув, на меня, нахмурила брови. Впрочем, она тот же час преодолела своё неудовольствие и, обращаясь к герцогу де-Верзаку, сказала:
— Нe правда ли, она прекрасна?
— И к счастью, она довольно умна, — отвечал герцог, — и это избавит её от необходимости слушать дифирамбы своей красоте.
Мадемуазель де-Маран была в шёлковом, своего любимого цвета, платье, и в первый раз ещё надела весьма простой чепчик, украшенный цветком. С нетерпением я ждала прихода Урсулы; наконец она вошла. Не подумайте, что я преувеличиваю, если скажу вам, что я не узнала ее: так она похорошела. В особенности она была хорошо причесана. Её длинные чёрные волосы были разделены на середине головы и длинными локонами падали на щёки и плечи; её матовая бледность, томный взгляд и грустная улыбка, казалось, осуществили собой идеал мечтательной меланхолии, — выражение, не свойственное правильным чертам лица.
Когда я читала Шекспира, то всегда вспоминала об Урсуле, если воображала себе Офелию.
Я держала себя прямо и выказывала тем всю роскошь своей талии; она имела обыкновение склонять свою головку, подобно цветку, наклонённому ветром, и потому шея её была немного согнута, и это придавало ей невыразимую прелесть и красоту. На лице её была написана кроткая грусть; улыбка её была невыразима.
Я привыкла видеть Урсулу печальной; но в день бала она показалась мне олицетворённой грустью и опоэтизированной покорностью в бальном платье.
Но, увы! — эпиграммы мои не отомстят этой коварной неприятельнице за всё зло, ею мне причинённое… Могла ли я предвидеть в ней такую скрытность и двуличие?.. Но возвратимся к рассказу.
Я быстро подошла к Урсуле и поздравила, взяв её за руки.
— Останьтесь так, останьтесь рядом, — вскричал герцог де-Верзак. — Какой очаровательный контраст! Вы, Матильда, прекрасны, с челом, сияющим радостью, вы — царица наших праздников, а подле вас — Урсула, олицетворение грусти со слезою на глазах.
Тетушка засмеялась и сказала герцогу:
— Смелей, смелей! Зачем же вы остановились и не продолжаете сравнения? Так удобно было бы сравнить их с пышной розой и скромной фиалкой. Ха, ха, ха! Вы меня смешите вашими сравнениями! У одной 100.000 франков ежегодного дохода, а у другой ровным счётом ничего; вот почему у одной чело сияет радостью, а у другой — слеза на глазах!
Сравнение герцога, колкое замечание тётушки и наконец зависть, возбудили во мне неприятное чувство, которое обратилось в укор мне самой.
Не подозревая смысла тётушкиных слов, я подумала, что имею гордый вид, и позавидовала скромности моей кузины. Конечно, эта мысль была непродолжительна: я устыдилась самой себя; но минутное чувство зависти тем не менее оставило во мне тягостное впечатление.
— Ах, Боже мой! я и забыл, — сказал тётушке герцог, когда мы уже выходили: — Гонтран возвратился из Англии, а я до сих пор не известил вас.
— Ваш племянник?.. Тем лучше!.. Он будет танцевать с нашими девицами.
Я с удивлением взглянула на Урсулу; никогда ещё не слыхала я имени этого племянника. Мы уже садились в карсту, как вдруг явился один из тётушкиных друзей и попросил её уделить ему несколько времени, для сообщения какой-то важной тайны. Тетушка удалилась с ним в библиотеку, герцог де-Верзак взял вечерний журнал.
Под предлогом застегнуть какой-то крючок, я увела Урсулу в тётушкину комнату и, бросившись ей на шею, откровенно призналась в моей зависти, умоляла простить меня.
Урсула до слёз была тронута моею откровенностью и старалась успокоить меня самыми нежными словами.
Я возвратилась в гостиную со спокойным и весёлым сердцем, обещаясь как можно менее походить на богатую наследницу.
Наконец мы отправились.
ХIII. Представление
Входя с герцогом де-Верзаком в первую залу посольства, я чувствовала, что бодрость моя покидает меня. Впрочем, приём, оказанный мне супругой посланника, полный учтивости и доброты, несколько ободрил меня.
Мадемуазель де-Маран шла под руку с Урсулой.
Здесь я убедилась во влиянии тётушки и в страхе, внушаемом ею. При входе её на бал, её окружили и осыпали любезностями, — записная красавица не могла бы быть лучше принята; впрочем, она не обращала большого внимания на лесть и любезности и принимала их с гордым покровительственным видом.
Мы повернули в галерею, где происходили танцы. Герцог де-Верзак, ведший меня под руку, называл мне по имени все замечательные лица, встречавшиеся нам.
Мы остановились на некоторое время при входе в галерею. Здесь услышала я следующие слова, произнесённые двумя невидимыми для меня особами:
— Знаете ли, Ланкри возвратился из Англии?… Я сейчас встретил его… Он блистательнее прежнего.
— В самом деле! Я думаю, герцогиня де-Ришвилль очень рада; она без него скучала, бедняжка.
Герцог де-Верзак, должно быть, слышал эти слова: он быстро двинулся вперёд, не желая, вероятно, чтобы я слышала их.
Впрочем, я не обратила тогда на эти слова никакого внимания и последовала за герцогом. Когда я собиралась на бал, то думала, что буду неловка; но приехав туда, я не только не растерялась, а напротив, почувствовала себя довольно свободно: я знала, что принадлежу к тому обществу, среди которого находилась, и мне казалось, что я среди своих.
Пойдя в танцевальную галерею, я была почти ослеплена блеском и богатством уборов. Г-жа Миркур, приятельница тётушки, сопровождавшая одну молодую даму, в первый раз выехавшую в свет, вызвалась доставить нам места возле себя. Мадемуазель де-Маран согласилась, и мы с Урсулой уселись между тётушкой и г-жой Миркур.
Несколько стоявших перед нами лиц оглянулись. Г-жа Миркур наклонилась к тётушке и спросила её о причине смеха.
— Разве можно удержаться от смеха с этой насмешницей, — сказала мадемуазель де-Маран, указывая на меня. — Вы бы сами рассмеялись, если бы могли слышать её едкие и колкие замечания. — Потом, обращаясь ко мне, она сказала мне тоном дружеского упрёка: — Не будьте так умны, сударыня! Могут подумать, что я сделала вас такою злою.
Всё это было сказано довольно тихо, но так, чтобы окружающие могли нас слышать.
Я с удивлением посмотрела на тётушку. Урсула наклонившись ко мне, спросила меня, чем насмешила я тётушку, и что нашла я достойного эпиграммы.
— Я ни слова не понимаю из сказанного тётушкою, — отвечала я.
Вот разгадка тётушкиного поступка. Она желала составить мне репутацию злой женщины, и вы знаете, что это удалось ей, ибо сами тому поверили благодаря предательским словам мадемуазель де-Маран, многие (как я узнала после от леди Фиц-Аллан) из стоявших перед нами, почли себя предметом моих насмешек.
Я в первый раз явилась в свете; вы догадываетесь, что я, по многим причинам, должна была быть замеченной; поэтому слова мадемуазель де-Маран разнеслись по зале с быстротою молнии.
Для женщины нет ничего хуже, как прослыть насмешливой… Дураки, опасаясь её, клевещут на неё; умные люди завидуют ей, добрые и великодушные удаляются от неё. Поэтому, полчаса спустя после приезда моего на бал, я уже имела неприятелей.
Леди Фиц-Аллан рассказывала мне, что злая насмешливость моя сделалась тогда на некоторое время предметом всех разговоров. Суждения о едкой иронии Матильды де-Маран были на устах всех.
Никто не слыхал моих сарказмов, но, как и всегда случается, все говорили о них.
Тетушка, желая довершить дело, через некоторое время сказала Урсуле:
— Будьте же, друг мой, повеселее: в ваши лета не следует так дичиться.
Слова эти, подобно первым, разнеслись по зале, и все решили, что я настолько же зла, насмешлива и ветрена, насколько Урсула добра, скромна и рассудительна.
Вы знаете свет, друг мой, вы знаете, что он редко отказывается от первого впечатления своего, и потому поймете, какое роковое влияние на судьбу мою имели тётушкины слова.
Моя неопытность и самолюбие ещё более увеличили сделанное мне зло… Долго оплакивала я после эту приобретенную мною славу. Сперва я даже гордилась ей; я думала, что насмешливость и ирония — суть доказательства ума.
К нам подошел герцог де-Верзак, с племянником своим, виконтом Гонтраном де-Ланкри.
Признаюсь, я едва скрыла удивление моё при виде де-Ланкри; ему было тогда около тридцати лет. Трудно представить себе человека более приятного, с более привлекательной наружностью. Вы, вероятно, удивитесь, друг мой, тому беспристрастию с которым я буду говорить вам о нём. Начертывая эти строки, я сама удивлялась тому, как свежо сохранились в моей памяти все подробности этого дня и как удачно могла я отделить их от последующих происшествий. Судите о власти моей над самой собою, или, лучше сказать, о печальном состоянии моего сердца, по хладнокровию, с каким опишу я вам г-на де-Ланкри.
Увы! может быть, не всегда сохраню я теперешнюю твердость. Может быть, горькие и дорогие воспоминания заставят мою руку дрожать от горестного волнения, при описании других происшествий. Я постараюсь вспомнить тогдашние мои впечатления. Не смейтесь над некоторыми пустыми подробностями: я была очень молода, и никого лучше г-на де-Ланкри не видала.
Он был сперва пажом при короле и храбро служил во время испанской войны. Получив, впоследствии место при посольстве, ои покинул военную службу и, благодаря милостям короля и покровительству герцога де-Верзака, был назначен камер-юнкером.
Первое моё свидание с ним на бале австрийского посольства живо сохранилось в моей памяти. В этот день был церемониальный приезд ко двору, и потому многие мужчины явились на бал в мундирах. Виконт де-Ланкри был из их числа; на нем был великолепный мундир, на шее крест Почётного Легиона и на груди звезда иностранного ордена. Он был среднего pоcтa, но чрезвычайно строен; черты лица его могли бы (по весьма справедливому замечанию тётушки) принадлежать афинскому греку. Волосы у него были каштановые, глаза карие, зубы белизны восхитительной, а руки и ноги могли бы заставить позавидовать женщину; я уже сказала вам, что ему было около 30 лет, но он казался не старше двадцати пяти.
Эти природные преимущества, соединённые со знаками отличия, достающимися за важные заслуги, делали особу виконта де-Ланкри весьма примечательной.
Когда он подошёл к нам, тётушка, протянув ему руку, сказала:
— Здравствуйте, любезный Гонтран!.. Я только за час узнала, что вы возвратились из Лондона; ну, как вы там поживали?
Г-н виконт улыбнулся, нагнулся к тётушке, и сказал ей что-то на ухо.
— Перестаньте! — сказала тётушка, смеясь. Потом прибавила: — К счастью, такой старухе, как я, можно всё говорить, но в наказание вы будете танцевать с этими девицами. — И, обратившись на мою сторону, она произнесла с достоинством: — Матильда де-Маран, моя племянница.
Г-н де-Ланкри почтительно поклонился.
— Урсула д’Орбеваль наша кузина, — произнесла тётушка почти тем же тоном, с небольшим, впрочем, уклонением голоса, весьма заметным, вероятно, для того, чтобы выказать меня более.
Г-н де-Ланкри снова поклонился.
Я опустила глаза и почувствовала, что покраснела. Рука моя, почти со страхом, сжала руку Урсулы, лежавшую в моей.
— Удостоите ли вы станцевать со мной первую кадриль? — сказал мне г-н де-Ланкри.
Я согласилась, бросив боязливый взгляд на мадемуазель де-Маран.
Г-н де-Ланкри поклонился и, обращаясь к Урсуле,, сказал: «Могу ли я надеяться, что вы не откажетесь станцевать со мною вторую кадриль?
— Конечно, сударь, — отвечала Урсула, вздохнув; опуская голову, она бросила сквозь длинные ресницы свои меланхолический взгляд на виконта.
В это время молоденькая, хорошенькая женщина, усыпанная брильянтами, очень смуглая, стройная, с гордым выражением лица, орлиным носом и чёрными проницательными глазами, прогуливавшаяся с молодым английским полковником, остановилась около нас.
— Вы очень скоро забываете друзей своих, виконт, — сказала она звучным и приятным голосом.
Г-н де-Ланкри быстро обернулся, скрыл довольно заметное замешательство и, наклоняясь, отвечал:
— Я не заслуживаю этого любезного выговора, герцогиня; я только сегодня утром возвратился из Лондона, и надеялся завтра иметь честь засвидетельствовать вам своё почтение.
Как часто предчувствия наши сбываются! В то самое мгновение, когда г-н де-Ланкри произнёс слово: «герцогиня», я уже не сомневалась, что передо мною герцогиня де-Ришвилль, имя которой я слышала за несколько времени до этого, вместе с именем Гонтрана.
Раздались звуки кадрили.
— Видите ли, как я добра, — сказала герцогиня: — я прощаю вам вашу забывчивость и даже ещё открою вам тайну, что пока ни с кем не танцую этой кадрили.
Г-н де-Ланкри снова с удивлением взглянул на неё, и отвечал с видимым замешательством:
— Я не счастлив, сударыня… я мог бы танцевать эту кадриль с вами, а теперь буду иметь удовольствие танцевать с мадемуазель де-Маран, которую я только сейчас ангажировал.
Герцогиня де-Ришвилль, думая, что речь идёт о тётушке и что г-н де-Ланкри шутит, засмеялась и сказала:
— Вы, кажется, нарочно приехали из Лондона, чтобы танцевать с мадемуазель де-Маран; уж нет ли в Лондоне клуба чудаков и не принадлежите ли вы к нему?
Г-н де-Ланкри поспешил прервать герцогиню. Она была очень близорука и не заметила тётушки.
— Я буду иметь честь танцевать с Матильдою де-Маран, — сказал он, делая ударение на слове Матильда и слегка наклоняя голову в мою сторону.
— Так её уже вывозят?
Опа взяла свой маленький черепаховый лорнет и посмотрела на меня, как показалось мне, довольно благосклонно. Тетушка не проронила ни слова из этого разговора. Видя, что герцогиня продолжает меня лорнировать, она сказала ей, не вставая с места, своим сухим и повелительным голосом:
— Не правда ли, герцогиня, моя племянница прелестна?
— Очаровательна, — сухо отвечала герцогиня, опуская лорнетку. Она подошла к тётушке и сделала ей полупоклон, полный благородства и изящества.
Я узнала после, что тётушка и герцогиня и ненавидели друг друга; это объяснило мне то любопытство, с каким все смотрели на них обеих.
— И я радуюсь за малютку, — продолжала тётушка, — что она вам нравится; ваше одобрение должно непременно принести счастье вступающей в свет девушке… Впрочем, я никак не могу надеяться, чтобы племянница моя когда-нибудь могла сравниться с вами…
По-видимому, слова эти были весьма учтивы и естественны, но я знала тётушкин образ выражения и почувствовала, что в них скрывается какое-нибудь коварство. В самом деле, когда я подняла глаза, то заметила, что герцогиня старается казаться спокойною и что вcе остальные в замешательстве.
Вы, друг мой, встречали в свете герцогиню де-Ришвилль, н знаете, до какой степени преувеличивали легкомысленность её поведения. Говорили, что ей никак не простили бы её ошибок и того, что она довела мужа своего до развода, если бы честь знаменитого имени её, величие и связи её фамилии и огромное состояние не покровительствовали ей. Не смотря на это, её прекрасно принимали в высшем обществе, к которому она принадлежала, и только при дворе супруга дофина холодно обходилась с ней.
Вы поймете теперь всю горечь слов мадемуазель де-Маран. Пользуясь своим превосходством, она нанесла герцогине последний удар, воскликнув:
— Боже мой, какие на вас прекрасные рубины! Не те ли это, которые принадлежали герцогине де-Ришвилль, покойной матери вашего супруга! Как жаль, что она не имела удовольствия видеть их на вас! И как приятно, я думаю, герцогу, супругу вашему, что вы носите ожерелье его матери!
Чтобы вы могли понять всю жестокость этих слов, я должна сказать вам, что носился слух, будто бы герцог подарил супруге своей это ожерелье в день свадьбы, и что он не хотел напомнить ей о нём во время развода. Вы, верно, догадаетесь, что это клевета.
Все, казалось, были поражены злостью мадемуазель де-Маран. Герцогиня де-Ришвилль сохранила достаточно власти над собою, чтобы скрыть свое негодование, и голосом, полным кротости и достоинства, отвечала ласково:
— Вы приводите меня в замешательство; я желала бы отплатить вам за ваше ко мне расположение… Ах, я чуть было не забыла, я могу сообщить вам приятное известие. Один из друзей ваших возвратился из Италии, пробыв несколько лет Бог знает где. Одним словом, граф де-Мортан возвратится через несколько дней в Париж; я получила от него письмо из Венеции. Он говорит, что перенёс много горя. Признайтесь, что вы поражены и радуетесь этому возвращению.
Эти слова были для тётушки ударом кинжала; герцогиня де- Ришвилль отвернулась, и слыша прелюдию кадрили, сказала г-ну де-Ланкри:
— Я предлагаю вам вальс, чтобы вознаградить себя за кадриль, в которой вы мне отказали. Пойдёмте на маленькую галерею, — сказала она английскому полковнику; — я бы желала посмотреть на эту кадриль.
В первый раз видела я замешательство мадемуазель де-Маран, при словах: «граф де-Мортан возвратится через несколько дней в Париж»; тётушка побледнела, к общему удивлению всех её знакомых, не понимавших тайного смысла слов герцогини.
Кадриль началась. Г-н де-Ланкри был довольно догадлив и избавил меня от комплиментов, всегда приводящих в замешательство молоденькую девушку. Он был прост, весел, но злоязычен; говорил, что Урсула ему очень нравится, и спросил, отчего она так задумчива. Он был хороший танцор, и мы с ним поговорили о музыке. Я предпочитала немецких композиторов итальянским. Он так мило спорил со мною, что к концу кадрили я уже не конфузилась его.
Он отвёл меня на прежнее мое место и, напомнив Урсуле об её обещании, отправился раскланяться с несколькими знакомыми ему дамами.
— Боже мой! — сказала мне Урсула: — Как ты смелá! Я удивлялась твоей разговорчивости.
— О! Сначала я боялась, — отвечала я: — но потом мало-помалу ободрилась; г-н де-Ланкри так добр и прост; впрочем, ты сама увидишь.
— Я не осмелюсь отвечать ему, — робко сказала Урсула.
— Напрасно, ты ему нравишься, он говорил мне; поэтому-то, может быть, он и показался мне таким любезным.
Я не могла продолжать разговора моего с Урсулой; все мужчины, знавшие тётушку, подошли с ней раскланиваться. Тех из них, которые танцевали, тётушка представляла нам, и скоро нас пригласили на несколько кадрилей.
Я была так занята танцами, что едва успела вспомнить о последних словах герцогини де-Ришвилль, про г-на де-Мортана.
Я не переставала сохранить о нём благодарное воспоминание; он был моим первым покровителем в детстве.
В продолжении восьми или девяти лет у тётушки моей ни разу не произносили его имени. Я вспомнила только, как говорили, что от него нет известий. Жизнь его была так странна, он так любил путешествия, что это нисколько не удивляло меня. Одно только показалось мне странным — действие, произведённое на мадемуазель де-Маран известием о его возвращении. Звуки вальса вывели меня из этих размышлений.
Между парами, увлекаемыми этим вихрем, я заметила г-на де-Ланкри с герцогиней де-Ришвилль. Она была идеально стройна, и вальсировала, равно как и г-н де-Ланкри, в совершенстве: длинные пряди волос её, чёрных как вороново крыло, увлекательно носились вокруг её выразительной головки, наклонённой несколько вперед.
Она должна была иметь глубокое чувство собственного достоинства и твёрдое сознание своей невинности или глубоко презирала мнение толпы; нельзя было с большим увлечением предаваться наслаждению танца, после возмутительных слов мадемуазель де-Маран.
Болee всего поразило меня выражение лица г-на де-Ланкри: оно казалось то презрительным, то насмешливым, то гневным. Когда он отводил герцогиню на место, мне показалось, что она горько улыбнулась, в ответ на несколько слов, сказанных ей на ухо г-ном де-Ланкри.
У меня как-то невольно сжалось сердце, когда я увидела, что он вальсирует с герцогиней; я вспомнила слышанный о них разговор. Я не сомневалась более, что он любит её. Она имела решительный и гордый вид, пугавший меня; вспомнив oднaко же, что она друг г-на де-Мортана, моего покровителя и друга матери моей, я старалась преодолеть неприятное чувство, ею во мне возбуждённое.
Молва о моей злости успела уже, вероятно, разнестись повсюду; кавалеры, танцевавшие со мною, желая мне понравиться, пускались в самые колкие эпиграммы; другие, напротив, льстили мне без меры, или шутили так, что я их не понимала.
Все эти господа без исключения казались мне лишенными такта, которым в такой высокой степени обладал г-н де-Ланкри.
Урсула продолжала танцевать, с прежним трогательным выражением грусти на лице. Казалось, она не очень веселилась, однако же не отказывалась ни от одного танца, но вздыхала, и шла танцевать как агнец на заклание.
Взглянув на ужинавших и выпив по чашке чая, мы отправились домой. Г. де-Ланкри, тоже уезжавший, встретился с нами в передней; он отыскал тётушкиных слуг и подал нам наши шубы.
Г-н де-Верзак подал руку Урсуле, а г-н де-Ланкри предложил свою мадемуазель де-Маран, которая, смеясь, сказала:
— Не угодно ли вам не обижать меня подобными предложениями, Гонтран! Подайте руку моей племяннице.
Когда мы сели в карету, тётушка сказала г-ну де-Ланкри:
— Теперь вы воротились, так надеюсь, что посетите меня; вы знаете, я не люблю, чтобы меня забывали… Кстати, знаете ли, что эта герцогиня носит медную маску, хотя и розового цвета, и разве что только адский огонь заставит её покраснеть… Ну, прощайте, Гонтран… берегитесь, если вы меня забудете.
Г-н де-Ланкри yверил тётушку в своём послушании, и мы возвратились домой.
ХIV. На другой день после бала.
Есть впечатления, которые, подобно пейзажам, оцениваются только в отдалении.
Собирая воспоминания мои на другой день после бала, приводя себе на память малейшие подробности этого вечера, я получила совершенно противоположное впечатление.
Однако, я признаюсь вам, одно воспоминание преобладало над другими: это воспоминание о вальсе Гонтрана де-Ланкри с герцогиней де-Ришвилль, под музыку Вебера.
Желая вспомнить музыку кадрили, которую я танцевала с виконтом, я невольно вспоминала вальс. Результат впечатлений моих был почти грустен. Высший свет, несмотря на весь наружный блеск его, показался мне ареной, на которую бойцы выходили с улыбкою на устах и розами на челе. То, что произошло между тётушкой и герцогиней де-Ришвилль подтверждало слова мои. Впрочем, кавалеры постоянно окружали меня. Без ложного самолюбия, мне казалось, что меня находили прекрасной. Я заметила, что не многие танцевали более трёх или четырёх кадрилей, между тем как мы с Урсулой, принуждены были от многих отказываться. Я не могла не принять на свой счет одобрительного шёпота, раздававшегося при моём появлении; наконец, г-н де-Ланкри, самый замечательный из всех мужчин, не отходил от нас целый вечер. Однако не смотря на всё это, впечатления, оставленные во мне этим балом, были тягостны. Одну только утешительную мысль подарил мне этот вечер: г-н де-Мортан скоро должен был возвратиться.
Я искренне радовалась его возвращению. Я чувствовала настоятельную потребность в важных и верных советах; я не только не любила тётушки, но даже похвалы её, советы и замечания приводили меня в беспокойство. Я походила на тех несчастных, которые в каждой пище видят отраву. Я всею душою любила Урсулу, по она, подобно мне, была молода н неопытна; я вполне надеялась на преданность Блондо, но эта незаменимая женщина умела только слепо любить меня.
Опекун мой, отец Урсулы, г-н д’Орбеваль удалился в свою деревню; притом же он, подобно прочим родным, был под влиянием тётушки. Понятно, что возвращение г-на де-Мортана было для меня счастливым событием. Ужас тётушки при известии о его возвращении ещё больше заставлял меня желать его видеть.
Урсула пришла и прервала нить моих размышлений; мы стали разговаривать о бале.
— Знаешь ли, Урсула, — сказала я ей, — что, судя по наружному веселью моему, всякий был бы вправе подумать, что я радовалась собственному своему торжеству, между тем как меня занимали только твои успехи.
— Как тебе нравится г-н де-Ланкри? — внезапно спросила меня моя кузина.
— Я нахожу его прекрасным, — отвечала я, несколько удивлённая этим вопросом. — Да, прекрасным, особенно тогда, когда он танцует с этой герцогиней де-Ришвилль, у которой такой повелительный вид.
Урсула пристально на меня посмотрела, опустила глаза и после некоторого молчания сказала:
— Знаешь ли, что я думаю, Матильда?..
— Что такое?
— Мне кажется, что мадемуазель де-Маран и герцогу де-Верзаку очень бы хотелось выдать тебя замуж за г-на де-Ланкри.
Сперва я удивилась, потом рассмеялась.
— Что же тут удивительного? Герцог представил его тётушке твоей, она же просила его посещать её чаще по утрам, а ты сама знаешь, что по утрам она принимает только трех или четырех самых коротких знакомых: с какой же стати делать ей исключение для одного племянника г-на де-Верзака? А хочешь ли, я скажу тебе, что я думаю? — возразила я в свою очередь: — Тётушка и герцог де-Верзак охотно отдали бы тебя замуж за г-на де-Ланкри.
Теперь Урсула, в свою очередь, улыбнулась.
— Какое безумие! — сказала она: — Прилична ли мне, бедной и незнатной девушке, такая блестящая партия? Нет… ты знаешь мою решимость — никогда не выходить замуж, я справедлива к себе, и никогда не осмелюсь изъявлять притязания на то, на что я не смею надеяться; да и притом, если бы я завтра же могла выйти за г-на де-Ланкри, то всё-таки отказалась бы от руки его. Это удивляет тебя… но поверь мне, я говорю истину. Он слишком хорош, изящен, моден для меня… Не этого счастья ищу я; жизнь моя должна протечь скромно; только твоим счастьем должна я быть счастливою.
— Мы никогда не согласимся в этом предмете, моя добрая Урсула; но возвратимся к г-ну де-Ланкри. Почему думаешь ты, что достоинства его, о которых ты сейчас упоминала, нравятся мне более, нежели тебе?
— Почему? Потому, что женясь на мне, г-н де-Ланкри сделал бы непростительную глупость; ты же, напротив, обладаешь сама его достоинствами, и должна бы, мне кажется, быть в восторге от замужества с ним.
— Ты с ума сошла, Урсула! Г-н де-Лаикри и не думает обо мне, да и я сама предпочла бы, подобно тебе, скромное счастье, которое всегда вернее и постояннее.
— Но ведь ты находишь его прекрасным!
— Боже мой, какая ты злая! Он нравится мне столько, сколько может нравиться человек, которого мы раз только видели.
— Хорошо; но ты говоришь, что он особенно нравится тебе тогда, когда он танцует с герцогиней де-Ришвилль.
Я невольно покраснела.
— Это правда, — отвечала я: — не знаю, почему он мне тогда нравится, равно как и то, почему я теперь покраснела.
— Хочешь ли, я скажу тебе, почему? Потому что ты его полюбишь.
— Урсула, ты, право, сошла с ума.
— Нет, Матильда, нет, я не сошла с ума — любовь моя к тебе, страх потерять тебя, ясно открывают мне твои чувства… Я знаю, это рано или поздно должно же было случиться… Прости же, прости слезам моим…
Она, рыдая, бросилась в мои объятия.
Вы не можете себе представить, друг мой, с каким глубоким чувством отвечала я Урсуле на это доказательство её ко мне привязанности.
— Вот видишь ли, — сказала я, отирая слезы: — мне и этого довольно, чтобы возненавидеть г-на де-Ланкри.
— Замолчи, Матильда, — возразила она, закрывая мне рукою рот. — Я в самом деле сошла с ума; но что же делать? Я не умею скрывать чувств своих, когда дело касается тебя.
Появление Блондо прервало разговор наш.
— Боже мой! что за прекрасная карета подъехала к нашему крыльцу: у нас никогда ещё таких не бывало… и какой прекрасный молодой человек в ней приехал!
Урсула взглянула на меня, и я поняла взгляд её. Приехавший молодой человек был никто иной, как виконт де-Ланкри.
— Ах! он уж уезжает! — сказала Блондо, стоявшая у окна; — недолго же он у нас пробыл.
Тяжкое бремя спало с меня; мне жаль было только, что мне не удалось отказаться от свидания с ним.
Перед обедом мы сошли вниз; тётушка была одна, и казалась очень сердитою.
— Предстаньте себе, какую новую штуку сыграл со мной этот проклятый Бриссон, — сказала она; — нет, теперь ноги его у меня не будет!..
— Неужели он разбил ещё что-нибудь?..
— Разумеется! Представь себе, я спокойно сидела в моем кабинете, вдруг слышу в соседней комнате шум; бросаюсь туда, и нахожу Бриссона, важно сидящего в креслах и занимающегося развинчиванием моих часов, в которых он успел уже сломать колесо. — Тетушка была так взбешена, что не заметила нашего смеха; она продолжала: — И я бы прибила его, если б у меня хватило силы. Одним словом, я вышла из себя и вытолкала его за дверь.
— Без шляпы? — сказала я, указывая на шляпу г-на Бриссона, стоявшую на стуле.
— Тем лучше, — возразила тётушка: — пусть он схватит горячку.
Тетушкин гнев был так силен, что она даже оттолкнула от себя Феликса, который с глухим рычанием скрылся в норе своей.
Глядя на Феликса, я невольно вспомнила о г-не де-Мортане, осмеливавшемся бить его, и спросила у тётушки, скоро ли он возвратится.
— Разве это твое дело? Зачем спрашиваешь ты меня об нем? Разве меня занимает этот человек? Благодарение Богу, он, кажется, не скоро вернется; ему хорошо и там, где он теперь.
Я подчеркнула последние слова, ибо тётушка произнесла их с таким выражением ненависти, что невольный трепет пробежал по членам моим. Я вспомнила, что на этом самом месте она спорила, десять лет тому назад, с г-ном де-Мортаном, и была так взбешена, что от злости переломила иголку.
Я так испугалась, что не могла отвечать ни слова.
Помолчав, она продолжала:
— Гонтран был у меня и предложил мне на завтрашний день ложу придворных кавалеров; итак, завтра мы едем в Оперу.
Я думала, что поступлю героически и доставлю довольствие Урсуле, если откажусь от этого случая увидеться с г-м де Ланкри.
— Я устала после бала, — сказала я, — и мне бы не хотелось ехать в Оперу.
— Вы должны хотеть только того, что приказываю я, — сухо возразила мадемуазель де-Маран.
Урсула бросила на меня умоляющий взгляд.
— Если вам это угодно, тётушка, то я поеду в Оперу, — сказала я.
XV. Опера
То, что сказала мне Урсула о возможности свадьбы моей с г-ном де-Ланкри, заставило меня задуматься, когда я осталась одна.
Может быть, я бы долго не дала себе отчета во впечатлении, произведенном на меня виконтом де-Ланкри, если б слова кузины моей не навели меня на эту мысль. Отложив в сторону все наружные достоинства, так часто нравящиеся нам в мужчине, я спросила себя: какую степень занимательности имеет для меня виконт?
Мне показалось, что я была к нему совершенно равнодушна; я удивлялась только, что мне неприятно было, что он танцевал с герцогиней де-Ришвиль.
Долго старалась я угадать причину этого невольного чувства, и наконец успела… Замечание Урсулы навело меня на путь.
Я часто думала, что женский характер образуется только любовью. Только первое впечатление любви развивает и приводит в восторженное состояние органы души вашей. Так, до семнадцати лет я не имела ни одного преобладающего качества; трудно было бы определить, обозначить мой характер. Он был самый непостоянный. Я была то добра, то зла, то довольна всем, то прихотлива, то скромна, то горда. С первого свидания моего с г-ном де Ланкри я совершенно изменилась. Во мне родилось чувство, начинавшее возвышаться над другими, чувство, конечно, ещё очень слабое, ибо оно выказывалось одним неудовольствием видеть известного мужчину с известной женщиной.
Мне не нужно говорить вам, что чувство это, давшее после волю всем страстям моим, была ревность, то скрытая и не признаваемая моей гордостью, то признаваемая и горько мною оплакиваемая.
С детства привыкшая размышлять и доверять собственным моим чувствам, я скоро разрешила: почему мне было неприятно видеть, что г-н де-Ланкри танцует с герцогиней де Ришвиль.
Впрочем, повторяю вам, друг мой, не смотря на то, г-н де-Ланкри мне нравился, но я ещё не любила его.
Среди этих размышлений, столь важных для головы семнадцатилетний девушки, я более, чем когда-нибудь, сожалела об отсутствии г-на де-Мортана, в которого я имела инстинктивную веру. К несчастью, зловещие слова тётушки уничтожили во мне надежду, возбужденную герцогиней де-Ришвилль.
Вы помните, друг мой, что предавшись уже раз размышлениям и решившись следить за каждым движением моего сердца, я с нетерпением ждала вечера, в продолжение которого я вторично должна была встретиться с г-ном де-Ланкри.
Мы приехали в оперу довольно поздно; зала была полна. Герцогиня Беррийская присутствовала при этом представлении.
Давали «Осаду Коринфа».
Первые лица, замеченные мною при входе в ложу, были: герцогиня де-Ришвилль, приятельница тётушки г-жа де-Миркур и г-н де Миркур, сидевшие прямо напротив нашей ложи.
Трудно представить себе кого-нибудь изящнее и милее герцогини де-Ришвилль. Белый газовый с серебром тюрбан её как нельзя более шел к её смугловатому лицу и черным, как вороново крыло, волосам; на ней было бархатное, вишнёвого цвета, с короткими рукавами, платье и, несмотря на длинные перчатки, прекрасные руки её выказывались во всей своей прелести… Она держала в руках огромный букет белых роз, столь редких в зимнее время.
Я всеми силами старалась быть равнодушной к красоте её, но мне невольно взгрустнулось, и меланхолические звуки Веберова вальса, пришедшего мне на память, вторили, так сказать, грустным мыслям моим.
Г-жа де Миркур наклонилась к герцогине, которая была очень близорука, и сказала ей, вероятно, о нашем приезде.
Герцогиня живо схватилась за свою лорнетку и внимательно посмотрела на меня, но уже не с прежним высокомерным и недоброжелательным видом.
Занавес поднялся. Я так любила музыку, и опера так нравилась мне, что я смотрела и слушала с жадностью пансионерки.
Во время антракта, я заметила, что г-н де-Ланкри вошел в ложу герцогини Беррийской.
Её высочество приняла его, казалось, благосклонно, долго с ним разговаривала и даже удерживала его, когда он хотел удалиться.
Когда он вышел из королевской ложи, мне очень хотелось знать, кого посетит он прежде, нас или герцогиню де-Ришвилль. Любопытство превратилось в мучение; сердце мое сильно забилось, когда я услышала, что дверь нашей ложи отворяется, я не сомневалась, что это де-Ланкри. В самом деле это был он.
Я чувствовала замешательство и не смела повернуть головы. Он пожелал доброго вечера тётушке и Урсуле.
Тетушка слегка дотронулась до плеча моего и сказала:
— Матильда, здесь г-н де-Ланкри.
Я обернулась и, краснея, поклонилась. Мало-помалу замешательство мое проходило, и я приняла наконец участие в разговоре. Де-Ланкри был очень любезен и умен. Он знал весь Париж, и весь Париж присутствовал при представлении. Я очень хорошо помню наш разговор, ибо он представил мне де-Ланкри в новом, чрезвычайно выгодном для него свете.
— Вы знаете всех, Гонтран, — сказала ему тётушка, — познакомьте же меня немного со здешним обществом. И знаю его также мало, как и племянница моя. Вот уже пятнадцать лет, как нога моя не была в опере. Все богатое купечество должно быть здесь. Вы знаете его по слухам или в лицо. Все эти господа имеют свои ложи, мы же должны скромно пользоваться королевскими, которые, к счастью, лучше других!
— Вы меня ставите в затруднительное положение, — отвечал г-н де Ланкри. — В продолжение четырехмесячной поездки моей в Лондон, многие ложи перешли в другие руки. Я почти никого не узнаю. Биржа прихотлива, и она быстро изменяет состояния. Если бы эти люди обогащались на век, хорош был бы пример для прочих негодяев!
— Но кто такая эта маленькая дама, в розовом берете, во втором ярусе? Она, кажется, хорошенькая?
— Очень хороша, — отвечал г-н де Ланкри. — Она и муж её были героями весьма волнительного происшествия, — прибавил он трогательным голосом, удивившим меня и придавшим выразительности его прекрасному лицу.
— Ах! расскажите же нам это, Гонтран! Как зовут эту героиню?
— Фамилия героев моих весьма непримечательна; их зовут Дюпре, — сказал, улыбаясь, де-Ланкри.
— Да, это прекрасное имя, — возразила тётушка: — разве оно не стоит тысячи других, как например Дюпарк, Дюпон, Дюмон, Дюбуа и проч.? Ну, расскажите же про роман г-жи Дюпре.
— Представьте же себе, что два года тому назад… — И вдруг, остановившись, г-н де-Ланкри сказал тётушке: — Ваша насмешливая улыбка пугает меня! Позвольте мне обращаться к этим девицам; они не будут надо мной смеяться, и, вероятно, мой трогательный рассказ займёт их.
Подняв глаза, я встретила взор г-на де-Ланкри, и невольно покраснела.
— Хорошо, хорошо, рассказывайте им, я не буду на вас смотреть, а если засмеюсь, то про себя.
— Итак, сударыня, — начал он, обращаясь ко мне, — г-н и г-жа Дюпре… женились по любви…
— Да это будет очень занимательно, — перебила мадемуазель де-Маран, — потому что начинается как детская повесть. Можно ли поверить, что это отставной капитан, гвардейский гусар, рассказывает таким образом? Продолжайте, продолжайте… А, вот и прелестная княгиня Ксерника появилась наконец со своей свитой. Вы успеете кончить, пока она приведет в порядок свою свиту, т. е. принадлежности своего туалета. Вот эта княгиня не любит детских сказок.
— Я знаю, — отвечал де-Ланкри, коварно улыбаясь, — всю разницу между детской сказкою и княгиней Ксерникой; но я говорю с вашей племянницей, и знаю, что она простит мне наивную простоту моего рассказа. Я продолжаю: г-н и г-жа Дюпре были вполне счастливы и имели достаточное состояние. Как вдруг чье-то банкротство совершенно разорило их. У г-на Дюпре была старая мать, которая отдала ему всё имение с условием жить вместе. При получении известия о конечном своем разорении, г-н и г-жа Дюпре не заботились о себе, но судьба старой матери их, привыкшей к довольству, необходимому её летам, сильно огорчила их. Кое-что уцелевшее от разорения поддерживало их некоторое время. Дюпре прекрасно знал по-английски и по-немецки, и стал заниматься переводами; жена его прекрасно рисовала, и потому стала принимать различные заказы. Трудом, лишениями и в особенности присутствием духа, они в продолжение двух лет обманывали мать свою, которая, не видя никакой материальной перемены в жизни, не подозревала о несчастье, поразившем детей её. Наконец, несколько дней тому назад, г-н Дюпре получил сто тысяч франков, при известии, что это часть его имущества, похищенная банкротом!.. Другие приписывают такую посылку неизвестному благодетелю. Одним словом, получение этих денег поставило их, привыкших уже к труду, почти в прежнее положение довольства.
— Всегда кончается тем, что добродетель получает награду, потому-то княгиня Ксерника будет на том свете не в добром месте.
— Вы смеетесь, — возразил г-н де Ланкри: — что же касается меня, то я буду стараться распространять этот анекдот, потому что он делает честь нашему времени. — Обращаясь ко мне, он продолжал: — Не правда ли, поведение этих молодых супругов удивительно? Трудно иметь над собою столько власти, чтобы успеть заглушить в себе все жалобы, все намеки на несчастье и скрывать его с умилительным терпением. Трудно, среди бедности и труда, сохранить всегда ровное расположение духа и не произнести ни одного слова ропота на судьбу. Не благородную ли, не трогательную ли картину представляли они, обманывая мать свою и трудами своими создавая ей спокойную и вольготную жизнь?
— О, конечно, это достойно удивления, это прекрасно, — вскричала Урсула тронутым голосом, закрывая руками глаза. — Слушая подобный рассказ, я радуюсь своей бедности, — прибавила она: — ведь бедность воодушевляет нас на подобные подвиги.
Я так была тронута, что не могла отвечать, и завидовала Урсуле: она хоть что-нибудь смогла сказать.
Де-Ланкри рассказал эту историю, конечно, не важную, таким трогательным и увлекательным голосом, что она в устах его имела необыкновенную прелесть.
Несколько раз в продолжение рассказа взглядывала я на рассказчика; трогательное выражение его лица придавало новую прелесть словам его; мне казалось, что невозможно было лучше оценить благородный поступок Дюпре.
Я онемела от удивления, потому что не ожидала найти столько чувства под холодною наружностью светского человека. И потому сердце моё тягостно сжалось, когда тётушка сказала:
— Матильда, не смотря на ангельский вид свой, так насмешлива, что в состоянии смеяться над вашим трогательным рассказом.
Я взглянула на г-на де-Ланкри, как бы желая разуверить его, и встретила его взор, такой грустный и безнадежный, что мне захотелось плакать от тоски и досады.
Не знаю, как кончилась бы эта сцена, если б её не прервал приход герцога де-Верзака и поднятие занавеса.
Я чувствовала сильное расстройство, какое-то головокружение, которое ещё более увеличивалось музыкою.
Музыка имеет иногда неизмеримые прелести. Она переводит на гармонический язык свой самые тайные помышления наши так увлекательно, что мы вполне предаемся мысли нашей, какова бы она ни была.
Не думая о препятствиях, которые может встретить зарождавшееся во мне чувство, я с сладостью предалась ему и с наслаждением повторяла в памяти трогательные слова г-на де-Ланкри. Ревность тоже замешивалась тут: смуглое прекрасное лицо герцогини де-Ришвилль смутно рисовалось передо мною.
Акт закончился, а я все ещё слушала; мысли мои поглотили меня всю, и тётушка принуждена была окликнуть меня несколько раз, чтобы вывести меня из моего усыпления.
Мы вышли. Я шла с герцогом де Верзаком, Урсула — с г-ном де-Ланкри.
Я сходила по лестнице, не замечая окружавшего меня движения и шума.
Когда подали нашу карету, я почувствовала весьма приятный, но сильный запах; раздался шорох шёлкового платья и сладкий трогательный голос прошептал в самое моё ухо: «Берегитесь, бедное дитя… вас хотят выдать замуж… Подождите приезда, г-на де Мортана…»
Я обернулась, желая узнать, кто говорит со мною, и увидела; как мелькнул вишневого цвета салоп и белый с серебром тюрбан герцогини де-Ришвилль; она сходила по лестнице с г-жою де-Миркур.
Часть II
XVI. Признание
Прошел месяц с тех пор, как я была в Опере с тётушкой и г-ном де Ланкри.
Он посещал нас постоянно; сперва являлся через каждые два или три дня, потом стал ездить каждый день.
Чем короче становились наши с ним отношения, тем более открывала я в нем приятных качеств; трудно, было бы найти характер более ровный, предупредительный и внимательный. Его тонкий и изобретательный ум так искусно скрывал лесть, что даже я, приученная к осторожности тётушкиными похвалами, слушала его с удовольствием.
По благородству и пылкости своей, он с жаром защищал всякое правое дело; но из скромности всегда отказывался от похвал. Об успехах его в свете при нас никогда не говорил, но не трудно было заметить, что в нём не было ни тени самохвальства и что разговор его был, если он хотел того, положителен и поучителен. Он много путешествовал и путешествовал не бесплодно. Он был знаток в искусствах и не чужд современной литературы.
По этому длинному описанию его достоинств, вы догадаетесь, что я полюбила его… да, я любила его!
Как было мне не полюбить его? Живя в уединении, видя его одного и притом каждый день, могла ли я устоять против всех блестящих качеств, делавших его столь привлекательным? Я уже говорила вам, какую скучную и однообразную жизнь вели мы у тётушки. Знакомство с г-ном де Ланкри все изменило: надежда и удовольствие видеть его, желание ему нравиться, страх неудачи, одним словом, тысяча маленьких тайных страстей повергали меня в беспрестанное волнение, и время летело стрелою.
Я любила его… и от любви моей была и счастлива, и несчастлива…
Я была счастлива, когда в дни юношеской гордости и сознания собственного достоинства, я спрашивала сама себя: может ли Гонтран найти в другой столько ручательств в счастье, сколько он нашел бы во мне, если бы вздумал домогаться руки моей?
Я была несчастлива, о! очень несчастлива, когда сомнение в самой себе змеей прокрадывалось в мою душу!.. Тогда звук Веберова вальса раздавался в ушах моих и герцогиня де-Ришвилль, во всём блеске страшной красоты своей, носилась предо мною.
Слова, сказанные ею при разъезде из Оперы, приходили мне на память, и я впадала в глубокое отчаяние. Я не имела тогда даже силы ненавидеть эту женщину. Я повторяла слова её, и они казались мне советом не вступать в опасное для меня соперничество с нею.
Но когда самоуверенность снова возвращалась, слова эти представлялись мне скрытою угрозою, запрещением посягать на сердце, ей принадлежащее.
Мысли эти тем более тяготили меня, что я никому не могла поверить их. Опекун мой, г-н д’Орбеваль отозвал Урсулу на некоторое время к себе. Разлука наша, хотя и кратковременная, показалась нам тяжкою. Особенно теперь отсутствие кузины моей было для меня вдвойне тягостно.
В минуты самого сильного сомнения, я успокаивала себя тем, что тётушка не стала бы так открыто принимать г-на де Ланкри, если бы он не сообщил ей своих видов. Впрочем, ни тётушка, ни г-н де-Верзак, не делали до сих пор ни малейшего намека о возможности брака между мной и г-ном де Ланкри.
Наконец беспокойства мои прекратились.
Пятнадцатого февраля, — я помню число это и обстоятельства так, как будто это было вчера, — пятнадцатого февраля, я сидела одна в тётушкиной гостиной, думая, что и она придёт туда; но она выехала в это время со двора, приказав сказать тем, кто её будет спрашивать, что она вот-вот немедленно возвратится. Я читала Ламартина… вдруг дверь гостиной отворилась и Сервиен доложил о приезде виконта де-Ланкри. Никогда ещё не была я с ним наедине, и потому ужасно смешалась.
— Мне сказали, что тётушка ваша просила всех, кто приедет к ней, подождать её… — после минутного колебания, он прибавил трепетным голосом: — Я надеялся иметь счастье встретить здесь вас, и потому позвольте мне воспользоваться этим счастливым случаем и умолять вас выслушать меня.
— Виконт… я не знаю… Что можете вы сказать мне? — отвечала я, запинаясь, и сердце мое болезненно билось.
Тогда, дрожащим голосом, обворожительный звук которого я никогда не забуду, он сказал мне:
— Позвольте мне быть вполне откровенным и обещайте мне столько же откровенности.
— Я согласна, — отвечала я.
— Дядя мой, герцог де-Верзак, проникнув в тайну мою, которой, впрочем, я ему никогда не открывал, намеревался просить для меня руки вашей у вашей тётушки… Я упросил его, чтобы он этого не делал.
Мужество мое покинуло меня… Удар был жесток; мне представилось, что г-н де-Ланкри меня не любит:
— Бесполезно было говорить мне… — Я не могла договорить.
— Нет, это не бесполезно: я не мог уполномочить герцога, не получив предварительно вашего согласия.
— И вы за этим сюда приехали? — вскричала я, не скрывая, не будучи в состоянии скрыть моей радости.
Заметив удивление г-на де-Ланкри, я пожалела о моей откровенности; я боялась, чтоб он не истолковал её в дурную сторону; я покраснела, смешалась и не могла слова выговорить.
После некоторого молчания, Гонтран продолжал:
— Да, я пришел молить вас о согласии, не смея, впрочем, надеяться… Вы имеете полное право выбирать и я вечно буду сожалеть о том, что мог причинить вам какое бы то ни было неудовольствие моею просьбою.
— Виконт, я…
Гонтран прервал меня и сказал почтительно-нежным голосом:
— Еще одно слово, прежде чем вы разрушите отказом вашим мои высокомерные надежды, но святые желания мои; ещё одно слово, чтобы вполне высказать мысль мою. Вы — сирота, вы — почти одиноки на свете. Я честный человек, и должен говорить с вами так, как говорил бы с вашей матушкой… Вы знаете, почему я обращаюсь прямо к вам, а не к тётушке вашей, — прибавил он значительным тоном, доказывая этим, что он проник в тайну моих отношений с нею, но не хотел говорить мне об этом из приличия.
Я была поражена важным и нежным тоном слов Гонтрана.
— Я понимаю ваше предложение и благодарю вас… — отвечала я ему.
— Когда вы меня выслушаете, — продолжал он: — то будете в состоянии предвидеть будущее, так, как бы оно совершилось. Я, может быть, имею мало достоинств, но всегда чисто и свято держал свое слово… Я давно решился жениться только на той женщине, к которой буду чувствовать сильную и почтительную любовь… ту горячую и святую любовь, которая столь же мало походит на скоропреходящую любовь юности, сколько эфемерная связь походит на супружество. Ничто в мире не прельщало меня столько, сколько супружеское счастье, явившееся мне в мечтах моих. Чтобы осуществить мечты, стоит только беречь и не расточать сокровищницу наслаждений, которая может не истощаться до нашей смерти… Тогда, обворожительно, со взаимною доверчивостью, можно пройти жизнь, исполненную любви и нежности, которую разум сердца может сделать так сладко разнообразною… потому что, ещё раз, нет ничего восхитительнее супружества, когда супруги умеют любить друг друга.
Не знаю почему, воспоминание о герцогине де-Ришвилль в это мгновение предстало мыслям моим. Я не могла не сказать Гонтрану:
— Однако же те эфемерные связи, о которых вы упомянули, виконт, могут иногда…
— О! — вскричал он, прерывая меня: — могут ли они когда нибудь сравниться с законным и истинным счастьем? Поверьте мое, что когда любишь навек, то постигаешь всю ничтожность этих порочных привязанностей. Да и что в них такого привлекательного, чтобы предпочесть их любви, благословляемой Богом? Можно ли ценить менее счастье быть любимой потому только, что женщина, любящая вас, принадлежит вам перед Богом и людьми? Разве уменьшится наслаждение потому только, что она будет любить вас каждый день? Разве менее драгоценны будут для нас её ум, прелести, успехи, потому только, что она безбоязненно встретит взор ваш своим взором, как бы говоря: наслаждайся, всё это для тебя! Если среди света она ответит вам на тайный знак ваш сладостной улыбкой, разве уменьшится от этого сладость улыбки этой? Разве менее должны цвести и благоухать цветы, украшающие ее, потому только, что они выбраны любимою рукою друга? Неужели же надо похитить дочь из объятий отца или лишить брата сестринской нежности для того только, что нам вздумалось приятно попутешествовать, и неужели красоты природы должны в противном случае потерять свою прелесть? Уменьшится ли прелесть безоблачного неба Италии для тех, которые, не краснея, могут любить друг друга? О! поверьте мне, неисчерпаемо блаженство в союзе, основанном на чистой, истинной любви!.. Признаюсь вам, трудно мне видеть в супружестве только уединение вдвоем, жизнь равнодушную или только приличную… О! нет… нет… я бы желал в жизни этой, все наслаждения, всю любовь, всю силу моего сердца! Я уже знаком с наслаждениями юности, и они кажутся мне столь же далекими от истинного счастья, сколько предрассудок далёк от истины… Не знаю, поняли ли вы меня, не знаю, успел ли я дать вам хотя бы слабое понятие о моих чувствах… Если мне это удалось, если, сверх чаяния, вы позволите мне подтвердить намерение г-на де-Верзака вашим согласием, то поверьте мне, клянусь вам словом честного человека, что я буду достоин любви вашей…
Сказав это, г-н де-Ланкри встал с движением трогательной, почти торжественной важности.
Но могу выразить вам, друг мой, тех ощущений, какие возбудили в сердце моем эти столь новые дли меня речи; мне казалось, что предо мною открывается новое, светлое небо: мною овладело неизъяснимо приятное чувство, ибо слова Гонтрана осуществляли мне то счастье, о котором до сих пор я только смутно мечтала.
Картина супружеской любви с её очарованиями, тайнами и страстями воодушевила меня неизъяснимою надеждою.
Я слишком глубоко была счастлива, не могла скрывать радости или отвечать уклончиво. Щеки мои горели, сердце билось, но не робостью, а великодушною решимостью. Я хотела возвыситься до человека, говорившего со мною так откровенно, внушившего мне беспредельную доверчивость к словам своим.
— Я постараюсь быть столько же откровенной и искренней, — сказала я. — Я — сирота; только Бoгy и самой себе обязана я отвечать за выбор, на который могу решиться. Я верю в любовь, которую вы описываете мне столь прекрасной и сладостной, потому что сама часто мечтала о подобном будущем.
— Неужели?!.. Могу ли я надеяться?..
— Я обещала быть откровенной, и сдержу своё слово. Но прежде, чем я изъявлю вам свое согласие, позвольте мне тоже сказать несколько слов о чувствах моих; не принимайте слов моих за выражение сомнения; оно далеко от мыслей моих… Я люблю кузину мою, как нежнейшую из сестер. Она бедна; она желает выйти замуж по выбору своего сердца, и потому, чтобы избавить её от беспокойства насчёт будущего, я хочу укрепить за ней половину моего имущества. Если же она не выйдет замуж, то я желаю никогда не разлучаться с нею… Согласны ли вы назвать её тоже сестрою?..
Спорна Гонтран посмотрел на меня с удивлением, потом вскричал:
— Что за благородное сердце! Что за душа! Как не согласиться… или, лучше сказать, как не восхищаться такою великодушной привязанностью? Не служит ли она порукою высоких чувств ваших? И возможно ли в них сомневаться? И при том, разве я не знаю Урсулы? Разве я не знаю, что она достойна этого самоотвержения?
— О, хорошо! хорошо… — сказала я с облегчением: — сердце мое находит отголосок в вашем. Теперь последний вопрос… — прибавила я едва внятно и опустила глаза: — Герцогиня де-Ришвилль… — Я не могла продолжать.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.